Оксана Киянская Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка
© Киянская О. И., 2015
© Издательство «ФОРУМ», 2015
© Издательский дом «НЕОЛИТ», 2015
Введение. «Nos amis de quatorze»
14 декабря 1825 года на морозной Сенатской площади в Петербурге было расстреляно картечью недвижное каре из трех полков, выведенных на площадь мятежными офицерами, мечтавшими о реформах и конституции.
Участник восстания, морской офицер Николай Бестужев, вспоминал: «Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского цоколя и на крышах соседних домов. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Я… стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием». А Михаил Сперанский, выглянув вечером 14 декабря в окно на Сенатскую площадь, с отчаянием произнес: «И эта штука не удалась!»[1] Спустя две недели в маленьком городе Василькове, под Киевом, восстал Черниговский полк. Восставшие продержались пять дней, после чего тоже были расстреляны картечью.
В декабре 1825 года в России «переломилось время». Исчезли воспитанные Отечественной войной отважные «люди двадцатых годов». По словам Юрия Тынянова, «лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны…».
Император Николай I, восшествие которого на престол было омрачено этим «досадным происшествием», иронически называл декабристов «Mes amis de quatorze» («Мои друзья четырнадцатого») – и надеялся, что имена его «друзей» вскоре забудутся. Однако почти два столетия спустя можно констатировать: император ошибся, декабристы не только не истерлись из активной исторической памяти, но сделались образцом и идеалом для нескольких поколений российских вольнодумцев, даже и не склонных к мятежам.
О декабристах написаны сотни книг и тысячи статей, сняты документальные и художественные фильмы. За более чем 180 лет они стали нашими «друзьями четырнадцатого», «nos amis de quatorze».
История тайных обществ, казалось бы, хорошо изучена, но остается не разрешенным главный вопрос: зачем декабристам была нужна революция?
Хорошо осознанные истины о «чистоте намерений» членов тайных обществ, о революционном «духе времени», об экономической и социальной отсталости России, о «производительных силах» и «производственных отношениях», об ужасах крепостного права еще не способны объяснить, почему молодые офицеры, отпрыски лучших фамилий Империи, в 1816 году вдруг решили составить антиправительственный заговор. Зачем они избрали для себя скользкую дорогу политических заговорщиков, через 10 лет окончившуюся для некоторых – виселицей, а для большинства – сибирской каторгой?
Узнав о 14 декабря, престарелый Федор Ростопчин произнес знаменитую фразу: «Во Франции повара хотели попасть в князья, а здесь князья – попасть в повара».
Так же оценивал цели движения и ровесник декабристов князь Петр Вяземский: «В эпоху французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями, у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками»[2].
Подобные формулировки, конечно, никак не объясняют смысл движения. Как не объясняют его и общие фразы о том, что декабристы хотели принести себя в жертву ради дела освобождения крепостных крестьян – действовали «для народа, но без народа».
Если бы главной целью декабристов действительно было крестьянское освобождение, то для этого им было вовсе не обязательно, рискуя жизнью, организовывать политический заговор. Тем из них, кто владел крепостными «душами», стоило только воспользоваться указом Александра I от 20 февраля 1803 года – указом о вольных хлебопашцах. И отпустить на волю собственных крепостных. Согласно этому указу помещикам разрешалось освобождать крестьян целыми общинами – с обязательным наделением их землей.
Известно, что никто из участников тайных обществ этим указом не воспользовался и официально крестьян не освободил. Более того, летом 1825 года, за несколько месяцев до восстания Черниговского полка, его будущие участники совершенно бестрепетно подавили крестьянские волнения в украинской деревне Германовка.
Причина возникновения движения декабристов отнюдь не в сочувствие дворянства народу. Просто в условиях абсолютизма и сословности человек четко понимает предел собственных возможностей: если его отец всю жизнь «землю пахал», то и его удел быть крестьянином, если отец – мещанин или торговец, то и судьба сына, скорее всего, будет такой же. А если отец – дворянин, генерал или вельможа, то эти ступени вполне достижимы и для его детей. И при этом никто из подданных сословного государства: ни крестьянин, ни мещанин, ни дворянин никогда не будут принимать реального участия в управлении государством, не станут политиками. Политику в сословном обществе определяет один человек – монарх. Остальные, коль скоро они стоят близко к престолу, могут заниматься политическими интригами.
В подобном обществе мыслящему человеку тесно. Тесно, независимо от того, из какого он рода, богат он или беден. Более того, чем человек образованнее, тем острее он эти рамки ощущает. Так, еще Александр Радищев писал о «позлащенных оковах», сковавших русское дворянство. А людям начала XIX века, образованным офицерам, прошедшим войну, смириться с таким положением вещей было никак невозможно. «В отношении дворянства вопрос о реформе ставится так: что лучше – быть свободным вместе со всеми или быть привилегированным рабом при неограниченной и бесконтрольной власти?.. Истинное благородство – это свобода; его получают только вместе с равенством – равенством благородства, а не низости, равенством, облагораживающим всех», – утверждал декабрист Николай Тургенев[3].
Декабристы мыслили себя прежде всего политиками. Более того, политиками, ставившими перед собою цель ниспровергнуть существующий режим, сломать абсолютизм и сословность. Цель определяла средства, в том числе и такие, которые не согласовывались с представлениями о поведении дворянина и офицера: цареубийство, финансовые махинации, подкуп, шантаж и т. п.
Но движение декабристов не сводимо только лишь к «грязным» средствам достижения сомнительной с исторической точки зрения цели.
Составляя заговор, декабристы не могли не знать, что по российским законам, в которых умысел на совершение государственного преступления приравнивался к самому деянию, за то, чем они занимались на протяжении почти десяти лет, вполне можно заплатить жизнью. Не могли не знать, что Империя сильна, что сила – не на их стороне и что добиться торжества их собственных идей будет трудно, практически невозможно. Знали – но все же вели смертельно опасные разговоры, писали проекты конституций, выводили полки на Сенатскую площадь и в степи под Киевом.
Собственно, члены тайных обществ остались в активной исторической памяти именно потому, что впервые попытались открыто протестовать против ограничения прав. Более того, они стали символом борьбы за человеческие права. Едва ли не каждый, кто мыслил себя в оппозиции режиму (монархическому, советскому или постсоветскому), так или иначе ассоциировал себя с декабристами. Декабристы стали символом российской интеллигенции.
Мог ли мятеж «кончиться удачей»? Трудно сказать. С одной стороны, бурное «осьмнадцатое столетие» было богато успешными переворотами. Но, с другой стороны, все 10 лет существования тайных обществ лидеры заговора не могли найти общий язык, не могли договориться о том, кто будет главным в новом российском правительстве. Заговорщики не сумели договориться и о совместных действиях, и это значительно уменьшало их шансы на успех.
Однако победа императора Николая I над декабристами обернулась для него историческим поражением.
Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского государственного механизма, писал о нем: «Россия – империя каталогов; она замечательна, если читать ее как собрание этикеток; но бойтесь заглянуть дальше заголовка! Если вы откроете книгу, то не найдете ничего из обещанного: все главы в ней обозначены, но каждую еще предстоит написать»[4].
«Империя каталогов» рухнула в 1855 году в катастрофе Крымской войны. И даже самые рьяные защитники этой Империи были вынуждены признать ее крах.
Монархист Федор Тютчев написал на смерть Николая I стихотворение:
Не богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей, И все дела твои, и добрые, и злые, – Все было ложь в тебе, все призраки пустые: Ты был не царь, а лицедей.Неудача же декабристов не помешала им победить в иной плоскости – моральной и нравственной. Не без помощи Александра Герцена возникла знаменитая декабристская легенда, мощно влиявшая на русское общественное сознание и культуру (от стихов Пушкина до песен Александра Галича и фильма «Звезда пленительного счастья»). И именно поэтому многие интеллектуалы могут сказать сегодня: декабристы – «nos amis de quatorze».
Глава I. «Человек, опасный для России»
Тайные общества, которые в исторической науке принято называть декабристскими, – важный феномен общественной жизни России начала 1820-х годов. Трагическим событиям декабря 1825 – января 1826 года, двум восстаниям: в Петербурге и под Киевом, предшествовала десятилетняя история развития нелегальных организаций. Возникнув в начале 1816 года, Союз спасения был в 1818 году преобразован в Союз благоденствия. Через три года организация эта была распущена, а на ее месте возникли две новые: Южное и Северное тайные общества.
Все годы существования заговора прошли под знаком не только постоянных политических дискуссий, обсуждения планов и программ, но и под знаком серьезных личных разногласий заговорщиков. Наибольшие споры вызывала личность Павла Пестеля.
* * *
К 1825 году, времени безуспешных попыток участников тайных обществ силой воплотить в жизнь программу политических реформ, Пестель был уже признанным лидером заговора. Однако отзывы о нем других заговорщиков противоречивы.
«Образ действий Пестеля возбуждал не любовь к Отечеству, но страсти, с нею не совместимые», – утверждал в мемуарах декабрист Сергей Трубецкой. Человеком, опасным «для России и для видов Общества», считал Пестеля Кондратий Рылеев[5]. «Какова была его цель? – задавался вопросом знавший Пестеля журналист Николай Греч. – Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвесть суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховною властию в замышляемой сумасбродами республике… Достигнув верховной власти, Пестель… сделался бы жесточайшим деспотом».
А, например, другой декабрист, Сергей Волконский, создавая на закате жизни свои мемуары, «полагал своей обязанностью» «оспорить убеждение… что Павел Иванович Пестель действовал из видов тщеславия, искал и при удаче захвата власти, а не из чистых видов общих – мнение, обидно памяти того, кто принес свою жизнь в жертву общему делу». Противоречивость Пестеля отмечали и историки. Так, например, В. С. Парсамов считает, что в его личности «столкнулись две национально-культурные стихии: немецкий рационализм и русская широта души»; по его мнению, между этими «стихиями» не было «серединного примиряющего начала»[6].
Павел Пестель по рождению принадлежал к кругу высшей петербургской бюрократии. Он был старшим сыном крупного российского сановника с одиозной исторической репутацией, в 1806–1819 годах занимавшего пост генерал-губернатора Сибири, Ивана Борисовича Пестеля. У Павла Пестеля было три младших брата – Владимир, Борис и Александр, и младшая сестра Софья.
В 1811 году, накануне войны, Пестель окончил Пажеский корпус – лучшее военное учебное заведение России. Судя по сохранившимся корпусным ведомостям, все корпусные «науки» давались ему одинаково «блестяще», по большинству из них он имел максимально возможные оценки – «баллы». В ежегодных учебных рейтингах он неизменно лидировал[7]. Пестель окончил корпус первым в выпуске, и его имя было занесено на почетную мраморную доску.
После окончания корпуса, в 1811 году, получил чин прапорщика в гвардейском Литовском полку.
Через полгода после выпуска началась Отечественная война. Вчерашний камер-паж прошел боевое крещение в Бородинской битве. Он был тяжело ранен в ногу и получил свою первую награду – золотую шпагу. До конца так и не излечившись от раны, он догнал действующую армию за границей, стал адъютантом генерала от кавалерии графа Витгенштейна – главнокомандующего всеми войсками антинаполеоновской коалиции.
Согласно послужному списку «витгенштейнов адъютант» проявлял чудеса храбрости почти во всех знаменитых битвах 1813–1814 годов: воевал под Дрезденом и Кульмом, участвовал в «битве народов» под Лейпцигом, в сражениях при Бар-Сюр-Об и Троа. Его храбрость была вознаграждена российскими орденами Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени, австрийским орденом Леопольда 3-й степени, баденским орденом Карла Фридриха. Получил Пестель и высший прусский военный орден – Пурлемерит («За достоинство»)[8].
Однако согласно имеющимся в распоряжении историков сведениям тяжелая рана молодого офицера не зажила и к концу 1813 года. Из нее по-прежнему выходили осколки кости, и он по-прежнему передвигался в основном на костылях[9]. Более того, по свидетельству лечившего Пестеля лейб-медика Якова Виллие, и в 1816 году раненая нога постоянно опухала, причиняя «жестокую боль», молодой офицер с трудом мог ходить[10]. Между тем, задача адъютанта во время сражения заключалась в том, чтобы передавать войскам приказы своего начальника, от расторопности адъютанта во многом зависел исход той или иной битвы. Следовательно, в качестве адъютанта Пестель был Витгенштейну бесполезен, в действительных сражениях он физически участвовать не мог.
С. Н. Чернов считал Пестеля-декабриста «большим мастером политической разведки»[11]. Вероятно, первые навыки разведывательной деятельности – конечно, пока еще не связанные с «политикой» – Павел Пестель получил именно на войне. Военная служба Пестеля в 1813-1814 годах – это не просто деятельность адъютанта. Сохранилось немало сведений об особого рода «заданиях», которые ему довелось выполнять.
Об одном из них – очевидно, первом в карьере Павла Пестеля – есть упоминание в письмах его родителей. Так, мать Пестеля в июле 1813 года радовалась, что сын успешно справился с «поручениями», которые были на него возложены русским и австрийским императорами; в письме речь шла и о каких-то важных документах, которые он доставил Витгенштейну. Публикатор семейной переписки Н. А. Соколова справедливо считает, что в данном случае речь идет об участии Пестеля «в качестве курьера в переговорах, которые велись в июне 1813 года» между двумя императорами, в результате которых Австрия обязалась присоединиться к антинаполеоновской коалиции[12]. В августе 1813 года Пестель получает чин поручика.
Из документов следует, что этими «поручениями» военная деятельность Пестеля не ограничилась[13]. В дни «битвы народов» под Лейпцигом он покупает у лейпцигского аптекаря яд. «Возымел я желание иметь при себе яд, дабы посредством оного, ежели смертельным образом ранен буду, избавиться от жестоких мучений», – скажет он впоследствии[14].
Но для того, чтобы «избавиться от жестоких мучений», у каждого офицера был более простой способ – собственное оружие. И тяжело раненому человеку принять яд, конечно же, было не намного проще, чем застрелиться. Скорее, яд был нужен Пестелю как разведчику, выполняющему тактические задания своего командования и отправляющемуся на чужие территории без оружия.
Война для него закончилась весной 1814 года. Вскоре, сопровождая Витгенштейна, поручик самого привилегированного в России Кавалергардского полка Павел Пестель, награжденный пятью боевыми орденами и золотой шпагой двадцатилетний ветеран войны, вновь появляется в Петербурге.
* * *
В 1817 году 24-летний Пестель вступил в Союз спасения – тайную организацию, созданную шестью молодыми гвардейскими офицерами. Несмотря на грозное звучание своего названия, отсылающего к знаменитому якобинскому Комитету, при всей резкости речей, звучащих на его заседаниях, Союз вряд ли был опасен устоям самодержавной России. Понимая, что положение дел в России надо менять, заговорщики совершенно не представляли себе, что конкретно нужно для этого сделать.
«Первые декабристы» – офицеры, связанные между собою узами родства, детской дружбы и боевого товарищества, были, конечно, совершенными дилетантами в вопросах стратегии и тактики заговора. Их программой, согласно позднейшим мемуарам Якушкина, было «в обширном смысле благо России»[15].
О том же, что понимать под «благом России», в обществе шли споры. Некоторые предполагали, что оно – в «представительном устройстве» государства. Другим казалось, что необходимо «даровать свободу крепостным крестьянам и для того пригласить большую часть дворянства к поданию о том просьбы государю императору».
Третьи считали, что дворянство не согласится на подачу такого проекта, что император Александр – тиран, презирающий интересы страны, и потому его необходимо уничтожить. Осознанием этой идеи стал «московский заговор» сентября 1817 года Возбужденные письмом одного из основателей Союза, князя Сергея Трубецкого о том, что «государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области и… удалиться в Варшаву со всем двором», юные конспираторы едва не убили царя в Москве. После этого «цареубийственный кинжал» еще много раз «обнажался» заговорщиками, но в действие, как известно, приведен не был.
Пестель в число основателей Союза не входил. Но очевидно, что он вполне разделял вольнолюбивые искания гвардейских офицеров.
Впоследствии на допросе он дал подробные показания о том, каким образом формировались его «вольнодумческие и либеральные мысли». Желание добра своему Отечеству, увлечение политическими науками в годы учебы в Пажеском корпусе, анализ политической ситуации в России и в мире привели его к мысли, что «революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна». Вскоре он решил для себя, что наилучшей формой государственного устройства является республика[16].
Среди членов Союза Пестель резко выделялся уже на этом, первом этапе существования заговора. Плохо представляя, какой должна стать Россия в будущем, уже тогда он понимал, что одними разговорами о «благе России» добиться ничего нельзя. Практически сразу же Пестель составил для себя четкие представления о том, как должен быть построен заговор – если целью его действительно является изменение государственного строя России. И стал претендовать на безусловное лидерство в тайных обществах.
Именно Пестелю, как известно, принадлежала решающая роль в написании устава, «статута» Союза спасения. Впоследствии он был уничтожен заговорщиками, и судить о его содержании можно лишь по дошедшим до нас косвенным свидетельствам. Согласно им, составляя «статут», Пестель учитывал опыт деятельности двух современных ему организаций: масонства и тайной полиции.
Не буду здесь вдаваться в сложный, но на сегодняшний день достаточно хорошо изученный вопрос об идеологии и истории русского масонства в начале XIX века. Отмечу только, что масонские цели – образно говоря, нравственное усовершенствование отдельного человека, государства и, в итоге, всего человечества – реализовались в ту эпоху в двух противоположных формах, «демократической» и «аристократической». «Аристократическое» масонство существовало в рамках шведской, андреевской системы, а «демократическое» – в рамках системы иоанновской.
Шведская система, считавшая своим покровителем Святого Андрея Первозванного, а «великим магистром» – шведского короля, была основана на строгих принципах иерархии в управлении и беспрекословного послушания. «Шведские масоны, – пишет известная исследовательница масонства Т. О. Соколовская, – называли себя великими каменщиками чаще, чем свободными каменщиками». По ее мнению, это не случайно: «Для достижения масонских целей, для соделания людей счастливыми и благородными употреблялось порабощение духа и даже тела; от низших братьев и низших лож отнималась всякая самодеятельность, всякая самостоятельность; от них требовалась только слепая вера, а общемасонская цель о соединении всех людей в одну всемирную семью была известна только самым высшим степеням».
Руководил шведскими ложами в России могущественный и таинственный Капитул Феникса. Состав этого Капитула не был известен рядовым масонам, от которых требовалось лишь слепое повиновение. Не в полной мере известен он и современным исследователям: члены Капитула проходили в масонских документах под вымышленными, символическими именами.
Иоанновское масонство, находившееся под покровительством Святого Иоанна Иерусалимского, изначально считало себя частью масонства андреевского. Иоанновскими назывались масоны низших степеней, не посвященные в «великие тайны» Капитула Феникса и не знавшие истинных, сокровенных масонских целей. И постепенно в иоанновских ложах возник стихийный демократический протест против Капитула. В 1815 году русское масонство раскололось на две системы.
Если шведскими масонами по-прежнему управлял Капитул, то для управления масонами иоанновскими была создана «великая ложа Астреи». Принятое тогда же уложение Астреи «устанавливало выборное начало в управлении масонского сообщества и клало в основу этого управления ответственность всех без исключения должностных лиц, их выборность, терпимость ко всем религиям и ко всем принятым масонским системам и равноправность всех представителей лож в великой ложе»[17].
Члены Союза спасения, большинство из которых были масонами, определялись в выборе системы. Это – важнейший выбор: именно в нем следует искать истоки разности взглядов заговорщиков на природу тайной организации, на принципы деятельности заговора. Именно здесь – зерна позднейших программных разногласий декабристов, их разных представлений о характере власти в постреволюционной России.
Историк Н. М. Дружинин, автор классической работы «К истории идейных исканий П. И. Пестеля», подробно описал процесс вхождения заговорщиков в иоанновскую ложу Трех добродетелей (1816 год). Предполагалось «воспользоваться готовой, более или менее однородной и замкнутой ячейкой, ввести в нее членов слагающейся политической организации, образовать из них руководящее ядро и превратить масонскую “мастерскую” в лабораторию революционных идей». «Фактически ложа Трех добродетелей превратилась в неофициальный филиал тайного революционного общества»[18]. Участниками ложи стали «корифеи» движения декабристов – в частности, братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы и князь Сергей Трубецкой. В январе 1816 года, еще до знакомства с Союзом спасения, в ложу вступает и Пестель.
Однако став членом иоанновской ложи, Пестель не порвал со шведским масонством, в которое был принят еще на корпусной скамье. К 1816 году он был обладателем высокой степени шведского «мастера», и патенты на свое имя, выданные в подчинявшейся Капитулу Феникса ложе Сфинкса, хранил всю жизнь. Судя по тому, что он не принимал активного участия в деятельности ложи Трех добродетелей, иоанновское масонство интересовало его гораздо меньше, чем шведское.
Формы масонской деятельности шведского образца – «разделение» членов общества на «разряды», безоговорочное подчинение «низших» «высшим», сложные «обряды» при принятии в организацию нового участника, клятвы, угрозу смерти за предательство – Пестель положил в основу устава Союза спасения[19]. «Пестель координировал формы “Союза спасения” с формами масонской ложи, но он предпочел масонские формы именно потому, что они казались ему подходящей оболочкой для боевой, строго конспиративной организации», – писал Н. М. Дружинин[20].
Обращаясь к истории Союза спасения, историки не могут пройти мимо знаменитого эпизода из мемуаров Сергея Трубецкого – о том, как заговорщики принимали написанный Пестелем «статут». «При первом общем заседании для прочтения и утверждения устава Пестель поселил в некоторых членах некоторую недоверчивость к себе; в прочитанном им вступлении он сказал, что Франция блаженствовала под управлением Комитета общественной безопасности. Восстание против этого было всеобщее, и оно оставило невыгодное для него впечатление, которое никогда не могло истребиться и которое навсегда поселило к нему недоверчивость», – вспоминал Трубецкой[21].
Традиционно эти воспоминания Трубецкого комментируют в том смысле, что Пестель уже в Союзе спасения «признавал целесообразность» якобинской диктатуры[22]. При этом исследователи – по традиции, идущей от Б. Е. Сыроечковского, – «поправляют» Трубецкого: по их мнению, «речь у Пестеля шла не о Комитете общей безопасности, охранительном органе, а о Комитете общественного спасения, том самом органе революционной диктатуры, который в 1793–1794 годах исполнял функции революционного правительства. Возглавляемый Дантоном, а потом Робеспьером, он олицетворял, особенно на своем последнем этапе, якобинскую диктатуру во всем ее кровавом безумстве»[23].
Между тем, М. В. Нечкина справедливо отмечала: «Беря это чрезвычайно любопытное свидетельство по существу, нельзя не отметить, что в 1817 году, когда Пестель читал свой вводный доклад, он еще не был республиканцем, а придерживался идеи конституционной монархии; не был он также еще сторонником диктатуры Временного правительства. Этих идей – республики и диктатуры – он, по его собственному признанию, стал придерживаться позднее». Отвергая мысль о том, что Трубецкой в мемуарах «перепутал» комитеты, Нечкина была убеждена, что Пестель действительно «восхвалял Комитет общественной безопасности». Однако почему именно этот комитет удостоился похвалы Пестеля, «установить», по ее мнению, «не удается»[24].
Правда, еще в 1920-х годах Н. М. Дружинин «установил», в чем состоял смысл этого «восхваления». Пестель говорил именно о Комитете общественной безопасности – тайной полиции якобинцев. Смысл его фразы состоял в том, что благоденствие государства во многом базируется на способности тайной полиции исполнять свои обязанности.
Кроме того, тайная полиция была интересна заговорщику именно как структура, близкая по своему устройству масонским ложам шведского образца, построенная «на началах строгой иерархии, суровой дисциплины и планомерной конспирации»[25].
От шведских лож мысль Пестеля перешла к тайной полиции – ближайшему к ним по форме учреждению. О том же, в чем, по мнению Пестеля, заключалась суть деятельности этой организации, можно судить по любопытному документу – написанной им чуть позже «битвы за устав» «Записки о государственном правлении». «Записка» эта обобщала военный и разведывательный опыт Пестеля и являлась, скорее всего, легальным документом, подготовленным для передачи «по команде»[26]. Формам деятельности политической полиции – «приказа благочиния», по терминологии Пестеля, – в «Записке» посвящена особая глава.
«Высшее благочиние требует непроницаемой тьмы и потому должно быть поручено единственно государственному главе сего приказа, который может оное устраивать посредством канцелярии, особенно для сего предмета при нем находящейся». Эта тайная «канцелярия» действует посредством шпионов – «тайных вестников», как называет их Пестель. «Тайные розыски или шпионство» представляют собой «не только позволительное и законное, но даже надежнейшее и почти что, можно сказать, единственное средство, коим вышнее благочиние поставляется в возможность достигнуть предназначенной ему цели»[27].
Уместно предположить – имея в виду свидетельство Трубецкого, – что именно «канцелярией непроницаемой тьмы», подчиняющейся единому лидеру, имеющей разветвленную сеть «тайных вестников» и занимающейся тайными розысками в отношении государственных органов и частных граждан, Пестель представлял тайное общество.
«Для руководства этому новому обществу Пестель сочинил устав на началах двойственной нравственности, из которых одна была для посвященных в истинные цели общества, а другая – для непосвященных». «Нельзя читать без невольного отвращения попыток Пестеля устроить “заговор в заговоре” против своих товарищей-декабристов, с тем, чтобы самому воспользоваться плодами замышляемого переворота», – утверждает историк Д. А. Кропотов в исследовании, написанном в 1870-х годах по мемуарам и личным впечатлениям участников «битвы за устав»[28].
Следует признать, что несмотря на эмоциональность этой оценки, она во многом верна. Именно «заговором в заговоре» видел Пестель тайное общество; скорее всего, уже тогда он предложил себя и в руководители подобной структуры. И именно против такого взгляда поднялось «всеобщее восстание» его товарищей, сторонников «демократического» иоанновского масонства, которые, по словам Трубецкого, «хотели действия явного и открытого, хотя и положено было не разглашать намерения, в котором они соединились, чтобы не вооружить против себя неблагонамеренных»[29].
«Борьба из-за устава, – пишет Кропотов, – возникшая тогда в среде заговорщиков, представляет один из любопытнейших эпизодов тогдашних тайных обществ. Это была борьба мечтательных увлечений с действительною жизнию, истинного просвещения с ложным, национальных идей с чужеземными и, если угодно, здравого смысла с горячечным бредом»[30]. Естественно, что под «мечтательными увлечениями», «ложным просвещением», «чужеземными идеями» и «горячечным бредом» историк понимает идеи Пестеля.
Под нажимом Пестеля и при содействии одного из основателей союза Александра Муравьева устав все же был принят. Однако просуществовал он недолго. Новые кандидаты в заговорщики – Михаил Муравьев, Иван Бурцов и Петр Колошин – «не иначе согласились войти, как с тем, чтобы сей устав, проповедующий насилие и основанный на клятвах, был отменен»[31]. Против идей Пестеля «негодовал» и основатель союза Иван Якушкин.
Вообще вся деятельность Пестеля в тайном обществе протекала в двух сферах. С одной стороны – программа реформ, всевозможные планы вооруженных выступлений, наконец, идея цареубийства. Все это хорошо известно из документов следствия, в том числе и из собственноручных показаний самого Пестеля, а также из многочисленных мемуаров. С другой стороны – он реально занимался подготовкой военного переворота: добывал деньги для «общего дела», пытался добиться лояльности к себе своих непосредственных начальников. И об этой его деятельности, о людях, которые помогали ему, нам известно крайне мало.
Можно твердо сказать лишь одно: все годы существования тайных организаций «образ действий» Пестеля вызвал недоверие к нему со стороны его товарищей. Пестеля боялись. Впоследствии именно с ним было связано большинство самых серьезных споров в среде декабристов, приводивших чаще всего к расколу и реформированию структуры тайных обществ.
В начале 1817 года, буквально через несколько дней после принятия устава, Пестель был вынужден покинуть Петербург. Витгенштейн получил назначение командовать расквартированным в Прибалтике 1-м пехотным корпусом со штабом в Митаве. Естественно, что с собой он увозил своего любимого адъютанта. И практически сразу же после отъезда Пестеля Союз спасения распался. Идея создания боевой, сплоченной организации с единым лидером провалилась.
* * *
На руинах Союза спасения возникла вторая тайная организация, Союз благоденствия. В создании ее уставного документа, знаменитой «Зеленой книги», Пестель участия не принимал. Идея второго союза состояла, как известно, в постепенной «подготовке» общественного мнения к принятию новых законов. Союз благоденствия представлял собой широкую и действующую почти открыто общественную организацию.
Единого лидера у общества не было. Руководил обществом Коренной совет (Коренная управа, Коренная дума), в который входили учредители организации. Во главе этого органа стоял председатель, который, согласно «Зеленой Книге», переизбирался каждый месяц. Блюститель, секретарь общества менялся один раз в год.
Эти новые формы деятельности тайного союза Пестель признал далеко не сразу. И даже формально согласившись с «Зеленой книгой», в практической деятельности он по-прежнему руководствовался собственными представлениями о способах действия тайной организации.
К активной деятельности в тайном обществе он вернулся в 1818 году – когда, сопровождая назначенного главнокомандующим 2-й армией Витгенштейна, приехал в Тульчин, в армейский штаб. Именно там он создал Тульчинскую управу Союза. «Первый, водворивший преступный союз сей во 2-й армии в начале 1818-го года, – был Павел Пестель в год вступления графа Витгенштейна в начальствование 2-ю армиею, и у которого Пестель был адъютантом», – утверждал на следствии Николай Комаров, до 1821 года член этой управы.
Через год сопредседателем управы стал капитан Гвардейского генерального штаба Иван Бурцов, адъютант начальника армейского штаба Павла Киселева. «Я прежде полковника Бурцова (Бурцов стал полковником в 1822 году. – О.К.) находился в Тульчине и потому прежде его там действовал. По прибытии же Бурцова действовали мы вместе», – писал Пестель в показаниях[32].
В конце 1819 года, сопровождая Витгенштейна, Пестель приехал в Петербург. И практически сразу же после его приезда начались известные «петербургские совещания» 1820 года. В беседах со своими сподвижниками Пестель настоял на гласном обсуждении вопросов о будущем устройстве государства и судьбе царствующего монарха.
На следствии он будет утверждать, что эта дискуссия происходила на «собрании Коренной думы» – руководящего органа Союза благоденствия. И что «прения» завершились формальным голосованием: «Объявлено, что голоса собираться будут таким образом, чтобы каждой член говорил, чего он желает: монарха или президента; а подробности будут со временем определены. Каждый при сем объявлял причины своего выбора, а когда дело дошло до Тургенева, тогда он сказал по-французски: Le president – sans phrases; то есть: президент без дальних толков. В заключение приняли все единогласно республиканское правление. Во время прений один Глинка говорил в пользу монархического правления, предлагая императрицу Елисавету Алексеевну».
Некоторые участники совещаний оспаривали на следствии выводы Пестеля. Наиболее решительно их опровергал активный член Союза благоденствия Федор Глинка: «На вопрос же о каком-то как бы торжественном и важном заседании, где трактовали о правлении для России, я ничего другого сказать не могу, как только то, что такого заседания не было».
«Что же касается до решения Коренной думы ввести в России таковое правление, то мне показалось бы нелепым и здравому смыслу противным, если бы в присутствии моем сия дума, составленная из нескольких молодых людей, не имеющих ни значительной власти, ни влияния политического, приняла на себя делать определения или решения о введении в государстве обширном и сильном какого-либо нового образа правления», – показывал на следствии другой участник дискуссии, Иван Шипов[33].
Трудно однозначно ответить на вопрос, происходила ли эта дискуссия на правильно организованных заседаниях, закончившихся голосованием, – или беседы насчет «выгод» и «невыгод» монархического и республиканского правлений происходили в неформальном, дружеском ключе. Однако независимо от формы дискуссии следует признать: именно в 1820 году Пестель предложил цареубийство как возможный метод введения республики. Впоследствии именно с его именем будет связано большинство радикальных «цареубийственных» проектов. Более того, вскоре цареубийство станет обязательным элементом плана действий возглавляемого Пестелем Южного общества.
С. Н. Чернов обоснованно утверждал, что декабрист пришел к идее цареубийства не столько в результате размышлений над политическими проблемами, сколько в результате «очень сильного и глубокого личного потрясения». Потрясение же это было вызвано громкой отставкой его отца с должности генерал-губернатора Сибири: «Сколько мы знаем характер Пестеля, можно догадываться, что узнав о беде отца, он пережил бурю личного негодования к императору и его советчикам».
В глазах Пестеля «император Александр естественным образом очень быстро приобретает характер несправедливого гонителя семьи. И в этот самый момент раздражения и обиды французский революционер убийством герцога Беррийского указывает ему – пусть не совсем новый – путь политической борьбы. И в минуты страстного раздражения Пестель взял предложенное французом средство»[34].
С этим мнением трудно не согласиться. Однако признав, что в основе цареубийственной идеи Пестеля действительно лежит личная обида на царя, необходимо понять, почему он решил ввести цареубийство в программу тайного общества. Ведь согласившись видеть Россию республикой, заговорщики уже сошлись на том, что в будущем государственном устройстве царя быть не должно.
Более того, присутствующий одном из совещаний Николай Тургенев произнес свой знаменитый афоризм: «Le president sans phrases», «президент без дальних толков». И заговорщики, по верному замечанию исследователей М. П. Одесского и Д. М. Фельдмана, не могли не опознать тут перифраз формулы, использованной французскими радикалами 1793 года в Конвенте, когда на голосование был поставлен вопрос о казни короля: «La mort sans phrases», «смерть без дальних толков»[35].
Здесь Пестель, очевидно, счел, что совещания – подходящий повод для новой попытки сделать организацию боевой и сплоченной. В принципе, теоретические рассуждения о «монархии» и «республике» не заключали в себе ничего противозаконного. Иное дело – цареубийство. Соглашаясь на него, члены тайного общества не оставляли себе пути к отступлению. Возможность проводить время в праздных разговорах о «благе отечества» сводилась на нет: каждый из них, по российским законам, в случае разоблачения мог быть казнен. У них оставалась только одна дорога – дорога конкретного революционного действия.
В результате, несмотря на все старания Пестеля, результаты совещаний оказались более чем скромными. Сам Пестель после их окончания начал писать свой первый, конституционно-монархический, вариант «Русской Правды». А попытка «привить» Союзу радикальную программу закончилась, по мнению С. Н. Чернова, развалом организации. От Союза благоденствия стали отпочковываться малочисленные миниобщества, в основном не принявшие идею республики. И все закончилось в 1821 году роспуском Союза на съезде в Москве[36].
Как известно, Пестель на этот съезд не поехал. Декабрист Иван Якушкин свидетельствует, что его отговорил Бурцов – боясь, «что если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело». Ему доказали, что «так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо, и что, просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь на себя подозрение тульчинского начальства, а может быть, и московской полиции»[37].
Решение съезда о роспуске тайной организации на самом деле было фиктивным: полиция внимательно следила за деятельностью заговорщиков, и надо было ввести ее в заблуждение. Кроме того, необходимо было «отделаться» как от многочисленных случайных в заговоре людей, так и от Пестеля – радикального сторонника республики и цареубийства.
Привезли в Тульчин известие о роспуске организации участвовавшие в его работе капитаны Бурцов и Комаров.
* * *
Решениям съезда Пестель не подчинился.
В марте 1821 года, собрав всех находившихся в Тульчине членов Союза, он «спросил, ужели собравшиеся в Москве члены имели право разрушать общество и согласны ли мы его продолжить? На что все единогласно изъявили свое намерение его продолжить». Затем Пестель, «объясняя подробно, что общество рушилось от несогласия в целях и средствах, положил необходимым определить оные и вследствие сего сказал, что для введения нового порядка вещей нужно необходимо смерть» императора Александра I. С чем тульчинские заговорщики и согласились. Таким виделось начало этого исторического заседания князю Александру Барятинскому, впоследствии одному из главных действующих лиц заговора на юге[38].
Так возникло Южное общество, которое справедливо представлялось Пестелю не отдельной вновь построенной организацией, а продолжением старого общества – Союза благоденствия. Пестель стал его руководителем, директором.
Южное общество действовало на достаточно обширной территории: по сути – чуть ли не всей Украине и Бессарабии, где были расквартированы части 1-й и 2-й армий. Новое общество было четко структурировано. Руководила всем обществом Директория во главе с председателем – самим Пестелем. Кроме председателя, среди директоров – генерал-интендант 2-й армии Алексей Юшневский, он же «блюститель», секретарь Директории. Заочно в Директорию был избран служивший тогда в Гвардейском генеральном штабе столичный заговорщик Никита Муравьев – «для связи» с Петербургом. Реально Никита Муравьев, как известно, в руководстве Южным обществом не участвовал.
Директории подчинялись три отделения, или, как их называли, управы.
Окончательно управы сложились в 1823 году. У каждой из них были свои руководители. Центр первой – Тульчинской – управы по-прежнему находился в Тульчине. Управой этой, как и Директорией, руководил Пестель. Своего рода столицей второй, Васильковской, управы стал расположенный в тридцати верстах от Киева уездный город Васильков, где располагался штаб 2-го батальона Черниговского пехотного полка, входившего в состав 1-й армии. Командир батальона, подполковник Сергей Муравьев-Апостол, был председателем этой управы; вместе с ним управу возглавлял его друг, молодой подпоручик Полтавского пехотного полка Михаил Бестужев-Рюмин. Центром же третьей, Каменской, управы, во главе которой стояли отставной полковник Василий Давыдов и генерал-майор Сергей Волконский, была деревня Каменка, имение Давыдова.
* * *
Рассуждая о Пестеле-декабристе, невозможно обойти вниманием «Русскую Правду» – главное дело его жизни. В 1823 году руководители южных управ приняли ее основные положения в качестве программы собственных действий после победы революции.
Свой проект Пестель писал пять лет. По авторитетному мнению М. В. Нечкиной, первые строки самой ранней редакции этого документа появились в 1820 году, когда во время петербургских дискуссий членов Союза благоденствия Пестель сделал доклад о преимуществах республиканской формы правления над монархической и предлагал голосовать за цареубийство[39]. Впоследствии этот документ несколько раз переделывался: известны его три редакции. Первая из них дошла до нас в кратком изложении на следствии Никиты Муравьева, вторая и третья – в рукописях самого Пестеля[40]. Название своему проекту Пестель придумал только в 1824 году.
Однако ни одна из редакций не была закончена. Поэтому сегодня в полном объеме содержание этого документа можно восстановить с большей или меньшей долей условности, с помощью показаний на следствии самого Пестеля и его товарищей по заговору. Некоторые сведения можно почерпнуть и из подготовительных документов к «Русской Правде», а также из текста под названием «Конституция Государственный завет» – краткой выжимки основных идей проекта[41].
О том, для чего на самом деле составлялся заговор декабристов, Пестель прямо говорит в «Русской Правде». Уже в преамбуле ко второой ее редакции читаем: «Первоначальная обязанность человека, которая всем прочим обязанностям служит источником и порождением, состоит в сохранении своего бытия. Кроме естественного разума, сие доказывается и словами Евангельскими, заключающими весь закон христианский: люби Бога, и люби ближнего, как самого себя (курсив в тексте. – О.К.), словами, вмещающими и любовь к самому себе как необходимое условие природы человеческой, закон естественный и, следственно, обязанность нашу». Естественное право человека – право на жизнь – Пестель толкует «расширительно», понимая его прежде всего как «любовь к самому себе», законодательно закрепленное право на эгоизм.
Именно из таким образом понятого права на эгоизм проистекает важнейшая идея «Русской Правды» – идея всеобщего юридического равенства граждан перед законом. Ведь только в обществе равных возможностей эгоизм каждого гражданина государства может быть реализован в полной мере. «Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют ровные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным устроением. Из сего явствует, что все люди в государстве должны непременно быть пред законом совершенно ровны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непременно быть уничтоженным», – писал автор «Русской Правды»[42]. Согласно предположениям Пестеля сословное деление общества уничтожалось.
Однако юридическое неравенство подразумевает два предела: условно говоря, верхний и нижний. Применительно к России нижний предел неравенства являли собой бесправные крестьяне. Верхний же – государь император, который мог все. Естественно, что уравнение должно было приближаться к верхней границе, иначе вообще теряло смысл.
Однако для того, чтобы столь страстно желаемое юридическое равенство было реальным, необходимо было прежде всего освободить и дать права гражданства крестьянам. По Пестелю, «право обладать другими людьми как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по своему произволу без предварительного с ними соглашения и единственно для своей прибыли, выгоды и прихоти есть дело постыдное».
Пестель прекрасно понимает, что для истинного освобождения крестьян одних «правильных» законов мало. Освобождение без земли окажется пустым звуком, приведет их к разорению. Между тем как «освобождение сие должно доставить лучшее положение противу теперешнего»[43].
Отсюда напрямую вытекает аграрный проект «Русской Правды» – пожалуй, важнейший и сложнейший для ее автора, вызывавший острую критику со стороны многих декабристов, в том числе того же Николая Тургенева[44]. Этот проект хорошо известен историкам.
Пестель исходит из того, что земля «есть собственность всего рода человеческого», но не ставит под сомнение и важнейшее естественное право – право частной собственности, в том числе и на землю. Он планирует разделение всей пахотной земли на две части: «Одна половина получит наименование земли общественной, другая земли частной». Граждане, приписанные к определенной волости, имеют право получить свои наделы из общественной земли – «не в полную собственность, но для того, чтобы их обрабатывать и пользоваться их произрастениями». «Земли частные будут принадлежать казне или частным лицам, обладающим оными с полною свободою и право имеющим делать из оной, что им угодно». Подобная система предусматривала и конфискацию значительной части помещичьей земли.
Идея всеобщего юридического равенства вполне воплотилась и в национальной программе «Русской Правды». Давно отмечено, что программа эта была крайне жесткой по отношению к населяющим Россию «инородцам»: предлагала «силою переселить во внутренность России» «буйные» кавказские народы, выселить два миллиона русских и польских евреев в Малую Азию, изгнать из России цыган, которые не пожелают принять христианство, истребить древние татарские обычаи многоженства и содержания гаремов. В итоге подобных действий национальности, подобно сословиям, должны быть уничтожены, «все племена должны быть слиты в один народ». Все обитатели России должны стать русскими.
Дело здесь, конечно же, не в том, что Пестель не любил татар, евреев или цыган. Любое национальное своеобразие: культурное, религиозное или политическое, уничтожало принцип равных возможностей. И поэтому народам предоставлялся выбор: либо слиться с русскими, приняв их образ жизни и формы правления, либо испытать на себе много неприятностей – вплоть до выселения из страны. Все части России должны были связаны общностью русского языка, православной веры, законодательства и традиций.
Южный лидер прекрасно понимал, что ввести все эти преобразования мирно невозможно. Недовольных будет много: лишающиеся значительной части земли дворяне, почувствовавшие «вольность» крестьяне, не желающие ни становиться русскими, ни покидать Россию «инородцы». И дело вообще может кончиться «ужасами и междоусобиями», которые не пойдут ни в какое сравнение даже с тем, что происходило во Франции в конце XVIII века.
Введение новых законов, по Пестелю, «не должно произвести волнений и беспорядков в государстве». Государство обязано «беспощадную строгость употреблять противу всяких нарушителей общего спокойствия». Именно для того, чтобы предотвратить гражданскую войну, была нужна многолетняя диктатура Временного верховного правления. Опирающаяся на штыки и сильную полицию (явную – жандармерию, и тайную – «канцелярию непроницаемой тьмы») диктатура – самый действенный способ обеспечить «постепенность в ходе государственных преобразований». Так и только так Россия сможет избежать «ужаснейших бедствий» и не покориться вновь «самовластию и беззаконию».
И диктатура, и сильная государственная идеология должны были, по Пестелю, добиться от всех без исключения граждан новой России «единородства, единообразия и единомыслия»[45].
Многие современные историки видят в Пестеле прежде всего убежденного сторонника «антидемократических» форм правления, а в государстве, которое он замышлял, угадывают «тоталитарную сущность»[46].
Это мнение не вполне справедливо, как несправедливо и утверждение, что только ради воплощения в жизнь идеи диктатуры южный лидер и замышлял военный переворот. Пестель понимал, конечно, что диктатура, основанная на подавлении всякого инакомыслия, сама по себе не может предоставить людям всеобщее равенство. Согласно его представлениям после того, как будут проведены основные реформы и уйдет опасность гражданской войны, в России должно наступить царство демократии. Единовластию диктаторов придет конец, будет принята конституция и избран двухпалатный парламент.
Его нижняя палата («Народное Вече») будет избираться на пять лет на основе всеобщего и равного избирательного права; при этом каждый год должна происходить ротация пятой части палаты. Палата будет осуществлять законодательную власть: она «объявляет войну и заключает мир», принимает законы. Главные же из этих законов, касающиеся конституционных основ жизни страны, выносятся на референдум – «на суждение всей России предлагаются».
Верхняя палата («Верховный Собор») должна состоять из 120 членов, которые «назначаются на всю жизнь» и именуются «боярами». Кандидатов в число «бояр» предлагают губернии, а «народное вече» утверждает их. В руках «Верховного Собора» сосредотачивается «власть блюстительная». В частности, он должен следить за тем, чтобы принимаемые нижней палатой законы строго соответствовали конституции.
Исполнительная власть принадлежит «Державной Думе», состоящей из пяти человек, «народом выбранных». Для того чтобы среди этой пятерки не появился новый диктатор, предлагается опять же ежегодная ротация. «Державная Дума… ведет войну и производит переговоры, но не объявляет войны и не заключает мира, все министерства и все вообще правительствующие места состоят под ведомством и началом Державной Думы»[47].
Собственно, тогда, когда эти органы будут сформированы и заработают, в стране и наступит всеобщее равенство. Христианский принцип «люби ближнего, как самого себя» сможет воплотиться в жизнь, и люди смогут наконец реализовать свои равные права.
У «Русской Правды» была и еще одна, так сказать, тактическая функция – она должна была обеспечить организационное единство Южного общества.
Поручик Николай Бобрищев-Пушкин описал на следствии одно из своих свиданий с Пестелем, посвященное обсуждению его конституционного проекта. Пестель, по словам Бобрищева-Пушкина, показал ему «начало этого своего сочинения под названием “Русская Правда”. На самых первых страницах, где пишет он об обязанностях человека, он вдруг говорит мне об одном месте: “Здесь, мне кажется, не хватает примера”. Я, желая узнать, с каким видом он примет религиозное мнение, дабы судить по тому, имеет ли он если не религию, то по крайней мере несомненное политическое уважение к религии, говорю ему: “Мне кажется, что здесь очень прилично поставить вот это”, – и сказал ему текст, служащий главным основанием христианской веры; он мне на это поспешно отвечал: “Это правда, впишите это своею рукою”».
Речь в данном случае шла о введении к «Русской Правде» – где Пестель описывал «основные понятия» своего проекта. «Текст, служащий основанием христианской веры», – это уже упоминавшаяся выше библейская цитата «люби бога и люби ближнего, как самого себя». Цитата эта, как и окружающие ее несколько фраз, действительно была написана рукой Бобрищева-Пушкина – и в таком виде дошла до нас.
Текст «Русской Правды» сохранил и образцы почерка большинства руководителей Южного общества – они вносили в него правку, делали попытки перевести этот документ на французский язык и т. п.
Тот же Бобрищев-Пушкин показывал на следствии, что, вставив свои дополнения в текст «Русской Правды», «через несколько минут уже догадался, что это были сети, расставленные мне для того, чтобы лишить меня возможности донести, что у него (Пестеля. – О.К.) имеется такого рода сочинение»[48]. Очевидно, что подобного рода сомнения посещали и Алексея Юшневского. По мнению авторитетного текстолога С. Н. Чернова, редактируя текст «Русской Правды», Юшневский «заботливо изменял свой почерк: его выдает только своеобразное написание буквы “Б”»[49].
Опасения и «догадки» Бобрищева-Пушкина и Юшневского вряд ли были безосновательными. Пестель недаром просил своих товарищей вносить изменения в свой текст, обсуждал проект на съездах руководителей тайного общества, в 1823 году добился формального голосования за него. Идея совместной работы над программным документом в целом похожа на ту, которую он преследовал, уговаривая членов Союза благоденствия проголосовать в 1820 году за цареубийство. Те, кто обсуждал «Русскую Правду» и голосовал за нее, чей почерк остался на ее страницах, не могли уже отговориться незнанием о существовании этого документа. И перед лицом власти они становились государственными преступниками. У них оставался единственный выход – содействовать скорейшему осуществлению революции и воплощению «Русской Правды» в жизнь.
* * *
Между тем, Южное общество, как и первые союзы, оказалось организацией весьма неэффективной. Пестель недаром подчеркивал на следствии преемственность своей организации с организацией предыдущей, называя ее «Южным округом Союза благоденствия». Помимо идеи установления новой власти посредством военной революции, новое общество унаследовало от старого и организационную беспомощность. Четкий план построения Южного общества не был способен сделать из него структуру, готовую к захвату власти.
Еще в начале ХХ века историк М. В. Довнар-Запольский писал о том, что «между официальным зарождением Южного общества и началом его деятельности протек небольшой подготовительный период», после которого оно приступило к активным действиям[50]. Споря с ним, М. В. Нечкина утверждала, что «ни о каком периоде затишья или о перерыве, который якобы установился в начале жизни общества, не приходится говорить. Южное общество возникло и сразу же начало действовать»[51].
Однако как признания на следствии, так и позднейшие мемуары самих участников тайной организации противоречат как Довнар-Запольскому, так и Нечкиной. Судя по всему, в жизни Южного общества не было ни «периода затишья», ни этапа активных действий. Более того, с самого момента образования как цельная организация оно практически не существовало.
Задуманные Пестелем жесткое построение заговора, различные степени «посвященности» в его тайны на практике не действовали. Ни одно из «главных правил» деятельности Южного общества «не было исполняемо», – признавал на следствии руководитель Директории[52]. Две из трех управ нового союза – Тульчинская и Каменская – существовали лишь номинально.
Проведя первую половину 1821 года в трудах «по делам греков и турок»[53], Пестель редко появлялся в главной квартире и очень мало времени мог уделять своей управе. Когда же в ноябре того же года он стал командиром Вятского пехотного полка со штабом в Линцах, ему пришлось и вовсе уехать из Тульчина. И Тульчинская управа развалилась. Следы охлаждения к делам тайного общества видны в показаниях и мемуарах большинства ее участников; прекратились даже такие не опасные для правительства формы деятельности заговорщиков, как «тульчинские беседы».
«Я сам не могу дать себе отчета, почему и как, но я и некоторые из моих друзей – Ивашев, Вольф, Аврамов 1-й (члены Тульчинской управы Южного общества. – О.К.) и еще другие с половины 1821 года не принимали уже прежнего участия в обществе и не были ни на одном заседании», – писал в мемуарах один из бывших «активистов» Союза благоденствия Николай Басаргин[54]. Тот же Басаргин утверждал на следствии: с того момента, как Пестель уехал из Тульчина, «общество как бы кончилось»[55].
А один из самых близких Пестелю декабристов, князь Александр Барятинский, утверждал в показаниях, что «в 1822 же году большая часть сего общества отошла от нас». «Малое число членов и всегдашнее их бездействие было причиною, что нет во второй армии ни управ, ни порядку между членами», «А. П. Юшневский никогда не вмешивался в дела общества и по характеру, и по причине семейства, а только считался в оном», «Крюков занят женитьбой своей, никогда не входил даже и в разговоры. Ивашев уже два года у отца в Симбирске живет, Басаргин, Вольф, Аврамов совершенно отклонилися дажеотразговоров, касающихся до общества»[56].
«И если все почти не отстали от общества, по крайней мере, мне так всегда казалось, то более потому, что боялись друг перед дружкой прослыть трусами или эгоистами», – показывал поручик Павел Бобрищев-Пушкин[57].
«Тульчинская управа с самого 1821 года впала в бездействие, и с того времени все ее приобретения состояли в некоторых свитских офицерах», – признавался на допросе и сам Пестель[58].
Подобным же образом обстояли дела и в Каменской управе. Знаменитая Каменка, воспетая Пушкиным, была, конечно, одним из важных центров российской культуры начала XIX века. В. С. Парсамов пишет: «Каменка – это место встречи различных эпох и культур», заключавшее в себе, к тому же, «огромные культуропорождающие возможности, которые оказались намного долговечнее тех, кто их создал. Таким образом был подготовлен своеобразный каменский ренессанс 1860-х годов, когда там появился П. И. Чайковский»[59].
Однако дух свободолюбия, который царил в Каменке, был скорее духом дворянской аристократической фронды, чем духом политического заговора; не случайно Г. И. Чулков называл атмосферу Каменки «барским вольнодумством»[60]. Руководитель управы Василий Давыдов – ровесник Пестеля, был с 1822 года в отставке и безвыездно жил в своем имении. В его личности «удачно сочетались политический радикализм и утонченность светской культуры»[61]. К 1825 году у Давыдова было уже шестеро детей. «Женившися, имевши несколько детей и живучи уединенно в деревне – какая может быть управа у Вас. Л. Давыдова», – резонно замечал на следствии Барятинский[62].
О том, как проводили время обитатель Каменки и его друзья, сохранились уникальные свидетельства дружившего с Давыдовым Пушкина. Так, в написанном из Каменки в декабре 1820 года частном письме он сообщал: «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами – общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. – Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов»[63].
Другое пушкинское свидетельство – адресованное Василию Давыдову и датированное 1821 годом стихотворное послание:
Меж тем, как ты, проказник умный, Проводишь ночь в беседе шумной, И за бутылками аи Сидят Раевские мои…В стихотворении присутствует и характеристика тех «политических предметов», которые обсуждались в Каменке «за бутылкою аи»:
Спасенья чашу наполняли Беспенной, мерзлою струей, И за здоровье тех и той До дна, до капли выпивали. Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет… Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснет. Ужель надежды луч исчез? Но нет! – мы счастьем насладимся, Кровавой чашей причастимся – И я скажу: «Христос воскрес».В этих беседах о «тех» (революционерах) и «той» (свободе), о мировых революционных событиях, о возможности или невозможности провозглашения свободы в самой России, о том, «треснет» или «не треснет» «ярем» рабства, сложно было отличить голос облаченного в «демократический халат» В. Л. Давыдова от голосов его собеседников. Однако Давыдов в 1819 году вступил в заговор, а его собеседники, в частности, упомянутые в стихотворении его племянники Александр и Николай Раевские, славились своими вольнолюбивыми взглядами, но в тайном обществе не состояли. Не состоял в заговоре и Пушкин.
И хотя эти пушкинские свидетельства написаны до того, как Южное общество в полной мере организовалось, сведений о том, что Давыдов впоследствии вел себя принципиально по-другому, в распоряжении историков нет.
«Общество, не имеющее ни единомыслия, ни сил, ни денежных пособий, ни людей значительных, ни даже людей, готовых к действию или весьма мало, ничего произвести не может, кроме пустых прений», – признавался на следствии сам руководитель Каменской управы[64].
Кажется, что единственной реальной военной силой Тульчинской и Каменской управ вместе взятых (кроме, конечно, полка самого Пестеля) была 1-я бригада 19-й пехотной дивизии, которой с января 1821 года командовал генерал-майор князь Сергей Волконский. «У Пестеля никого не было, кроме Волконского», – показывал на допросе хорошо информированный в делах заговорщиков Александр Поджио.
Развал Южного общества стал очевиден Пестелю во время ежегодного – к тому времени уже четвертого – съезда руководителей управ в январе 1825 года в Киеве. Эти съезды были специально приурочены к киевской контрактовой ярмарке: члены общества могли спокойно находиться в городе, не вызывая подозрений. Александр Поджио показывал: в 1825 году «Муравьев и Бестужев не приезжали в Киев по запрещению корпусным их командиром», «я имел также свои развлечения, Давыдов дела, Волконский свадьбу – словом, все это приводило Пестеля в негодование, и он мне говорил: “Вы все другим заняты, никогда времени не имеете говорить о делах”»[65].
Глава II. «Канцелярия непроницаемой тьмы»
Разрабатывая свой план революции, Пестель, безусловно, учитывал опыт дворцовых переворотов XVIII века: революция должна была начаться с произведенного в Петербурге цареубийства. «Приступая к революции, – показывал Пестель на следствии, – надлежало произвести оную в Петербурге, яко средоточии всех властей и правлений».
Правда, Пестель понимал, что революция и дворцовый переворот – вещи разные. После переворота не происходило слома старой государственной системы, просто на смену убитому монарху приходил его более или менее законный наследник. Теперь же предстояло ломать в России государственный строй. Существовала вполне реальная опасность, что наследник престола может двинуть на революционную столицу верные властям войска. И задушить новорожденную российскую свободу.
Отсюда – уверенность Пестеля в необходимости убийства не только царя, но и всей «августейшей фамилии». Отсюда же и идея поддержки революции силами 2-й армии. «Наше дело в армии и губерниях было бы признание, поддержание и содействие Петербургу», – показывал он на следствии[66]. «Поддержание и содействие Петербургу» выражалось прежде всего в организации революционного похода 2-й армии на столицу.
Этот поход был важен Пестелю не только как тактический элемент. Представляется, что он был сам, лично заинтересован в подобном «революционном действии». Пестель служил не в Петербурге, а в Тульчине. И в случае начала – без его участия – революции в столице его шансы возглавить будущее революционное правительство были минимальны. Между тем, именно себя он, скорее всего, и видел в этом качестве.
Историк С. Н. Чернов, суммируя большое количество следственных материалов, восстановил «концепцию переворота», замышлявшегося на юге. Согласно Чернову переворот должен был осуществиться независимо от того, состояли или нет в заговоре командиры отдельных воинских частей. Армейское руководство в лице главнокомандующего и начальника штаба должно было или поддержать революцию, или подвергнуться аресту и уйти с политической сцены. «Головка армии» переходила таким образом в руки Пестеля и его единомышленников. «Из нее в недра армии начальникам крупных частей идут приказы. Их исполнение обеспечивается не только воинскою дисциплиною, но и военною силою тех частей, начальники которых примкнули к заговору».
Чернов справедливо утверждал, что переворот мыслился Пестелю прежде всего как «война» – «с диктаторской властью полководца, которому целиком подчиняются все военные и гражданские власти до момента полного упрочения победы». Правда, исследователь довольно скептически оценивал этот план, называя его построение «военно-бюрократическим» и «нежизненным»[67].
Конечно, если исходить только из показаний декабристов на следствии, скепсис Чернова вполне обоснован. И Пестель, и многие другие главные действующие лица заговора на следствии достаточно подробно повествовали о тактике военной революции. Но не существует ни одного показания о том, как конкретно декабристы собирались брать власть в России. А без этой конкретики все их тактические размышления предстают пустыми разговорами.
В самом деле, откуда у Пестеля возникла уверенность в том, что он – всего лишь армейской полковник – способен организовать поход 2-й армии на Петербург? Ведь полковники армиями не командуют и приказы о начале движения не отдают. Для того чтобы в нужный момент добиться одномоментного выступления всех армейских подразделений, агитировать солдат и офицеров «за революцию» бесполезно. Армия в целом все равно не пойдет за революционным «диктатором». Она пойдет только за легитимным командующим. При этом, коль скоро законность самого похода может вызвать и неминуемо вызовет сомнения, этот легитимный командующий должен быть хорошо известен и лично популярен среди офицеров и солдат. Пестель такой известностью и популярностью явно не обладал.
Кроме того, для начала большого похода одного приказа о выступлении мало. Необходима кропотливая предварительная работа по подготовке дорог, складов с продовольствием, квартир для отдыха солдат. Все это невозможно организовать без содействия местных – военных и гражданских – властей. Но «военные и гражданские власти», точно так же, как и солдаты, могли подчиниться только легитимным приказам тех, кто имел право эти приказы отдавать.
Все это – элементарные законы движения армии, которые, конечно, Пестель не мог не понимать. Руководитель заговора первым по успехам окончил Пажеский корпус, всю взрослую жизнь прослужил в армии, прошел несколько военных кампаний, стал полковником и командиром полка в 28 лет. «Он на все годится: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром, он везде будет на своем месте», – так характеризовал Пестеля генерал Витгенштейн[68].
Судя по документам, характеризующим служебную деятельность Пестеля, втайне от многих соратников он активно строил «заговор в заговоре» – свою «канцелярию непроницаемой тьмы». И именно на тех людей, кто оказывался вовлеченным в это строительство, южный лидер рассчитывал, готовя российскую революцию.
* * *
Одним из таких людей был генерал-майор князь Сергей Волконский. По происхождению князь Волконский был одним из самых знатных среди заговорщиков – в жилах его текла кровь Рюрика и Гедемина.
В 1796 году, в возрасте восьми лет, он был записан сержантом в армию. Однако он считался в отпуску «до окончания курса наук» и реально начал служить с 1805 года. Первый его чин на действительной службе – чин поручика в Кавалергардском полку, самом привилегированном полку русской гвардии. Сергей Волконский принял участие в войне с Францией 1806–1807 годов; его боевым крещением оказалась сражение под Пултусском. Потом его послужной список пополнился делами при Янкове и Гоффе, при Ланцберге и Прейсиш-Эйлау, «генеральными сражениями» под Вельзбергом и Фриландом. Участвовал в русско-турецкой войне 1806–1812 годов; штурмовал Шумлу и Рущук, осаждал Силистрию. Некоторое время состоял адъютантом у М. И. Кутузова, главнокомандующего Дунайской армией. С сентября 1811 года Волконский – флигель-адъютант императора.
С самого начала Отечественной войны 1812 года он – активный участник и один из организаторов партизанского движения. Первый период войны он прошел в составе «летучего корпуса» генерал-лейтенанта Ф. Ф. Винценгероде – первого партизанского отряда в России. После оставления французами Москвы Сергей Волконский был назначен командиром самостоятельного партизанского соединения.
После того, как Отечественная война завершилась и начались заграничные походы, отряд Волконского вновь соединился с корпусом Винценгероде и стал действовать вместе с главными русскими силами. Волконский отличился в боях под Калишем и Люценом, при переправе через Эльбу, в «битве народов» под Лейпцигом, в штурме Касселя и Суассона. Начав войну ротмистром, он закончил ее генерал-майором и кавалером четырех русских и пяти иностранных орденов, владельцем наградного золотого оружия и двух медалей в память 1812 года.
Современники вспоминали: вернувшись с войны в столицу, Сергей Волконский не снимал в публичных местах плаща. При этом он «скромно» говорил: «солнце прячет в облака лучи свои» – грудь его горела орденами[69]. «Приехав одним из первых воротившихся из армии при блистательной карьере служебной, ибо из чина ротмистра гвардейского немного свыше двух лет я был уже генералом с лентой и весь увешанный крестами и могу без хвастовства сказать, с явными заслугами, в высшем обществе я был принят радушно, скажу даже отлично», – писал он в мемуарах[70].
Петербургский свет восхищался им, родители гордились. Отец уважительно называл его в письмах «герой наш князь Сергей Григорьевич». Для Военной галереи Зимнего дворца Дж. Доу нарисовал портрет Волконского. Перед молодым генералом открывались головокружительные карьерные возможности.
Но несмотря на блестящую военную карьеру, Сергей Волконский «остался в памяти семейной как человек не от мира сего»[71]. Частное поведение Волконского предвоенных, военных и послевоенных лет казалось современникам «странным». При этом для самого Волконского такое поведение было весьма органичным: в его позднейших мемуарах описанию этих «странностей» отводится едва ли не больше места, чем описанию знаменитых сражений.
В повседневной жизни Сергей Волконский реализовывал совершенно определенный тип поведения, названный современниками «гусарским». Этот тип поведения описал М. И. Пыляев: «Отличительную черту характера, дух и тон кавалерийских офицеров – все равно, была ли это молодежь или старики – составляли удальство и молодечество. Девизом и руководством в жизни были три стародавние поговорки: “двум смертям не бывать, одной не миновать”, “последняя копейка ребром”, “жизнь копейка – голова ничего!”. Эти люди и в войне, и в мире искали опасностей, чтоб отличиться бесстрашием и удальством»[72]. Согласно Пыляеву, особенно отличались «удальством» офицеры – кавалергарды.
Сергей Волконский – вполне в духе Пыляева – признавался в мемуарах, что для него самого и того социального круга, к которому он принадлежал, были характерны «общая склонность к пьянству, к разгульной жизни, к молодечеству, склонность к противоестественным утехам», «картёж… и беззазорное блядовство».
Образ жизни молодого бесшабашного офицера был, согласно тем же мемуарам, следующим: «Ежедневные манежные учения, частые эскадронные, изредка полковые смотры, вахтпарады, маленький отдых бессемейной жизни; гулянье по набережной или по бульвару от 3-х до 4-х часов; общей ватагой обед в трактире, всегда орошенный через край вином, не выходя, однако ж, из приличия; также ватагой или порознь по борделям, опять ватагой в театр…» Образ мыслей не многим отличался от образа жизни: «Шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы. Еще другое странное было мнение – это что любовник, приобретенный за деньги, за плату, не подлое лицо», «книги забытые не сходили с полок».
Волконский вспоминал, как в годы жизни в Петербурге он и другой будущий декабрист, Михаил Лунин (попавший, кстати, в число пыляевских «чудаков»), «жили на Черной речке вместе. Кроме нами занимаемой избы на берегу Черной речки против нашего помещения была палатка, при которой были два живые на цепи медведя, а у нас девять собак. Сожительство этих животных, пугавших всех прохожих и проезжих, немало беспокоило их и пугало тем более, что одна из собак была приучена по слову, тихо ей сказанному: “Бонапарт” – кинуться на прохожего и сорвать с него шапку или шляпу. Мы этим часто забавлялись, к крайнему неудовольствию прохожих, а наши медведи пугали проезжих»[73].
Следует заметить, что, согласно Пыляеву, Черная речка была излюбленным местом кавалергардских «потех» – и петербургские обыватели старались обходить эту местность стороной.
Ни Отечественная война, ни заграничные походы, ни даже получение генеральского чина не заставили Волконского отказаться от «буйного» поведения. Приехав после окончания войны во Францию, он сделал огромные долги – и уехал, не расплатившись с парижскими кредиторами и торговцами. Французы обращались с просьбой вернуть долг и в российское Министерство иностранных дел, и лично к императору Александру I. Волконского разыскивали в России и за границей, он всячески уклонялся от уплаты – и все это порождало большую официальную переписку.
В результате долги сына вынуждена была заплатить его мать. И Волконский, генерал-майор и герой войны, не без некоторой гордости сообщал в 1819 году армейскому начальству, что уплату его долгов «приняла на свое попечение» его «матушка», «Двора Их Императорских Величеств статс-дама княгиня Александра Николаевна Волконская». Впоследствии мать продолжала исправно платить долги сына[74].
В конце 1810-х годов столь блестяще начатая военная карьера Сергея Волконского резко затормозилась. До самого своего ареста в 1826 году он не был произведен в следующий чин, его обходили и при раздаче должностей.
Согласно послужному списку с 1816 по 1818 год Сергей Волконский – командир 1-й бригады 2-й уланской дивизии. Когда же в августе 1818 года эту бригаду расформировали, то новой бригады князю не дали – он «назначен состоять при дивизионном начальнике оной же дивизии»[75]. В ноябре 1819 года его шурин, близкий к императору Петр Волконский, просил государя назначить его «шефом Кирасирского полка», но получил «решительный отказ»[76].
Причина карьерных неудач князя, по мнению большинства исследователей, заключается в том, что уже тогда он начал обнаруживать признаки «вольнодумства». Н. Ф. Караш и А. З. Тихантовская видят причину императорского «неудовольствия» в другом: в том, что Волконскому «не простили пребывания во Франции во время возвращения Наполеона с о. Эльбы». Также «не простили» Волконскому тот факт, что в Париже – уже после реставрации Бурбонов – он пытался заступиться за полковника Лабедуайера, первым перешедшего со своим полком на сторону Наполеона и приговоренного за это к смертной казни[77].
Однако «вольнодумство» Волконский обнаружил позже, события же во Франции, свидетелем и участником которых он был, состоялись намного раньше. Представляется, что в данном случае причину царского гнева на генерала следует искать в другом.
Сергей Волконский был хорошо известен и Александру I, и его приближенным. Царь называл своего флигель-адъютанта «мсье Серж» – «в отличие от других членов» семьи Волконских – и внимательно следил за его службой. Однако «гусарство» и «проказы» «мсье Сержа» и его друзей императору явно не нравилось: Волконский описывает в мемуарах, как после одной из «проказ» государь не хотел здороваться с ним и его однополчанами-кавалергардами, как «был весьма сух» с ним после его высылки из Молдавской армии[78].
Очевидно, император ждал, что после войны генерал-майор остепенится; этого не произошло. «В старые годы не только что юный корнет проказничал, но были кавалеристы, которые не покидали шалости даже в генеральских чинах», – совершенно справедливо замечает Пыляев[79]. Скорее всего, следствием именно этого и стали карьерные неудачи князя.
В конце 1819 года жизнь Сергея Волконского круто переменилась: он вступил в Союз благоденствия. Случайно оказавшись в Киеве на ежегодной зимней контрактовой ярмарке, он встретил там своего старого приятеля Михаила Орлова. Орлов, генерал-майор и начальник штаба 4-го пехотного корпуса, уже давно состоял в тайном обществе, и его киевская квартира была местом встреч людей либеральных убеждений и просто недовольных существующим положением вещей.
То, что Волконский увидел и услышал на квартире Орлова, поразило воображение «гвардейского шалуна». Оказалось, что существует «иная колея действий и убеждений», нежели та, по которой он до этого времени шел: «Я понял, что преданность отечеству должна меня вывести из душного и бесцветного быта ревнителя шагистики и угоднического царедворничества», «с этого времени началась для меня новая жизнь, я вступил в нее с гордым чувством убеждения и долга уже не верноподданного, а гражданина и с твердым намерением исполнить во что бы то ни стало мой долг исключительно по любви к отечеству».
Через несколько месяцев после посещения квартиры Орлова Волконский попал в Тульчин, в штаб 2-й армии. Там произошло его знакомство с Пестелем. «Общие мечты, общие убеждения скоро сблизили меня с этим человеком и вродили между нами тесную дружескую связь, которая имела исходом вступление мое в основанное еще за несколько лет перед этим тайное общество», – писал Волконский в мемуарах.
Согласно этим мемуарам князь ни разу в жизни не пожалел ни о своем вступлении в тайное общество, ни о той роли, которую он для себя в этом обществе избрал: «Избранный мною путь довел меня в Верховный уголовный суд, и в каторжную работу, и к ссылочной жизни тридцатилетней, но все это не изменило вновь принятых мною убеждений, и на совести моей не лежит никакого гнета упрека».
С начала 1820 года в генерале происходит разительная перемена. Он перестает быть «шалуном» и «повесой» и, получив в 1821 году под свою команду 1-ю бригаду 19-й пехотной дивизии 2-й армии, безропотно принимает новое назначение. Волконский уезжает на место службы – в глухой украинский город Умань. В 1823 году, согласно мемуарам Волконского, император уже выражал «удовольствие» по поводу того, что «мсье Серж» «остепенился», «сошел с дурного пути». «Теперь я убедился, что ты принялся за дело, продолжай, и мне будет приятно это в тебе оценивать», – сказал император генералу.
В личной жизни Сергея Волконского тоже происходят перемены. «Блядовство» и традиционное светское женолюбие уступают место серьезным чувствам. В 1824 года Волконский делает предложение Марии Николаевне Раевской, дочери прославленного генерала, героя 1812 года. «Ходатайствовать» за него перед родителями невесты Волконский попросил Михаила Орлова, уже женатого к тому времени на старшей дочери Раевского, Екатерине. При этом князь, по его собственным словам, «положительно высказал Орлову, что если известные ему мои сношения и участие в тайном обществе помеха к получению руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепясь сердцем, я лучше откажусь от этого счастья, нежели изменю политическим моим убеждениям и долгу моему к пользе отечества»[80]. Генерал Раевский несколько месяцев думал, но в конце концов согласился на брак.
Свадьба состоялась 11 января 1825 года в Киеве; посаженным отцом жениха был его брат Николай Репнин, генерал-губернатор Малороссии, а шафером – Павел Пестель. Впоследствии Репнин будет утверждать: за час до венчания Волконский внезапно уехал – и «был в отлучке не более четверти часа». «Яспросил его, – писал Репнин, – куда? – Он: надобно съездить к Пестелю. – Я: что за вздор, я пошлю за ним, ведь шафер у посаженного отца адъютант в день свадьбы. – Он: нет, братец, непременно должно съездить. Сейчас буду назад». Репнин был уверен: в день свадьбы его брат, под нажимом Пестеля, «учинил подписку» в верности идеям «шайки Южного союза»[81].
Впрочем, современные исследователи не склонны верить в существование подобной подписки: Пестелю, конечно, вполне хватило бы и честного слова своего друга. Не заслуживает доверия и легенда, согласно которой Раевский добился от своего зятя прямо противоположной подписки – о том, что тот выйдет из тайного общества[82].
Вступив в заговор, генерал-майор Сергей Волконский, которому к тому времени уже исполнился 31 год, полностью попал под обаяние и под власть 26-летнего Пестеля. Вместе с Пестелем Волконский начинает готовить военную революцию в России. И хотя никаких политических текстов, написанных до 1826 года рукой князя, не сохранилось, можно смело говорить о том, что его взгляды оказались весьма радикальными. В тайном обществе Волконский был известен как однозначный и жесткий сторонник «Русской Правды» (в том числе и ее аграрного проекта), коренных реформ и республики. При его активном содействии «Русская Правда» была утверждена Южным обществом в качестве программы. Несмотря на личную симпатию к императору Александру I, Волконский разделял и «намерения при начатии революции… покуситься на жизнь Государя императора и всех особ августейшей фамилии».
В отличие от многих других главных участников заговора, князь Волконский не страдал «комплексом Наполеона» и не мыслил себя самостоятельным политическим лидером. Вступив в заговор, он сразу же признал Пестеля своим безусловным и единственным начальником. И оказался одним из самых близких и преданных друзей председателя Директории – несмотря даже на то, что Пестель был намного младше его и по возрасту, и по чину, имел гораздо более скромный военный опыт. Декабрист Николай Басаргин утверждал на следствии, что Пестель «завладел» Волконским «по преимуществу своих способностей[83].
В 1826 году Следственная комиссия без труда выяснила, чем занимался Волконский в заговоре. Князь вел переговоры о совместных действиях с Северным обществом (в конце 1823, в начале 1824 и в октябре 1824 года) и с Польским патриотическим обществом (1825 год). Правда, переговоры эти закончились неудачей: ни с Северным, ни с Польским патриотическим обществами южным заговорщикам договориться так и не удалось.
В 1824 году, по поручению Пестеля, Волконский ездил на Кавказ, пытаясь узнать, существует ли тайное общество в корпусе генерала А. П. Ермолова. На Кавказе он познакомился с известным бретером капитаном Александром Якубовичем, незадолго перед тем переведенным из гвардии в действующую армию. Якубович убедил князя в том, что общество действительно существует – и Волконский даже написал о своей поездке письменный отчет в южную Директорию. Но, как выяснилось впоследствии, полученная от Якубовича информация оказалась блефом.
Князь совместно с Василием Давыдовым возглавлял Каменскую управу Южного общества – но управа эта отличалась своей бездеятельностью. Волконский участвовал в большинстве совещаний руководителей заговора – но все эти совещания не имели никакого практического значения.
Однако у Волконского в тайном обществе был круг обязанностей, в выполнении которых он оказался гораздо более удачливым. На эту его деятельность Следственная комиссия особого внимания не обратила – но именно она главным образом и определяла роль князя в заговоре декабристов.
В «Записках» князя есть фрагмент, который всегда ставит в тупик комментаторов: «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с этого времени были мы сперва довольно знакомы, а впоследствии – в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какие [услуги] оказывает жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатайства может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления, пригласил нас, многих его товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, людей добромыслящих, и меня в их числе. Проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал[ександр] Хр[истофорович] осуществил при восшествии на престол Николая, в полном убеждении, в том я уверен, что действия оной будут для охранения от притеснений, для охранения вовремя от заблуждений. Чистая его душа, светлый его ум имели это в виду, и потом, как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубой мундир не был для нас лицами преследователей, а людьми, охраняющими и нас, и всех от преследования»[84].
События, которые здесь описаны, предположительно можно отнести к 1811 году – именно тогда Сергей Волконский стал флигель-адъютантом императора Александра I. Сведений о том, какой именно проект подавал Бенкендорф царю в начале 1810-х годов, не сохранилось. Известен более поздний проект Бенкендорфа о создании тайной полиции – проект, относящийся к 1821 году. Однако вряд ли в данном случае Волконский путает даты: с начала 1821 года он служил в Умани, и в этот период не мог лично общаться со служившим в столице Бенкендорфом.
Историки по-разному пытались прокомментировать этот фрагмент мемуаров Волконского. Так, например, М. Лемке в книге «Николаевские жандармы и литература» утверждал, что причина столь восторженного отзыва – в том, что Бенкендорф оказывал своему другу-каторжнику «мелкие услуги», в то время как мог сделать «крупные неприятности»[85].
Современные же комментаторы этого фрагмента делают иной вывод: Волконский, попав на каторгу, сохранил воспоминания о Бенкендорфе – своем сослуживце по партизанскому отряду, храбром офицере, и не знал, «какие изменения претерпела позиция его боевого товарища»[86].
Однако с подобными утверждениями согласиться сложно: почти вся сознательная жизнь Сергея Волконского эти утверждения опровергает. Князь Волконский был и остался убежденным сторонником не только тайной полиции вообще, но и методов ее работы в частности. Этому немало способствовал опыт участия в партизанских действиях, которые, конечно, были невозможны без «тайных» методов работы.
В тайном обществе у Волконского был достаточно четко определенный круг обязанностей. Он был при Пестеле кем-то вроде начальника тайной полиции, обеспечивающим прежде всего внутреннюю безопасность заговора.
В 1826 году участь Волконского намного утяжелил тот факт, что, как сказано в приговоре, он «употреблял поддельную печать полевого аудиториата»[87]. В 1824 году заговорщик действительно пользовался поддельной печатью, вскрывая переписку армейских должностных лиц. «Сия печать… председателя Полевого аудиториата сделана была мною в 1824 году», – показывал князь на следствии[88]. Печать эта была использована по крайней мере один раз: в том же году Волконский вскрыл письмо начальника полевого аудиториата 2-й армии генерала Волкова к Киселеву, тогда генерал-майору и начальнику армейского штаба. В письме он хотел найти сведения, касающиеся Михаила Орлова, только что снятого с должности командира 16-й пехотной дивизии, и его подчиненного, майора Владимира Раевского. «Дело» Раевского, участника заговора, занимавшегося, в частности, пропагандой революционных идей среди солдат и попавшего под суд, могло привести к раскрытию всего тайного общества.
В целях тайного общества Сергей Волконский использовал и свои родственные и дружеские связи с армейским начальством, с высшими военными и гражданскими деятелями империи. А связей этих было немало: вряд ли кто-нибудь другой из заговорщиков мог похвастаться столь представительным «кругом общения». С начальником штаба 2-й армии генерал-майором Киселевым Волконский дружил еще с юности; дружба, как уже говорилась выше, связывала Волконского с генерал-лейтенантом Александром Бенкендорфом – тогда начальником штаба Гвардейского корпуса. «Ментором» и покровителем заговорщика был его шурин Петр Волконский. «Близкое знакомство» соединяло Волконского с генерал-лейтенантом Иваном Виттом, начальником южных военных поселений, в 1825 году известным доносчиком на декабристов.
Согласно мемуарам князя в 1823 году, во время Высочайшего смотра 2-й армии, он получил от императора Александра I «предостерегательный намек» – о том, что «многое в тайном обществе было известно». Довольный состоянием бригады Волконского, Александр похвалил князя за «труды». При этом монарх добавил, что «мсье Сержу» будет «гораздо выгоднее» продолжать заниматься своей бригадой, чем «заниматься управлением» Российской империей[89].
Летом 1825 года, когда появились первые доносы на южных заговорщиков и над тайным обществом нависла угроза раскрытия, подобное «предостережение» Волконский получил и от одного из своих ближайших друзей – начальника армейского штаба Киселева. Киселев сказал тогда Волконскому: «Напрасно ты запутался в худое дело, советую тебе вынуть булавку из игры»[90].
В ноябре 1825 года Волконский узнал о тяжелой болезни и последовавшей затем смерти императора Александра I на несколько дней раньше, чем высшие чины во 2-й армии и столицах. Уже 13 ноября 1825 года, за шесть дней до смерти императора, он знал, что положение Александра I почти безнадежное; узнал же он об этом от проезжавших через Умань в Петербург курьеров из Таганрога. Следует заметить, что, конечно, курьеры не имели право эту информацию разглашать. Однако шурин заговорщика, Петр Волконский, к тому времени уже снятый с поста начальника Главного штаба, но не потерявший доверия императора, был одним из тех, кто сопровождал Александра I в его последнее путешествие, присутствовал при его болезни и смерти. Видимо, именно этим и следует объяснить странную «разговорчивость» секретных курьеров.
15 ноября Волконский сообщил эти сведения Киселеву – и впоследствии по этому поводу было даже устроено специальное расследование. Когда же царь умер, Волконский сообщил Киселеву, что послал «чиновника, при дивизи[онном] штабе находящегося, молодого человека расторопного и скромного, под видом осмотра учебных команд в 37-м полку объехать всю дистанцию между Торговицею и Богополем и, буде что узнает замечательного, о том мне приехать с извещением»[91]. Фрагмент письма Волконского красноречиво свидетельствует: в армии у князя была и собственная секретная агентура.
Естественно, что этой информацией Волконский делился со своим непосредственным начальником по тайному обществу – с Пестелем.
* * *
Все годы существования Южного общества еще одним ближайшим помощником Пестеля в деле подготовки революции был генерал-интендант 2-й армии Алексей Юшневский.
Юшневский, сын чиновника средней руки, был человеком штатским – и в армии никогда не служил. Окончив Благородный пансион при Московском университете, а затем отучившись несколько лет в самом университете, он, как и его отец, делал чиновничью карьеру. Гуманный, прекрасно образованный и честный чиновник искренне ненавидел крепостное право и искренне верил в идеалы свободы, равенства и братства. Младшему брату он писал: «Я не знаю, как зовут те правила, которые я тебе внушить старался; ежели их называют философиею XVIII века, тогда должно будет заключить, что имя сие дается правилам честности, бескорыстия, любви к своим собратиям, привязанности к тому обществу, в котором мы родились»[92].
Юшневский не был столь противоречивой личностью, как Пестель. Отзывы о нем современников и исследователей положительны и спокойны. Единомышленники запомнили его как «добродетельнейшего республиканца», «стоика во всем смысле слова», никогда не изменявшего «своих мнений, убеждений, призвания», «умом и сердцем» любившего свое отечество[93]. «Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, он даже шутил не улыбаясь», – вспоминал о нем его сибирский знакомый Н. А. Белоголовый[94]. Анализируя деятельность Юшневского-декабриста, В. М. Базилевич отмечал его «спокойный разум осторожного политика»[95].
Причины же, приведшие в заговор Юшневского, были, скорее всего, иными, вообще не характерными для заговорщиков 1820-х годов.
Юшневский вступил в заговор уже вполне взрослым, состоявшимся человеком. В 1819 году, когда он был принят в Союз благоденствия, ему исполнилось 33 года. В войне он не участвовал, политических амбиций был лишен. Его привело в тайное общество не желание стать «действующим лицом истории», а гуманный характер и твердые политические убеждения. О твердых убеждениях Юшневского свидетельствует прежде всего его реальная служебная деятельность, непосредственно предшествовавшая вступлению в заговор.
В 1816 году Юшневскому поручили «отправиться по делам службы в Бессарабию для собрания сведений о поселенных там болгарах, изъявивших желание составить особое войско на правах донских казаков»[96]. Он входит в состав, а вскоре и фактически возглавляет правительственную комиссию по исследованию положения болгарских переселенцев в Бессарабии.
События, в которых принимал непосредственное участие Юшневский, хорошо известны. В 1806–1812 годах, спасаясь от войны, из Болгарии через Молдавию и Валахию на русскую территорию, в Бессарабию, перешли несколько тысяч болгарских семей. Согласно Бухарестскому мирному договору этим семьям было предоставлено право вернуться на родину. Правда, мало кто из переселенцев этим правом воспользовался. Болгария, как и многие другие европейские страны, была занята Турцией, и переселенцы боялись мести своих правителей.
Интересы переселенцев вошли в противоречие с интересами местных помещиков и местных властей. Помещики и власти не только не помогали болгарам, но и всячески стремились распространить на них крепостную зависимость – поскольку те обосновались на частных землях. Крепостного права в российском понимании этого слова в Бессарабии не было, однако крестьяне, живущие на помещичьей земле, обязаны были исполнять в пользу хозяина многочисленные повинности.
Болгары, не желая эти повинности исполнять, бросали нажитое имущество и пытались уйти с частных земель на земли казенные. Однако их стали возвращать обратно силой. Переселенцы писали жалобы Беннигсену, министру внутренних дел и даже самому императору. Они просили позволения выбрать собственное самоуправление и составить «особое войско на правах донских казаков». С положением болгар нужно было срочно разбираться, иначе дело вообще могло закончиться бунтом.
Приехав в Бессарабию и вникнув в положении дел, Юшневский решительно принял сторону переселенцев. Он писал Беннигсену рапорты и записки о том, что насильственное возвращение болгар на частные земли незаконно, как незаконны и попытки помещиков сделать из них крепостных. «Таковые претензии помещиков не могли бы быть и приняты, ибо переселенцы перешли из-за Дуная не по их приглашению и водворены без их иждивения», – утверждал он[97].
Занимаясь делами переселенцев, Юшневский выполнял и секретную дипломатическую миссию. В 1826 году на допросе он покажет, что «был командирован в Бессарабскую область для сношения с поселившимся там во время последней с турками войны болгарским народом, изъявившим готовность перевести из Оттоманских владений остальных своих единоземцев, с тем чтобы предоставлены им были особые права и преимущества»[98]. Речь, таким образом, шла о переселении большей части болгар в Россию. И проект этот был для России выгодным: Бессарабия была плодородным, но малозаселенным краем.
Естественно, помещики и местные власти были крайне недовольны миссией Юшневского. С помощью «угроз» и «лживых внушений» переселенцам они всячески тормозили работу его комиссии. Непосредственным начальникам надворного советника направлялись рапорты и прошения о том, чтобы удалить его из комиссии как «не заслуживающего никакого уважения»[99].
Юшневскому было трудно. В письме брату Семену в сентябре 1817 года он пожалуется: «Я отправился в Бессарабию, как тебе известно, месяца на два, а живу до сих пор против воли, претерпевая все возможные неприятности, и вмести всех наград, каковыми льстил себя в начале, ограничиваюсь одним только желанием освободиться из сей обетованной земли; но и в сем не имею успеха».
Но отступить не позволяли убеждения – правила «честности, бескорыстия и любви к своим собратьям»[100].
Юшневскому не удалось осуществить проект переселения болгар в Россию, была оставлена без внимания и их просьба об организации «особого войска». Но местным властям и местным помещикам не удалось закрепостить переселенцев; им было позволено переселиться на казенные земли и завести у себя подобие самоуправления. «Господин Юшневский столь многотрудное дело исполнил с совершенным успехом, оказав при сем случае опыт благоразумия, деятельности и ревностного к службе усердия», – так характеризовал чиновника один из его начальников[101].
Многие из «людей 1820-х годов» – и декабристы, и недекабристы – считали крепостное право «позором» и тормозом в развитии страны. Но большинство из них ограничивались лишь разговорами о вреде «крепостного состояния» в разных его проявлениях, о желательности его ограничения и отмены; на решительные действия против «позора крепостничества» мало кто мог отважиться. Юшневский же лично спас от феодальной зависимости несколько тысяч человек – и в связи с этим его вступление в заговор декабристов представляется вполне обоснованным и логичным.
* * *
В середине 1819 года Юшневский приехал в Тульчин – и по приглашению главнокомандующего Витгенштейна стал генерал-интендантом 2-й армии. И практически сразу же вступил в заговор.
Собственно, «звездный час» Юшневского-заговорщика настал в начале 1821 года. Он решительно поддерживает Пестеля в отказе подчиниться постановлению съезда; когда в Тульчине узнают о ликвидации Союза благоденствия, он проявляет не меньшую – если не большую – активность, чем сам Пестель.
Еще до того, как Тульчинская управа принялась обсуждать постановление съезда, Юшневский предложил Пестелю воспользоваться сложившейся ситуацией – и укрепить ряды заговорщиков. Согласно показанию Пестеля Юшневский собирался «представить» заговорщикам картину «опасностей и трудностей предприятия» – «дабы испытать членов и удалить всех слабосердных». «Лучше их теперь от Союза при сем удобном случае удалить, нежели потом с ними возиться», – в этом Юшневский был уверен.
Пестель с этим планом согласился.
На общем собрании тульчинских заговорщиков генерал-интендант выступал сразу после Пестеля – и произнес «речь об опасности продолжения общества». Юшневский – вполне в духе предварительной договоренности с Пестелем – повествовал об «опасности такового соединения», советовал «не увлекаться мгновенным порывом самолюбия, но испытать внимательнее свои к тому силы и способности». При этом он добавил, что и сам желает взять время «на размышление»[102].
Анализируя дошедшие до нас свидетельства об этой речи, М. К. Азадовский назвал ее «содокладом» к «докладу» Пестеля. Действительно, это выступление оказало на собравшихся сильное впечатление. Юшневский к этому времени уже почти полтора года был генерал-интендантом 2-й армии, его авторитет в глазах присутствующих был велик. Обнаружить перед ним свою трусость не желал никто. Поэтому все участники собрания, кроме ушедших еще в самом его начале Бурцова и Комарова, «не обинуясь, возгласили, что без дальнейших размышлений желают сохранить прежний состав»[103].
С 1821 года биографии Пестеля и Юшневского оказываются теснейшим образом связанными. Статус обоих членов Директории был равным, равными были и их полномочия. Полномочия же эти состояли «в надзоре за исполнением установленных обществом правил, в сохранении связи между членами и управами, в назначении председателей по Управам, в принятии членов в бояре и в присоединении к Директории новых членов или председателей». При этом отношения южных директоров строились на взаимном доверии. Согласно показаниям Пестеля они с Юшневским договорились «действовать в случаях, не терпящих отлагательства, именем Директории без предварительного между собою сношения, в полной уверенности, что другой член подтвердит его действие».
Все годы существования заговора Пестель и Юшневский были единомышленниками и верными соратниками. В январе 1822 года, на первом съезде южных руководителей в Киеве, Юшневский, поддерживая Пестеля, еще раз «изъявил согласие» на «продолжение общества». Генерал-интендант оказался полностью в курсе переговоров Южного общества с Польским патриотическим обществом о совместных действиях; в январе 1824 года он – от лица Директории – вынес благодарность за успешные переговоры с поляками Михаилу Бестужеву-Рюмину. Когда же эти переговоры взялся вести сам Пестель, то действовал он «не иначе, как по предварительному совещанию с Юшневским и с его согласия».
В отсутствие Пестеля Юшневский проводил заседания руководителей Южного общества. К нему как к руководителю заговора адресовались южные заговорщики, рассказывая о своих «успехах» по обществу. Вообще, согласно справке, составленной по итогам следствия над Юшневским, он «разделял все злодейские замыслы общества, знал о всех преступных его сношениях, действиях и связях и как начальник сего общества одобрял оные»[104].
Юшневский полностью одобрял и «Русскую Правду» с ее идеей республики и военной диктатуры; был активным сторонником цареубийства. Более того, он помогал Пестелю в работе над «Русской Правдой», редактируя программный документ Южного общества[105]. Проект этот вполне отвечал политическим воззрениям Юшневского – отмена крепостного права декларировалась в нем в качестве неотложной меры.
Правда, Юшневский не был теоретиком заговора, не стремился – в отличие от Пестеля – и стать военным диктатором. В случае победы Пестель видел его на должности министра финансов в новом правительстве. Вообще он казался многим декабристам, как на юге, так и в Петербурге, фигурой чисто декоративной, важной Пестелю лишь по тому уважению, которым он пользовался во 2-й армии как генерал-интендант.
Собственно, в тайном обществе Юшневский действительно играл вторую роль; ни о каких самостоятельных, не согласованных с Пестелем его инициативах историкам не известно. Более того, за все время пребывания в тайном обществе он принял в заговор только одного нового члена, служившего в тульчинском штабе армейского врача Фердинанда Вольфа. Даже его младшего брата Семена, чиновника канцелярии Витгенштейна, в тайное общество принял Пестель – без ведома генерал-интенданта[106]. Вообще, до конца 1825 года Юшневский ни разу не позволил себе и публично не согласиться с какой-либо инициативой Пестеля – по крайней мере, сведений об этом не сохранилось.
Однако, анализируя документы, следует признать, что в деле реальной подготовки революции Юшневский был фигурой ключевой и знаковой.
* * *
Назначая в мае 1818 года главнокомандующим 2-й армией генерала от кавалерии Петра Витгенштейна, император, безусловно, учитывал тот факт, что этот генерал был одним из самых прославленных русских полководцев. В 1812 году Отдельный корпус под его командованием остановил наступление наполеоновских частей на столицу России, за что сам Витгенштейн получил почетное прозвище «спаситель Петрополя».
Конечно же, император надеялся, что Витгенштейну, благодаря его репутации и его опыту, удастся справиться с проблемами, одолевавшими армию в послевоенные годы. Проблемы же эти были весьма непростыми.
«Витгенштейновы дружины» были расквартированы на юго-западе России: в Киевской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниях, а также в Бессарабской области. Они состояли из двух пехотных корпусов (16 пехотных и 8 егерских полков в составе четырех пехотных дивизий), девяти казачьих полков, одной драгунской дивизии, нескольких артиллерийский бригад и пионерных батальонов. Это войско было ничтожно малым по сравнению с расквартированной в западных губерниях 1-й армией, в состав которой, не считая кавалерии и артиллерии, входило пять пехотных корпусов. Естественно, что и сам император, и высшее военное командование сосредотачивали свое внимание прежде всего на 1-й армии.
2-я армия была пограничной: прикрывала протяженную границу с находившимися под протекторатом Турции Дунайскими княжествами – Молдавией и Валахией. Отсюда – целый ворох пограничных проблем: контрабандные перевозки товаров, незаконные переходы границы, приграничный шпионаж. Когда же в 1821 году вспыхнуло восстание молдавских и валашских греков против Турции, война с турками многим современникам представлялась весьма близкой. Граница в любой момент могла стать линией фронта, а 2-я армия – ударной силой русского вторжения на Балканы. Существовала и опасность другого рода: «турецкие банды могли прорваться на русскую территорию»[107].
Кроме приграничных, во 2-й армии существовали и общеармейские проблемы: продовольствие и снабжение войск, кадровая политика, военная подготовка, армейская дисциплина.
Особой проблемой была борьба с коррупцией в среде высшего армейского командования. Общее армейское неблагополучие ярче всего проявлялось в самой «денежной» области армейского управления – в интендантстве.
Должность генерал-интенданта была в армии одной из ключевых. Генерал-интендант напрямую подчинялся главнокомандующему армией, занимал второе после главнокомандующего место в армейской иерархии. Это второе место он делил с начальником армейского штаба. Для осуществления своих обязанностей генерал-интенданту был положен большой штат сотрудников – собственная канцелярия и полевая провиантская комиссия во главе с армейским генерал-провиантмейстером. Полевой провиантской комиссии подчинялись корпусные комиссионерства – органы, отвечающие за обеспечение продовольствием отдельных корпусов.
Армейский генерал-интендант имел доступ к большим деньгам: именно он составлял армейский бюджет. Согласно принятому в 1812 году «Учреждению для управления большой действующей армией» «должность» генерал-интенданта состояла также в «исправном и достаточном продовольствовании армии во всех ее положениях съестными припасами, жалованьем, одеждою, амунициею, аптечными веществами, лошадьми и подводами».
В 1820-х годах снабжение армии хлебом и фуражом осуществлялось централизовано, на бюджетные деньги. Армия имела постоянные армейские магазины – склады, из которых близлежащие военные части получали продовольствие. Заготовление хлеба и фуража, заполнение магазинов всецело подлежали ответственности генерал-интенданта. Заполнялись же магазины прежде всего с помощью открытых торгов, к которым приглашались все желающие. Правильная организация торгов, заключение контрактов («кондиций») с поставщиками по выгодным для казны ценам, контроль за «исправностью» поставок – все это входило в «зону ответственности» генерал-интенданта.
Генерал-интендант лично отвечал и за устройство дорог, по которым могла двигаться армия («военных дорог»), был обязан устраивать вдоль этих дорог продовольственные пункты («эшелоны магазинов и свалок продовольствия»). Ответственность, возложенная законом на генерал-интенданта, многократно увеличивалась в случае начала военного похода. Согласно тому же «Учреждению…» при объявлении военного положения генерал-интендант автоматически становился генерал-губернатором всех губерний, в которых были расквартированы армейские части[108].
Между тем, 2-й армии с генерал-интендантами явно не везло. С 1817 по 1819 год на этой должности сменилось четыре человека. И все они – в большей или меньшей степени – оказались замешанными в коррупции и доносах на собственное начальство.
Естественно, что главнокомандующему, которому пришлось решать все эти проблемы, были необходимы лично преданные сотрудники. В 1818 году, практически сразу же по прибытии Витгенштейна к армии, огромное влияние в штабе приобретает штабс-ротмистр Павел Пестель – начальник канцелярии главнокомандующего. Даже в Петербург из 2-й армии просочились слухи, что Пестель «все из него (т. е. Витгенштейна) делает» и что без участия «графского адъютанта» в штабе не принимается ни одно серьезное решение[109].
В конце 1821 года Пестель покинул штаб – в связи с назначением полковым командиром Вятского пехотного полка. Однако он по-прежнему был дружен со штабными офицерами, многие из которых к тому же состояли в заговоре. Положение штабных заговорщиков с его уходом не пошатнулось – во многом благодаря тому, что влияние в делах сохранил армейский генерал-интендант, статский советник Алексей Юшневский, занимавший эту должность с декабря 1819 года.
Казалось бы, в связи с этим назначением перед заговорщиками открылись головокружительные финансовые возможности. Юшневский, получивший право распоряжаться деньгами армейского бюджета, мог, подобно своим предшественникам, понимать это право «расширительно». И тратить казенные деньги на нужды заговора.
Подтверждение этому найти нетрудно: в 1828 году, через два года после ареста и осуждения, на Юшневского был наложен огромный начет по интендантству. Согласно справке, составленной III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, «по требованию Временного счетного отделения интендантства 2-й армии здешнее губернское правление (губернское правление Подольской губернии. – О.К.) предположило взыскать с селения Хрустовой 326 018 руб. 49 1/2 коп., обращенных на ответственность бывшего генерал-интенданта Алексея Юшневского». На деревню Хрустовую – имение бывшего интенданта, которым, после смерти отца и до своего осуждения, он владел вместе с братьями, было наложено запрещение[110]. Декабрист А. Е. Розен, отбывавший каторгу вместе с Юшневским, рассказал в мемуарах о том, что разбирательство по интендантским делам «огорчало Юшневского в тюрьме потому, что если бы комиссия при ревизии обвинила его в чем-нибудь, то он был бы лишен возможности оправдаться».
Но тот же Розен описывает «радость и восторг старца, когда по прошествии восьми лет прислали ему копию с донесения комиссии высшему начальству, в коей было сказано, что бывший генерал-интендант 2-й армии А. П. Юшневский не только не причинял ущерба казне, но, напротив того, благоразумными и своевременными мерами доставил казне значительные выгоды».
«Первое чувство, произведенное во мне известием о разрешении от начета, было – удивление. В положении моем я считал это несбыточным. Благоговею перед правосудием, оправдавшим беззащитного!» – писал он по этому поводу брату Семену[111].
И если власти посчитали возможным официально оправдать каторжника в служебных преступлениях – значит, начет действительно был ошибочным. А Юшневский честный чиновник, не наживался на продовольственных подрядах и не присваивал казенных денег – пусть даже и для благородной цели революции в России. Для этой самой цели Юшневский использовал не украденные из казны деньги, а свое служебное положение.
* * *
Давно замечено, что начало 1823 года – совершенно особый период в жизни Южного общества, «значительная дата»[112], период резкой активизации деятельности заговорщиков. В январе этого года в Киеве состоялся очередной – второй по счету – съезд южных руководителей. Это был самый важный съезд в истории общества: ни на одном совещании ни до, ни после него столь масштабные решения не были обсуждаемы и принимаемы. При этом и форма проведения съезда была не похожа на большинство подобных совещаний. Вместо разговоров «между Лафитом и Клико» было организовано официальное заседание с формальным голосованием по обсуждавшимся вопросам.
На съезде, кроме Пестеля и Юшневского, присутствовали Сергей Волконский, Василий Давыдов, Сергей Муравьев-Апостол и юный, только недавно принятый в заговор Михаил Бестужев-Рюмин. Согласно показаниям Бестужева-Рюмина и Давыдова Пестель, председательствовавший на съезде, «торжественно открыл заседание» и предложил на обсуждение несколько теоретических вопросов: относительно введения в России республиканского правления, формы будущих демократических выборов («прямые» или «косвенные»), планировавшегося после революции передела земельной собственности, религиозного устройства будущего государства.
Говорили и о тактических установках будущей революции: Пестель утверждал, что «действие» надо начинать в Петербурге «яко средоточии всех властей и правлений» и что задача Южного общества состоит в «признании, поддержании и содействии» петербургским революционерам. Возражая ему, Сергей Муравьев предлагал немедленные и решительные действия на юге.
Главный вопрос, который Пестель поставил перед участниками съезда, – вопрос о цареубийстве в случае начала революции. Бестужев-Рюмин показывал: «Пестель спросил потом у нас: согласны ли мы со мнением общества о необходимости истребления всей императорской фамилии. Мы (имеются в виду сам автор показаний и его друг Сергей Муравьев-Апостол. – О.К.) сказали, что нет. Тут возникли жаркие и продолжительные прения: Муравьев в своем мнении устоял, а я имел несчастие убедиться доводами Пестеля». Сведения эти подтверждал и Сергей Муравьев: «Мнения членов были: Пестеля, Юшневского, В. Давыдова, князя Волконского: истребить всех. Бестужева: одного государя. Мое: никого».
Несмотря на «жаркие и продолжительные прения» о теоретической возможности «истребления» императорской фамилии Пестель заставил собравшихся рассматривать этот вопрос и в практической плоскости. Он вынес на обсуждение свой проект разделения будущего революционного действия на «заговор» и «собственно революцию».
«Заговор», по мнению Пестеля, должен быть осуществлен особым «обреченным отрядом» людей, формально не принадлежавших к обществу. Целью этого «заговора» было цареубийство, а возглавить «обреченный отряд» мог бы, по мысли руководителя заговора, его старый приятель Михаил Лунин – человек, известный своей решительностью и отвагой. «Ежели бы такая партия была составлена из отважных людей вне общества, то сие бы еще полезнее было», – показывал на следствии сам Пестель[113]. Совершенное в столице цареубийство должно было стать сигналом к началу «собственно революции» – революционного выступления армии.
Анализируя «повестку дня» киевского съезда 1823 года, нельзя не увидеть в ней целый ряд нелогичных моментов. Так, например, согласно идеям того же Пестеля после победы революции надлежало установить многолетнюю диктатуру Временного революционного правления – а не проводить «прямые» или «косвенные» выборы. Не имело практического смысла и обсуждение вопроса об «обреченном отряде»: людей, готовых в него войти, у Пестеля не было, а с Михаилом Луниным он, служа в Тульчине, много лет не виделся. Цареубийство же как необходимый элемент революционного плана было принято уже давно, при образовании в 1821 году Южного общества.
Представляется, что главная задача проводившего съезд Пестеля была вовсе не в обсуждении совершенно не актуальных проблем. Задача была в другом: добиться единства главных участников заговора. Сергей Волконский, один из ближайших друзей Пестеля, посвященный во многие его планы, впоследствии писал в мемуарах: южная Директория использовала обсуждение проектов цареубийства как «обуздывающее предохранительное средство к удалению из членов общества; согласие, уже не дававшее больше возможности к выходу, удалению из членов общества». По законам Российской Империи «умысел» на цареубийство приравнивался к самому «деянию» – и тот, кто согласился на эту меру, подвергался «полной ответственностью за первоначальное согласие»[114]. Сурово должен был быть наказан и тот, кто знал об этом умысле, но не донес на него властям.
И здесь логично поставить вопрос о том, почему именно в начале 1823 года Пестелю понадобилось подобным образом цементировать свою организацию. Ответ можно найти, анализируя служебную деятельность Алексея Юшневского.
В самом начале 1823 года, очевидно, за несколько дней до киевского съезда, генерал-интендант составил и отправил в Петербург, в Главный штаб, смету армейских расходов на 1823 год. Конкретную сумму заявленного бюджета установить на сегодняшний день не удалось. Но документы свидетельствуют: для содержания 2-й армии Юшневский запросил сумму в несколько раз большую, чем та, которой армия «довольствовалась» раньше. Бюджет увеличивался несмотря на то, что торги по поставкам продовольствия для армии на 1823 год оказались на редкость удачными для казны: удалось сэкономить 1 миллион 600 тысяч рублей[115].
Судя по резкой и мгновенной реакции царя и последовавшими за этим событиями, предполагаемое увеличение бюджета было значительным. И в данном случае возмущение царя можно понять: в 1823 году не намечалось ни войны, ни передислокации крупных подразделений. Экономика страны была в тяжелейшем кризисе, вызванном постоянными войнами начала XIX века. За полгода до представления сметы Александр I особым «рескриптом» объявил «необходимость в уменьшении государственных расходов на 1823 год»[116]. По военному ведомству в целом эти расходы должны были, по мысли императора, уменьшиться на 37 миллионов рублей[117].
Неосторожные действия генерал-интенданта, сразу же попавшего под подозрение в «злом умысле», можно, конечно, попытаться объяснить заботой о нуждах армии. Однако вряд ли Юшневского настолько волновали армейские нужды, что ради них он был готов даже открыто нарушить предписание императора. Вернее другое: именно в 1823 году южные заговорщики планировали начать военную революцию. Для движения армии требовались деньги – и Юшневский попытался их добыть вполне легально, путем увеличения бюджета.
Между тем, если принять эту версию, то тогда понятна и настойчивость Пестеля, заставившего участников киевского съезда обсуждать цареубийство и формально голосовать за него. Главные деятели тайного общества, не посвященные в «план 1823 года», должны были, не задумываясь, поддержать революцию. Собственно, после киевского съезда иного выбора у них не осталось. Выступить против действий Пестеля и Юшневского они просто не могли – за согласие на цареубийство всем им грозила смерть.
1823 год – год резко возросшей активности эмиссаров Пестеля в Петербурге. В феврале этого года, сразу же после съезда, в столицу отправляются сразу два его участника – Сергей Волконский и Василий Давыдов. Некоторое время спустя вслед за ними едет не участвовавший в съезде, но весьма информированный в делах общества князь Александр Барятинский. Все трое эмиссаров имели при себе письма Пестеля к одному из северных руководителей – Никите Муравьеву, руководителю созданного за год до того Северного общества. Никиту Муравьева, своего старинного друга, Пестель в 1823 году не без оснований считал собственным единомышленником в столице. Цель этих поездок, по словам Волконского, состояла в том, чтобы «учредить связь чрез Никиту Муравьева между северной и южной управами».
Попавшие потом в экстремальную ситуацию следствия, и Пестель, и его эмиссары согласно показывали, что цель этих поездок – теоретические разговоры с Никитой Муравьевым о слиянии двух обществ и о будущей российской конституции. Исключение составляют лишь показания Барятинского – человека слабого, оказавшегося совершенно сломленным еще в самом начале следствия и поэтому активно с ним сотрудничавшего. Согласно Барятинскому Пестель поручил ему устно передать Никите Муравьеву, что южные заговорщики «непременно решились действовать в сей год». От Муравьева Пестель потребовал «решительного ответа»: «могут ли и хотят ли» северяне «содействовать нашим усилиям»[118].
Видимо, испугавшись своего признания, Барятинский тут же оговорился, что Пестель не собирался в 1823 году начинать восстание, а желал только «возбудить» в петербургских заговорщиках «более деятельности». Но вряд ли Пестель решился бы на такую грубую и примитивную ложь – даже во имя благой цели объединения обществ и активизации действий северных лидеров. Судя по действиям Пестеля и Юшневского, «план 1823 года» был реальным. Никита Муравьев действительно мыслился южными директорами как человек, способный организовать в столице его поддержку.
План этот провалился. Никита Муравьев испугался активности южных эмиссаров; император Александр I не утвердил бюджет. Более того, после этой истории у генерал-интенданта, не рассчитавшего политической конъюнктуры, начались крупные служебные неприятности. В феврале 1823 года император отправил во 2-ю армию ревизора – непосредственного начальника Юшневского «по провиантской части», генерал-провиантмейстера и директора провиантского департамента Военного министерства Андрея Абакумова.
И несмотря на то, что выводы Абакумова оказались в целом благоприятными для генерал-интенданта, в глазах высшего военного начальства Юшневский потерял прежнюю репутацию безупречного чиновника. За его действиями стали пристально следить – и делали это в обход Витгенштейна.
* * *
О том, из каких средств оплачивать будущую революцию, декабристы задумывались еще со времен Союза благоденствия. Так, например, «предприимчивый» генерал Михаил Орлов предлагал завести фальшивомонетный станок; идея эта была с негодованием отвергнута.
Вообще же в среде декабристов высказывались две прямо противоположные точки зрения на, так сказать, «источник финансирования» их предприятия. Одна, более «прагматическая», оправдывала использование в революционных целях казенных средств: так, например, подпоручик Бестужев-Рюмин предлагал воспользоваться казенными ящиками полков. «Я чужой собственности не касался и не коснусь», – с негодованием возражал ему командир Полтавского полка полковник Василий Тизенгаузен.
Тизенгаузен был сторонником другой точки зрения, «идеалистической»: он предлагал во имя будущей революции сделать складчину среди членов тайного общества. «Я же для такого благого дела, каково освобождение отечества, пожертвую всем, что имею, ежели бы и до того дошло, чтоб продавать женины платья», – говорил он[119].
В этих спорах голос Пестеля не был слышен. В данном случае председатель Директории предпочитал не рассуждать, а действовать.
Впоследствии, когда Южное общество было разгромлено, против Пестеля было предпринято особое расследование; Пестеля обвиняли в служебных преступлениях. Разбирательство это тянулось долго: начавшись в феврале 1826 года, оно надолго пережило главного обвиняемого и завершилось лишь в 1832 году. Сумма, на которую были заявлены казенные и частные «претензии» на Пестеля, составляла около 60 тысяч рублей ассигнациями. По тем временам это была немалая сумма.
И если гипотетически предположить, что полковник был бы оправдан по делу о тайных обществах, то по результатам этих расследований он неминуемо лишился бы полковничьих эполет и надел солдатский мундир: в 1820 году за растрату в два раза меньшей суммы был разжалован из полковников в рядовые известный декабрист Флегонт Башмаков, за получение взятки в 17 тысяч рублей лишился своей должности главнокомандующий 2 армией Л. Л. Беннигсен[120]. Растраты в армии, в том, конечно, случае, если они становились известны начальству, карались жестоко.
Сразу оговорюсь: полковник Пестель никогда не был банальным расхитителем казенных средств. Хорошо известно, что он нередко жертвовал для полка и собственные деньги. Так, его приказ по полку от 7 ноября 1822 года гласил: «От суммы, предназначенной для винной и мясной порции… осталось 3,760 рублей, в каковой сумме начальство не требует никакого отчета.
Получено еще 1,080 рублей процентных денег из ломбарда… Сие составляет всего 4,840 рублей, к коим, сверх того, прибавляю я еще собственных своих 60 рублей для круглого счета; почему общий сей итог и будет 4,900 рублей.
Стараясь всеми мерами содействовать к лучшему устройству солдатской собственности, предписываю г.г. ротным командирам записать сии деньги в ротные экономические книги в приход»[121].
Архивные документы дают возможность сделать другой вывод: Пестель не делал различия между собственными и полковыми суммами. А поскольку полковые суммы были на несколько порядков больше его собственных, то и «расход» по полку оказался на несколько порядков выше «прихода». Нужды заговора, как показало время, требовали больших затрат.
Финансовая деятельность Пестеля в полку была практически бесконтрольной. Созданный в 1811 году специальный орган – Государственный контроль – был не в состоянии проверить отчетность каждой воинской части[122]. Командир же 18-й пехотной дивизии князь Александр Сибирский, имевший право финансовой ревизии в полках, по ряду причин (о которых речь ниже) вовсе не был заинтересован в разоблачении полковника. Естественно, не требовал отчета от Пестеля и генерал-интендант Юшневский.
Финансовые операции командира вятцев были однотипными: используя свои связи, не останавливаясь перед дачей взяток, Пестель ухитрялся по два раза получать от казны средства на одни и те же расходы: на амуничное, ремонтное и иное хозяйственное довольствие полка.
Первый известный случай такого рода относится к маю 1823 года. Тогда командиру вятцев было выдано из Киевской казенной палаты 4915 рублей – «за купленные им материалы для сооружения в м[естечке] Линцы экзерцицгауза, склада и конюшен для полковых лошадей». А несколько месяцев спустя – 6 сентября 1824 года – на те же нужды Пестель снова получил внушительную сумму: 3218 рублей 50 копеек[123]. Естественно, что не все вырученные деньги достались полковнику: 1000 рублей ему пришлось отдать секретарю киевского губернатора Жандру в качестве взятки.
Согласно законам Российской Империи, и в том числе принятому в 1815 году «Учреждению для управления большой действующей армией», снабжение войск обмундированием, снаряжением и деньгами для его приобретения осуществлялось централизованно. За снабжение отвечал особый государственный орган – комиссариат (комиссариатский департамент), в задачу которого входило также обеспечение армейских чинов жалованием. Исполнительными структурами комиссариата были комиссариатские депо, которые, в свою очередь, состояли из комиссариатских комиссий, ведавших конкретными статьями армейского довольствия.
После окончания войны 1812 года пехотные армейские корпуса были прикреплены к определенным – ближайшим к местам их дислокации – комиссариатским комиссиям, и только из этих комиссий обязаны были получать амуницию и деньги. Отношения армейских соединений с этими комиссиями регулировались Высочайшими указами: последний перед назначением Пестеля на должность командира полка такой указ датирован декабрем 1817 года[124]. Согласно ему входивший тогда в состав 22-й пехотной дивизии Вятский полк должен был получать средства из расположенной в украинском городе Балта Балтской комиссариатской комиссии.
Однако два года спустя произошло крупное переформирование и передислокация войсковых частей, и Вятский полк оказался уже в составе 18-й пехотной дивизии. Закон же, как это нередко случалось в России, изменить забыли: хозяйственное довольствование полка стало производиться как из Балтской, так и из Московской комиссариатской комиссии. Это привело к страшной путанице и, благодаря отсутствию контроля, создало широкое поле для всякого рода злоупотреблений.
Согласно материалам расследования по Вятскому полку «отпущенные Комиссией Московского Комиссариатского депо амуничных и в ремонт за 1825 г[од] 6000 руб[лей]» были выданы полку незаконно, «потому что на таковую потребность на тот год отпустила и Балтская комиссия».
Та же Балтская комиссия отпустила полку в 1825 году «несвоевременно и по ее произволу» 5000 рублей – «в счет жалованья» полковым чинам. Выплата произошла на несколько месяцев раньше установленного законом срока, и у следователей не осталось сомнений в том, что «произвол» этот был лишь частью аферы, подобной двум предыдущим. Если бы полковник Пестель не был арестован в середине декабря 1825 года, в срок жалованье было бы выдано снова. Тогда, по мнению следователей, эти деньги остались бы вне поля зрения «инспектора, осматривающего полк»[125].
Только благодаря этим трем однотипным операциям – 1823 и 1825 годов – Пестель получил «чистыми» 14 218 рублей 50 копеек.
С помощью этих денег командир Вятского полка пытался подкупить (и достаточно успешно) своих непосредственных начальников: командира 18-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта князя Сибирского и бригадного начальника, генерал-майора Петра Кладищева.
На допросе в Следственной комиссии хорошо осведомленный в делах тайного общества подпоручик Бестужев-Рюмин признавал, что заговорщики твердо верили в поддержку восстания силами 18-й пехотной дивизии, «которую надеялся увлечь Пестель со своим полком»[126]. О природе этих надежд историки никогда не задумывались; между тем, только двое из шести полковых командиров этой дивизии (Пестель и командир Казанского пехотного полка полковник Павел Аврамов) состояли в тайном обществе.
И надежда на всю дивизию в целом могла возникнуть лишь в одном случае: если заговор готов был поддержать князь Сибирский – дивизионный командир.
В фондах Российского государственного военно-исторического архива сохранилось «Дело о подозрительном письме генерал-лейтенанта князя Сибирского к г[осподину] Заварову насчет поспешнейшей высылки денег 15 т[ысяч] рублей для пополнения суммы, недостающей в Вятском пехотном полку». Письмо это было написано Сибирским в феврале 1826 года – именно тогда, когда в связи с доносом Майбороды в Вятский полк была прислана специальная ревизия. Оно было вскрыто на почте, и его содержание оказалось достойным того, чтобы обратить на себя внимание высшего армейского начальства.
«Мне непременно надо 15 т[ысяч рублей], дабы быть покойным и отделаться от неприятностей, – писал Сибирский своему поверенному в делах. – Вы не знаете, может, что Пестель уже лишился полка, и он наделал по полку много нехорошего, много претензий на нем. И если ты, любезный, не поторопишься собрать сию сумму, то я могу лишиться дивизии… Бога ради, присылкою денег ты спасешь меня; хотя я и разорюсь, но что делать, честь моя не постраждет»[127].
В ходе расследования, проведенного в штабе корпуса, оказалось, что 29 июля 1825 года князь Сибирский взял из артельной кассы Вятского пехотного полка 12 тысяч рублей – внушительную сумму. Деньги эти были выданы князю лично Пестелем: еще в 1822 году он издал приказ по полку, согласно которому распоряжаться артельными суммами без его ведома никто не имел права[128]. Предпринимая комбинацию с артельными деньгами, Пестель и Сибирский позаботились о соблюдении внешних приличий. Сибирский написал «повеление» «о получении сей суммы», и о том, что деньги эти предназначены для «определения» в ломбард.
Правда, за полгода, прошедших до ареста полковника, он ни разу не поинтересовался судьбою этих денег, впоследствии же ведавшая подобными вкладами экспедиция сохранной казны Санкт-Петербургского опекунского совета отозвалась полным неведением о них.
Согласно документам командир бригады Кладищев вынужден был в июне 1827 года внести шесть тысяч рублей в счет амуничных денег Вятского полка[129]. По некоторым сведениям, Пестеля и Кладищева связывали не только «деловые отношения», но и личная дружба. У Пестеля и его бригадного генерала была возможность постоянного ежедневного общения: штаб бригады, как и штаб Вятского полка, находился в Линцах[130].
И к концу своей деятельности заговорщика Пестель мог быть полностью уверен в том, что дивизионный и бригадный командиры не смогут эффективно противиться будущей революции.
* * *
С 1824 года главным помощником Пестеля в его финансовых операциях стал капитан Вятского полка Аркадий Майборода, принятый своим командиром в Южное общество и впоследствии предавший заговор.
Аркадий Иванович Майборода, происходивший «из дворян Полтавской губернии Кременчугского уезда», вступил в службу рано, 14 лет от роду. Учебных заведений он не заканчивал, и начал свою карьеру в качестве юнкера в армейском полку. Всю жизнь он оставался крайне необразованным человеком. «Российской грамоте читать и писать и арифметику знает», – гласит его послужной список. Судя по всему, этим исчерпывались его познания в науках. Документы, написанные рукою Майбороды, и в том числе его знаменитый донос, поражают своей безграмотностью.
В Отечественной войне и заграничных походах Майборода не участвовал – очевидно, по молодости лет. Поэтому за годы войны никакого продвижения по службе он не достиг: только прослужив пять лет, стал армейским прапорщиком. Итог первого этапа его службы разительным образом отличался от итога службы Пестеля. Пестель вступил в службу лишь на девять месяцев раньше Майбороды, но у него за плечами были уже Пажеский корпус и война – и поэтому к 1817 году был уже штабс-ротмистром Кавалергардского полка и кавалером пяти боевых орденов[131].
В Вятском пехотном полку, которым командовал полковник Пестель, Майборода появился 24 мая 1822 года[132]. Рекомендовал штабс-капитана Пестелю поручик-заговорщик Николай Басаргин, который считал Майбороду отличным знатоком «фрунтовой науки». Впоследствии Басаргин всю жизнь не мог простить себе этой рекомендации[133].
Карьера Майбороды сразу пошла в гору: он получил под свою команду 1-ю гренадерскую роту и в апреле 1823 года стал капитаном. Осенью того же года за удачное участие 1-й гренадерской роты в Высочайшем смотре Пестель представил его к награде. Майборода получил первый в своей жизни орден – Св. Анну 3-й степени[134]. Еще через некоторое время – в августе 1824 года – Пестель принял Майбороду в тайное общество. Полковник искренне полюбил капитана: об этом свидетельствует, в частности, составленное Пестелем в конце 1824 – начале 1825 года завещание. В завещании часть своих личных вещей он оставлял Майбороде[135].
Впоследствии в своем знаменитом доносе на высочайшее имя Майборода утверждал, что сознательно вступил в общество для того, чтобы предать его правительству. Однако историки весьма скептически относятся к этому его утверждению: показания членов Южного общества на следствии рисуют капитана ревностным заговорщиком, искренне преданным своему начальнику по заговору[136]. Он, например, помогал Пестелю наблюдать за настроениями офицеров в полку, изобретал пути добычи денег для «общего дела» и даже привез своему шефу из Тулы духовое ружье, которое Пестель планировал пустить в ход в случае начала революции[137]. По словам командира Вятского полка, Майборода всегда оказывал ему «большую преданность»[138].
Другую версию причин доноса Майбороды излагают многочисленные мемуаристы. Так, например, Н. В. Басаргин замечает: «В 1825 г[оду] он (Майборода. – О.К.) отправлен был Пестелем в Москву для приемки из комиссариата вещей и каких-то сумм. Промотав там деньги и видя, что ему предстоит гибель, он решился на донос»[139]. А весьма информированный князь Волконский в своих воспоминаниях рассказал эту историю подробно: «Постепенно входя в доверие, он (Майборода. – О.К.) сделался близким к нему (Пестелю. – О.К.) человеком и высказал ему, что если он ему поручит прием комиссариатских вещей и выхлопочет получение оных и заготовление многих заказов для полка в Москве, то все это будет сделано выгодно им в лучшем виде. Пестель обделал, что прием вещей был назначен прямо из Московской комиссии, где удобно можно сойтись с подрядчиками и сделать вольные заказы. Это поручение было Майбороде дано, но впоследствии оказалось, при возврате его, что все обещанное им не исполнено по ожиданиям, и в полученных деньгах Майборода не мог дать надлежащего отчета и потому следовал к законной каре»[140].
Мемуаристам вторят историки: по их мнению, мотивами, побудившими Майбороду сделать донос, были «невозможность отчитаться в истраченных казенных деньгах» и «опасение быть преданным суду за злоупотребления в бытность приемщиком вещей от Вятского полка из комиссии Московского комиссариатского депо, о которых узнал Пестель»[141].
Между тем, для того, чтобы правильно оценить обстоятельства этого доноса, мало знать, что его причиной действительно было некое финансовое злоупотребление Майбороды и что оно случилось «в бытность» капитана «приемщиком вещей» из комиссии Московского комиссариатского депо. Важно понять, что это была за командировка, и какие надежды на нее возлагал сам Пестель.
И мемуаристы, и историки ошибаются, когда говорят о том, что из комиссии Майборода должен был получить лишь вещи для полка. Капитан должен был получить не только вещи, но и деньги, шесть тысяч рублей, – и это была одна из тех трех крупных внешних финансовых операций Пестеля, сведения о которых дошли до нас. Операция эта получила в официальных документах название «предмет о 6-ти тысячах».
Появившись в Москве в начале 1825 года, Майборода предъявил в комиссариатскую комиссию подписанный полковым командиром вятцев и датированный 27 октября 1824 года рапорт следующего содержания: «По случаю болезни полкового казначея командируется избранный корпусом офицеров и утвержденный дивизионным начальником за казначея капитан Майборода, которому покорнейше прошу оную комиссию отпустить все вещи и деньги, следуемые полку против табели, у сего представляемой».
Рапорт этот, сохранившийся в материалах полкового следствия, содержал неверные сведения: полковой казначей капитан Бабаков в этот момент не был болен, он находился в Балтской комиссии, где тоже принимал для полка деньги. Очевидно поэтому, что никакой «корпус офицеров» Майбороду «за казначея» не избирал, поехал же капитан в Москву по прямому приказу Пестеля и с ведома дивизионного командира, князя Сибирского.
«Майборода, – сообщается в “окончательном” докладе по этому делу, подготовленном в 1832 году Аудиториатским департаментом, – явясь в Московскую комиссию, получил от оной сукно и краги; а как Пестель по той ведомости требовал и деньги, то Комиссия, не имея разрешения от своего начальства на отпуск оных, выдала однако же Майбороде 9-го февраля 1825 года 2000 рублей, но выдачею прочих денег остановилась»[142].
Отправляя Майбороду в Москву, Пестель приказал ему в случае какой-либо заминки, связанной с отказом выдать деньги, немедленно забирать полковое требование и возвращаться назад. Однако капитан приказа не исполнил и, «будучи не удовлетворен во всем по табели и ведомости, жаловался о том бывшему генерал-кригс-комиссару Путяте»[143].
Василий Иванович Путята, возглавлявший в 1821–1822 годах Московскую комиссариатскую комиссию, а затем руководивший комиссариатским департаментом Военного министерства, был, скорее всего, старым знакомым Пестеля. По крайней мере, точно известно, что в конце 1810-х годов Пестель и Путята состояли в одной масонской ложе – ложе Трех добродетелей[144].
Кроме того, генерал-кригс-комиссар был отцом известного пушкинского приятеля и литератора Николая Путяты. В показаниях Майбороды сохранилось любопытная подробность: перед отъездом Пестель давал ему «наставления», как себя в Москве вести. При этом командир полка заметил, что генерал-кригс-комиссар «всегда был к нему ласков». А на вопрос Майбороды «не принадлежал ли и он к тайному обществу», ответил: «Нет, сын его наш»[145].
Получив жалобу Майбороды, Путята-старший отдал приказ незамедлительно выдать недостающие суммы.
«Почему Московская комиссия к прежде отпущенным 9-го февраля двум тысячам рублям, выдав Майбороде 16-го марта 2000 рублей и 1-го апреля еще 2000 рублей, донесла о том 30 апреля 1825 года Комиссариатскому департаменту и уведомила того же числа Пестеля и Балтскую комиссию; но сия, до получения еще такового уведомления, и именно 26-го февраля того года, по вступившему в оную от Пестеля рапорту, те же ремонтные и амуничные деньги на 1825 год, всего 4759 рублей, 18 3/4 коп[ейки], отпустила полковому казначею Бабакову. По сему одни и те же деньги по требованиям Пестеля выданы из комиссии двойным числом»[146].
Однако деньги из Московской комиссии до Пестеля не дошли: Майборода их попросту присвоил. В этом едины и официальные документы следствия, и мемуары, и свидетельства военного историка Л. Плестерера, работавшего с исчезнувшими уже в ХХ веке материалами полкового архива вятцев[147].
С точки зрения обыкновенной человеческой логики присваивать эти деньги было весьма глупо. Майборода по службе был полностью зависим от Пестеля, при этом полковник давал ему немало возможностей для карьерного роста. Кроме того, если бы победила замышляемая Пестелем революция – карьере Майбороды позавидовали бы многие. Растрата же означала крах всех его надежд.
Но и для Пестеля эта растрата означала большие неприятности. Опасаясь, что отсутствие денег из Московской комиссии будет вскрыто на инспекторском смотре, командир полка уговорил нескольких офицеров подписать вместе с ним полковую книгу, в которой содержалась запись о «наличии» этих денег. Согласились на это десять офицеров-вятцев, сослуживцев Пестеля[148].
Естественно, что личные отношения Пестеля и Майбороды после этой истории были разорваны. О растрате Пестель узнал в начале лета 1825 года, и после этого, по его собственным показаниям, «весьма сухо» обходился с капитаном[149]. Однако несмотря на «сухость» обхождения Пестеля Майборода имел все основания полагать, что командир покроет и будет продолжать покрывать его растраты. Иначе под «ответственностью» окажутся и он, и вся его тайная организация. Понимал он, что недостача в полку не будет раскрыта и замешанными в «операции» Пестеля дивизионным и бригадным командирами.
Растрату капитана Пестелю необходимо было восполнить, в противном случае история с двойной выдачей сумм могла вскрыться в любой момент. Между тем, сам Пестель был беден, жил только на жалованье, и денег для этого у него оказалось.
Юшневский, скорее всего, имел представление о финансовых операциях Пестеля: пытаясь найти деньги, Пестель обратился за помощью именно к нему. В июле 1825 года командир Вятского полка посылает к генерал-интенданту своего денщика – с просьбой «по секрету взять от него денег». Но к Юшневскому посланец Пестеля не попал. Князь Барятинский «отправил его обратно к Пестелю с запискою, что г. Юшневского не было в Тульчине»[150]. Сведениями о том, что генерал-интендант отлучался в это время из главной квартиры, мы не располагаем; более того, если он все же уезжал, ничего не мешало ему дать необходимые Пестелю деньги после приезда. Но, судя по материалам полкового следствия, Пестелю до самого своего ареста не удалось покрыть растрату Майбороды. Скорее всего, Юшневский просто не хотел выполнять его просьбу о присылке денег.
Финансовая нечистоплотность руководителя заговора, поставившая всю тайную организацию на грань провала, вряд ли могла вызвать сочувствие у честного генерал-интенданта. С лета 1825 года отношения между обоими руководителями Директории становятся весьма напряженными. Они прерывают между собой личные контакты и общаются только в самых крайних случаях через специальных, особо доверенных курьеров.
* * *
Тогда же, летом 1825 года, согласно показаниям члена Южного общества квартирмейстерского подпоручика Владимира Лихарева, стать членом тайного общества пожелал начальник военных поселений юга России, генерал-лейтенант граф И. О. Витт. Через своего «доверенного человека», помещика А. К. Бошняка, знакомого с Лихаревым, он выведал тайны заговорщиков, а потом сообщил им, что для исполнения их предприятия «предлагает содействие всех поселений». При этом Витт не хотел быть в заговоре «второстепенным лицом» и потребовал, «чтобы все ему было открыто». В общество его не приняли. И тогда 18 октября генерал специально приехал в Таганрог, чтобы донести на заговорщиков императору Александру I[151].
История доноса Витта на декабристов, несмотря на почти столетнее исследование, до сих пор до конца не выяснена. Почти все историки, занимавшиеся этим доносом, утверждали, что и Витт, и его агент Бошняк были провокаторами, задачей которых было «выведать» состав тайного общества и предать его правительству[152]. Пестель же, получивший заманчивое предложение Витта, был не столь однозначен в его оценке. На следствии он показывал, что это предложение «не было принято, но и не было решительно отвергнуто»[153].
Генерал-лейтенант граф Иван Осипович Витт (1781–1840) – человек яркий и неординарный. Его личный архив, к сожалению, не сохранился – и поэтому мнение о нем можно составить прежде всего по воспоминаниям современников. Сын польского офицера и знаменитой в свое время красавицы и авантюристки гречанки Софьи Потоцкой, Витт был человек крайне тщеславный. «Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк», Витт «с греческою врожденною тонкостью умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный» – так характеризовал генерал-лейтенанта проницательный мемуарист Ф. Ф. Вигель, добавляя, что его «умственная и телесная» деятельность «были чрезвычайны: у него ртуть текла в жилах»[154].
Вся жизнь генерала Витта – это головокружительная авантюра, связанная с разведывательной деятельностью. С юных лет он служил в русской гвардии, принимал участие в военных действиях начала XIX века, под Аустерлицем (1805) был контужен, в 1807 году вышел в отставку. В 1809 году Витт перешел на строну Наполеона и снова начал воевать – на этот раз в составе французской армии. В 1811 году он – тайный агент Наполеона в Великом герцогстве Варшавском.
В 1812 году Витт вернулся в Россию, сформировал на свои деньги несколько казачьих полков и с ними прошел всю Отечественную войну. Император Александр никогда не считал его изменником и не поминал прошлое: видимо, у Наполеона генерал исполнял его собственные задания. После войны Витт командовал крупными воинскими соединениями, внедрял в России военные поселения – и неизменно выполнял конфиденциальные поручения императора. «Секретной» шпионской деятельностью он активно занимался и позднее, при Николае I[155].
Анализируя жизнь и дела графа Витта, шпиона и доносчика, можно прийти к парадоксальному выводу: он был близок по мироощущению ко многим декабристам. Ему тоже было тесно в рамках сословного бюрократического общества, и эти рамки он пытался преодолеть. Эту «особость» генерала вполне чувствовали и власти: несмотря на все услуги, оказанные Виттом императору, ему не доверяли, подозревали в неблагонадежности. Так, например, когда в 1826 году цесаревич Константин Павлович узнал о существовании в России военного заговора, то решил, что организовал его именно граф Витт. Константин утверждал: «Я полагаю, что все это дело не что иное, как самая гнусная интрига генерала Витта, лгуна и негодяя в полном смысле этого слова; все остальное одни прикрасы… Генерал Витт такой негодяй, каких свет еще не производил, религия, законы, честность для него не существуют; словом, этот человек, как выражаются французы, достойный виселицы»[156].
Несмотря на то, что Витт донес на заговорщиков императору, следствие интересовалось степенью осведомленности генерала в делах тайного общества. Южных декабристов неоднократно и подробно допрашивали об их взаимоотношениях с Виттом.
Генерал Витт был близким другом другого генерала, Сергея Волконского. Размышляя впоследствии об агенте Витта Бошняке, тот заметит: «При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слишком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще – и ошибся»[157]. Видимо, эта фраза вполне применима и к самому Витту, с той лишь разницей, что он не был помещиком.
Конечно, генерал Витт был предателем и с этой точки зрения не заслуживает никакого исторического оправдания. Но и Пестелю высокие идеалы не мешали организовывать в армии тайную полицию и следить за инакомыслящими. Витт был интриганом – но и те декабристы, которые имели хотя бы минимальную возможность влиять на армейскую политику, тоже вольно или невольно участвовали в интригах. Пестель был интриганом гораздо меньшего масштаба, чем Витт, но только потому, что обладал гораздо меньшей значимостью в обществе и армии.
Цесаревич Константин, считавший Витта беспринципным «негодяем», «достойным виселицы», Пестеля характеризовал сходно: «У него не было ни сердца, ни увлечения; это человек холодный, педант, резонер, умный, но парадоксальный и без установившихся принципов»[158].
О политических взглядах генерала мы ничего не знаем. Однако почему бы не предположить, что поляку Витту не была безразлична судьба его родины? Другом генерала был великий польский поэт, участник освободительного движения Адам Мицкевич. В доносе на декабристов Витт противопоставлял «неблагонадежным» заговорщикам вполне «безупречного» Мицкевича. В конце 1824 года он хотел вступить в Польское патриотическое общество. В польский заговор Витта не взяли – очевидно, боясь его авантюрной натуры. Однако в 1825 году, подавая свой донос, генерал не включил в него известные ему факты деятельности Польского патриотического общества[159].
Кроме того, у Витта были веские личные причины вступить в заговор: как раз в это время у него возник острый конфликт со знаменитым александровским временщиком Аракчеевым, начальником всех российских военных поселений. Согласно мемуарам того же Волконского Витту необходимо было «выпутаться из затруднительной ответственности по растрате значительных сумм по южному военному поселению, состоявшему в его заведовании»[160].
Конечно, факт растрат характеризует Витта однозначно негативно – но такого же рода деятельность не мешала Пестелю испытывать «восхищение и восторг», размышляя о будущем счастье республиканской России[161]. Вообще однозначно «хороших» или «плохих» людей практически не было ни в лагере декабристов, ни в лагере их идейных противников.
Адам Мицкевич, впоследствии специально собиравший сведения о деятельности Витта, утверждал: вступив в контакт с заговорщиками, генерал первоначально не собирался становиться доносчиком, «не спешил предупредить правительство», а сделал это только тогда, когда узнал о существовании доноса, поданного «на Высочайшее имя» его подчиненным, унтер-офицером поселенных войск Иваном Шервудом, сумевшим вкрасться в доверие к декабристу Федору Вадковскому и выведать у него много сведений о тайном обществе в целом и о Пестеле в частности.
Как показывают исследования, история с Шервудом в данном случае ни при чем – донос Шервуда от Витта тщательно скрывали, вести следствие Александр I поручил врагу Витта Аракчееву[162]. Представляется, что причина поступка Витта в другом – в неадекватной реакции заговорщиков на его предложение.
Главным противником принятия генерала в тайное общество оказался Алексей Юшневский. Генерал-интендант не считал возможным довериться растратчику и «шарлатану». Он резко возражал против принятия Витта в заговор, говорил, что цель генерала – «подделаться правительству», «продав» заговорщиков «связанными по рукам и ногам, как куропаток». Согласно показаниям Юшневского на следствии он «не верил» предложению генерала и «признавал необходимым» «прекратить существование самого общества».
Однако то, что, по мнению генерал-интенданта, характеризовало человека негативно, вызывало у Пестеля не столь однозначную реакцию. Для Пестеля растраты вовсе не являлись поводом для того, чтобы не принимать генерала в заговор. Кроме того, Пестель знал Витта лично и, видимо, ценил; в 1819 году, поссорившись с Киселевым, он хотел перейти на службу в штаб Витта, а в 1821 году даже чуть было не женился на его дочери. Пестель был склонен принять предложение Витта: поддержка революции на юге военными поселениями значительно увеличила бы шансы заговорщиков на успех, особенно в ситуации их открытой вражды с генералом Киселевым.
Конечно, Пестель тоже понимал, что Витт в принципе может оказаться предателем. Но человек, опасающийся ответственности за финансовые преступления, будет, скорее всего, хранить верность заговорщикам, поскольку успех их «предприятия» поможет ему избежать ответственности. Судя по взаимоотношениям Пестеля с его дивизионным и бригадным начальниками, именно так лидер заговора и думал, и действовал.
Решительных возражений Юшневского Пестель не принял. «Ну, а ежели мы ошибаемся? Как много мы потеряем», – так, судя по мемуарам майора Вятского полка Николая Лорера, друга и секретаря Пестеля, руководитель Южного общества на доводы генерал-интенданта[163]. Пестелю хотелось принять Витта в общество – и, конечно, помешал ему в этом только решительный отказ Юшневского.
В истории с Виттом Пестель и Юшневский все же достигли некоего консенсуса. Согласно мемуарам Волконского южные руководители договорились «стараться отклонять» предложение Витта, «не оказывая недоверия, но выказывать, что к положительному открытому уже действию не настало еще время, а когда решено будет, то, ценя в полной мере предложение Витта, оное принимается с неограниченною признательностью»[164]. Видимо, получив подобный ответ, Витт и написал донос на тайное общество.
На следствии Юшневский покажет, что «после предложения графа Витта» он разочаровался в тайном обществе и «ожидал только конца 1825 года, дабы просить увольнения для определения к другим делам и, под сим предлогом удалившись, прекратить сношение с обществом и всякое помышление о его цели».
Это его показание было правдивым: оно подтверждается теми из участников заговора, которые были близки к генерал-интенданту в конце 1825 года. Так, служивший в штабе и состоявший в заговоре штаб-лекарь Вольф передал следствию слова, которые лично слышал от Юшневского: «Да я того и смотрю, как бы оставить общество. Бог с ним совсем». При этом генерал-интендант категорически запрещает общаться с Пестелем и своему брату Семену[165].
1825 год был годом кризиса не только для генерал-интенданта, но и для Пестеля. Согласно мемуарному свидетельству князя Сергея Волконского еще в конце 1824 года Пестель объявил ему, что решил сложить с себя «обязанности председателя Южной думы» и уехать за границу. Пестель был уверен, что только так сможет развеять «предубеждения» против себя, доказать, что он не честолюбец, «который намерен половить рыбку в мутной воде».
За границу Пестель не уехал, но в начале 1825 года сказал своему другу Василию Ивашеву, «что хочет покинуть общество». А другому своему другу, Александру Барятинскому, полковник сообщил, «что он тихим образом отходит от общества, что это ребячество, которое может нас погубить, и что пусть они себе делают, что хотят».
В ноябре 1825 года, судя по мемуарам Лорера, Пестель заговорил о необходимости «принесть государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся».
Сам Пестель показывал на следствии: «В течение 1825 года стал сей (революционный. – О.К.) образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно уже было совершить благополучно обратный путь. “Русская Правда” не писалась уже так ловко, как прежде. От меня часто требовали ею поспешить, и я за нее принимался, но работа уже не шла, и я ничего не написал в течение целого года, а только прежде написанное кое-где переправлял. Я начинал сильно опасаться междуусобий и внутренних раздоров, и сей предмет сильно меня к нашей цели охладевал»[166].
Даже с учетом того, что и Пестель, и Юшневский наверняка преувеличивали на допросах степень своих колебаний и сомнений, можно сделать однозначный вывод: в конце 1825 года оба лидера явно устали. Необходимость, с одной стороны, многолетней конспирации, а с другой – постоянного участия в штабных интригах и коррупции не могла не оказать влияния даже и на такие сильные натуры.
Глава III. «Составляют, так сказать, одного человека»
Ситуация, сложившаяся в Южном обществе в последние месяцы его существования, неоднократно описывалась историками. Исследователи отмечали, что лидирующее положение Пестеля в Южном обществе оспорил Сергей Муравьев-Апостол, руководитель Васильковской управы. И это вызвало «кризис» в руководстве тайной организацией.
Так, М. В. Нечкина утверждала, что споры в среде южных заговорщиков были вызваны расхождениями программного характера и что в лице Сергея Муравьева конституционно-монархическое Северное общество имело собственного «агента» «на беспокойном Юге». Развивая идеи Нечкиной, С. М. Файерштейн писал о том, что в результате сепаратных действий Васильковской управы Южное общество превратилось «в филиал умеренной в своих притязаниях Северной думы».
Согласиться с подобными утверждениями сложно: у историков нет данных об «агентурной» работе Муравьева-Апостола в пользу Севера, о том, что «Русской Правде» Пестеля он предпочитал «умеренную» «Конституцию» Никиты Муравьева. Однако невозможно принять и точку зрения И. В. Пороха, считавшего, что «кризиса» в Южном обществе вообще не было, и что факты говорят о «согласованности действий главных руководителей тайной организации»[167].
«Кризис» в Южном обществе, конечно, был. Но возник он отнюдь не из-за идеологических разногласий заговорщиков.
* * *
О Сергее Муравьеве-Апостоле, возглавившем в конце 1825 года восстание Черниговского полка, никто и никогда не говорил плохо. Исключая правительственную переписку о восстании Черниговского полка, где Муравьева официально именуют «злодеем», «гнусным мятежником» и «главарем злоумышленной шайки», ни одно из документальных свидетельств того времени не ставит под сомнение личную честь вождя южного восстания, его мужество и бескорыстие.
Аристократ, сын сенатора и потомок гетмана Украины, Сергей Муравьев, вместе со старшим братом Матвеем учился, как известно, в Париже, в частном закрытом пансионе. Романтический ореол окружает его с самых первых лет жизни. Современник вспоминает: император Франции посетил однажды этот пансион и, «войдя в тот же класс, где сидел Муравьев, спросил: кто этот мальчик? И когда ему отвечали, что он русский, то Наполеон сказал: “Я побился бы об заклад, что это мой сын, потому что он так похож на меня”»[168]. Вернувшись из Парижа в Петербург, он – в 13-летнем возрасте – поступил на военную службу, стал учиться в Институте Корпуса инженеров путей сообщения.
До 13 лет Сергей Муравьев не знал русского языка, а в 15 уже воевал против своих вчерашних учителей. Закончив войну 17-летним штабс-капитаном, он имел три боевых ордена и наградную золотую шпагу. Восстание Черниговского полка – логическое завершение его жизненного пути, и с этим соглашалось большинство писавших о Муравьеве историков. В 1816 году он стал одним из основателей Союза спасения. И согласно устоявшемуся в исторической науке мнению все прожитые им потом 10 лет жизни (исключая лишь полугодовой период следствия и суда) он готовил себя к гражданскому подвигу во имя России.
Практически в каждом из следственных дел петербургских заговорщиков можно найти упоминание о Муравьеве. Мало кто из вступивших в тайное общество в последние пять лет его существования знал подполковника лично, но слышали о нем и за глаза уважали его почти все. И не случайно ни разу в жизни не видевший Муравьева-Апостола Рылеев именно с ним пытался связаться накануне 14 декабря, а после неудачи хотел сообщить ему, «что нам изменили Трубецкой и Якубович»[169].
Отзывы современников о Сергее Муравьеве-Апостоле положительны независимо от того, как тот или иной современник относился к декабристам.
«Одаренный необыкновенным умом… он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд», – так характеризовал Сергея Муравьева сам император Николай I[170]. В показаниях же арестованных заговорщиков можно встретить, например, такие слова: «Я с Муравьевым знаком действительно, уважая его добродетель. Он не был бесчестен, он не помрачил своего достоинства ни трусостью, ни подлостью; просвещен, любим всеми. За благородные его качества я почитал его и старался с ним быть знакомым. И если теперь посему и страдаю, сие страдание мне отрадно, ибо страдаю с другом человечества, который для общего блага не щадил не только своего имущества, но даже жизни»[171].
Знаменитый отзыв о васильковском руководителе принадлежит Льву Толстому, назвавшему декабриста «одним из лучших людей того, да и всякого времени»[172]. Г. И. Чулков утверждал: Муравьев был «Орфеем среди декабристов. Вся его жизнь была похожа на песню»[173].
Историк М. Ф. Шугуров в работе, посвященной поднятому Муравьевым-Апостолом восстанию Черниговского полка, писал о некой «тайне обаятельного действия» личности подполковника на людей[174]. По словам же другого историка, П. Е. Щеголева, во всех свидетельствах современников о руководителе Васильковской управы «его личность является в необыкновенно притягательном освещении»[175].
Отзывы, подобные этим, нетрудно найти и в более поздних работах. Полностью под влиянием «тайны обаятельного действия» личности С. И. Муравьева-Апостола, своеобразной «муравьевской легенды» написана известная книга Н. Я. Эйдельмана «Апостол Сергей»[176]. И это вполне объяснимо: читая высказывания современников и потомков о Муравьеве-Апостоле, трудно этой «тайне» не подчиниться.
Между тем, Сергей Муравьев признавался на следствии: «Со времени вступления моего в общество, даже до начала 1822-го года… я был самый недеятельный, а следственно, малозначащий член, не всегда бывал на назначенных собраниях, мало входил в дела, соглашался с большинством голосов и во все время не сделал ни одного приема»[177]. Декабриста Муравьева-Апостола, «главаря злоумышленной шайки», просто не было бы, если бы в 1820 году не случились беспорядки в лейб-гвардии Семеновском полку. 24-летний штабс-капитан Сергей Муравьев-Апостол командовал одной из семеновских рот.
Вечером 16 октября солдаты 1-й гренадерской – «государевой» – роты полка, недовольные жестоким полковым командиром полковником Федором Шварцем, самовольно собрались вместе и потребовали его смены. Их примеру последовали другие роты. Начальство Гвардейского корпуса пыталось уговорить солдат отказаться от их требований, но тщетно. 18 октября весь полк оказался под арестом.
Неделю спустя в казармах лейб-гвардии Преображенского полка нашли анонимные прокламации, призывавшие преображенцев последовать примеру семеновцев, восстать, взять «под крепкую стражу» царя и дворян, после чего «между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных»[178]. Впрочем, прокламации были вовремя обнаружены властями.
Волнения семеновцев вызвали в обществе всевозможные толки и слухи (вплоть до «явления в Киеве святых в образе Семеновской гвардии солдат с ружьями, которые-де в руках держат письмо государю, держат крепко и никому-де, кроме него, не отдают»[179]), а в государственных структурах – смятение и ужас. Дежурный генерал Главного штаба Арсений Закревский в январе 1821 года писал своему патрону князю Петру Волконскому: «Множество есть таких неблагонамеренных и вредных людей, которые стараются увеличивать дурные вести. В нынешнее время расположены к сему в высшей степени все умы и все сословия, и потому судите сами, чего ожидать можно при малейшем со стороны правительства послаблении»[180].
Адъютант генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича Федор Глинка вспоминал пять лет спустя: «Мы тогда жили точно на бивуаках: все меры для охранности города были взяты. Через каждые 1/2 часа (сквозь всю ночь) являлись квартальные, чрез каждый час частные пристава привозили донесения изустные и письменные. Раза два в ночь приезжал Горголи (петербургский полицмейстер. – О.К.), отправляли курьеров; беспрестанно рассылали жандармов, и тревога была страшная»[181]. Подобные настроения объяснялись прежде всего отсутствием царя в столице и неясностью его реакции на произошедшие события.
Тайная полиция начала слежку за всеми: купцами, мещанами, крестьянами «на заработках», строителями Исаакиевского собора, солдатами, офицерами, литераторами, даже за испанским послом. Петербургский и Московский почтамты вели тотальную перлюстрацию писем[182].
Конечно, велик соблазн увидеть в этой «истории» следствие деятельности будущего дерзкого мятежника. Однако документы такого вывода сделать не позволяют: в «возмущении» семеновцев Муравьев-Апостол, как и большинство других офицеров полка, не был виноват. Более того, он сделал все от него зависящее, чтобы удержать свою роту от присоединения к «бунтовщикам». Но удержать солдат ему не удалось.
Но несмотря на явную невиновность Муравьева-Апостола, «семеновская история» сломала его военную карьеру. По итогам разбирательства император приказал перевести всех офицеров полка из гвардии в армию. Правда, при этом они получили положенное при таком переводе повышение на два чина – но все равно считались штрафными. Они были лишены права на отставку и отпуск, их, вплоть до личного распоряжения Александра I, запрещалось повышать в чинах.
Окруженный романтическим ореолом несправедливо обиженного властью человека, в конце 1820 года подполковник Муравьев-Апостол появился в армии: сначала в Полтавском, а потом в Черниговском пехотном полку. Спустя год поле перевода, в январе 1822 года, он встретился с Пестелем. О том, что было дальше, он рассказал следователям: «Я сошелся в первый раз по переводе моем в армию с Пестелем в Киеве… с 1822-го года и до последнего времени имел деятельнейшее участие во все[х] дела[х] общества».
Документы свидетельствуют: Сергей Муравьев-Апостол оказался ярким харизматическим лидером, умевшим очаровывать людей и силой собственного властного обаяния вести их за собой. Причем сам он хорошо понимал эту свою способность, без сомнения причисляя себя к «энергичным вождям», чья «железная воля» – залог победы революции. Свою власть над людьми Муравьев – не без некоторой бравады – демонстрировал товарищам по заговору.
Так, в середине ноября 1825 года в Васильков приехал эмиссар Пестеля поручик Николай Крюков. Время было тревожное: только что умер император Александр I, но событие это еще не было предано огласке. Главнокомандующий 2-й армией П. Х. Витгенштейн и начальник штаба П. Д. Киселев, пытаясь сохранить конфиденциальность информации, предпринимали тайные поездки и секретные совещания. Сторонники Пестеля в армейском штабе в Тульчине решили, что «общество открыто». И Пестель через Крюкова просил Муравьева переждать тревожное время, предупреждал, «дабы по случаю тогдашних обстоятельств он не начал бы неосторожно».
В ответ Муравьев вывел Крюкова «пред какую-то команду и спросил: “Ребята! Пойдете за мной, куда ни захочу?” – “Куда угодно, Ваше высокоблагородие”».
По свидетельству же ближайшего друга Муравьева, сопредседателя Васильковской управы Михаила Бестужева-Рюмина, «солдат он не приготовлял, он заранее был уверен в их преданности»[183].
* * *
Пестель на следствии отмечал: Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин «составляют, так сказать, одного человека». Но оценки современниками личности Бестужева-Рюмина разительным образом отличались от их оценок личности Сергея Муравьева. Самый молодой из пяти казненных в 1826 году лидеров заговора, Бестужев-Рюмин, подобно Пестелю, чаще всего вызывал у своих знакомых отрицательные эмоции.
Весьма нелицеприятно характеризовал Бестужева на следствии генерал-майор Михаил Орлов: «Бестужев с самого начала так много наделал вздору и непристойностей, что его к себе никто не принимает».
Не пощадил казненного товарища по Южному обществу и Николай Басаргин, почти тридцать лет спустя написавший, что сердце у Бестужева-Рюмина «было превосходное, но голова не совсем в порядке». В мемуарах же Ивана Якушкина Бестужев-Рюмин и вовсе характеризуется как «взбалмошный и совершенно бестолковый мальчик», «странное существо», причем, по мнению мемуариста, «в нем беспрестанно появлялось что-то похожее на недоумка».
Обстоятельства, при которых возникла дружба «недоумка» с «одним из лучших людей того, да и всякого времени», нам практически не известны. Сами друзья-заговорщики предпочитали на следствии не распространяться на эту тему, и в результате до нас дошло лишь одно смутное показание Бестужева: «Муравьев мне показал участие, и мы подружились. Услуги, кои он мне в разное время оказывал, сделали нашу связь теснее».
Пылкость взаимоотношений Муравьева и Бестужева подчас вызывала удивление и у современников, и у позднейших исследователей. Так, например, тот же Орлов характеризовал эти отношения таким жестоким образом, что историки до сих пор еще не решаются пользоваться этой характеристикой в своих исследованиях: «Около Киева жили Сергей Муравьев и Бестужев, странная чета, которая целый год хвалила друг друга наедине»[184].
«Сентиментальной и немного истерической взаимной привязанностью двух офицеров, похожей на роман», считал отношения Муравьева и Бестужева историк Г. И. Чулков. И даже Н. Я. Эйдельман удивлялся, анализируя «непонятную дружбу» «видавшего виды подполковника с зеленым прапорщиком»[185].
Между тем, ничего «странного» и «непонятного» в этой дружбе нет. Во-первых, Муравьев и Бестужев были не только друзьями, но и родственниками. Мать Бестужева-Рюмина, Екатерина Васильевна, урожденная Грушецкая, состояла в кровном родстве с Прасковьей Васильевной Грушецкой, мачехой декабристов Муравьевых-Апостолов[186]. Скорее всего, познакомились будущие декабристы еще в юности.
Во-вторых, не совсем правы те современники и историки, которые рассуждают о большой разнице в возрасте между Муравьевым и Бестужевым. Разница между ними – всего четыре года. Правда, Муравьев был участником Отечественной войны и заграничных походов и имел военный опыт, которым не обладал Бестужев.
Образовательный уровень обоих тоже был примерно равным: Бестужев, хотя не учился за границей и в корпусе, получил блестящее домашнее образование, затем экстерном сдал экзамены в двух учебных заведениях: Московском университете и Пажеском корпусе. И, наконец, было много общего в их характерах: у обоих за внешней «сентиментальностью», «энтузиазмом» и «экзальтацией» скрывались железная воля и решительность.
Естественно, что сближению двух офицеров способствовали общие «несчастья»: как и Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин служил в Семеновском полку – и после «истории» 1820 года тоже был выслан на юг, в армейский Полтавский полк.
Однако в делах тайного общества Муравьев и Бестужев-Рюмин отнюдь не «составляли одного человека». Между друзьями существовали политические разногласия: Муравьев, например, не одобрял радикализма своего друга по вопросу о судьбе «императорской фамилии». Еще в январе 1823 году Бестужев, вняв убеждению Пестеля, дал согласие на «убиение» императора, Муравьев же долго противился этому.
Не нравилась Муравьеву и бестужевская категоричность при решении вопроса о судьбе цесаревича Константина. Когда Бестужев-Рюмин, исполняя отданный «именем Директории» приказ Пестеля, стал требовать от поляков «немедленного истребления цесаревича», Муравьев заметил своему другу: «Зачем хочешь ты взять на себя преступления другого народа, не довольно ли уже того, что мы вынуждены были согласиться на смерть императора?»
Молодой заговорщик прекрасно знал как о конфликте Пестеля с Трубецким, так и о сложностях в отношениях Пестеля и Муравьева-Апостола. «В Тульчине подчеркнуто рассматривали нас скорее как союзников Общества, нежели как составную его часть», – утверждал он на следствии. Однако вопрос о роли самого Бестужева в этом кризисе никогда историками не ставился, предполагалось, что он безусловно поддерживал своего друга в споре с Пестелем.
Судя же по документам, позиция Бестужева-Рюмина была гораздо сложнее.
Показания Бестужева-Рюмина содержат несколько метких характеристик личности и дел председателя Директории. Самая известная из них – в его показании от 27 января 1826 года: «Пестель был уважаем в обществе за необыкновенные способности, но недостаток чувствительности в нем был причиною, что его не любили. Чрезмерная недоверчивость его всех отталкивала, ибо нельзя было надеяться, что связь с ним будет продолжительна. Все приводило его в сомнение; и через это он делал множество ошибок. Людей он мало знал. Стараясь его распознать, я уверился в истине, что есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума».
Эта цитата позволяет сделать вывод: Бестужев действительно хорошо «распознал» лидера южан. В отличие от многих не слишком проницательных современников, он не обвиняет Пестеля в бонапартизме. Он говорит о другом: доверчивый романтический век диктует человеку соответствующую линию, манеру поведения. Человеку недостаточно «чувствительному», недоверчивому скептику невозможно рассчитывать на благоприятное мнение о себе. Однако, как свидетельствуют бестужевские показания, сам относился к Пестелю не так, как «все».
1823, 1824 и 1825 годы – время постоянных контактов Бестужева и Пестеля. Именно на Бестужева-Рюмина была возложена ответственная роль связного между Васильковской управой и Директорией. Взаимная неприязнь Пестеля и Муравьева была известна «всему обществу», Муравьев свое негативное отношение к южному директору даже не пытался скрывать. И во многом благодаря позиции Бестужева между ними не произошло окончательного разрыва.
Характеризуя же поведение в заговоре Сергея Муравьева, Бестужев показывал, что «чистота сердца» и бескорыстие его друга «были признаны всеми его знакомыми и самим Пестелем (курсив мой. – О.К.)». При этом он отмечал, что своими «отношениями» с Пестелем погубил Муравьева-Апостола: «как характера он не деятельного и всегда имел отвращение от жестокостей, то Пестель часто меня просил то на то, то на другое его уговорить».
Из показаний Бестужева-Рюмина не видно, что он был в чем-то не согласен с «Русской Правдой». Содержание «Русской Правды» он знал хорошо и довольно точно излагал на следствии. Введение в России конституционной республики, отмена крепостного права, десятилетняя диктатура Временного верховного правления – все эти крайне радикальные для той эпохи положения Бестужев-Рюмин в целом одобрял[187].
Как и Пестель, Бестужев полагал, что далеко не все современники готовы разделить подобные взгляды. Людей надо убеждать, а для убеждения хороши все средства, даже и не вполне честные. Судя по ходу и итогам его организаторской деятельности в заговоре, эту истину он усвоил неплохо.
В тайной организации Бестужев был известен как непревзойденный оратор. Многие «южане» на следствии вспоминали его выступления на различных совещаниях заговорщиков; существовали и письменные варианты этих «речей» – так называл свои выступления сам Бестужев-Рюмин. «Пламенным оратором», который «имел агитаторские способности, чувствовал их в себе и любил говорить», называла Бестужева-Рюмина М. В. Нечкина[188]. О «неистовой страсти», которой были пронизаны «речи», писал Н. Я. Эйдельман[189]. М. К. Азадовский даже утверждал, что они должны «занять свое место в истории русской литературы»[190].
Именно ораторские способности помогли в 1823 году молодому заговорщику провести переговоры о совместных действиях Южного и Польского патриотического обществ.
Собственно, платформа для объединения обществ была. Согласно «Русской Правде» Польша в случае победы русской революции получала независимость, а независимость поляки считали главной целью своего заговора. «Итак, по правилу народности (иначе говоря, согласно праву наций на самоопределение. – О.К.) должна Россия даровать Польше независимое существование», – гласил программный документ Южного общества.
Но одно дело – теоретические рассуждения о «правиле народности», а совершенно другое – решимость действовать практически. Руководители заговора на юге, заслушав доклад Бестужева-Рюмина, согласились на переговоры с поляками. Но решать вопрос о предоставлении Польше независимости, согласившись на отторжение от России немалых территорий, они еще не были готовы. «Его предложение было даже поводом некоторого негодования между сочленов», – показывал на следствии Волконский. А генерал Орлов, судя по его показаниям, узнав о переговорах, сказал Бестужеву: «Вы сделали вздор и разрушили последнюю нить нашего знакомства. Вы не русский; прощайте»[191].
Бестужева-Рюмина это не остановило. Похоже, он считал, что независимость Польши – не слишком высокая цена помощи поляков при подготовке и проведении русской революции. В сентябре 1823 года он совершает «вояж в Вильно», где, по показаниям Матвея Муравьева-Апостола, «должен был снестись с одним посланным от польского общества»[192]. География последующих переговоров Бестужева-Рюмина с поляками прослеживается по показаниям Волконского: кроме Вильно – «Киев, Житомир, Васильков и Ржищев».
Сам Бестужев-Рюмин свидетельствовал, что в переговорах с поляками Сергей Муравьев практически не участвовал, «ни во что почти не входил»[193]. Показания эти вполне достоверны. Согласно анализируемым Л. А. Медведской архивным источникам Муравьев действительно редко присутствовал на совещаниях с поляками и довольствовался ролью наблюдателя. По показаниям польского заговорщика, подполковника Северина Крыжановского, «Муравьев говорил мало, и хотя я всегда обращал речь к Муравьеву, но Бестужев не давал ему отвечать, а только сам все говорил».
Бестужев-Рюмин подтверждал слова поляка: «Муравьев виделся с Крыжановским в то же время, как и я. Но в дела ни с ним, ни с Городецким (другой эмиссар Польского патриотического общества. – О.К.) не вмешивался». Естественно, если бы Муравьев стремился активно участвовать в дискуссии, Бестужев-Рюмин вряд ли мог «не дать» ему это сделать.
Роль Бестужева в переговорах с поляками оценила и Следственная комиссия: ему ставилось в вину «составление умысла» «на отторжения областей от империи», в то время как Сергей Муравьев оказывался виновен лишь в «участии» в этом умысле[194].
Переговоры с Польским патриотическим обществом проходили успешно. Бестужев предложил полякам заключить устный договор, текст которого он представил для окончательного утверждения в Директорию[195]. Согласно этому договору Польше предоставлялась независимость, при этом поляки могли «рассчитывать на Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и Волынской». Кроме того, русские заговорщики брали на себя обязанность «стараться уничтожить вражду, которая существует между двумя нациями».
Поляки же, в свою очередь, обязаны были признать свою подчиненность южной Директории, начать восстание в Польше одновременно с восстанием русских, помешать великому князю Константину вернуться в Россию, блокировать расквартированные на территории Польши русские войска, не давая им выступить. Польское патриотическое общество обязывалось предоставить русским заговорщикам сведения о европейских тайных обществах, а также после победы революции «признать республиканский порядок»[196].
За успехи в переговорах с поляками Юшневский выразил Бестужеву-Рюмину благодарность.
* * *
Конечно, Бестужев-Рюмин был достаточно молод. Вполне естественно, что его путь конспиратора был тернист, на этом пути он делал много непростительных ошибок. Ошибки он делал и при переговорах с поляками.
Так, известно, что в конце 1824 года он – с ведома Сергея Муравьева и в обход всех правил конспирации – написал письмо польским заговорщикам. В письме содержалась просьба устранить в случае начала русской революции цесаревича Константина Павловича. Письмо Бестужев отдал Волконскому – для передачи полякам.
Охраняя «собственную безопасность» заговора, Волконский письмо взял, но к адресатам оно не попало. «Сие письмо было мною взято, но с тем, чтобы его не вручать», – показывал Волконский. «Князь Волконский, прочитав сию бумагу и посоветовавшись с Василием Давыдовым, на место того, чтобы отдать сию бумагу… представил оную Директории Южного края. Директория истребила сию бумагу, прекратила сношения Бестужева с поляками и передала таковые мне и князю Волконскому», – утверждал на следствии Пестель[197].
В 1825 году, скорее всего, именно по вине Бестужева-Рюмина были прерваны «сношения» между Васильковым и Каменкой. Согласно опубликованному в 1926 Б. Л. Модзалевским письму Бестужева-Рюмина к своему родственнику, С. М. Мартынову, отец декабриста запретил ему жениться на племяннице декабриста Давыдова Екатерине.
Сейчас, видимо, уже не удастся точно установить, кто была эта «Catherine», о которой Бестужев писал Мартынову. У Давыдова было две племянницы с такими именами: Екатерина Александровна Давыдова и Екатерина Андреевна Бороздина[198]. Ясно одно: исполнив волю отца и отказавшись от женитьбы, Бестужев тем самым скомпрометировал ни в чем не виноватую молодую девушку.
Именно на это время – 1824 год – как раз и приходится ссора руководителя Каменской управы с Муравьевым и Бестужевым. «Известно всем, что мы с ним (Сергеем Муравьевым-Апостолом. – О.К.) разошлись неприятно, по особенным обстоятельствам», – показывал на следствии Василий Давыдов. «Я же более году не имел никаких сношений с Давыдовым»[199], – вторил ему Сергей Муравьев.
Однако к чести Бестужева-Рюмина следует отметить, что несмотря на все допущенные ошибки, результаты его организационной деятельности в Южном обществе оказываются не намного меньше, чем результаты деятельности Пестеля. Кроме того, именно осторожный Пестель принял в общество главного предателя – капитана Аркадия Майбороду. Не обошлась без «своих» предателей и Каменская управа. Однако ни один доносчик не проник в общество по вине Бестужева-Рюмина. Видимо, он действительно лучше умел «распознавать» людей, чем тульчинские и каменские руководители.
Стоит отметить, что в начале 1825 года переговоры с поляками взялся вести сам Пестель. Причем, по его собственным показаниям, согласованный Бестужевым текст договора был отвергнут. С польскими эмиссарами Пестель обращался не так, как Бестужев. «Во всех сношениях с ними, – показывал Пестель на следствии, – было за правило принято поставить себя к ним в таковое отношение, что мы в них ни малейше не нуждаемся, но что они в нас нужду имеют, что мы без них обойтиться можем, но они без нас успеть не могут; и потому никаких условий не предписывали они нам, а напротив того – показывали готовность на все наши требования согласиться, лишь бы мы согласились на независимость Польши»[200]. Вопрос о территориальных уступках полякам Пестель старался вообще не поднимать на переговорах.
Результат был тоже другим. Вмешательство председателя Директории погубило все дело. Поляков оскорбил тон русского заговорщика, которому еще самому предстояло доказать свое право на решение вопросов польской независимости. Начавшись в январе 1825 года, официальные переговоры Пестеля с Польским патриотическим обществом тогда же и были прерваны, хотя, конечно, неофициальные контакты продолжались.
Анализируя деятельность Бестужева-Рюмина в заговоре, С. Н. Чернов справедливо увидел в юном офицере «элементы большого политического человека – правда, так и не успевшего развернуться во весь свой потенциальный рост, с очень ясно проступающими чертами восторженного энтузиаста и упорного, на большой масштаб, организатора»[201].
* * *
Еще одним эпизодом деятельности Васильковской управы, связанным с именем Бестужева-Рюмина, стало присоединение к Южному обществу Общества соединенных славян.
О «славянах» и уставе их организации рассказал Бестужеву и Муравьеву капитан Пензенского пехотного полка Алексей Тютчев, бывший семеновец. «Я просил Тютчева, – показывал на следствии Сергей Муравьев, – стараться достать сей устав, что он действительно через несколько дней и исполнил».
Правда, как и при переговорах с поляками, от непосредственных переговоров со «славянами» Муравьев опять-таки самоустранился. На этот раз – вовсе. «Сношения между нашим и Славянским обществами, – показывал Муравьев, – были препоручены Бестужеву, сам же я с непосредственно с оными не сносился»[202]. Бестужева «славяне» считали инициатором объединения, именно он – председатель всех «объединительных» совещаний.
Переговоры со «славянами» оказались весьма трудными. Слишком серьезными были различия в понимании конечных целей и задач заговора, на что указывает известное исследование С. С. Ланды «Дух революционных преобразований»[203]. «Южан» не увлекала идея славянского единства, «славяне» же были далеки от идеи немедленной военной революции. Тем не менее, Бестужев-Рюмин заставил «славян» (как до того – поляков) прислушаться к своему мнению.
Его «речи», воспроизведенные на следствии и им самим, и участниками Славянского общества, заставляют признать в нем незаурядного оратора-профессионала.
Бестужев, судя по документам, не доверял импровизациям: почти все выступления сначала записывал, редактировал и только потом произносил – в полном соответствии с правилами риторики. Его домашним учителем был А. Ф. Мерзляков, литератор и филолог, друг В. А. Жуковского, получивший в 1804 году в Московском университете кафедру «российского красноречия и поэзии»[204]. Мерзляков был автором и популярного учебника красноречия – «Краткой риторики, или Правил, относящихся ко всем родам сочинений прозаических». К 1820-м годам учебник этот выдержал несколько изданий.
«Слово, речь в тесном смысле означает рассуждение, составленное по правилам искусства и назначенное к изустному произношению. Сие рассуждение заключает в себе одну какую-нибудь мысль, которая объясняется или доказывается для убеждения слушателей», – внушал Мерзляков своим воспитанникам. Главной же мыслью для Бестужева-Рюмина была идея присоединения «славян» к Южному обществу, к ней он и сводил все «речи».
Мерзляков, следуя риторической традиции, учил, что оратор должен «действовать не на один только разум человека, но на все его душевные силы», причем сначала следует «привязать к себе все его внимание»[205]. Именно так, приковывая к себе внимание слушателя, удивляя его, Бестужев-Рюмин начинал переговоры.
Как правило, первая реакция собеседника была отрицательной. Экзальтированность, горячность и при этом обтекаемость бестужевских формулировок способны были скорее оттолкнуть, чем приблизить к себе слушателя. Согласно «Запискам» Горбачевского Бестужев при первой встрече произвел и на «славян» неблагоприятное впечатление[206]. Это подтверждается и показаниями «славян» на следствии. Однако в обоих случаях заговорщик сумел заинтересовать своих слушателей, поставленная цель была достигнута.
Согласно тому же Мерзлякову, после того, как эта первая цель достигнута, следует пускать в ход систему аргументов и доводов, помня, что «убеждение рассудка» служит оратору средством достижения другой цели – «сильнейшего воспламенения страстей»: только так, «воспламеняя страсти», можно «действовать на волю»[207].
Бестужев-Рюмин точно следовал риторическим правилам. При этом «разжечь страсти» было не так уж и сложно. Молодые армейские заговорщики, не успевшие повоевать, мечтали о «своем Тулоне», хотели заслужить благодарность своего отечества и горели жаждой немедленного действия.
Именно поэтому «славянам» сразу же было предложено стать знаменитыми. По словам прапорщика «славянина» В. Бесчасного, уже на первом заседании Бестужев говорил, что «довольно уже страдали» и «стыдно терпеть угнетение», что «все благомыслящие люди решились свергнуть с себя иго», ведь «все унижены и презрены слишком – а в особенности офицеры». А значит, «благородство должно одушевлять каждого к исполнению великого предприятия – освобождению несчастного своего отечества». В итоге – «слава для избавителей в позднейшем потомстве», «вечная благодарность отечества».
Этот довод повторялся на каждом из собраний. «Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века», – убеждал Бестужев «славян».
Для того чтобы стяжать славу, одних слов недостаточно. Необходимо было немедленно перейти к делу. Цель же Славянского общества, объединение всех славянских племен в единую федерацию, оставалась весьма отдаленной. «Ваша цель, – доказывал Бестужев-Рюмин, – очень многосложна, а потому едва ли можно достигнуть ее когда-нибудь».
«Южане» предлагали «славянам» другую цель, достижимую – установление в России республики и освобождение народа от «угнетения». Для этого нужно не так уж и много: произвести военную революцию и убить императора. «Поэтому, если хотят променять цель невозможную на истинно для России полезную, то они должны присоединиться к нашему обществу», – объяснял подпоручик.
Изучая объединительные «речи» Бестужева-Рюмина, нетрудно убедиться, что практически все они построены на, мягко говоря, недостоверной информации. Так, например, он сообщил «славянам», что «для исполнения сего предприятия в 1816 году писана была конституция и очень хорошо обдумана, которую князь Трубецкой возил за границу для одобрения к известнейшим публицистам» – «великим умам» эпохи.
Как известно, в 1816 году в обществе еще не было никакой «конституции», да и через девять лет далеко не все заговорщики были едины в своих конституционных устремлениях. Конечно же, князь Трубецкой «конституцию» за границу не возил и везти не собирался, соответственно, и никакого одобрения у «известнейших публицистов» она не получала.
«Дабы присоединить их (“славян”. – О.К.) к нашему обществу, нужно было им представить, что у нас все обдумано и готово. Ежели бы я им сказал, что конституция написана одним из членов, то “славяне”, никогда об уме Пестеля не слыхавшие, усумнились бы в доброте его сочинения. Назвал же я “славянам” Трубецкого, а не другого, потому что из членов он один возвратился из чужих краев; что живши в Киеве, куда “славяне” могли прислать депутата, Трубецкой мог бы подтвердить говоренное мною, и что, быв человек зрелых лет и полковничьего чина, он бы вселил более почтения и доверенности, нежели 23-летний подпоручик», – показывал Бестужев-Рюмин на следствии[208].
«Славянам» было рассказано и об огромных военных силах, которыми располагает Южное общество. Дабы убедить их, Бестужев – с помощью Муравьева-Апостола – устроил общее собрание «славян» и Васильковской управы. «Славяне» «застали у Муравьева и Бестужева блестящее общество видных военных, перед которыми им пришлось бы стоять навытяжку на каком-нибудь параде или при случайном разговоре», отмечает М. В. Нечкина[209]. Присутствие на собрании полковых командиров, членов Васильковской управы, и нескольких штаб-офицеров должно было произвести и, конечно, произвело на «славян» должное впечатление.
Аргументация Бестужева-Рюмина в беседах со «славянами» дает возможность судить о его методах на переговорах с польскими эмиссарами. Полякам, как уже отмечалось выше, было объявлено, что «в просвещенный век, в который мы живем», вражда наций – анахронизм, «интересы всех народов одни и те же», а «закоренелая ненависть присуща только варварским временам». В беседах же со «славянами» Бестужев использовал совсем иной аргумент: «Надобно больше думать о своих соотечественниках, чем об иноземцах». Россия противопоставлялась иным странам: «Мы, русские (курсив мой. – О.К.), должны иметь единственно в предмете на твердых постановлениях основать свободу в отечественном крае». А после присоединения Общества соединенных славян к Южному обществу Бестужев-Рюмин и вовсе запретил «славянам» общаться с поляками[210].
Правда, порою Бестужев действовал методом проб и ошибок. Ошибки случались тогда, когда заговорщик отступал от теории своего учителя и пытался апеллировать не к чувствам, а к разуму собеседников. На одном из совещаний он, например, попытался развить мысль о материальных выгодах, которые участники революции могут получить после ее победы. М. В. Нечкина обращает особое внимание на свидетельство одного из участников этого совещания, утверждавшего, что Бестужев-Рюмин, «со слезами в глазах, указывая на свои подпоручьи погоны, повторял, что «не в таких будем, а в генеральских». По мнению Нечкиной, «славяне» были возмущены столь явным меркантилизмом васильковского лидера, Бестужеву с трудом удалось отвлечь их внимание от инцидента[211].
Было ли так, нет ли – трудно сказать. Если и было, если «славяне» в самом деле искренне возмутились, это – одна из немногих ораторских неудач Бестужева на переговорах. В любом случае – «речи» убедили «славян». Немедленные активные действия, исполнение патриотического долга, «слава в позднейшем потомстве» – этим нехитрым набором идей Бестужев подчинил себе волю молодых офицеров. Они услышали то, что хотели услышать.
Дабы окончательно закрепить победу, на одном из последних заседаний Бестужев-Рюмин потребовал – и получил – от «славян» клятву «не щадить своей жизни для достижения предпринятой цели, при первом знаке поднять оружие для введения конституции». И «сию клятву подтвердили, целуя образ, который Бестужев снял [со] своей шеи». Со «славян» также было взято слово до начала переворота не выходить в отставку и не просить перевода в другую часть. При этом ученик Мерзлякова, свидетельствовали «славяне», «хвалил» их «решимость приступить к перевороту и старался внушить еще более рвения к достижению сей цели»[212].
Для вящей же убедительности Бестужев потребовал себе полный список членов Общества соединенных славян и отметил в нем тех, кто готовился в цареубийцы. О том, что список – согласно правилам конспирации – сразу же был сожжен, «славяне» не догадывались.
Используя лишь свои ораторские способности, Бестужеву не всегда удавалось достичь задуманного. И тогда в ход шли другие методы. В частности, в деле укрепления структуры тайного общества Бестужев умело использовал интригу. Пример тому – история с майором Пензенского пехотного полка Михаилом Спиридовым.
Михаил Матвеевич Спиридов происходил из богатой семьи русских аристократов. По материнской линии он был внуком знаменитого историка М. М. Щербатова, по этой же линии Спиридов приходился родственником и самому Бестужеву-Рюмину. Скорее всего, Бестужев и Спиридов были знакомы с детства; по крайней мере, точно известно, что старший брат Бестужева Николай в 1810-х годах жил в московском доме Спиридовых[213].
Майор Спиридов вступил в Общество соединенных славян непосредственно перед его слиянием с Южным и по прямой просьбе Бестужева-Рюмина. По мнению М. В. Нечкиной, «по типу своему этот человек более подходил к Южному обществу, и, вероятно, Муравьев и Бестужев надеялись на то, что этот знатный по происхождению дворянин, родственник князьям Щербатовым, будет проводником их замыслов в скромной среде Соединенных славян».
«Но, – продолжает Нечкина, – надежды их не оправдались, и Спиридов стал вести себя самостоятельно, противореча руководителям Васильковской управы»[214]. В частности, Спиридову не понравился «Государственный завет» – составленная Бестужевым под диктовку Пестеля и предоставленная «славянам» краткая выжимка из «Русской Правды»[215]. Майор желал бы в будущем видеть свою страну не республикой, а конституционной монархией, не соглашался с идеей отмены сословий и предложенными Пестелем путями решения национального вопроса в России. На многие пункты этого документа он «написал было свои возражения». Эти возражения майор пытался высказать Бестужеву и просил гласного обсуждения вопроса.
Однако Бестужев-Рюмин убеждал «славян» в том, что рассматривать этот документ на «объединительных» совещаниях «совершенно лишнее» – «из сего могут произойти ссоры и несогласия». А когда Спиридов попытался настоять на своем, началось то, что, по мнению «славян», называлось «интрига подпоручика Бестужева-Рюмина насчет отдаления майора Спиридова».
На одном из совещаний (проходившем в отсутствие Бестужева) Спиридов был избран «посредником» между «славянами» и южанами. Фактически это означало, что майор получал права руководителя управы, «боярина». И суть интриги состояла как раз в том, чтобы не допустить этого. Бестужев потребовал нового собрания «для поправления сей ошибки».
Но выборы уже прошли, отменять их итоги было неудобно. По крайней мере, среди демократически настроенных «славян» это было не принято. И Бестужев нащупал единственно возможный в таком случае ход: он решил изменить структуру подчинения «славян» Южному обществу. Было предложено назначить не одного «посредника», а двух: одного от пехоты, а другого – от артиллерии. Из руководителя управы тайного общества «посредник» превратился в представителя «профессиональной группы» в Васильковской управе.
Одним из таких «посредников» все же остался непокорный майор, другим же был избран артиллерийский подпоручик Иван Горбачевский.
Если подводить итоги «объединительной» деятельности Бестужева в среде «соединенных славян», следует признать, что на самом деле члены Славянского общества не были интересны Бестужеву ни как личности, ни как носители определенных идей, ни даже как представители иной формы конспиративной организации.
На следствии, опровергая одно из показаний «славян», он скажет: «Я даже не припишу этого их раздражению против меня, но только малому навыку мыслить и некультурности». И добавит в другом показании: «Я из “славян” пятой доли не знал, ибо видел их толпою, и то только три раза», «как “славяне” были многочисленны и незначащи (курсив мой. – О.К.), то разделя их на управы, я не давал себе труда узнавать поименно членов, предполагая в случае нужды снестись с начальниками управ»[216].
В связи с этим следует признать справедливым вывод М. В. Нечкиной: Бестужев смотрел на членов Общества соединенных славян «как на орудие революции, пушечное мясо» – и в ходе «объединительных» совещаний «ловко провел “славян”»[217].
* * *
Кроме ораторского дарования и умения вести интригу, подпоручик Бестужев-Рюмин обладал и незаурядным актерским талантом. Это хорошо видно из истории его взаимоотношений с собственным полковым командиром полковником Василием Тизенгаузеном.
Тизенгаузена в 1824 году принял в Южное общество Сергей Муравьев-Апостол. Среди декабристов Тизенгаузен был одним из самых старших, к моменту вступления в заговор ему уже исполнилось 44 года. За плечами полковника – немалый боевой опыт: в армии он начал служить с 1799 года, в военных действиях принимал участие с 1808-го.
Принятый в общество всего лишь с правами «брата», Тизенгаузен не был убежденным заговорщиком, желание «порвать» с заговором возникало у него постоянно. Чтобы быть подальше от васильковских лидеров, он добивался перевода в другой полк или возможности выйти в отставку. «Подполковник Муравьев при брате своем и, помнится, при подпоручике Бестужеве-Рюмине на коленях усерднейшим образом просил меня неотступно оставить намерение мое», – показывал Тизенгаузен на следствии.
Васильковским лидерам, чтобы удержать полковника от исполнения его «намерений», пришлось даже прибегнуть к помощи Пестеля. «Просили меня Бестужев и Муравьев в разговоре с Тизенгаузеном прилагать много жару и говорить о начале действий в 1825 году… ибо по его характеру сие им нужно», – показывал Пестель.
После ареста в январе 1826 года Тизенгаузен понял, что главная его «вина» состояла не в участии в заговоре как таковом, а в попустительстве «преступным предприятиям» подпоручика Бестужева-Рюмина, благодаря которому тот имел прекрасную возможность путешествовать по делам общества по Украине, Польше и России. «Он был главным связующим звеном между заговорщиками», – утверждал начальник штаба 1-й армии барон К. Ф. Толь[218], и эти слова справедливы.
Кроме упоминавшихся выше Вильно, Киева и Житомира, Бестужев-Рюмин много раз бывал в Тульчине, Каменке и Линцах – месте квартирования штаба Вятского пехотного полка, которым командовал Пестель. В 1823 году он тайно совершил поездку в Москву для «склонения некоторых членов к содействию» в реализации «Бобруйского заговора», предусматривавшего военное восстание и «арестование» императора на летнем смотре под Бобруйском. Бывал Бестужев и в Хомутце – полтавском имении Муравьевых-Апостолов, и в Умани – месте службы князя Волконского. Известно, что в 1823–1825 годах он месяцами жил в Василькове у Сергея Муравьева.
Между тем дисциплина требовала нахождения всех офицеров при полку. В отношении же бывших семеновцев, сосланных на юг после «истории» 1820 года, лишенных права не только на отставку и отпуск, но даже на командировки, это правило должно было действовать и вовсе неукоснительно.
На следствии Тизенгаузен убедил себя в том, что виновником всех его бед был именно Бестужев-Рюмин, и пытался дать ответ (не только следствию, но прежде всего самому себе), как же он, немолодой полковник, поддался обаянию обер-офицера и не только не «отстал» от общества, но и постоянно нарушал воинскую дисциплину. Практически в каждом своем показании он сам, без давления Следственного комитета, возвращался к этой теме.
«Несмотря на либеральные идеи Бестужева, – пишет он в одном из таких показаний, – я всегда его считал за пустого и нимало не опасного для общества офицера. Суждения его мне всегда казались столь странными, что я часто над оными смеялся и принимал за бредни. Он никогда почти не выдерживал моего взгляда, и мне кажется, что он меня очень боялся; ибо почти всегда, когда я только начинал укорять его за бессмысленные его рассуждения и неосновательность оных ему доказывать, то он обыкновенно молчал, потупя взор вниз. Вижу, и ясно, что я в нем ошибался, и сильно ошибался! Кто в состоянии проникнуть все изгибы черной души?»
Это показание весьма примечательно. Если не принимать во внимание его эмоциональный тон, то надо признать, что Тизенгаузен довольно точно описывает характер своих отношений с Бестужевым-Рюминым. Действительно, скорее всего, начались эти отношения с насмешек старшего и опытного полковника над молодым прапорщиком.
Однако Тизенгаузен ошибался, и ошибался сильно, утверждая, что Бестужев его боялся. Его подчиненный был в тайном обществе на равных не только с полковниками, но и с генералом Волконским, к его мнению прислушивался Пестель, он вел сложнейшие переговоры с польским обществом и «славянами». По заговорщицкой «табели о рангах» Бестужев-Рюмин стоял на две ступени выше Тизенгаузена.
Видимо, Бестужев быстро нащупал «слабую струну» своего полкового командира: Тизенгаузен кичился перед ним опытностью, считал себя вправе поучать его, «укорять» за «бессмысленные рассуждения». Бестужев же не возражал, умело играя роль покорного слушателя – и взамен получал не только полную свободу передвижения, но и казенные подорожные: путешествовать иначе, «частным образом», бывший семеновец не мог.
Справедливости ради надо отметить, что в двадцатых числах ноября 1825 года Тизенгаузен арестовал подпоручика на десять дней. Причиной ареста послужила почти полуторамесячная отлучка Бестужева из полка (все это время он жил в Василькове у Муравьева). Правда, через несколько дней полковник выпустил подчиненного из-под ареста по уважительной причине: в Москве скончалась его мать и серьезно заболел отец.
Бестужев-Рюмин обещал Тизенгаузену поехать в Киев и оттуда подать корпусному командиру просьбу об отпуске. Но, как известно, вместо Киева он отправился в Васильков. Последовавшее через несколько дней восстание черниговцев заставило его оставить первоначальные намерения.
«Бестужев должен быть изверг, чудовище! – Как забыть так скоро кончину матери и просьбы умирающего отца? – Гнусное чудовище и тогда, если адская роль, чтобы только меня обмануть ложными письмами из Москвы, была его изобретения или выдумана его другом Муравьевым»[219], – сокрушался после ареста командир полтавцев.
* * *
Функции Сергея Муравьева в Южном обществе коренным образом отличались от тех, которые исполнял Бестужев-Рюмин. Муравьев не занимался «партийным строительством», он был лидером военным, разрабатывал конкретные планы вооруженного выступления. И здесь Бестужев-Рюмин действительно был в курсе всех его приготовлений и являлся его верным помощником. Но при этом в деле непосредственной подготовки военной революции он не был ни инициатором, ни главным исполнителем.
Между тем, как стратег и тактик Муравьев-Апостол был откровенно слаб.
«Масса ничто, она будет тем, чего захотят личности, которые все», – эта фраза Сергея Муравьева стала известна следствию из показаний Александр Поджио. Как и большинство декабристов, Муравьев-Апостол внимательно следил за ходом европейских событий. Особенно его волновали вести из Испании: 1 января 1820 года подполковник испанской армии Рафаэль Риего, командир армейского пехотного батальона, поднял вооруженное восстание в Андалузии. Воспользовавшись слабостью правительства короля Фердинанда VII и ропотом армии против власти, Риего провозгласил восстановление отмененной королем конституции 1812 года. Несколько раз Риего оказывался на грани полного разгрома. Но в его поддержку началось восстание в нескольких крупных городах, в том числе и в самом Мадриде, и перепуганный Фердинанд подписал манифест о созыве кортесов – испанского парламента и восстановлении конституции. Риего получил чин генерал-майора и в 1822 году стал президентом кортесов. Испания же стала конституционной монархией.
В судьбе Рафаэля Риего Сергей Муравьев-Апостол видел немалое сходство с собственной судьбой. Как и испанский мятежник, он по чину был подполковником, командовал батальоном. Риего выступил, подчиняясь революционному порыву, не имея продуманного плана похода, – и Муравьев-Апостол был уверен, что его собственной воли и героических усилий без всякой предварительной подготовки достаточно для того, чтобы осуществить революцию. Риего был любим своими солдатами, рядовые же Черниговского полка души не чаяли в своем батальонном командире. Русский подполковник надеялся, что его, как и знаменитого испанца, поддержат его собственные подчиненные.
За этими солдатами должна без колебаний пойти вся армия – точно так же, как испанская армия поддержала Риего. Муравьев был убежден: вслед за армией к ним просто не может не присоединиться и вся Россия. И убеждал товарищей, что «революция будет сделана военная, что они надеются произвести оную без малейшего кровопролития потому, что угнетенные крестьяне их помещиками и налогами, притесненные командирами солдаты, обиженные офицеры и разоренное дворянство по первому знаку возьмут их сторону». Своим единомышленникам он рассказывал о том, как Риего «проходил земли с тремястами человек и восстановил конституцию, а они с полком, чтобы не исполнили предприятия своего, тогда как все уже готово, в особенности войско, которое очень недовольно».
Собственно, на повторении «примера Риего» были построены все тактические разработки Васильковской управы.
В Южном обществе васильковский руководитель был известен как автор фантастического плана революционного переворота: на Высочайшем смотре 1-й армии предполагалось арестовать или убить императора, затем объявить начало революции, собрать все войска, которые на этот призыв откликнуться, – и с ними идти на Москву.
«Положили овладеть государем и потом с дивизиею двинуться на Москву», «произвесть возмущение в лагере и вслед за сим, оставя гарнизон в крепости, двинуться быстро на Москву», – показывал Муравьев-Апостол на следствии. Впервые план этот был сформулирован в 1823 году, детали его со временем менялись, но суть оставалась неизменной.
Историкам до сих пор не удалось уловить тактический смысл предложенного Муравьевым-Апостолом маршрута движения восставших войск. Это движение могло стать только прологом к гражданской войне: взять власть в Москве было невозможно, поскольку страна управлялась из Петербурга. Между тем, Муравьев-Апостол был уверен, что его действия гражданскую войну не спровоцируют.
Неясно также, на чем основывалась уверенность Муравьева-Апостола в том, что «первая масса, которая восстанет, увлечет за собою прочие и что посланные войска против нас к нам же и присоединятся».
Пестель искренне пытался доказать свою правоту Муравьеву-Апостолу. Однако Муравьев был упрям, решительно не хотел слушать никаких доводов и настаивал на немедленном революционном выступлении. «Я предлагал начатие действия, явным возмущением отказавшись от повиновения, и стоял в своем мнении, хотя и противопоставляли мне все бедствия междоусобной брани, непременно долженствующей возникнуть от предполагаемого мною образа действия», – утверждал он в показаниях[220].
Несмотря на несогласие председателя Директории с подобным «образом действий», Муравьев дважды – на летних «высочайших» смотрах 1-й армии в 1824 и 1825 годах – пытался привести в исполнение свои тактические разработки. Пестелю с большим трудом удалось остановить его и тем самым спасти свою организацию от разгрома, а васильковского руководителя – от гибели.
В течение двух лет – с 1823 по 1825 год – Пестель и его сторонники занимались, в частности, тем, что отговаривали Муравьева-Апостола от его намерений. Так, в 1823 году это план был отклонен на январском съезде руководителей Южного общества в Киеве. В 1824 году, по указанию Пестеля, князь Сергей Волконский прислал Муравьеву в Васильков письмо, в котором безапелляционно заявлял, «что общество в сем году еще не намерено действовать».
На январском съезде 1825 года этот план снова обсуждался, и идеи Сергея Муравьева опять были раскритикованы. Ни Муравьев, ни Бестужев в работе этого съезда не участвовали, и Пестель сам приехал в Васильков и сообщил о принятых в Киеве решениях.
Идеи Васильковской управы отклоняли не только Пестель и его сторонники в Южном обществе. Согласно воспоминаниям Ивана Якушкина в 1823 году Бестужев-Рюмин приехал в Москву, чтобы добиться содействия осуществлению их с Муравьевым плана со стороны московских членов тайной организации. Однако московские заговорщики отказали ему в поддержке, заявив, что не войдут с ним «ни в какие сношения»[221].
Тактические споры Пестеля и Муравьева-Апостола в итоге переросли в личный конфликт. «Его (Сергея Муравьева. – О.К.) сношения с Пестелем были довольно холодны, – показывал Матвей Муравье-Апостол, старший брат руководителя Васильковской управы, – чтобы более еще не удалиться от него, он не говорил явно всем – но, впрочем, он очень откровенно сказывал о сем самому Пестелю»[222].
Скорее всего, именно в Пестеле Сергей Муравьев-Апостол видел главное препятствие на пути реализации своих замыслов. Поэтому его управа пыталась действовать самостоятельно, независимо от Директории. «Васильковская управа была гораздо деятельнее прочих двух и действовала гораздо независимее от Директории, хотя и сообщала к сведению то, что у нее происходило», – показывал на следствии Пестель.
«Сепаратные настроения» Васильковской управы были для Пестеля тем чувствительнее, что, кроме убеждения, никаких способов влияния на Муравьева-Апостола у него не было. И по службе, и по положению в тайном обществе васильковский руководитель был совершенно независим от председателя Директории.
Южный лидер пытался преодолеть этот разрыв: в ноябре 1825 года Муравьев-Апостол стал еще одним директором Южного общества. «Смешно, что он (Муравьев) в числе председателей, когда его управа гораздо значительней и сильнее обоих других вместе, да и ради нашей ответственности перед Союзом, ибо Васильковская управа гораздо независимее прочих других действует, надо, чтобы Сергей Муравьев принадлежал к Директории», – так объяснял Пестель необходимость этого шага[223].
* * *
Черниговский пехотный полк, в котором служил Сергей Муравьев-Апостол, был одним из старейших в русской армии: он был сформирован Петром I в 1700 году. И участвовал почти во всех войнах XVIII – начала XIX веков. Однако к 1825 году славные военные дела черниговцев уже стали историей.
Черниговский полк комплектовался так же, как и все другие армейские полки: солдаты попадали в полк в результате рекрутских наборов. Солдатская же служба в мирное время была тяжелой и по большей части бессмысленной.
Военная муштра в начале XIX века переходила все мыслимые и немыслимые пределы. Великий князь Константин Павлович, сам воспитанный своим отцом Павлом I на «гатчинских» порядках, с нескрываемой иронией писал начальнику штаба Гвардейского корпуса генералу Н. М. Сипягину: «Я более двадцати лет служу и могу правду сказать: даже во время покойного государя был из первых офицеров во фронте, а ныне так перемудрили, что и не найдешься… Я таких теперь мыслей о гвардии, что ее столько учат и даже за десять дней приготовляют приказами, как проходить колоннами, что вели гвардии стать на руки ногами вверх, а головами вниз и маршировать, так промаршируют; и не мудрено: как не научиться всему – есть у нас в числе главнокомандующих танцмейстеры, фехтмейстеры»[224].
Видели происходящее в армии и боевые генералы. Командир 6-го пехотного корпуса 2-й армии генерал-лейтенант Иван Сабанеев, непримиримый противник Аракчеева, известный своими либеральными взглядами, писал начальнику армейского штаба Павлу Киселеву: «Учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, скоба против рта, параллельность шеренг, неподвижность плеч и все тому подобное, ничтожные для истинной цели предметы, столько всех заняли и озаботили, что нет минуты заняться полезнейшим. Один учебный шаг и переправка амуниции задушили всех – от начальника до нижнего чина».
И добавлял в другом письме: «Каких достоинств ищут ныне в полковом командире? Достоинство фронтового механика, будь он хоть настоящее дерево… Нигде не слышно другого звука, кроме ружейных приемов и командных слов, нигде другого разговора, кроме краг, ремней и вообще солдатского туалета и учебного шага»[225].
Соответственно, поведение солдат послевоенной эпохи отнюдь не было образцово-патриотическим. Солдаты пили и дебоширили, в полках постоянно возникали драки: разбором множества подобных дел занимались армейские военные суды.
Черниговский полк по духу своему мало чем отличался от десятков других полков, расквартированных по всей России. И поведение солдат-черниговцев исключением тоже не было.
Так, весной 1825 года в 1-й армии разразился громкий скандал, завершившийся для его участников – рядовых Черниговского полка – военным судом. Несколько солдат за примерное поведение были переведены в гвардию. Однако по дороге в Петербург выяснилось, что, как сказано в приказе по армии, «назначения сего удостоены были люди дурной нравственности и с порочными наклонностями. Офицер, препровождавший команду, на первых переходах вынужден был употребить строгость, чтоб остановить буйство их и защитить обывателей от насилия; в продолжение пути опорочили они себя новыми дерзостями и наконец, некоторые из них обнаружили явное ослушание против начальника команды». Иными словами, солдаты напились и стали грабить окрестные селения.
В результате вместо гвардейской службы главные виновники «буйства» были прогнаны сквозь строй и отправлены на каторгу. Командир полка подполковник Гебель получил «строгое замечание» в приказе по армии, а несколько офицеров – ротные командиры взбунтовавшихся солдат – были арестованы на два месяца «с содержанием на гауптвахте»[226].
* * *
Личности офицеров-черниговцев восхищения у современников не вызывали. Так, например, прапорщик Тамбовского полка Александр Рихард, узнав о поражении восстания черниговцев, радовался, что активный участник этого восстания, поручик Анастасий Кузьмин, покончил с собой – «а то он многих бы подвергнул равной с собой участи». Известно, что Кузьмин не брезговал палочными методами воспитания солдат[227].
Известен и крутой нрав поручика Михаила Щепиллы: в 1818 году ему с трудом удалось выпутаться из конфликта, в котором вина его была очевидной. Согласно документам Рязанского нижнего земского суда он, тогда подпоручик, «призвав» в свою квартиру двух крестьян, «бранил их всякими неблагопристойными словами за то, для чего они в квартире его не делают трубы, и бил по щекам». Затем «приказал унтер-офицерам раздеть и бить палками, кои и били нещадно».
Это дело было замято, однако в 1820 году карьера Щепиллы сильно пострадала. Именно тогда младший брат будущего декабриста был отставлен от службы «за жестокое наказание фельдфебеля» своей роты. Щепилло вынужден был уйти из полка вслед за братом и два года пробыл в отставке[228].
Кроме того, моральный климат не улучшался и от присутствия в полку особой группы солдат – бывших офицеров, разжалованных за различные дисциплинарные поступки в солдаты с лишением или без лишения дворянства. Таких солдат в Черниговском полку было довольно много. В восстании Черниговского полка впоследствии примут участие двое из них: Дмитрий Грохольский и Игнатий Ракуза. Оба они были разжалованы с лишением дворянства. Еще один рядовой, Флегонт Башмаков, был разжалован из полковников артиллерии без лишения дворянства.
Все эти люди до августа 1825 года не проявляли никаких революционных настроений, в тайных обществах не состояли и едва ли слышали о них – по крайней мере, сведений, которые бы доказывали противоположное, не сохранилось. У черниговцев было много дел: надо было служить, зарабатывать чины, а разжалованным – возвращать утраченные, на скудное армейское жалованье приходилось содержать родственников. О революции им, по-видимому, думать было просто некогда.
И без того тяжелый моральный климат в полку сильно ухудшился в июле 1825 года. С историей мятежного полка оказалась тесно связана история селения Германовка Киевского уезда (повета) Киевской же губернии.
* * *
Селение Германовка находилось в 60 верстах от Киева; по ревизии 1792 года в ней числилось «в 116 дворах мужского пола 711, женского 665» человек. Согласно сведениям, собранным знаменитым киевским краеведом Л. И. Похилевичем, Германовка «принадлежит к древнейшим поселениям страны; чему служат доказательством городище и множество древних могил около его, в коих оказались груды человеческих костей. До татарского нашествия в летописях упоминается Германеч, которым мы считаем нынешнюю Германовку». В годы татарского нашествия древний Германеч был сожжен, и следующее упоминание о селении в летописях относится только к середине XVII века – времени войны Украины против польского владычества[229].
Издавна, еще со времен поляков, Германовка была имением старостинским: правители государства могли жаловать его дворянам за верную службу, однако после смерти владельца оно переходило обратно в казну. На жителей Германовки никогда не распространялось крепостное право. Лично свободными они были и в начале XIX в., когда практика пожалования имений «на время» давно уже ушла в прошлое, а старостинские крестьяне сравнялись в правах с крестьянами казенными. Жители Германовки исправно платили налоги в казну, исполняли наложенные государством обязанности, но не знали, что такое работать на барина.
Однако 10 сентября 1810 года последовал манифест императора Александра I «О назначаемых в продажу казенных имуществах для составления капитала погашения долгов». Согласно этому манифесту к продаже частным лицам назначалось «до трехсот пятидесяти тысяч душ»[230]. Среди этих «душ» оказались и германовские крестьяне: в 1812 году Германовка была продана казной в собственность поляка, статского советника Кастана Николаевича Проскуры.
До начала 1820-х годов отношения крестьян с новым владельцем были мирными; по крайней мере, ни о каких взаимных «обидах» речи не шло. Однако в 1824 году «возникла жалоба от крестьян оного местечка на экономов означенного помещика за чинимые якобы притеснения им»[231].
По этой жалобе, поданной в Киевское губернское правление, было назначено следствие. Однако разбиравшие жалобу различные судебные инстанции приняли сторону помещика: Кастан Проскура, вышедший незадолго перед волнениями в Германовке в отставку, в прошлом занимал должность президента Киевского главного суда[232]. Другие жалобы германовских крестьян – в частности, о том, «что якобы происходит для них угнетение и что при наборе рекрут не соответственно числящимся в Германовке по ревизии душ взято с них более, нежели следовало, и несоразмерная раскладка денег происходит»[233], – вообще остались без рассмотрения.
Трудно сказать, насколько жестоким помещиком был Проскура, угнетал ли он своих крестьян, законными или незаконными были действия его экономов. В данном случае экономические претензии крестьян были вторичными. Просто крестьяне никак не могли поверить, что их, прежде свободных людей, можно было продать в собственность такому же свободному человеку, усматривали в документах о продаже обман, пытались вернуть утерянный статус. Жители Германовки требовали, «дабы им отрабатывать панщину наравне с старостинскими крестьянами смежной деревни Семеновки, оставшейся в казне без продажи, то есть по одному только дню на неделе»[234]. Согласно Похилевичу деревня Семеновка вообще рассматривалась «как западная оконечность Германовки», входила в один с Германовкой церковный приход и до 1812 года считалась частью «Германовского староства». Казенными оставались и другие граничащие с владением Проскуры деревни: Сущаны, Германовская слобода и Григоровка[235].
Но до отмены крепостного права было еще далеко. И приговор суда по жалобе германовских крестьян гласил: «Признаны крестьяне виновными в несправедливости их жалобы, в ослушании против владельческой экономии, возмущении и дерзости, за что главнейшие в том преступлении 6-ть человек по решению Главного суда, учиненному 1825 годам мая 4-го, и утвержденному г[осподином] гражданским губернатором, приговорены к наказанию плетьми и к ссылке в Сибирь на поселение, два тоже к наказанию плетьми и оставлению в жительстве, а 16 человек к выдержанию под караулом в тюрьме через четыре недели и водворению в жительство со внушением повиновения владельцам их».
Исполнять приговор над крестьянами в Германовку был послан земский исправник Яниковский. Исправника сопровождала небольшая воинская команда: «от внутреннего гарнизонного батальона из 15-ти рядовых с одним унтер-офицером и одним офицером», прапорщиком Даниловичем[236].
Узнав о решении суда, германовские крестьяне продемонстрировали незаурядную выдержку и организованность. Согласно материалам следствия они, «собравшись в клуне крестьянина Алексея Лозенка», «учинили между собою совещание, дав друг другу слово, чтоб быть всем в единодушии и согласии на все их предприятия и постоять в защите к недопущении наказать осужденных, в таком предположении, что когда тех бить, то и всех их бить по равной части для того, что осужденные были с ними в одном их согласии, в чем поклялись и подписались»[237].
О том, что случилось дальше, исправник Яниковский доносил следующее: 8 июля 1825 года он вместе с командой и осужденными крестьянами прибыл в Германовку. Но «коль скоро приступили к наказанию первого из них, Ивана Трофименка, чрез полицейского служителя, то вдруг жители возмутились и единовременно произносили крики о неповиновении таковому решению и указу, бросились с азартом на лежащего на земле Трофименка и, раздевшись с верхнюю одеждою, обвалили воинскую команду и к исполнению решения не допустили». Согласно же рапорту Даниловича крестьяне кричали: «Когда их бьете, то всех нас бейте и вместе с ними ссылайте в Сибирь, ибо они ни в чем не виноваты, а были от нас посланы просить о общественных обидах».
При этом крестьяне «решительно отозвались неповиноваться помещику». Исправнику ничего не оставалось делать, как отложить исполнение наказания и потребовать «значительной воинской команды» – себе в помощь[238].
Земские власти обратились к властям военным – и в помощь исправнику была прислана рота пехотного полка. 10 июля Яниковкий еще раз попытался исполнить приговор над крестьянами. И «как только сделано приготовление к наказанию осужденных, то вдруг при поднесении рук вгору те собравшиеся крестьяне закричали толпою: “Не даймось!”
Сии виновные, суть единомыслящие с ними, повторяя “не даймось, а если раз покоримся, то сие останется уже навсегда, что будут поодиночке ссылать и наказывать”, и в таковом крике, несмотря на примкнутие штыков и произносимые исправником и офицерами о воздержании слова, с остервенением бросились, не имея ничего в руках, на штыки в такой яростности, что едва солдаты со всею быстротою могли оберечь последствия и желания оных крестьян оставить жизнь свою на штыках»[239]. Надо отдать должное ротному командиру: он не приказал стрелять по толпе, однако наказание виновных снова пришлось отложить. И только появление в Германовке 14 июля еще одной пехотной роты позволило исполнить наказание над непокорными крестьянами. Обе роты расположились в Германовке и окрестных селениях постоем.
Введение в Германовку второй роты произвело на крестьян сильное впечатление. Осужденные были наказаны, волнения пошли на убыль, несмотря даже на то, что в августе обе роты были выведены из Германовки – «к общему тогда сбору войск в Волынской губернии»[240].
Собственно, дело германовских крестьян было только одним из многих подобных дел, которыми изобиловало начало XIX века. Ничего уникального в этой истории не было. Крестьяне часто роптали на помещиков, не подчинялись им. Для усмирения крестьян вводились воинские команды. В 1801–1825 годах в России были зафиксированы 563 случая крестьянского неповиновения, из них в 147 случаях дело доходило до вызова войск[241]. История германовских крестьян отличалась от десятков таких же лишь вниманием, которое этим волнениям уделяли центральные российские власти. В курсе «буйственного поведения» крестьян был управляющий Министерством внутренних дел Василий Ланской; дело о неповиновении Проскуре рассматривалось в Государственном совете, ходом расследования в отношении «зачинщиков» интересовался сам император Николай I[242].
Советские исследователи о волнениях в Германовке, конечно, знали. Волнения эти породили огромное количество документов, осевших в архивах Киева и Санкт-Петербурга. Два случайных документа из этого массива были опубликованы[243], а в Германовке даже был поставлен соответствующий памятник. И умолчание о волнениях в Германовке на страницах статей и монографий выглядит странно.
Но странность эта разъясняется после знакомства с архивными документами. Волнения в Германовке подавил Черниговский полк.
В Киевской губернии, к которой относилось мятежное селение, были расквартированы части 9-й пехотной дивизии 1-й армии; в дивизию эту, в частности, входили Черниговский и Полтавский полки. Первоначально земские власти просили о присылке воинской команды командира Полтавского пехотного полка, полковника и заговорщика Василия Тизенгаузена. Тизенгаузен повел себя как истинный декабрист и отказался давать своих солдат для усмирения мятежников. Он ответил суду: «По причине назначенного смотра в местечке Ржищев и наступающих к тому дней, да и без воли командующего пехотною дивизией дать требуемой воинской команды не может».
Иную позицию занял подполковник Гебель. Получив приказ начальства, командир Черниговского полка выполнил его.
Покорение Черниговским полком германовских крестьян состояло из трех эпизодов. Первый из них в полной мере отражен в документах. 10 июля 1825 года – в помощь земскому исправнику и солдатам гарнизонного батальона – в селение вошла 3-я мушкетерская рота полка под командованием штабс-капитана Антона Роменского[244]. В рядах этой роты состоял и в операции участвовал будущий активный мятежник поручик Михаил Щипилло. 3-й мушкетерской роте не удалось справиться со своей задачей, попытка наказать осужденных переросла в драку крестьян с солдатами. 14 июля в Германовку вошла еще одна черниговская рота: на этот раз крестьяне вынуждены были покориться и не противиться наказанию своих товарищей. Ни номер этой второй роты, ни имя ее командира в документах не упоминаются. В августе 1825 года обе роты вышли из Германовки и отправились на корпусный сбор в местечко Лещин.
И, наконец, осенью 1825 года в Германовке встала постоем 2-я мушкетерская рота полка под командованием штабс-капитана Вениамина Соловьева. Именно из Германовки 2-я мушкетерская рота 31 декабря 1825 года отправилась бунтовать[245].
Неизвестно, участвовал ли лично Сергей Муравьев-Апостол в германовских событиях. Согласно документам при ротах Черниговского полка должен был находиться штаб-офицер, осуществлявший общее руководство карательной операцией. Вместе с Роменским в Германовку был отправлен младший штаб-офицер Черниговского полка, майор Александр Лебедев. Однако Лебедев, по-видимому, не желавший марать руки, воспользовался тем, что был назначен депутатом в следственную комиссию по делу о крестьянском неповиновении, уехал в Киев и в подавлении беспорядков участия не принял[246]. В восстании Черниговского полка Лебедев тоже не участвовал.
Но документы свидетельствуют: некий старший офицер Черниговского полка при ротах все же присутствовал – ибо таков был приказ военного начальства. К июлю 1825 года при полку, кроме Лебедева и самого Гебеля, находились только два старших офицера: командир 1-го батальона майор Сергей Трухин и командир 2-го батальона подполковник Муравьев-Апостол[247]. Сделать точный вывод о том, кто из них командовал ротами в Германовке, невозможно: фамилия штаб-офицера в документах отсутствует.
Но нельзя не отметить: независимо от того, покорял ли Муравьев крестьян, он, конечно же, был полностью в курсе того, что происходило в Германовке в июле 1825 года. И события эти не могли не сказаться на его поведении. Заговорщик с девятилетним стажем, бывший офицер-семеновец, гуманист, падавший в обморок при виде телесного наказания, мечтавший об улучшении положения крестьян и солдат, – он ничего сделал для того, чтобы приказ Гебеля не был исполнен.
* * *
Можно однозначно сказать, что никому из офицеров-черниговцев – ни будущим декабристам, ни тем, кто в декабре 1825 года сохранит верность престолу, – обязанности покорителей крестьян не нравились. За спокойствие крестьян отвечала земская полиция, и не дело офицера было брать эти функции на себя. К полицейским и жандармам российские дворяне в начале XIX века относились по большей части с презрением. Так, офицер-декабрист Николай Басаргин в начале 1820-х годов с негодованием отверг предложенную ему роль полицейского осведомителя[248]. Михаил Лунин в письмах к сестре из Сибири ставил знак равенства между «кретинизмом» и полицейско-шпионской деятельностью[249]. «Жандармы вместо уважения были во всеобщем презрении», – утверждал мемуарист Михаил Дмитриев[250].
События в Германовке не могли не сказаться на моральном климате в Черниговском полку. Офицеры, даже и те, кто непосредственно в покорении крестьян не участвовал, неминуемо должны были оскорбиться возложенной на них недостойной ролью. Полицейские обязанности марали черниговский мундир.
Однако в сложившейся ситуации офицеры повели себя по-разному. Штабс-капитан Антон Роменский, главный участник карательной операции, не допустивший пролития крестьянской крови, сразу же после германовской истории подал в отставку и сложил с себя обязанности ротного командира. Вместо Роменского ротным командиром стал Михаил Щипилло.
В восстании Черниговского полка Роменский не участвовал, в момент его начала находился в своем имении. Узнав о происшествиях в полку, он вернулся из имения, но решительно отказался принять сторону восставших. Солдаты 3-й мушкетерской роты говорили на следствии, что если бы Роменский «командовал ими далее, то и они не имели бы таковой участи». «Сказался больным» и его брат, подпоручик той же роты Климентий Роменский. Как и старший брат, он не принял участие в восстании черниговцев, отказавшись помогать восставшим в резкой форме[251].
Но далеко не все офицеры-черниговцы отреагировали на историю с Германовкой подобно Роменскому.
* * *
Сбор войск 3-го пехотного корпуса под местечком Лещин, начавшийся в августе 1825 года и происходивший почти одновременно с германовскими событиями, хорошо известен историкам декабризма. Известно, что Лещинский лагерь – время обострения революционной активности Васильковской управы. Именно в Лещине к Васильковской управе примкнуло Общество соединенных славян.
В ходе Лещинского лагеря произошла и резкая радикализация настроений офицеров-черниговцев – по-видимому, она была прямым следствием германовских событий. Некоторые из офицеров уже состояли в тайном обществе, другие вступили в него в ходе лагерей. Однако вступлением в общество дело не ограничилось: черниговцы оказались едва ли не самыми активными из присутствовавших в лагере заговорщиков. По-видимому, пылкость и решимость подчиненных вызвала испуг даже у Муравьева-Апостола.
Так, один из самых «пламенных» заговорщиков, поручик Кузьмин, например, «не расслышавши на совещании одном, о чем толковали и спорили, и, думая, что решили поднять весь корпус на другой день, объявил об этом своей роте и вышел на линейку в лагере в походной амуниции». А на упреки в поспешности ответил: «Черт вас знает, о чем вы там толкуете понапрасну! Все толкуете, конституция, “Русская Правда” и прочие глупости, а ничего не делаете. Скорее дело начать бы, это лучше всех ваших конституций».
Другой заговорщик, Иван Сухинов, сказал однажды Бестужеву-Рюмину, что «изрубит» его «в мелкие куски», если он и Муравьев-Апостол будут «располагать» им и его товарищами «по своему усмотрению». И при этом добавил, что они и сами могут «найти дорогу в Москву и Петербург»[252].
В итоге Муравьеву-Апостолу с трудом удалось удержать своих подчиненных от немедленного выступления.
Глава IV. Миссия генерала Эртеля
Все годы существования тайных обществ конкуренцию Пестелю в борьбе за лидерство составлял князь Сергей Трубецкой. М. Н. Покровский справедливо называл его «северным Пестелем по занимаемому им в заговоре положению», а М. В. Нечкина утверждала, что князь, не принимавший участия в написании всякого рода конституционных проектов, был однако крупной «организаторской фигурой», военным лидером движения[253].
Представитель знатного княжеского рода, он поступил на службу в 1808 году, участвовал в Отечественной войне и Заграничных походах, как и Пестель, получил несколько боевых орденов. В «битве народов» под Лейпцигом был ранен. По итогам компании стал поручиком. Послевоенная карьера князя Трубецкого выглядит вполне успешной. Служил он в самых привилегированных гвардейских полках – Семеновском и, затем, Преображенском, исполняя при этом должность старшего адъютанта Главного штаба. Декабрь 1825 года он встретил в чине полковника гвардии.
Основатель Союза спасения, один из руководителей Союза благоденствия, восстановитель общества – названного Северным – в 1823 году, он входил в кружок «Зеленая лампа», общался с Пушкиным, способствовал деятельности ланкастерских школ, организовывал 14 декабря, был назначен «диктатором» восстания – но на площадь не вышел.
Все годы существования заговора – за исключением двух лет, проведенных Трубецким в Англии и Франции – между ним и Пестелем существовал острый личный конфликт. Конфликт, впоследствии облаченный в идеологическую форму: в Пестеле Трубецкой усматривал диктатора, стремившегося к единоличной власти в заговоре. Себя же и своих сторонников князь видел борцами за демократические формы существования тайной организации.
Обострение отношений между Пестелем и Трубецким произошло в марте 1824 года. Пестель лично приехал в Петербург – чтобы установить контакт с северными лидерами, договориться о слиянии и о совместном выступлении с Северным обществом.
Эти совещания неоднократно попадали в поле зрения исследователей[254]. «Петербургские совещания 1824 года явились вехой крупнейшего значения во всем движении декабристов», – утверждала М. В. Нечкина, и с этим выводом невозможно спорить. Труднее согласиться с другим выводом исследовательницы – о том, что итоги этих совещаний «надо признать весьма значительными»[255]. Совещания закончились полным провалом, и это было самое серьезное поражение Пестеля за все годы его пребывания в заговоре.
Объединение обществ не состоялось. И не состоялось во многом потому, что участники Северного общества «опасались честолюбивых… видов или стремления к диктаторству» со стороны Пестеля. При этом самому Пестелю пришлось выслушать много нелестных слов о собственных методах руководства заговором на юге, о том, что он навязывает южным заговорщикам свое «диктаторство», требует от них «слепого повиновения».
Завершились совещания 1824 года знаменитым собранием северных заговорщиков на квартире декабриста Евгения Оболенского, на которое они пригласили и Пестеля.
«Главным предметом разговора было Временное правление, против которого говорил наиболее Трубецкой… Они много горячились, а я все время был хладнокровен до самого конца, как ударил рукою по столу и встал», – показывал Пестель на следствии. По показанию же Трубецкого, перед тем, как хлопнуть дверью, южный лидер заявил: «Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и предполагает в другом личные какие виды, что последствие окажет, что таковых видов нет».
Матвей Муравьев-Апостол, который тоже участвовал в этом собрании, показал на следствии, что, ударив кулаком по столу, Пестель произнес: «Так будет же республика!». Этот же возглас со слов самого Пестеля воспроизвел в показаниях Александр Поджио. Однако сам председатель Директории в произнесении подобной фразы не признался.
Объединение двух обществ было отложено до 1826 года. «Разговаривали и разъехались», – таким видел Пестель окончательный итог «объединительных совещаний»[256]. Единственным реальным результатом пребывания Пестеля в столице стало образование так называемого «северного филиала» Южного общества.
Пестель попытался создать организацию, разделяющую его собственные программные и тактические установки. При этом он опирался на своих бывших однополчан-кавалергардов, многие из которых, к тому же, оказались выпускниками Пажеского корпуса. «Без наличия в Петербурге сильной организации, способной нанести решительный удар царской фамилии, захватить правительственные учреждения, провозгласить республику и объявить Временное правительство, восстание было бессмысленным и заранее обреченным на разгром», – справедливо утверждает историк С. Н. Коржов[257].
К этому следует добавить, что подобная организация должна была быть предана лично Пестелю – и в случае победы революции в столице могла бы помочь ему достичь «высшей власти» в новой российской республике.
Согласно новейшим исследованиям, в состав филиала до конца 1825 года был принят 21 человек[258]. «Тайну» своей организации члены филиала не смогли скрыть от северных лидеров. Вскоре после отъезда Пестеля из Петербурга в филиале началась борьба за власть, перешедшая в полное безвластие и практически полностью парализовавшая деятельность организации. В результате многие члены филиала, извещенные о готовящемся выступлении 14 декабря 1825 года, оказались в этот день в рядах верных властям войск и принимали участие в подавлении мятежа[259].
* * *
Служба Трубецкого в последний перед арестом год – пожалуй, самая яркая страница его служебной биографии. Полковник Преображенского полка и старший адъютант Главного штаба, в декабре 1824 года он был назначен дежурным штаб-офицером 4-го пехотного корпуса со штабом в Киеве, а в феврале 1825 года приступил к своим обязанностям. Корпус, в котором он служил, входил в состав 1-й армии. Армией командовал генерал от инфантерии граф Фабиан Остен-Сакен; начальником армейского штаба был генерал-лейтенант барон Карл Толь. Главная квартира армии располагалась в городе Могилеве. Собственно, именно в составе этой армии и был Черниговский полк, входивший в соседний, 3-й пехотный корпус.
Место дежурного штаб-офицера в 4-м корпусе Трубецкому предложил вновь назначенный командир этого корпуса, генерал от инфантерии князь Алексей Щербатов, с которым полковник познакомился в Париже. «Когда князь Щербатов, будучи назначен корпусным командиром, предложил мне ехать с ним, то я, с одной стороны, доволен был, что удалюсь от общества, с другой – хотел и показать членам, что я имею в виду пользу общества и что там я могу ближе наблюдать и за Пестелем», – сообщал Трубецкой следователям[260]. Свидетельству этому вряд ли стоит доверять. «Удаляться» от общества князь не собирался. И события декабря 1825 года – яркое тому подтверждение.
Между тем, соглашаясь ехать в Киев, князь не просто принимал предложение Щербатова. Назначение Трубецкого было явно «продавлено» сверху: он был не единственным кандидатом на эту должность. За своего племянника, гвардейского капитана, просил командир Отдельного кавказского корпуса Алексей Ермолов, его просьбу поддержал генерал Толь[261]. Однако император «высочайше отозвался, что вообще, а при 4-м корпусе особенно, по расположению оного в Киеве, находит нужным иметь дежурного штаб-офицера, знающего твердо фронтовую службу»[262]. У ермоловского племянника опыта «фронтовой службы» не было: он служил адъютантом у Остен-Сакена.
Однако и опыт Трубецкого по фронтовой части был весьма скуден: в мае 1819 года он перешел из строевой службы в Главный штаб. И для того, чтобы его кандидатура была утверждена в обход просьб Ермолова и Толя, необходима была сильная поддержка. Впоследствии, уже после 14 декабря, Щербатов объяснял армейским властям, что взял Трубецкого к себе потому, что он пользовался уважением «своих начальников и даже самого покойного государя императора, изъявленным его величеством при определении его дежурным штаб-офицером»[263]. Иными словами, окончательное решение отправить Трубецкого в Киев принял опять-таки Александр I.
* * *
До Щербатова 4-м пехотным корпусом 1-й армии командовал знаменитый герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии Николай Раевский. Время, когда он, геройствуя на полях сражений, вдохновлял своей деятельностью поэтов и художников, давно прошло. В Киеве генералу решительно было нечем заняться. О том, как проводил время корпусный командир, читаем, например, в воспоминаниях Филиппа Вигеля: «Лет двенадцать не было уже в Киеве военного или генерал-губернатора. Первенствующею в нем особою находился тогда корпусный командир, Николай Николаевич Раевский, прославившийся в войну 1812 года. Тут прославился он только тем, что всех насильно магнетизировал и сжег обширный, в старинном вкусе, Елисаветою Петровной построенный, деревянный дворец, в коем помещались прежде наместники»[264]. А польский помещик Кржишковский сообщал в доносе на генерала: «Публика занялась в тишине соблазнительным магнетизмом и около года была совершенно заблуждена или не смела не верить ясновидящим и прочая, а более всего, что занимается магнетизмом заслуженный и первый человек в городе»[265].
В Киевской губернии действительно не было генерал-губернатора, и, таким образом, корпусный командир оказывался высшим должностным лицом. Раевского вовсе не интересовали его обязанности – но еще меньше они интересовали его подчиненных по «гражданской» части: губернатора Ивана Ковалева и обер-полицмейстера Федора Дурова. В губернаторской канцелярии процветало неконтролируемое взяточничество. В 1827 году было обнаружено, например, что секретарь Ковалева Павел Жандр, действуя, в основном, с помощью «откатов», в несколько лет присвоил себе денег на общую сумму 41 150 руб. При том, что жалование, например, армейского капитана составляло 702 рубля в год[266]. Конечно, и сам губернатор Ковалев в убытке явно не оставался.
Преступность в городе была высокой. Одним из самых распространенных преступлений было кормчество – незаконное производство и незаконная же торговля спиртными напитками, прежде всего, водкой. Монополия на это в начале XIX века принадлежала государству, частные лица покупали или, как тогда говорили, откупали у государства право на розничную торговлю. Система откупов порождала желание торговать водкой, не платя за это денег государству. Кормчество вызывало к жизни целые преступные сообщества, занимающиеся незаконным производством водки, ее оптовой закупкой, ввозом в город и последующей розничной перепродажей.
В 1824 году управляющий киевскими питейными сборами Павел Баранцов доносил начальству: «Жители киевские… увеличивают шайки свои многолюдием и, запасаясь всякого рода орудиями, как то: пиками, саблями, пушечными ядрами, топорами, косами и дрючьями, повседневно ввозят в город корчемного вина (по-видимому, имеется в виду «хлебное вино» – разновидность водки. – О.К.) целыми транспортами». Выяснилось к тому же, что в этих «шайках» участвуют и солдаты – играя роль своеобразной охраны корчемников.
Баранцов «входил неоднократно с просьбами к разным лицам» «о всех таковых обидах, откупом терпимых… и просил законной защиты», но все его просьбы, по его словам, «остались поныне без удовлетворения». Из чего управляющий сделал закономерный вывод, что «полиция, очевидно, дает повод и послабление к дальнейшему кормчеству»[267].
Не лучше выглядела и обстановка, так сказать, общественно-политическая. В 1820-х годах в Киеве обреталось множество всяких подозрительных для властей личностей. Особая их концентрация наблюдалась на знаменитых январских контрактовых ярмарках («контрактах») – торгах, на которых заключались контракты на поставки для армии. На ярмарки приглашались все желающие, съезжались окрестные помещики. В ходе контрактов шла активная игра в запрещенные законом азартные игры, возлияния часто бывали неумеренными, помещики и офицеры ссорились и дуэлировали, иногда дело доходило и до банальных драк.
Так, известна история января 1821 года, когда командир Вятского пехотного полка полковник Павел Кромин, проезжая во время контрактов через Киев, имел «историю» с отставным титулярным советником Щитковым, заядлым игроком в карты. Кромин взял в долг у Щиткова 750 рублей, потом не захотел их отдавать – и в результате произошла банальная драка. В ходе драки Щитков первый «ударил его, Кромина», а полковник, «ухватив Щиткова за грудь», бил его «кулаком по носу, так что от ударов показалась кровь»[268]. «История» эта стала известна военному начальству отнюдь не потому, что ею заинтересовалась местная полиция. Прежде, чем о поведении Кромина и Щиткова узнали Раевский, Ковалев и полицмейстер Дуров, об этой истории «партикулярно» был извещен сам император Александр I. Расследование было начато только после прямого императорского распоряжения.
Оно завершилось отставкой Кромина и назначением на его место Пестеля.
С 1823 года была установлена слежка за картежниками, ни к чему, однако, не приведшая. Полицмейстер Дуров, сам любивший поиграть в азартные игры, рапортовал по начальству, что помещики «приезжали сюда по своим делам домашних расчетов в контрактовое время» и играли в карты «вечерами в своих квартирах, к коим временами съезжались знакомцы и также занимались в разные игры, но значительной или весьма азартной игры, а также историй вздорных чрез оную не случалось во все время»[269].
Кроме того, в Киеве активно действовали масоны, не закончившие свои собрания после императорского указа о запрещении масонских лож и тайных обществ (1822). В Петербург постоянно шли доносы на них, доносили о том, что «якобы существовавшая в Киеве масонская ложа не уничтожена, но переехала только из города в предместье Куреневку»[270]. Но проводившая по этому поводу следствие местная администрация ложи не обнаружила. «С того времени, как последовало предписание о закрытии существовавшей здесь ложи, она тогда же прекратилась, и могущие быть общества уничтожились, особенных же тайных сборищ по предмету сему здесь в городе и в отдаленностях окрестных, принадлежащих к городу по его пространству, никаких совершенно не имеется», – доносил Дуров Ковалеву.
Особенную тревогу высших должностных лиц империи вызывали жившие в Киеве и его окрестностях поляки: их считали априорно виновными в антироссийских настроениях. Ковалеву и Дурову было поручено следить и за ними. Однако и эта слежка ни к чему не привела. «Суждений вольных я не заметил, кои были предметом моего наблюдения», – рапортовал Дуров своему начальнику. Польские помещики «ведут себя скромно и осторожно, стараются даже показывать вид особенной к правительству преданности», – докладывал Ковалев императору[271].
В Киеве начала 1820-х годов можно было обнаружить не только корчемников, масонов, азартных игроков и неблагонадежных поляков. Киев был излюбленным местом встреч Пестеля со своими сподвижниками – на контрактах проходили так называемые «съезды» руководителей Южного общества.
Кроме того, под Киевом, в Василькове служил подполковник Муравьев-Апостол. Он вел опасные разговоры, вообще не опасаясь преследования: проведя кампанию 1814 года «при генерале от кавалерии Раевском», участвуя вместе с ним в боях за Париж, он был своим человеком в киевском доме генерала. Кроме того, Муравьев-Апостол был не чужд и увлечения магнетизмом[272].
* * *
В марте 1823 года киевскому безвластию пришел конец: на должность генерал-полицмейстера 1-й армии был назначен генерал от инфантерии Федор Эртель. Первым заданием, которое он получил от армейского командования, было задание разобраться с ситуацией, сложившейся в Киеве.
Имя генерала Эртеля, в конце XVIII – начале XIX веков московского, а затем петербургского обер-полицеймейстера, а в 1812–1815 годах – генерал-полицеймейстера всех действующих армий, наводило на современников ужас. Согласно мемуаристу Филиппу Вигелю «сама природа» создала Эртеля «начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться… Все знали… что он часто делал тайные донесения о состоянии умов… всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы». И даже те немногие современники, которые приветствовали полицейскую деятельность генерала, видя в ней точное исполнение «воли монарха» и собственных служебных обязанностей, признавали: Эртель любил действовать тайно, «невидимо» и жестоко. В Москве у него была целая шпионская сеть, состоящая из «знатных и почтенных московских дам», получающих за свою работу крупные суммы[273].
Сам Эртель в своей автобиографической записке сообщал, что был послан в Киев «1-е) для следствия о корчемниках, убивших трех и ранивших шесть человек; 2-е) для открытия масонской ложи с членами; 3-е) для отыскания азартных игроков»[274]. Действия Эртеля по наведению порядка в городе, по прекращению «криминального разврата», были активными и успешными.
Искореняя кормчество, Эртель привлек к наблюдению за корчемниками платных агентов – нижних чинов из 3-го и 4-го пехотных корпусов. Вскоре это принесло результаты. По делу о корчемстве было арестовано около 100 человек: в основном солдат и мещан. Под суд попали 11 офицеров – начальников военных подразделений, чьи солдаты активно занимались кормчеством.
В Петербург Эртель регулярно присылал списки «подозреваемых в азартных картежных играх, которые здесь в Киеве живут только временно, а по большей части по большим ярмонкам во всей разъезжают России». Среди «подозреваемых» оказался, кстати, и родной брат киевского полицмейстера Дурова. По ходу следствия о картежниках было решено от лиц, «в списке поименованных… отобрать… подписки, коими обязать их иметь постоянно и безотлучно свое пребывание в местах, какие себе изберут, и что ни в какие игры играть не будут, затем, поручив их надзору местных полиций, отнять у них право выезжать по чьему бы то ни было поручительству».
Наибольший интерес Эртеля вызвала слежка за масонами. Основываясь на тайных розысках, генерал выяснил, что «коль скоро воспоследовал указ 1822 года августа 1-го о закрытии тайных обществ, тотчас киевские ложи прекратили свое существование», однако от закрытых лож «можно сказать, пошли другие отрасли масонов». Секретная деятельность масонов, согласно собранным Эртелем сведениям, заключалась в том, что они магнетизировали друг друга, давали друг другу деньги в долг, ели на масленицу 1824 года «масонские блины», а за год до этого собирались «каждое воскресенье по полудни в пять часов» и гуляли во фруктовом саду «до поздней ночи».
Конечно же, деятельность киевских масонов никакой опасности для государства не представляла. Однако Эртель всеми силами стремился доказать, что на самом деле они занимаются «подстреканием революции». Руководил же этими «подстрекателями», по мнению генерал-полицмейстера, корпусный командир генерал Раевский: «Отставной из артиллерии генерал-майор Бегичев тотчас по уничтожении масонов прибег к отрасли масонского заговора, то есть… открыл магнетизм, которому последовал и г. генерал Раевский со всем усердием, даже многих особ в Киеве сам магнетизировал», – сообщал он в марте 1824 года в Могилев, в штаб 1-й армии.
Ведя полицейскую и разведывательную деятельность, регулярно докладывая о ней в штаб 1-й армии и лично императору, Эртель постоянно выносил, так сказать, «частные определения» в адрес местных – военных и гражданских – властей. «Военная полиция не имеет никаких чиновников, а на тамошнюю гражданскую полицию нельзя положиться, чтобы ожидать желаемого успеха»; «происшествия (связанные с кормчеством. – О.К.)… суть следы послабления местного гражданского начальства»; «обыватели, не имея примеров наказаннности, полагали простительным, а воинские чины, видя частое их упражнение и будучи ими же подучаемы, не вменяли себе в преступление кормчество. Но отлучка их по ночам на 5 верст за город означает слабость употребленного за ними надзора ближайших начальников», – резюмировал генерал-полицмейстер. Соглашаясь с мнением Эртеля о ненадежности киевских властей и полиции, армейское начальство командировало в его распоряжение целый штат следователей и полицейских[275].
Расследование Эртеля закончилось для Раевского в ноябре 1824 года увольнением в отпуск «для поправления здоровья» – но всем было понятно, что к обязанностям корпусного командира он больше не вернется. «Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не приходится корпусному командиру знакомиться с магнетизмом»[276], – констатировал хорошо знавший генерала Матвей Муравьев-Апостол. Вскоре на место скомпрометировавшего себя гипнотизера был назначен Алексей Щербатов.
Исследователей, изучающих деятельность генерал-полицмейстера, ставит в тупик простой вопрос. Как могло случиться, что он, полицейский с огромным опытом, ловя картежников, поляков и масонов, не сумел разглядеть у себя под носом военный заговор с цареубийственными намерениями? У Эртеля в 1825 году был неплохой шанс вмешаться в ход истории, предотвратить и Сенатскую площадь, и восстание Черниговского полка. Однако факт остается фактом: ни в одном известном на сегодняшний день донесении генерал-полицмейстера фамилия Сергея Муравьева-Апостола не упоминается. А следствие о «тайном обществе» так и ограничилось поисками масонов и магнетизеров.
О причинах этой роковой ошибки можно только гадать. Но гадать следует в совершенно определенном направлении.
* * *
Приезд Эртеля и отставка Раевского не смогли заставить Сергея Муравьева-Апостола стать осторожнее. И он сам, и его сподвижники по-прежнему часто бывали в Киеве и вели там громкие и опасные разговоры – гласно, открыто и, в общем, никого не опасаясь. Почти открыто Васильковская управа проводила переговоры с Польским патриотическим обществом.
Когда Эртель появился в Киеве, под его подозрение сразу же попали люди, входившие в ближайшее окружение Муравьева-Апостола. Руководитель Васильковской управы тесно общался с «подозрительным» поляком, масоном и магнетизером графом Александром Хоткевичем – и именно от него южные заговорщики узнали о существовании Польского патриотического общества.
Активная слежка была установлена и за другим поляком и масоном, киевским губернским предводителем дворянства (маршалом) Густавом Олизаром – близким другом Сергея Муравьева, известным своими вольнолюбивыми взглядами. Олизар был весьма близок к семейству генерала Раевского, в 1823 году сватался к его дочери Марии, но получил отказ – по «национальным» соображениям. Отказ этот Олизар переживал весьма болезненно, и Муравьев был одним из «утешителей» поляка.
Когда весной 1824 года Олизар поехал в столицу, Толь извещал начальника Главного штаба Дибича: «Легко быть может, что цель поездок графа Олизара есть та, чтоб посредством тайных связей или членов своих… выведать о последствиях поездки генерала Эртеля и стараться отвращать меры, которые против сего принимаемы будут». Следить за Олизаром следовало прежде всего для выявления круга его общения – как в Киеве, так и в Петербурге. Толь оказался прав: Олизар рассказал о приезде Эртеля всем своим столичным знакомым. В столице он пробыл около месяца, после чего был выслан обратно в Киев без объяснения причин.
В списке масонов, пересланном Эртелем в Петербург, оказались два бывших адъютанта Раевского, участники Союза благоденствия Алексей Капнист и Петр Муханов. Капнист был близким родственником Муравьева, а Муханов – его светским приятелем. Кроме того, в списки Эртеля попал руководитель Кишиневской управы заговорщиков Михаил Орлов. Сам Муравьев-Апостол, бывший семеновец, регулярно входил в списки «подозрительных» офицеров 1-й армии; за ним предписывалось иметь особый бдительный надзор[277].
Трудно сказать, осознавал ли руководитель Васильковской управы степень грозившей ему опасности. Однако его многочисленные родственники, друзья и столичные соратники по заговору, узнав от Олизара о «секретной» миссии Эртеля, быстро поняли: опытный сыщик, он скоро обнаружит и реальный, а не мифический масонский заговор.
«Вскоре по первом приезде генерала Эртеля разнесся слух, что он имеет тайное повеление разведать о заведенном на юге обществе, к которому принадлежал будто бы и подполковник Муравьев, – все меры, принятые г. Эртелем, то свидетельствовали», – показывал на допросе Муханов. Другой заговорщик, Петр Свистунов, услышав, что Эртель послан в Киев «для надзора над поляками», «заключил, что должны быть сношения между поляками и Обществом юга».
У жившего же в 1824 году в столице старшего брата Сергея Муравьева-Апостола, Матвея, известие о назначении Эртеля вызвало настоящую истерику. На следствии Матвей Муравьев показывал: узнав, что «генерал от инфантерии Эртель в Киев приехал и что никто не знает, зачем он туда послан», он решил, что его брата арестовали – тем более, что уже несколько недель не получал от Сергея писем.
Своими опасениями Матвей Муравьев-Апостол поделился с Пестелем, который весной 1824 года проводил в столице «объединительные совещания». «Я видел Пестеля и сказал ему что, верно, Южное общество захвачено, и что надобно бы здесь начать действия, чтобы спасти их. Пестель мне сказал, что я хорошо понимаю дела», – показывал Матвей, задумавший для спасения брата немедленно убить императора. «Я с ним соглашался, что ежели брат его захвачен, то, конечно, нечего уже ожидать», – подтверждал Пестель на следствии.
Вскоре Матвей Муравьев-Апостол получил письмо от брата, и вопрос о немедленном цареубийстве и восстании был снят с повестки дня. Однако спустя несколько месяцев, в октябре 1824 года, Матвей опять предупреждал Пестеля и других, чтобы они «были осторожны, что в Киеве живет генерал Эртель нарочито, чтоб узнавать о существующем тайном обществе, кое уже подозреваемо правительством». Пестель же, вернувшись из Петербурга на юг, осенью 1824 года отстранил Бестужева и Муравьева от переговоров с Польским патриотическим обществом – за нарушение правил конспирации[278].
Очевидно, Трубецкой, как и другие заговорщики, узнал подробности киевской деятельности Эртеля в связи с визитом в столицу графа Олизара. В его показаниях содержится любопытное свидетельство о встрече с поляком: «Г[осподин] Олизар приезжал сюда, кажется, в 1823 году; я встретился с ним, и меня познакомили, и сказали, что он очень влюблен в одну из дочерей генерала Раевского, который не соглашается отдать ее за него… Он мне сделал визит. Между тем, осведомился я также, что он здесь в подозрении, потому что слишком вольно говорит, я дал ему о сем сведение, прося, чтобы меня ему не называли, но посоветовали бы ему быть осторожным. Тем сношения мои с ним и ограничились»[279].
Показания эти примечательны. Во-первых, Трубецкой был прав – за Олизаром действительно следили, и следили активно. Слежку эту по просьбе генерала Толя организовали Дибич и дежурный генерал Главного штаба Потапов – а непосредственно курировал столичный обер-полицмейстер генерал-лейтенант Иван Гладков[280]. Во-вторых, к секретной информации об этой слежке имел доступ Трубецкой: скорее всего, ею поделились с ним его начальники по Главному штабу Дибич и Потапов.
Примечательна и дата встречи, которую называет Трубецкой, – по его словам, Олизар приезжал, «кажется, в 1823 году». Конечно, в данном случае князь откровенно водил следствие за нос: Олизар приехал в разгар петербургских «объединительных совещаний» 1824 года – неудачной попытки договориться с Пестелем о совместной деятельности двух тайных организаций. Последствием этого приезда был «цареубийственный» план Матвея Муравьева-Апостола, поддержанный тем же Пестелем. Участник всех этих событий, Трубецкой не мог просто так «забыть» год приезда опасного поляка. С полной уверенностью можно утверждать, что, давая показания, Трубецкой не желал, чтобы в сознании следователей встреча с Олизаром как-то увязалась с его отъездом в Киев.
Однако очевидно, что решение князя поехать в Киев было, скорее всего, результатом этой встречи и последовавших за нею событий. Принимая должность в штабе Щербатова, Трубецкой не мог не понимать: эта авантюрная поездка вполне могла обернуться для него катастрофой. Но деятельность Эртеля угрожала не только Сергею Муравьеву, его давнему, близкому другу и однополчанину. Она несла в себе смертельную угрозу тайному обществу. Служба в Киеве давала князю шанс спасти заговор – дело всей его жизни.
Очевидно, именно поэтому Трубецкой проявил немалую настойчивость, добиваясь для себя должности в Киеве.
* * *
Обязанности Трубецкого по новой должности состояли в том, чтобы инспектировать входившие в корпус воинские подразделения, наблюдать за личным составом корпуса. Дежурный штаб-офицер мог – «за упущение должности» – арестовывать обер-офицеров, а нижних чинов «за малые преступления» – просто наказывать без суда. Он был обязан «наблюдать за охранением благоустройства и истреблением бродяжничества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малейшего ропота против начальства»[281]. Собственно, дежурному штаб-офицеру подчинялся обергевальдигер, главный полицейский чин корпуса.
Непосредственным начальником Трубецкого был начальник корпусного штаба, генерал-майор Афанасий Красовский. Красовский служил в действительной службе с 1795 года, участвовал в Отечественной войне и заграничных походах, был награжден – за храбрость – чинами и орденами и несколько раз ранен. Получив в 1819 году «для излечения от ран» позволение состоять по армии, Красовский, несмотря на неоднократные предложения, отказывался вернуться в действительную службу. В армии знали: он устал, дают себя знать старые раны и «нервическая горячка», и он только ждет случая, чтобы оставить службу[282].
В мае 1823 года он был назначен начальником штаба 4-го корпуса – но вскоре снова стал проситься в отставку. В 1824 году военные власти решали вопрос о том, в какой форме Красовскому следует дать возможность заниматься собственным здоровьем. Император, ценивший генерала, «высочайше повелеть соизволил… вместо увольнения генерал-майора Красовского вовсе от службы, отпустить его в отпуск до излечения ран с произвождением жалованья»[283].
Настаивая на назначении Трубецкого на должность дежурного штаб-офицера, начальник Главного штаба Дибич понимал, конечно, что должность эта временная для старшего адъютанта. Красовский служить не хотел, и в случае его отсутствия полковник Трубецкой должен будет исполнять его обязанности. Так и произошло: уехав в июне 1825 года из Киева, Красовский спокойно передал дела дежурному штаб-офицеру[284]. По-видимому, и сам Красовский желал передать свою должность Трубецкому: отношения между ними стали доверительными и дружескими с самого приезда полковника в Киев.
Таким образом, есть все основания полагать, что – не случись восстания 14 декабря – Трубецкого ожидало скорое повышение по службе и, возможно, генерал-майорский чин.
В 1825 года, при явном попустительстве начальника корпусного штаба, в руках Трубецкого сконцентрировалась немалая власть – и прежде всего власть полицейская. Причем не только над войсками 4-го корпуса, но – поскольку генерал-губернатор в Киеве отсутствовал – и над городом. Принимая назначение в Киев, Трубецкой не потерял и должности старшего адъютанта Главного штаба – а потому был практически независим от киевских властей. И мог сообщать обо всем напрямую в Петербург, в Главный штаб. Полномочия Трубецкого во многом сомкнулись с полномочиями Эртеля.
В начале своей деятельности в Киеве генерал-полицмейстер сетовал, что ни среди киевских полицейских, ни в 4-м корпусе нет «надежного чиновника», который мог помочь ему проводить следствие[285]. Очевидно, что в 1825 году такой «чиновник» нашелся – и им оказался князь Трубецкой. Как видно, например, из дел по кормчеству, Трубецкой активно помогал генералу в расследовании.
Правда, полицейская деятельность Трубецкого по крайней мере один раз чуть не была сорвана. После высылки из Петербурга в Киеве появился Олизар. Доверчивый и пылкий граф, так и не справившийся со своими душевными переживаниями, принялся с благодарностью рассказывать о Трубецком, предупредившем его о петербургской слежке. «В бытность мою в Киеве я узнал от Бестужева (Бестужева-Рюмина. – О.К.), что Олизар хвалился мной, что я ему оказал услугу и что сие доведено было до сведения общества в Варшаве (Польского патриотического общества. – О.К.)». И «на поступке сем основались, чтоб удостоверить членов Польского общества, что члены русского помогают полякам». Именно поэтому Трубецкой счел невозможным возобновить в Киеве петербургское знакомство с Олизаром[286].
Тут стоит, однако, отметить, что информация, привезенная из столицы Олизаром, из круга заговорщиков, по-видимому, все же не вышла. Разделивший с Эртелем полицейские труды, дежурный штаб-офицер остался вне подозрений.
Трубецкой, конечно же, сделал все, чтобы спасти от разгрома Васильковскую управу и ее руководителя. О том, каким конкретно образом князь смог вывести своего друга из-под удара и спасти заговор, исследователи, наверное, уже никогда не узнают. Но в одном из своих «оправдательных» рапортов, написанном в конце декабря 1825 года, корпусный командир Щербатов утверждал: «Все сведения, полученные мною как от начальника корпусного штаба генерал-майора Красовского… так и от здешнего губернатора Ковалева, удостоверили меня, что как в войске, так и в городе не замечено никаких собраний ни разговоров, сумнению подлежащих»[287].
8 апреля 1825 года 58-летний Эртель умер. Смерть его была загадочной: чувствуя симптомы болезни, лихорадку, он, тем не менее, отправился на пасху в Могилев, в штаб 1-й армии. И скончался по приезде в этот город. Независимо от того, была ли эта смерть естественной или насильственной, она оказалась на руку Трубецкому (в киевской квартире которого при обыске была найдена банка с мышьяком)[288].
Следственные дела, которые Эртель не успел довести до конца, после его смерти просто перешли в руки дежурного штаб-офицера 4-го корпуса. Так, с июня 1825 года Трубецкой фактически руководил разбирательством по кормчеству, давал предписания соответствующей военно-судной комиссии, получал из нее копии допросов арестованных и т. п.[289] Расследование же о «неблагонадежных» картежниках, поляках и масонах во 2-й половине 1825 года странным образом вообще остановилось.
Заговорщики после смерти Эртеля могли действовать, вообще никого не опасаясь.
* * *
Объясняя на следствии свой переезд в Киев, странный с точки зрения обычной логики шаг (для гвардейского полковника такой перевод был серьезным понижением статуса), он утверждал: «Хотел я показать членам, что я имею в виду пользу общества, и что там я могу ближе наблюдать за Пестелем», «я намерен был ослабить Пестеля»[290]. По всей видимости, в ходе «объединительных совещаний» Трубецкой понял: Пестель действительно готов к серьезным и решительным действиям. И вполне может отобрать у него лавры организатора русской революции. Этого честолюбивый заговорщик допустить никак не желал.
В борьбе против Пестеля он сделал ставку на Сергея Муравьева-Апостола и его друга Бестужева-Рюмина.
Правда, идея активно использовать в этой борьбе Бестужева-Рюмина провалилась. «Я видел, – показывал князь, – что хоть он (Бестужев-Рюмин. – О.К.) и не доверяет во многом Пестелю, в коем он видит жестокого и властолюбивого человека, но между тем обольщен его умом и убежден, что Пестель судит весьма основательно и понимает вещи в их настоящем виде. Я старался оспаривать принятые Бестужевым мысли Пестеля понемногу, чтоб тем вернее достичь моего намерения»[291]. Трубецкой хотел сделать Бестужева своим «агентом» во вражеском стане, поручил ему «наблюдать за Пестелем»[292].
Однако когда, основываясь на показаниях Трубецкого, следователи задали Бестужеву вопрос: «что побуждало их (заговорщиков. – О.К.) к сему наблюдению и что вы успели заметить особенного в поступках Пестеля», в ответ они получили резкую и эмоциональную отповедь. «Я не знаю, что комитет разумеет под словом наблюдать. Намерения его были нам известны; – шпионить же за ним не было нужно, и никто бы сего не осмелился мне предложить», – написал он[293].
Зато в Муравьеве-Апостоле князь обрел верного союзника.
Трубецкой и Муравьев-Апостол знали друг друга давно: они вместе воевали, вместе служили в Семеновском полку, вместе основывали первое тайное общество – Союз спасения, вместе участвовали и в Союзе благоденствия. И когда Трубецкой в начале 1825 года оказался в Киеве, его дружеское общение с Муравьевым тут же возобновились. Причем общение это было столь тесным, что дало историкам повод полагать, будто Трубецкой не устоял против муравьевской харизмы и согласился исполнять предложенный васильковским руководителем план действий[294].
Однако это точка зрения не выдерживает критики. Согласно документам, и прежде всего следственным показаниям Трубецкого и Сергея Муравьева-Апостола, северный лидер умело использовал как тактические противоречия Пестеля и Муравьева, так и революционную решительность руководителя Васильковской управы южан. План Муравьева-Апостола Трубецкой подкорректировал в соответствии со своими тактическими разработками.
В течение 1825 года Муравьев и Трубецкой разработали совместный план, который в показаниях Муравьева выглядел следующим образом: «В конце 1825-го года, когда он (Трубецкой. – О.К.) отъезжал в Петербург, препоручено ему было объявить членам Северного общества решение начинать действие, не пропуская 1826-й год, и вместе просьбу нашу, чтобы и они по сему решению приняли свои меры. Пред отъездом же Трубецкого в Петербург было положено, в случае успеха в действиях, вверить Временное правление Северному обществу, а войски собрать в двух лагерях, одном под Киевом, под начальством Пестеля, другом под Москвою, под начальством Бестужева; а мне ехать в Петербург».
Согласно этому плану разработка «своих мер» в столице полностью входила в компетенцию Трубецкого и Северного общества. Пестель выводился из игры: ему предоставлялось поднять 2-ю армию и вести ее на Киев – для того, чтобы «устроить там лагерь». Главный элемент муравьевского плана – революционный поход на Москву – сохранялся, и 3-й корпус под командой Бестужева-Рюмина должен был идти туда, «увлекая все встречающиеся войска».
Центральным очагом революции становился Петербург, куда – для того, чтобы командовать гвардией, – должен был отправиться сам Сергей Муравьев. В целом, план вполне мог удовлетворить честолюбивые устремления и Муравьева, и Бестужева-Рюмина.
Но вряд ли даже и в измененном виде план этот на самом деле устраивал Трубецкого. Документы свидетельствуют: Трубецкой не был откровенен с Муравьевым-Апостолом, а зачастую просто обманывал его.
«Мне не нравился план действия их (Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина. – О.К.), но я о том не говорил им, и, напротив, оказал согласие действовать по оному, имея в мысли, что он может быть переменен», «при отъезде моем из Киева я обещал и Сергею Муравьеву-Апостолу, и Бестужеву-Рюмину, что я и в Петербурге, и в Москве все устрою по их желанию. – Но здесь я никого не убеждал к исполнению требований Южного общества», – скажет диктатор на следствии[295].
Судя по всему, Муравьев-Апостол был важен Трубецкому прежде всего как орудие борьбы против Пестеля. Кроме того, 3-й пехотный корпус, в котором Васильковская управа вела активную пропагандистскую работу, мог быть весьма полезен в случае начала революционных действий. Но во главе петербургской гвардии Трубецкой видел не подполковника Муравьева-Апостола, а гораздо более влиятельного и популярного в армии заговорщика – жившего в Москве генерала Михаила Орлова. Орлова Трубецкой пригласил в декабре 1825 года приехать из Москвы в Петербург и возглавить столичное восстание – а следовательно, движение на Москву в качестве серьезного элемента плана диктатор не рассматривал.
Подпоручик Бестужев-Рюмин вовсе не мыслился Трубецким в качестве руководителя идущих с юга революционных войск; войска же эти не должны были состоять только из одного 3-го пехотного корпуса. Свои основные надежды князь связывал с 4-м пехотным корпусом, в котором служил в качестве дежурного штаб-офицера. Согласно документам союзником северного лидера был сам корпусный командир, генерал от инфантерии князь А. Г. Щербатов[296].
В ноябре 1825 года Трубецкой оказался в столице. Оказался случайно, приехав в краткосрочный отпуск. Причина этого отпуска была частной, семейной. Брат его жены, корнет лейб-гвардии Конного полка Владимир Лаваль, проигравшись в карты, покончил жизнь самоубийством[297]. Собственно, целью поездки князя в столицу было свидание с убитыми горем родителями жены. Однако в Петербурге Трубецкой услышал о смерти Александра I – и решился дождаться развязки событий.
* * *
19 декабря 1825 года главнокомандующий 1-й армией Остен-Сакен получил известие о восстании на Сенатской площади. Узнал он о нем, что называется, «из первых рук»: в Могилев из столицы вернулся начальник армейского штаба генерал Карл Толь. Толь не только был свидетелем восстания, но и принимал участие в первых допросах арестованных – в частности, в допросе Трубецкого.
Основываясь на рассказе Толя и собранных Эртелем сведениях, Сакен написал письмо князю Щербатову. Главнокомандующий поведал, что с помощью «секретного разведывания» «обнаружено было существование тайного союза в Киеве», цель которого, «по основательному подозрению, клонилась к ниспровержению законной императорской власти». «Сомнения сии оправдались ныне совершенно. Союз обнаружен, и часть сообщников созналась. Остается теперь открыть весь круг преступного общества сего», – констатировал Сакен. Корпусному командиру был передан личный приказ нового императора – «принять самые деятельные, но осторожные меры к открытию дальнейших отраслей сего союза, части коего существуют точно в 4-м пехотном корпусе».
Сообщая Щербатову об аресте его подчиненного, Сакен утверждал: «Сколь мало можно верить в нынешнее время окружающим, это показывает дежурный штаб-офицер вверенного вам корпуса князь Трубецкой, один из главных участников заговора, который, будучи изобличен, пав к стопам государя, сам во всем сознался и теперь содержится в крепости впредь до окончания дела»[298].
Тогда же, вернувшись из столицы, генерал Толь написал письмо Красовскому. В письме содержались весьма справедливые упреки: «Опыт настоящих происшествий показал, что несомненная уверенность в общей правоте есть слабость, пагубная для общего блага. Везде оказались отрасли злонамеренных. Замыслы их давно б были уничтожены, если бы они были преследуемы подозрением, и начальство не имело слепой доверенности. А потому я нахожу, что лучше везде подозревать, нежели отвергать всякую мысль злонамерения. Вы, конечно, более уверились теперь в необходимости правила сего, ибо к кому был ближе кн. Трубецкой, как не к вашему превосходительству (курсив мой. – О.К.)? Правота подозрением нимало не может оскорбиться. Я сам нисколько не почел бы обидою для себя, если бы у меня был сделан осмотр бумаг моих; напротив того, долгом почту во всякое время представить готовность мою к открытию неприкосновенности моей»[299].
«Касательно князя Трубецкого я не имею слов изъяснить Вашему сиятельству моего удивления о его поступке… я никогда не мог вообразить, чтобы он мог участвовать в преступном заговоре», – оправдывался Щербатов в ответном письме Сакену. Про Красовского корпусный командир сообщал, что «его усердие и преданность к престолу» не подлежат сомнению[300].
Не веря корпусному начальству, подозревая и Щербатова, и Красовского в потворстве заговорщикам, начальство армейское отправило в Киев старшего адъютанта штаба 1-й армии, гвардии капитана Василия Сотникова – «могилевского шпиона», как его называли в городе. Сотникову предстояло «наблюдать образ мыслей и действия всех чинов корпусного штаба 4-го пехотного корпуса»[301].
Трудно сказать, удалось бы Сотникову обнаружить Васильковскую управу, не случись восстания Черниговского полка, или по-прежнему источником крамолы военные власти считали бы «недобитую» масонскую ложу. Однако события, произошедшие в ночь с 28 на 29 декабря 1825 года, начало южного восстания, сделали «тайные розыски» неактуальными: «наблюдать» Сотникову пришлось прежде всего за настроениями в городе.
Глава V. «План 1-го генваря»
Один из сложных вопросов современного декабристоведения – вопрос о конкретных планах действий декабристов в конце 1825 года.
Четкий план просматривается в действиях Пестеля: 1825 год прошел для него под знаком подготовки революционного похода. Несмотря на депрессию и усталость, от главного дела своей жизни он отказаться не мог. Пестель не знал, что 25 ноября 1825 года его подчиненный, капитан Майборода, передал на «высочайшее имя» донос на тайное общество. Но высокую вероятность такого доноса он не мог не учитывать.
Для того чтобы решить проблему взаимодействия с остальными руководителями заговора, в конце октября 1825 года он уходит с должности председателя Тульчинской управы Южного общества (должность эту он оставил за собой с момента основания общества). Председателем управы по его настоянию и с согласия Юшневского назначается штабс-ротмистр Александр Барятинский. Князь Барятинский, старший адъютант главнокомандующего Витгенштейна, был «слепо и беспрекословно» преданным Пестелю человеком.
Барятинский должен был находиться «в непосредственной зависимости» от постоянно присутствовавшего в Тульчине Юшневского, выполнять все его приказания. При назначении Пестель дал ему «наставления» «стараться поддерживать дух в членах, говорить с ними чаще о делах общества, и для того их по нескольку собирать». Главной же задачей нового председателя было «устроить коммуникацию» между Тульчином и Линцами[302].
Именно в это время из, в общем, аморфного состава Тульчинской управы выделяется, по определению С. Н. Чернова, «более или менее спаянный кружок» молодых офицеров-квартирмейстеров, лично преданных председателю Директории. Позже, на следствии, участники этого кружка проявят нехарактерные для большинства декабристов «выдержанность и крепость» – и это, по мнению Чернова, «показывает, какую надежную силу имел в своем распоряжении Пестель»[303].
Этот кружок, в который входили квартирмейстерские офицеры Н. А. Крюков, А. И. Черкасов, Н. А. Загорецкий, Н. Ф. Заикин, братья Н.С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины, признает начальство Барятинского, и его члены начинают осуществлять столь важную для успешного начала революции «коммуникацию»[304].
Представляется, что активность эта была обусловлена не только необходимостью осуществлять связь между главными действующими лицами заговора. Уместно предположить, что именно им предстояло проложить мятежной армии маршрут на столицу. В задачу квартирмейстеров входило прежде всего определение «военных дорог» – дорог, по которым предстояло двигаться армии. Они же должны были выяснить места возможных стоянок войск, пути подвоза к этим местам продовольствия – без исполнения такой миссии поход не мог даже и начаться.
И тульчинским квартирмейстерам была в 1825 году предоставлена неплохая возможность исполнять эти обязанности: и в окрестностях Тульчина, и в Подольской и Киевской губернии шли топографические съемки местности, в которых все они так или иначе были задействованы[305]. Обязанности по заговору, таким образом, они могли исполнять почти легально, свободно передвигаясь по тем губерниям, по которым должна балы пройти мятежная армия. Сохранилось свидетельство квартирмейстерского поручика Н. С. Бобрищева-Пушкина, что в курсе предположений Пестеля был даже генерал-квартирмейстер 2-й армии, генерал-майор Хоментовский[306].
Но для организации похода на столицу одного проложенного маршрута было мало. Предстояло обеспечить армию продовольствием. И здесь особая ставка была сделана на Юшневского, поскольку продовольственное обеспечение войск было его прямой обязанностью. И действия Юшневского во второй половине 1825 года говорят о том, что он на самом деле активно готовился к походу. Как и положено генерал-интенданту, он начал – в рамках своих возможностей – собирать запасы продовольствия и фуража на узловых точках будущего сбора войск.
Согласно документам 2-й армии на территории ее дислокации – в Подольской, Херсонской, Киевской и Екатеринославской губерниях, а также в Бессарабской области – находилось 50 армейских магазинов[307]. Процесс заготовления продовольствия в эти магазины был достаточно длительным. Он обычно начинался в первых числах августа текущего года с издания приказа по армии, содержащего составленный генерал-интендантом «План продовольствия войск» и «Объявление о торгах, магазинах и армейских потребностях» на будущий год.
В этих документах четко оговаривалось число магазинов и потребности для каждого из них, а также содержались «кондиции» – условия, на которых армейское руководство готово было заключать контракты на поставки. Вслед за этим назначались даты торгов, к которым приглашались все желающие поставлять для армии хлеб и фураж.
Приказы по 2-й армии за 1820-е годы сохранились в полном объеме, и поэтому есть возможность сравнить разработанные Юшневским «Планы» и «Объявления» на 1825 и 1826 год. И при сопоставлении этих документов выясняется любопытная подробность: объявляя «потребности» на 1826 год, Юшневский сильно сокращает объем магазинов в пограничной – Бессарабской – области. Из двенадцати расположенных в этой области магазинов сокращению подвергаются девять.
При этом происходит концентрация запасов продовольствия в четырех городах, расположенных от турецкой границы весьма далеко: в Одессе, Балте, Тульчине и Каменце-Подольском. Объемы магазинов в Каменце-Подольском, Тульчине и Одессе в 1826 году должны были, по сравнению с 1825 годом, вырасти на треть, в Балте – в два раза[308].
И если бы высшее военное начальство пожелало бы сравнить объемы магазинов на 1825 и 1826 год, то Юшневский мог лишиться свободы уже в августе 1825 года. Как уже говорилось выше, 2-я армия была пограничной, защищала протяженную границу с Турцией. С начала 1820-х годов война с турками могла вспыхнуть в любую минуту; в 1828 году она на самом деле началась. Кроме того, «недостаток» провианта в бессарабских магазинах еще за год до того обращал на себя внимание армейского начальства[309].
Оголяющий и без того полупустые приграничные склады генерал-интендант мог оказаться под подозрением уже не в служебных упущениях, а в государственной измене.
Из этих приготовлений генерал-интенданта можно, в принципе, сделать вывод и о том, каким маршрутом собиралась двигаться мятежная армия. Главная тактическая проблема, которую предстояло решить, – проблема дойти до Петербурга, не столкнувшись по дороге с оставшимися верными правительству частями 1-й армии. Расквартированная в западных губерниях, 1-я армия по своему численному составу была в несколько раз больше 2-й. При этом заговор пустил глубокие корни только лишь в одном из пяти ее корпусов – в 3-м пехотном. В состав этого корпуса входил, в частности, Черниговский пехотный полк. Большинство членов Васильковской управы тоже служили в полках этого корпуса.
В остальных корпусах членов заговора практически не было. Ситуация усугублялась еще и тем, что после выхода из зоны своей дислокации революционной 2-й армии предстояло воспользоваться продовольственными складами соседей.
Между тем, из южных губерний в Петербург вели всего пять больших дорог, по которым могла пройти армия: они шли через Житомир, Киев, Полтаву, Харьков и Каменец-Подольский[310]. При этом Полтава и Харьков находились далеко от войск 2-й армии. В Киеве же и в Житомире находились штабы корпусов 1-й армии – и идти туда с тактической точки зрения было крайне рискованно. Оставалась одна дорога – через Каменец-Подольский. Дорога, которая вела из него в Петербург, шла по западным границам России – и позволяла миновать места сосредоточения крупных воинских соединений 1-й армии.
Именно в Каменце-Подольском Юшневский устраивает самый большой армейский магазин. Согласно плану поставок на 1826 год именно туда должно было быть свезено наибольшее количество хлеба и фуража. Видимо, другие города, в которых находились крупные магазины, должны были стать местами сбора войск, направлявшихся в Каменец-Подольский.
Согласно приказам 2-й армии торги на 1826 год проходили в октябре 1825 года. По условиям этих торгов генерал-интендант имел полное право «закупить продовольствие вдруг на несколько месяцев или на целый год»[311]. И хотя документов о том, как конкретно происходило заполнение армейских магазинов, не сохранилось, можно с большой долей уверенности утверждать, что Юшневский этим своим правом воспользовался. Все поставки на 1826 год должны были быть окончены к 25 декабря 1825 года – после этого срока поход можно было начинать в любой момент.
Однако тут заговорщиков могла ожидать опасность другого рода: Витгенштейн и Киселев, предупрежденные о готовящемся восстании, могли тайно уехать из Тульчина. Походу на столицу надо было обеспечить максимальную легитимность; войска не должны были знать о незаконном смещении главнокомандующего и начальника армейского штаба. Оставшиеся же на свободе первые лица в армии неминуемо сообщили бы войскам о незаконности действий Пестеля и его единомышленников – и тем могли вызвать неповиновение войск приказам новых командиров.
Поэтому в середине ноября Пестель через Барятинского передает тульчинским квартирмейстерам еще одно распоряжение – наблюдать за тем, «чтобы его сиятельство главнокомандующий и господин начальник штаба не скрылись и тайком не уехали». Пестель предупредил, что за неисполнение приказа тульчинские заговорщики будут «отвечать головою».
Князь Волконский на следствии признавался: большинство участников Южного общества были уверены, что именно он имеет «наибольшие способы» начать революцию в России. К концу 1825 года он был единственным, под чьим руководством находилась реальная военная сила – и сила немалая. Летом 1825 года, когда командир 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Корнилов уехал в длительный отпуск, Волконский стал исполнять обязанности дивизионного генерала – и исполнял их вплоть до своего ареста в начале января 1826 года[312].
И поэтому вряд ли случайно, что основные черты своего плана Пестель согласовал с Волконским. Естественно, что в этом плане Волконскому отводилась одна из центральных ролей. 19-я пехотная дивизия становилась ударной силой будущей революции. Присутствовал Волконский и при назначении конкретной даты революционного похода.
* * *
28 ноября Пестель приехал в Умань, в штаб 19-й пехотной дивизии, на свидание с Волконским и Давыдовым. Предметом беседы первоначально было предложение генерал-лейтенанта Витта о вступлении в общество.
29 ноября Волконский как командующий дивизией получил «служебное извещение» о расписании армейских караулов на декабрь и январь. Согласно расписанию Вятский полк должен был 1 января 1826 года заступать в караул при главной квартире в Тульчине. Генерал-майор тут же сообщил об этом Пестелю.
Именно в связи с этим известием председатель Директории впервые сформулировал контуры хорошо известного в историографии «плана 1-го генваря». «Пестель говорил, что, может быть, неожиданное какое смятение по случаю наследия может дать ему неожиданный способ начать действия во время содержания им караула в Тульчине», – показывал Волконский на следствии. Впоследствии план значительно конкретизировался.
При составлении этого плана Пестель практически не оглядывался на разваливающееся Южное общество. Ставка была сделана на Вятский полк и 2-ю армию. Участники заговора должны были помочь своему лидеру – или остаться в стороне от наступающих событий. Еще в самом начале существования Южного общества Пестель сформулировал положение, согласно которому все важнейшие решения Директория должна была принимать после консультаций с главными участниками заговора. Однако в данном случае полковник не пожелал слушать ничьих советов.
Согласно показаниям Пестеля и его единомышленников восстание начинал Вятский полк. Придя 1-го января 1826 года в Тульчин, вятцы должны были прежде всего арестовать армейское начальство. Не лишено оснований и предположение С. Н. Чернова, что начальство над мятежной армией могло быть предложено генералу Волконскому[313].
Одновременно с Вятским полком восставали те части 19-й пехотной дивизии, которые смог бы «возмутить» Волконский. Давыдову предстояло «пристать» к Волконскому или, в случае, если это будет возможным, постараться поднять на восстание военные поселения.
Согласно предположению Пестеля Вятский полк должны были поддержать лично преданные председателю Директории члены Тульчинской управы – адъютанты Витгенштейна и Киселева, а также офицеры квартирмейстерской части. Из 37 осужденных Верховным уголовным судом членов Южного общества 15 человек служило в конце 1825 года в штабе 2-й армии.
Конечно же, составной частью «плана 1-го генваря» по-прежнему оставались переворот в столице и цареубийство. Очевидно, что убивать теперь пришлось бы императора Константина – о том, что цесаревич отказался от престола, Пестель до своего ареста так и не узнал. Но на этот раз Пестель не собирался вводить в курс дела северных лидеров. Не надеясь на помощь с их стороны, он, согласно плану, сразу же после начала революции оставлял свой полк майору Лореру и в сопровождении Барятинского ехал в столицу[314]. Очевидно, что он решил самостоятельно поднять и петербургское восстание – опираясь на тех, кто сочувствовал его идеям или был предан ему лично.
В Петербурге Пестель хотел опереться прежде всего на кавалергардов – своих бывших однополчан. В Кавалергардском полку служили большинство членов южного филиала на Севере. Кроме того, одним из трех кавалергардских эскадронов командовал ротмистр Владимир Пестель. Пестель-младший, скорее всего, поддержал бы восстание – не из-за своего сочувствия идеям заговора, а по дружбе к старшему брату.
Безусловно, были у руководителя заговора серьезные надежды и на командира гвардейской бригады генерал-майора Сергея Шипова – его близкого друга и родственника, члена Союза спасения и Союза благоденствия. Шипов отошел от заговора после 1821 года, но все равно до конца рассматривался Пестелем как военный министр во Временном правительстве. Бригада Шипова состояла из трех полков: Семеновского, Лейб-гренадерского и Гвардейского морского экипажа. «Старшим полковником» Преображенского полка был брат Сергея Шипова, Иван, на квартире которого во время «петербургских совещаний» 1820 года обсуждалась возможность цареубийства.
Суммируя все имеющиеся сведения о действиях Пестеля и его единомышленников, можно сделать вывод: «план 1-го генваря» вполне мог бы быть воплощен в реальные действия. И с исполнения этого плана вполне могла начаться российская революция. Недаром Пестель в ноябре 1825 года выражал уверенность в успехе этой революции, в том, что возможные аресты заговорщиков и даже его собственный арест не могут «остановить» хода «общественных дел». «Пусть берут, теперь уж поздно!» – сказал он подпоручику Заикину, члену общества, приехавшему к нему с «конфиденциальными поручениями» из Тульчина[315].
* * *
Революционный поход на столицу не был осуществлен. Смерть императора Александра I намного усложнила ситуацию. Катастрофической ее сделал вал доносов на членов Южного общества, и прежде всего доносы генерала Витта и капитана Майбороды. Аресты провел специально присланный Дибичем опытный военный разведчик и следователь Александр Чернышев.
Правда, о цели приезда Чернышева в Тульчин заговорщики узнали заранее. За два дня до ареста Пестеля на квартиру к генерал-интенданту Юшневскому пришел некий «неизвестный», который передал ему записку примерно следующего содержания: «Капитан Майборода сделал донос государю о тайном обществе, и генерал-адъютант Чернышев привез от начальника Главного штаба барона Дибича к главнокомандующему 2-ю армиею список с именами 80-ти членов сего общества; потому и должно ожидать дальнейших арестований»[316].
Юшневский, конечно, сразу же предупредил об опасности Пестеля. Сведения о практически неминуемом аресте в Линцы, где находился штаб Вятского полка, привезли два квартирмейстерских офицера-заговорщика, Николай Крюков и Алексей Черкасов. Пестель сжег личный архив. Впоследствии в процессе проведенного в его доме обыска не было обнаружено ни одного противозаконного документа, как и при обыске у Юшневского.
12 декабря Пестеля вызвали в Тульчин, а 13 декабря – арестовали. Приказ о начале выступления он не отдал, предпочитая, по словам майора Вятского полка Николая Лорера, «отдаться своему жребию»[317]. Эта внезапная покорность южного лидера вызвала и продолжает вызывать удивление исследователей. Поведение Пестеля накануне ареста казалось нелогичным и даже предательским с точки зрения логики заговора. Таким оно виделось, в частности, М. В. Нечкиной[318].
Но с военной точки зрения поведение полковника было безупречным. В середине декабря 1825 года шансов на победу у заговорщиков не было; для осуществления своих планов полковнику не хватило всего двух недель.
Прежде всего, начавшиеся аресты уничтожили важнейший для успеха восстания фактор внезапности. Высшее военное командование было оповещено о готовящемся перевороте, а значит, приняло меры для его предотвращения. Поручик Павел Бобрищев-Пушкин показал на допросе, что после ареста Пестеля о «плане 1-го генваря» «единогласно» заговорил весь штаб 2-й армии[319].
Сам Пестель в глазах многих офицеров быстро превратился из могущественного командира полка, любимца командующего, в преступника. И если раньше, подчиняясь приказу о выступлении, офицеры могли просто не знать, что этот приказ с точки зрения властей незаконен, то после начала арестов его незаконность была бы ясна всем. Что, в свою очередь, полностью уничтожало надежду на одномоментное выступление всей армии. Подготовленной к встрече с мятежниками наверняка оказалась бы и 1-я армия.
Кроме того, поход армии на столицу был назначен на январь. На эту дату ориентировались те, кто, собственно, должен был его подготовить: адъютанты, квартирмейстеры, провиантские и интендантские чиновники. И вряд ли у них все было готово за две недели до срока.
Начинать же восстание без соответствующей подготовки означало для Пестеля возможность вновь обрести потерянную свободу, но стать при этом инициатором бесполезного кровопролития, гражданской войны. О своих колебаниях накануне ареста полковник откровенно рассказал на следствии: «Мне живо представлялась опасность наша и необходимость действовать, тогда воспламеняясь, и оказывал я готовность при необходимости обстоятельств начать возмущение и в сем смысле говорил. Но после того, обдумывая хладнокровнее, решался я лучше собою жертвовать, нежели междоусобие начать, как то и сделал, когда в главную квартиру вызван был»[320]. Это объяснение, видимо, следует признать исчерпывающим.
Юшневский был привлечен к следствию одновременно с Пестелем, 13 декабря. Именно тогда его допросил Чернышев. Арестовали же его двумя неделями позже, 26-го числа. В этот день генерал-интендант получил приказ главнокомандующего «немедленно сдать должность… а также все дела и казенные суммы генерал-провиантмейстеру 2-й армии 7-го класса Трясцовскому, дав знать о том от себя и комиссиям провиантской и комиссариатской»[321]. Такая поздняя дата ареста объясняется просто: Витгенштейн до конца боролся за своего генерал-интенданта. Юшневский был взят под стражу только тогда, когда в руках у Чернышева оказались неопровержимые доказательства его виновности.
За время, прошедшее с момента первого допроса до ареста, Юшневский отдал лишь один приказ по тайному обществу – уничтожить «Русскую Правду», документ огромной уличающей силы. Приказ не был выполнен – преданные Пестелю молодые квартирмейстерские офицеры отказались это сделать. Они спрятали «бумаги Пестеля», а в Тульчине распустили слух, что документы уничтожены[322].
Глава VI. «Может быть, обойдется без огня…»
«План 1-го генваря», в принципе, хорошо восстанавливается по документам. Гораздо труднее восстановить планы столичных заговорщиков, понять, каким образом декабристы собирались взять власть 14 декабря 1825 года.
По мнению современных исследователей, «можно констатировать, что вопрос о плане действий 14 декабря… оставался следователям неясным»[323]. Сложность изучения этого вопроса объясняется прежде всего крайней невнятностью основного источника сведений о планах действий – следственных показаний декабристов. С одной стороны, арестованные заговорщики понимали, что по законам Российской империи всем им грозит смертная казнь – и на следствии старались всячески преуменьшить свою вину. Ответ на поставленный следствием вопрос напрямую зависел от тактики, которую избирал для себя тот или иной арестованный заговорщик, от его душевного состояния в момент ответа на вопрос, от условий его содержания, от методов, применявшихся на допросах и т. п. Кроме того, многие из рядовых членов тайных обществ не были в курсе замыслов руководителей, зачастую они на допросах «достраивали» эти замыслы в соответствии с собственным пониманием ситуации.
С другой стороны, давно замечено, что и следователи, исполнявшие волю императора Николая I, вовсе не желали добиваться от заговорщиков всей правды. Нити заговора вели к высшим государственным сановникам и руководителям крупных воинских соединений. Следствие свело заговор к дружеским беседам о формах правления, а вооруженные выступления – к непродуманным действиям молодых офицеров, преданных своими руководителями[324].
Впервые русская публика получила возможность познакомиться с планами действий заговорщиков (в том числе и с планом, подготовленным петербургскими конспираторами) 12 июня 1826 года. В этот день газета «Русский инвалид» опубликовала «Донесение следственной комиссии», составленное главным правительственным пропагандистом Дмитрием Блудовым. Согласно «Донесению…» план действий на 14 декабря разработали «директоры Северного тайного общества: Рылеев, князья Трубецкой, Оболенский и ближайшие их советники».
Начало составления этого плана Блудов относит к концу ноября, к моменту, когда до заговорщиков «дошел слух, что государь цесаревич тверд в намерении не принимать короны». «Сия весть возбудила в заговорщиках новую надежду: обмануть часть войск и народ уверить, что великий князь Константин Павлович не отказался от престола и, возмутив их под сим предлогом, воспользоваться смятением для испровержения порядка и правительства», – читаем в «Донесении». Несколько дней спустя военным руководителем восстания, диктатором был избран князь Трубецкой.
Местом разработки плана стала квартира другого руководителя заговора, отставного подпоручика Кондратия Рылеева. В квартире Рылеева начались ежедневные совещания, которые, согласно следствию, «представляли странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному».
План, который в конце концов был выработан на этих «буйных» и «легкомысленных» совещаниях, был единым. Предполагалось – под предлогом незаконности отречения Константина Павловича – собрать войска на Сенатской площади и силой оружия заставить сначала Сенат, а затем и императора Николая вступить с собою в переговоры. Целью же переговоров было ограничение власти монарха, созыв парламента и организация Временного правления.
Однако у двух главных организаторов восстания – Рылеева и Трубецкого – были расхождения тактического характера. Ссылаясь на показания Трубецкого, следствие утверждало, что он планировал «с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим… потом все войска, которые пристанут, собрать пред Сенатом и ждать, какие меры будут приняты правительством». Рылеев же, судя по донесению, считал, что полки надо собирать сразу на Сенатскую площадь, где «начальнику их, Трубецкому, действовать по обстоятельствам».
Но в итоге тактические противоречия были сняты: заговорщики договорились выводить полки прямо к Сенату. 13 декабря князь Трубецкой обещал «на другой день быть на Сенатской площади, чтобы принять главную команду над войсками, которые не согласятся присягать вашему величеству; под ним же начальствовать капитану Якубовичу и полковнику Булатову».
Тогда же Трубецкой предложил захватить Зимний дворец.
Однако и Рылеев, и Трубецкой, и Якубович с Булатовым в решающий момент испугались: «все те, коих заговорщики назначили своими начальниками, в решительный день заранее готовились их бросить». Восстание подняли младшие офицеры Гвардейского экипажа, Московского и Лейб-гренадерского полков. Этих офицеров главари заманили – по большей части обманом – в свой заговор, а потом просто бросили на произвол судьбы. Главным же виновником событий, по версии Блудова, был тщеславный трус князь Трубецкой[325].
«Донесение следственной комиссии», декларировавшее единство действий главных руководителей северного восстания по выработке плана, оказало сильное влияние на исследователей, занимавшихся анализом плана действий. В историографии этой проблемы можно выделить два основных направления: одно из них в большей или меньшей степени разделяет правительственную концепцию, второе спорит с ней.
Правительственную концепцию, безусловно, разделяла, например, М. В. Нечкина.
Нечкина принимала тезис Блудова о тактических расхождениях Трубецкого и Рылеева: Трубецкой настаивал «на движении восставших полков от казармы к казарме и лишь в конечном счете, когда налицо будет достаточная масса восставших солдат, предполагал выход и на площадь». Однако в итоге диктатор отказался от своей тактики: «в результате долгих и страстных прений на совещаниях декабристов в дни междуцарствия» был создан единый план действий, предусматривавший движение прямо на Сенатскую площадь.
Нечкина писала: «Было бы неправильно утверждать, что в этом плане победило мнение определенной группы, с которым не согласилась бы какая-то другая. Нет, лица, которые первоначально спорили против победивших в дальнейшем предложений, в конце концов примкнули к ним». «Накануне решительных действий, несомненно, сформировалось некоторое общее мнение, в основном принятое и поддержанное (правда, с разной степенью убежденности) всей руководящей группой».
Исследовательница была уверена, что это «общее мнение» было за решительные революционные действия, подразумевающие захват царской резиденции и арест императорской фамилии. Главным же виновником провала этого плана исследовательница, как и автор «Донесения», считает Трубецкого, усматривая в его действиях безусловную «измену главнокомандующего»[326].
Одним из тех, кто не согласился с «Донесением следственной комиссии» и не увидел наличие у петербургских заговорщиков единого плана, был А. Е. Пресняков. Он утверждал, что накануне 14 декабря сложилось два плана – условно говоря, план Трубецкого и план Рылеева: «Все у Трубецкого сводилось к давлению на власть, которая должна будет уступить без боя. Он стремился, прежде всего, действовать “с видом законности”».
Мысль же Рылеева и его сторонников «была направлена на решительные революционные акты, которые одни могли бы дать, будь они осуществимы, победу революционному выступлению»[327].
К этому же направлению в историографии относятся и работы М. М. Сафонова, и прежде всего его статья «Зимний дворец в планах выступления 14 декабря 1825 года». Разбирая, казалось бы, частный вопрос – планировал ли Трубецкой захват Зимнего дворца – исследователь приходит к важным обобщающим выводам. Согласно Сафонову единого плана у руководителей восстания не было. Более того, накануне решительных действий между Трубецким и другими руководителями заговора существовал острый конфликт по вопросам тактики будущего революционного действия.
Согласно концепции Сафонова план действий, который заговорщики пытались осуществить 14 декабря, был разработан Кондратием Рылеевым. Привлекая к анализу не только показания Рылеева и Трубецкого, но и следственные документы других участников восстания, М. М. Сафонов утверждает: план этот был весьма радикальным, подразумевал взятие Зимнего дворца «малыми силами», «с горстью солдат» и – под угрозой применения силы – проведение переговоров с Сенатом о создании Временного правления.
Трубецкой же, по утверждению исследователя, по этому плану действовать явно не хотел. Сафонов утверждает: диктатор «находил необходимым вначале собрать все не присягнувшие войска вместе, определить возможности восставших и только исходя из них решать, как действовать дальше: развивать ли начатое, либо же отказаться от дальнейших действий».
Но 13 декабря диктатор понял, что у заговорщиков «слишком мало сил, чтобы реализовать план Трубецкого, надежды на успех более чем сомнительны. Диктатор был уверен, что лучше не начинать, чем потерпеть поражение».
«Сам диктатор, видя малочисленность сил, уверен, что выступление приведет в таком случае к катастрофе. Однако Рылеев настаивает: надо выступать в любом случае, даже с малым количеством войск. Руководители тайного общества уже обречены на смерть, они слишком далеко зашли, возможно, их уже предали. Поэтому необходимо подниматься в любом случае и при любых условиях. Однако такая позиция была неприемлема для Трубецкого в принципе».
Сафонов утверждает: когда Рылеев понял, что Трубецкой не собирается выполнять его план, он своей властью назначил другого диктатора – полковника Александра Булатова. Накануне восстания Рылеев сообщил о своем решении Трубецкому. И, следовательно, Трубецкому вообще незачем было выходить 14 декабря на Сенатскую площадь[328].
Эту концепцию в целом можно признать исчерпывающей, если бы не одно весьма важное обстоятельство. Она совершенно противоречит показаниям Рылеева. Более того, на очной ставке 6 мая 1826 года Трубецкой подтвердил показания Рылеева, отказавшись, таким образом, от собственной версии событий[329].
* * *
Между тем, разделяемое М. М. Сафоновым и рядом других историков мнение о том, что накануне решающих событий Рылеев сменил диктатора и назначил вместо Трубецкого полковника Булатова вряд ли справедливо.
Мнение это основано на мемуарных записях самого Трубецкого: «Надобно было найти известного гвардейским солдатам штаб-офицера для замещения передавшихся на сторону власти батальонных и полковых командиров. Этот начальник нужен был только для самого первого начала, чтобы принять начальство над собравшимися войсками. Был в столице полковник Булатов, который недавно перешел из Лейб-гренадерского полка в армию. Его помнили и любили лейб-гренадеры, а этот был одним из полков, на который более надеялись. Булатов согласился принять начальство над войсками, которые соберутся на сборном месте»[330].
На следствии же вопрос о Булатове-диктаторе не всплывал. Хотя – учитывая поведение Трубецкого на допросах – логично было ждать от него вполне оправданного в данном случае стремления переложить главную ответственность на Булатова. Тем более что Булатов в самом начале следствия покончил жизнь самоубийством, и вряд ли этот факт остался неизвестен другим подследственным. Однако ни сам Трубецкой, ни Рылеев, ни другие участники подготовки восстания на следствии о факте смены военного лидера не упоминали.
Более того, Евгений Оболенский показывал: «Со времени выбора князя Трубецкого начальником мы старались сколько возможно менее излагать мнения наши касательно действий, дабы внушить членам более почтения и доверенности к князю Трубецкому».
На 12 декабря Оболенский назначил совещание заговорщиков в собственной квартире. Совещание было назначено «в противность правил, нами принятых, не действовать без ведома князя Трубецкого» – за что Оболенский «получил нарекание от Рылеева и от других»[331].
Скорее всего, история с «диктаторством» Булатова – не более чем позднейшая выдумка Трубецкого, его попытка оправдаться перед общественным мнением. Диктатором – до самого вечера 14 декабря – заговорщики считали именно Трубецкого.
Рассуждая о Трубецком-декабристе, историк М. М. Покровский считал его участие в заговоре «ненормальностью». Люди его круга, представители богатейшей высшей знати, поддерживали правительство, среди же декабристов оказались те, у кого были «не тысячи, а сотни тысяч душ». Отсюда, по мнению историка, и нравственные терзания диктатора накануне и в день 14 декабря, и его «невыход» на Сенатскую площадь: «все же был солдат и в нормальной для него обстановке сумел бы по крайней мере не спрятаться»[332].
Естественно, такой «вульгарно-социологический» подход к движению декабристов советские историки много раз опровергали – и в конце концов он был оттеснен на обочину историографии. Между тем, в работах Покровского было много здравых идей. И в данном случае историк оказался прав: среди участников подготовки восстания 14 декабря Трубецкой действительно был чужим.
В данном случае дело, конечно же, не в том, что все люди его круга сплотились около трона. Трубецкой был прямым потомком великого князя литовского Гедимина. Но среди декабристов были и другие представители древних княжеских родов: Сергей Волконский, Евгений Оболенский, Александр Одоевский, Александр Барятинский, Дмитрий Щепин-Ростовский. Диктатор на самом деле был богат – но, например, тот же Волконский или Никита Муравьев владели состояниями, вполне сравнимыми с состоянием Трубецкого. Кроме того, все конституционные проекты, разрабатывавшиеся заговорщиками, предусматривали – в случае победы революции – полную отмену сословий.
Чужеродность Трубецкого в среде северных декабристов определялась другим. Князь много воевал, был полковником Преображенского полка, старшим адъютантом Главного штаба и опытным военным – а большинство из тех, с кем он готовил российскую революцию, не имели боевого опыта, служили обер-офицерами или вышли из обер-офицеров в отставку. Он был основателем Союза спасения, председателем и блюстителем Коренного совета Союза благоденствия, принимал участие в написании знаменитой «Зеленой книги», иными словами, был корифеем заговора, отдавшим ему девять лет жизни – а его соратники провели в тайном обществе от нескольких дней до нескольких месяцев.
Приехав в десятых числах ноября 1825 года в Петербург, Трубецкой столкнулся с новой реальностью, о которой В. М. Бокова повествует следующим образом: «В начале 1825 года Рылеев был избран в “верховную думу” (триумвират) на место уехавшего кн. С. П. Трубецкого. Этот акт на практике знаменовал собой поглощение или даже вытеснение рылеевской отраслью остатков «Союза соединенных и убежденных» (самоназвание Северного общества. – О.К.) в Петербурге. С этого времени Северное общество целиком стало обществом Рылеева: второй член триумвирата – кн. Е. П. Оболенский – находился под личным рылеевским влиянием, а первый – Н. М. Муравьев, поглощенный семьей и писанием Конституции, активного участия в делах общества почти не принимал. К этому следует добавить, что в Союзе (в Петербурге) реально не существовало других управ, кроме созданных участниками рылеевской отрасли или подведомственных им»[333].
Естественно, что Трубецкому ситуация, сложившаяся в тайном обществе к концу 1825 года, нравиться не могла. Ему, осторожному политику, не могла импонировать решительность и горячность молодых заговорщиков, возглавляемых отставным подпоручиком, поэтом и журналистом Кондратием Рылеевым. И в мемуарах князь признавал, что «может быть, удалившись из столицы… сделал ошибку». «Он (Трубецкой, как и Горбачевский, писал о себе в мемуарах в третьем лице. – О.К.) оставил управление общества членам, которые имели менее опытности и, будучи моложе, увлекались иногда своею горячностью и которых действие не могло производиться в том кругу, в котором мог действовать Трубецкой. Сверх того, тесная связь с некоторыми из членов отсутствием его прервалась»[334].
Нетрудно предположить, что если бы не трагические события конца 1825 года: внезапная болезнь и смерть императора Александра I и ситуация междуцарствия – князь уехал бы обратно к месту службы, так и не договорившись с «отраслью» Рылеева о конкретных совместных действиях.
Сложная ситуация с престолонаследием заставила Трубецкого начать действовать: пропустить столь удобный случай воплотить свои замыслы в жизнь он просто не мог. Однако единственной реальной силой, на которую князь мог опереться, была именно «отрасль» Рылеева. Действовать Трубецкому предстояло вместе с людьми, которым он не мог доверять и к которым относился свысока. По крайней мере, Булатов утверждал: в разговорах с молодыми офицерами князь принимал «важность настоящего монарха». А Оболенский показывал, что на бурных совещаниях в квартире Рылеева диктатор по большей части молчал, «не входил в суждения о действиях общества с прочими членами».
Рылеев и «рылеевцы» не могли этого не видеть и, со своей стороны, не доверяли Трубецкому. Сам князь им был мало интересен: их интересовали его придворные связи и «густые эполеты» гвардейского полковника. Так, согласно показаниям Трубецкого Рылеев, уговаривая его принять участие в готовящемся восстании, утверждал, что он «непременно для сего нужен, ибо нужно имя, которое бы ободрило». При избрании же князя диктатором Рылеев еще раз повторил ему, что его «имя» «необходимо нужно» для успеха революции.
«Кукольной комедией» назвал избрание Трубецкого диктатором ближайший друг Рылеева Александр Бестужев. Бестужев отмечал, однако, что отсутствие диктатора на площади имело «решительное влияние» на восставших офицеров и солдат, поскольку «с маленькими эполетами и без имени принять команду никто не решился»[335].
Участник событий Петр Свистунов размышлял в мемуарах: «Тут возникает вопрос… что побудило Рылеева, решившего действовать во что бы то ни стало, предложить начальство человеку осторожному, предусмотрительному и не разделявшему его восторженного настроения? Это объясняется очень просто. Рылеев, будучи в отставке, не мог перед войском показаться в мундире: нужны были если не генеральские эполеты, которых налицо тогда не оказалось, то по меньшей мере полковничьи».
Неудавшийся же цареубийца Петр Каховский и вовсе предполагал, что диктатор был «игрушкой тщеславия Рылеева»[336].
Конечно, Каховский не прав: полковник князь Трубецкой не был игрушкой в руках отставного подпоручика, поэта Рылеева. Но и Рылеев, ощущавший себя безусловным лидером петербургского заговора, действовать по указке Трубецкого не собирался. По-видимому, Рылеев и Трубецкой – разыгрывая каждый свою карту в сложной политической игре – пытались в этой игре использовать друг друга. И именно это взаимное недоверие оказалось роковым для успеха восстания.
* * *
Рылеев несколько раз излагал в показаниях их с Трубецким общий план действий – и его показания выглядят непротиворечиво. Согласно Рылееву с момента избрания Трубецкого диктатором (десятые числа декабря), он «был уже полновластный начальник наш; он или сам, или чрез меня, или чрез Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович».
Трубецкой поручил ротным командирам «распустить между солдатами слух, что цесаревич от престолу не отказался, что, присягнув недавно одному государю, присягать чрез несколько дней другому грех. Сверх того сказать, что в Сенате есть духовная покойнаго Государя, в которой солдатам завещано 12-ть лет службы, и потом в день присяги, подав собою пример, стараться вывести, каждый кто сколько успеет из казарм и привести их на Сенатскую площадь».
При этом Якубович должен был «находиться под командою Трубецкого с Экипажем гвардейским и в случае надобности идти к дворцу, дабы захватить императорскую фамилию». «Дворец занять брался Якубович с Арбузовым, на что и изъявил свое согласие Трубецкой». Булатов же соглашался возглавить лейб-гренадер – полк, в котором он раньше служил и в котором его помнили и любили. После захвата дворца следовало силой «принудить» Сенат издать Манифест об уничтожении старого правления, создании Временного правления и организации парламента – Великого собора.
Трубецкой же много месяцев отрицал показания Рылеева. Он утверждал, что никомуне давал «порученияо занятии дворца, Сената, крепости или других мест» и не собирался арестовывать императора и его семью.
В итоге, на очной ставке 6 мая 1826 года показания Рылеева были обобщены и сведены к следующему лаконичному утверждению: «Занятие дворца было положено в плане действий самим кн[язем] Трубецким. Якубович брался с Арбузовым сие исполнить, – на что к[нязь] Трубецкой и изъявил свое согласие. Занятие же крепости и других мест должно было последовать, по его же плану, после задержания императорской фамилии».
Точка зрения же Трубецкого выглядела следующим образом: «Занятие дворца не было им положено в плане действия, и он, князь Трубецкой, не говорил о том ни с Якубовичем, ни с Арбузовым, и никому не поручал передать им сие или выискать кого для исполнения сего; не изъявлял также на то и своего согласия. Равным образом в план действия не входило ни занятие крепости, или других мест, ни задержание императорской фамилии»[337].
В итоге очной ставки диктатор отказался от своих показаний и подтвердил правоту Рылеева.
Пытаясь объяснить это странное признание диктатора, М. М. Сафонов цитирует мемуары Трубецкого – ту их часть, в которой князь писал об обстоятельствах этой очной ставки:
«Я имел очную ставку с Рылеевым по многим пунктам, по которым показания наши были несходны. Между прочим были такие, в которых дело шло об общем действии, и когда я не признавал рассказ Рылеева справедливым, то он дал мне почувствовать, что я, выгораживая себя, сваливаю на него. Разумеется, мой ответ был, что я не только ничего своего не хочу свалить на него, но что я заранее согласен со всем, что он скажет о моем действии. И что я на свой счет ничего не скрыл и более сказал, нежели он может сказать»[338].
Очная ставка действительно была мероприятием тяжелым и мучительным для обоих лидеров. Однако вряд ли в данном случае – как и в случае с «диктаторством» Булатова – стоит полностью доверять мемуарному свидетельству князя. На следствии Трубецкой вовсе не склонен был выгораживать других за свой счет. С Рылеевым же, как справедливо отмечает тот же Сафонов, Трубецкой вел на следствии заочную дуэль. Все месяцы следствия – начиная с первого допроса в ночь с 14 на 15 декабря – Трубецкой занимался, в частности, тем, что перекладывал вину на Рылеева. И нет никаких оснований полагать, что на очной ставке он сознательно избрал другую тактику. Кроме того, вопрос о плане действий был лишь одним из 11 вопросов, по которым Трубецкой и Рылеев обнаруживали «разноречия в показаниях». И, как свидетельствуют документы, в большинстве других случаев правду говорил именно Рылеев.
По-видимому, в вопросе о плане действий Рылеев говорил правду; не согласиться с ним на очной ставке значило для Трубецкого не признать очевидного. И – как следствие – быть уличенным в даче ложных показаний и намного утяжелить свою участь. Трубецкой перед восстанием действительно поддержал радикальный план, подразумевавший взятие Зимнего дворца и арест императора. Но очевидно и то, что Трубецкой не лгал, когда говорил о своем несогласии с этим планом – с той только оговоркой, что это несогласие было внутренним убеждением Трубецкого, и Рылееву об этом почти ничего не было известно. По-видимому, Трубецкой был убежден, что, командуя восставшими войсками, он в любом случае сумеет удержать ситуацию под контролем.
На самом деле диктатор перед восстанием боялся только одного – что восстанет малое количество войск. И накануне 14 декабря говорил Рылееву: «“Не надо принимать решительных мер, ежели не будете уверены, что солдаты вас поддержат”, на что Рылеев сказал: “Вы, князь, все берете меры умеренные, когда надо действовать решительно” – Трубецкой отвечал: “Ну! что же мы сделаем, ежели на площадь выйдет мало, роты две или три”».
Но и в этом случае последнее слово диктатор оставлял за собою. По крайней мере, барон Владимир Штейнгейль отмечал в показаниях, что вечером 13 декабря Трубецкой «рассуждал о приведении намерения их на другой день в исполнение». Участникам итогового, вечернего совещания было объявлено, что следует собраться на Сенатской площади и там ожидать приказаний Трубецкого. Что, как известно, и было сделано.
Очевидно, Рылеев подозревал, что Трубецкой ведет какую-то двойную игру, строит планы, отличные от тех, которые декларирует в разговорах с ним и его сторонниками. По крайней мере, уже на первом допросе в ночь с 14 на 15 декабря он обвинил Трубецкого не столько в невыходе на площадь (известно, что и сам Рылеев на площади не был), сколько в сознательной провокации:
«Страшась, чтобы подобные же люди (курсив мой – О. К.) не затеяли что-нибудь подобное на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество… Надобно взять меры, чтобы там не вспыхнуло возмущение».
Все месяцы следствия, яростно борясь против Трубецкого, Рылеев боролся с человеком, который, по его мнению, ради достижения целей, весьма далеких от благородных целей тайного общества, спровоцировал беспорядки в столице. Одной из главных задач, которую поэт решал на следствии, было вывести князя на чистую воду, не дать ему избежать ответственности:
«Трубецкой может говорить, что упомянутые приготовления и распоряжения к возмущению будто бы делались только от его имени, а непосредственно были мои; но это несправедливо… Настоящие совещания всегда назначались им и без него не делались. Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о каком-нибудь успехе по делам общества, он жал мне руку, хвалил ревность мою и говорил, что он только и надеется на мою отрасль. Словом, он готовностию своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностию, не всем себя открывая»[339].
* * *
Прозрения Рылеева на следствии были недалеки от истины: у диктатора перед восстанием действительно был свой план, о котором Рылеев не знал. Этот план Трубецкой описывал несколько раз: и в показаниях, и в позднейших мемуарах. План в его изложении выглядел крайне невнятно и противоречиво. Поначалу он утверждал, что предполагал собрать отказавшиеся от присяги полки «где-нибудь в одном месте и ожидать, какие будут приняты меры от правительства». Затем – что «полк, который откажется от присяги», следует вести «к ближнему полку, на который надеялись», после чего вести все не присягнувшие полки к Сенату. Потом – что Лейб-гренадерский и Финляндский полки «должны были идти прямо на Сенатскую площадь, куда бы и прочие пришли». В мемуарах же появляется еще одна деталь плана, противоречащая предыдущим: «Лейб-гренадерский [полк] должен был прямо идти к Арсеналу и занять его»[340].
Однако все без исключения рассказы диктатора о плане действий объединяет один общий элемент. Трубецкой хотел добиться вывода восставших войск за город: «Лучше будет, если гвардию или хотя и не все полки выведут за город, тогда государь император Николай Павлович останется в городе, и никакого беспорядка произойти не может», «обстоятельства должны были решить, где удобнее расположить полки, но я предпочитал расположить их за городом, ибо тогда в городе сохранится тишина, да и самые полки можно будет лучше удержать от разброда».
Князь предполагал «вытребовать» для полков «удобное для стоянки место для окончания всего» и «думал, что если в первый день не вступят с ними (выведенными из города восставшими войсками. – О.К.) в переговоры, то увидев, что они не расходятся и проночевали первую ночь на биваках, непременно на другой день вступят с ними в переговоры».
Таким образом, судя по показаниям князя, «будет соблюден вид законности, и упорство полков будет сочтено верностию». «Уверенность вообще была, что окончание будет по желанию», – убеждал Трубецкой следователей. «Он так был уверен в успехе предприятий, что, говоря с своими военачальниками, полагал, что, может быть, обойдется без огня», – так, по словам Александра Булатова, выглядела позиция Трубецкого за два дня до восстания[341].
Князь несколько раз повторил в показаниях, что вывести войска за город впервые предложил член Северного общества подполковник Корпуса инженеров путей сообщения Гавриил Батеньков – а он, Трубецкой, только воспользовался этой готовой идеей. Впоследствии в мемуарах князь объяснил логику Батенькова: вывод войск за город был условием, «на котором обещано чрез Батенькова содействие некоторых членов Государственного совета, которые требовали, чтоб их имена остались неизвестными»[342].
Трудно сказать, насколько это утверждение соответствует истине. Батеньков действительно был человеком влиятельным и имел большие связи при дворе. Однако многолетние попытки историков выявить тех членов Государственного совета, которые через него обещали содействие Трубецкому, успеха не принесли. К тому же неясно, зачем таинственным покровителям Батенькова было нужно, чтобы восставшие войска вышли за город и оставили столицу во власти верных императору частей.
Этот элемент плана, в том виде, в котором диктатор изложил его на следствии и в мемуарах, – совершенная дикость, не поддающаяся логическому объяснению. Невозможно согласиться с тем, что действия мятежников – даже в случае активной эксплуатации константиновского лозунга – в глазах представителей власти могли иметь «вид законности». Вряд ли можно поверить и в то, что Трубецкой рассчитывал на безнаказанность собственных действий, на то, что они будут сочтены «верностию». Любое неповиновение в армии, независимо от его причин, каралось жестоко – и Трубецкой как человек военный не мог не знать этого. Естественно, восставшие полки могли произвести «беспорядок» в городе, но каким способом их можно было удержать от беспорядка «за городом» – диктатор предпочел не пояснять.
Император, создающий мятежникам комфортные условия для мятежа и добровольно соглашающийся на их требования – при том, что гвардия была лишь небольшой частью огромной российской армии – выглядит в показаниях Трубецкого экстравагантным самоубийцей. Руководитель же восстания, планирующий захват власти в столице и выводящий для этого из столицы верные себе части, и вовсе кажется умалишенным. И совершенно непонятно в связи с этим, откуда у Трубецкого могла возникнуть уверенность, что «окончание будет по желанию».
Между тем, полковник Трубецкой, нейтрализовавший смертельно опасное для заговора расследование генерала Эртеля, умалишенным явно не был – как не был он и трусом.
Анализируя показания Трубецкого, следует признать: распространенное мнение, что на первых же допросах диктатор сломался, раскаялся и выдал все свои планы, в корне неверно. Трубецкой понимал, что шансов выжить у него крайне мало. И все его показания с самого начала до самого конца следствия – смесь полуправды с откровенной ложью. Трубецкой боролся за собственную жизнь, боролся с немалым упорством и изобретательностью. Естественно, что, излагая собственный план действий, он стремился, с одной стороны, не быть уличенным в прямой лжи, а с другой – скрыть самые опасные моменты этого плана, которые вполне могли привести его на эшафот.
* * *
23 декабря 1825 года, на одном из первых допросов, Трубецкой утверждал, что незадолго до событий на Сенатской площади, предупреждал Рылеева, «что это все (т. е. предполагаемое восстание 14 декабря. – О.К.) пустое дело, из которого не выйдет никакого толку, кроме погибели».
Противопоставляя не подготовленному к действиям Северному обществу решительных южан, Трубецкой, по его собственным словам, просил отпустить его назад в 4-й корпус, ибо «там если быть чему-нибудь, то будет».
Давая это показание, Трубецкой пытался убедить следствие, что не желал начальствовать над петербургскими заговорщиками. Слова о 4-м корпусе «были мною произнесены единственно с намерением отделаться от бывшего мне тягостным участия под каким-нибудь благовидным предлогом. – Надежды предпринять что-либо в 4-м корпусе я иметь не мог, потому что в оном общество не распространено», – так 15 февраля Трубецкой конкретизировал свое первоначальное показание.
Следователи, видимо, удовлетворились этими разъяснениями, и о 4-м корпусе Трубецкого некоторое время не спрашивали. Однако уже в конце следствия, 8 апреля 1826 года, показания на эту тему дал Рылеев. По словам поэта, князь, вернувшись из Киева, рассказывал ему и Оболенскому, «что дела Южного общества в самом хорошем положении, что корпуса князя Щербатова и генерала Рота (генерал-лейтенант Л. О. Рот командовал 3-м пехотным корпусом, в состав которого входил Черниговский пехотный полк. – О.К.) совершенно готовы».
Свидетельство Рылеева Трубецкому предъявили 4 мая, и он начал его отчаянно опровергать: «Корпуса князя Щербатова я не называл, и если Рылеев и к[нязь] Оболенский приняли, что я в числе готовых корпусов для исполнения намерения Южного общества полагал и 4-й пехотный, то они ошиблись; а мне сказать это было бы непростительным хвастовством, которое не могло бы мне удаться, ибо если бы они спросили у меня, кто члены в 4-м корпусе, то таковой вопрос оказал бы, что я солгал».
Формально Трубецкой был прав. За все время пребывания на юге он не принял в общество ни одного нового члена. Сергей Муравьев показывал, что Трубецкой не выполнил его просьбу «стараться о приобретении членов в 4-м корпусе».
Вообще же к концу 1825 года в войсках 4-го корпуса служили всего четверо причастных к заговору офицеров. Все они попали в тайное общество помимо Трубецкого; после подавления восстания никто из них не понес серьезного наказания.
6 мая 1826 года на очной ставке между Трубецким и Рылеевым, следователи, в частности, выясняли, говорил или не говорил Трубецкой о своих надеждах на 4-й корпус. И князь вынужден был признать справедливость показания поэта.
Вся история с показаниями Трубецкого о 4-м корпусе загадочна лишь на первый взгляд. Объяснение ей можно найти в следственном деле майора Вятского полка Николая Лорера – одного из самых близких к Пестелю заговорщиков. Хорошо ориентировавшийся в делах тайного общества Лорер показывал: «Тайное общество имело всегда в виду и поставляло главной целью обращать и принимать в члены… людей значащих, как-то: полковых командиров и генералов, и потому поручено было князю Трубецкому или он сам обещался узнать образ мыслей князя Щербатова и тогда принять его в общество»[343].
«Кажется, что главная роль Трубецкого заключалась в соответствующем воздействии на высшее командование корпуса. При благоприятном стечении событий в его руках могли оказаться все войска корпуса. Это обстоятельство, можно предполагать, заставляло держаться его возможно осторожнее», – считает Н. Ф. Лавров, биограф Трубецкого[344].
Руководители же Васильковской управы, скорее всего, просто не знали о подобных «приготовлениях» Трубецкого.
Судя по всему, в декабре 1825 года основные политические интересы Трубецкого на самом деле лежали вне столицы. Главной задачей, которую ставил себе диктатор перед решающим днем, могла быть задача длительной дестабилизации ситуации в Петербурге. Тем самым перед его сторонниками в 1-й армии открывалась возможность начать решительные действия. Поэтому идея вывода войск за город была не столь уж фантастической: чем дальше войска отошли бы от столицы, чем дольше с ними вели бы переговоры – тем больше времени продолжался бы паралич центральной власти.
* * *
Утром 23 декабря Следственная комиссия заслушала показания корнета Кавалергардского полка Петра Свистунова, арестованного в ночь с 20 на 21 декабря в Москве. Свистунов, между прочим, утверждал: Трубецкой просил «письмо от него отвезти» в Москву, «г[енерал]-м[айору] Орлову».
Допрошенный в тот же день, Трубецкой подтвердил показания Свистунова: «Я написал письмо к г[енерал]-м[айору] Орлову, в котором я уговаривал его, чтоб он приехал; я чувствовал, что я не имею духу действовать к погибели, и боялся, что власти не имею уже, чтоб остановить, надеялся, что, если он приедет, то он сию власть иметь будет». Иными словами, Трубецкой убеждал следователей, что Орлов был нужен ему постольку, поскольку своим авторитетом мог остановить начинавшийся военный мятеж.
Но долго настаивать на этой версии Трубецкой не смог. Свистунов, оповещенный о содержании письма, сообщил следствию, что «Трубецкой говорил Орлову, чтоб приехал в Петербург немедля, что войска, конечно, будут в неустройстве и что нужно воспользоваться первым признаком оного… что происшествие, конечно, будет, и желательно бы было, чтоб он ускорил своим приездом».
Трубецкой был вынужден изменить показания и утверждал 15 февраля 1826 года: Орлова он просил приехать в столицу, поскольку «что здесь будет, то будет, причем все равно, как и без него».
Суммируя эти показания, можно сказать, что полковник Трубецкой приглашал генерал-майора Орлова приехать в Петербург и возглавить восстание.
Генерал-майор Михаил Орлов был хорошо известен в гвардии и армии. Известен прежде всего блестящим прошлым: герой Отечественной войны, в 1814 году он подписал акт о капитуляции Парижа, затем выполнял дипломатические поручения в Скандинавии. В 1818 году он получил должность начальника штаба 4-го пехотного корпуса 1-й армии, с 1820 по 1823 год командовал 16-й пехотной дивизией. В дивизии Орлов – практически сразу же после назначения – стал солдатским кумиром. Он отменил в дивизии телесные наказания, отдал под суд тиранивших солдат офицеров, организовал при полках ланкастерские школы. Орлов был заговорщиком «со стажем»: руководил Кишиневской управой Союза благоденствия и разрабатывал планы военной революции под своим собственным руководством.
Трубецкой был знаком с Орловым; они познакомились в начале 1825 года в Киеве. Однако их общение ограничивалось только светскими визитами; бесед о тайном обществе они между собой никогда не вели. «Я с Орловым во все время пребывания его в Киеве в мою бытность ничего об обществе не говорил», – показывал Трубецкой.
Орлов подтверждал эти показания: «В 1825 году приехал Трубецкой, и как он стал часто меня посещать, то я, привыкший к пытке и к обороне, думал, что он тоже станет меня склонять к вступлению в общество. Но он ничегоне говорил, кромео общих предметах, и это меня немало удивило».
У Трубецкого были веские причины не заводить конспиративных бесед с Орловым: северный руководитель знал, что генерал испытывал острую ненависть к Сергею Муравьеву-Апостолу, его старшему брату Матвею, а также к подпоручику Бестужеву-Рюмину. И ненависть эта была взаимной. «У Трубецкого вскоре поселились почти без выхода Сергей и Матвей Муравьевы с Бестужевым. Всякий раз, что я приеду, то они обыкновенно встанут и выйдут в другую комнату, делая только самую необходимую вежливость не мне, а мундиру моему», – показывал Орлов на следствии[345].
Кроме того, к моменту знакомства с Трубецким генерал Орлов уже два года не командовал дивизией и четыре года как отошел от заговора. В его жизни произошли важные события: в 1821 году Орлов женился, поссорился с руководителем Южного общества Павлом Пестелем и отказался присоединить свою управу к Южному обществу. В 1822 году был арестован его ближайший сподвижник майор Владимир Раевский, занимавшийся – с его ведома – революционной агитацией среди солдат, и к моменту восстания в Петербурге следствие по делу Раевского еще не было окончено. В 1823 году Орлов был отстранен от командования дивизией и отправлен «состоять по армии» в связи с волнениями среди подчиненных ему солдат.
Однако Орлов был столь популярен, а его либеральные взгляды столь известны, что Трубецкой был уверен: в решительную минуту генерал не откажет ему в помощи. К тому же близкий родственник Орлова, князь Сергей Волконский, убеждал Трубецкого, что «хотя генерал-майор Орлов теперь и не вмешивается ни во что и от всех обществ отстал, но в случае нужды можно на него надеяться».
Приехав из Киева в столицу, Трубецкой поделился с Рылеевым собственными размышлениями об Орлове. Судя по показаниям поэта, когда он «открывал» Трубецкому свои опасения начет честолюбивых устремлений руководителя Южного общества Павла Пестеля, князь заметил: «Не бойтесь, тогда стоит только послать во 2-ю армию Орлова – и Пестеля могущество разрушится». «Но когда я по сему случаю спросил Трубецкого: “Да разве Орлов наш?” – то он отвечал: “Нет, но тогда поневоле будет наш”».
Орлов, комментируя на следствии письмо Трубецкого (так, кстати, до него и не дошедшее и известное ему лишь в пересказе), замечал: «Писать мне 13-го с просьбой прийти ему на помощь 14-го было со стороны Трубецкого нелепым безрассудством, закоторое яне несу ответственности»[346].
Но, принимая во внимание стремление диктатора организовать длительную дестабилизацию власти в столице, следует отметить, что письмо это было не столь безрассудным.
«Ясно, что Трубецкой вызывал Орлова… никак не для завтрашних действий, а для каких-то более отдаленных», – утверждала М. В. Нечкина. Она весьма прозорливо предполагала: Трубецкой хотел «иметь надежного заместителя диктатора на севере» в случае собственного отъезда на юг[347].
Скорее всего, Нечкина была права. С той только оговоркой, что генерал Орлов, известный всей армии честолюбец, вряд ли согласился бы оставаться на вторых ролях, быть «заместителем» полковника Трубецкого. Очевидно, что в случае принятия предложения Трубецкого диктатором должен был стать именно Орлов. Трубецкой же собирался, организовав столичное восстание и поставив во главе его генерала Орлова, ехать на юг, где – с помощью Сергея Муравьева-Апостола и князя Щербатова – организовывать революционный поход двух корпусов на Петербург.
* * *
Трудно судить, как бы повел себя Орлов в критической ситуации: когда ему стало известно о предложении Трубецкого, восстание в столице уже несколько дней как было разгромлено. Однако история с Орловым показывает: план Трубецкого был весьма рискованным, близким к политической авантюре.
На пути реализации этого плана, кроме отказа Орлова, диктатора поджидали и другие опасности – которые он, судя по всему, предвидел. Восстать могло малое количество войск – и тогда на переговоры с ними никто бы не пошел. Кроме того, восстание могло сопровождаться беспорядками, и в этом случае успех переговоров с властью становился призрачным. Очевидно, именно поэтому Трубецкой накануне 14 декабря уговаривал ротных командиров не начинать восстание «малыми силами». Отсюда же – и его приказ первыми «стрельбы не начинать»[348].
Не вышел же князь на площадь потому, что в первый момент восстал только один полк – лейб-гвардии Московский, да и то не в полном составе. Для начала же действий по его плану одного полка было явно недостаточно. Практически сразу же после появления на Сенатской площади Московского полка пролилась кровь: штыковым ударом поручика князя Оболенского и пистолетным выстрелом отставного поручика Каховского был убит генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. И после этого восстание в двух других полках: лейб-гренадерском и Морском экипаже – было уже бессмысленным. С людьми, запятнавшими себя «буйством» и кровью, император Николай не пошел бы на переговоры ни в каком случае.
Кроме того, к моменту сбора все восставших полков на Сенатской площади императору удалось стянуть против них значительные силы; площадь была окружена. Причем окружена не только правительственными войсками, но и большой толпой любопытствующих зевак. И уводить восставших за город значило с боем пробиваться через оставшиеся верными правительству части; при этом могли погибнуть и мирные жители. Вместо запланированных переговоров с властью вполне могла начаться братоубийственная резня. Руководить же ею полковник князь Трубецкой явно не собирался.
Впрочем, судя по показаниям Трубецкого в самом начале следствия, несмотря на разгром на Сенатской площади диктатор не считал свою игру окончательно проигранной. Шанс исправить ситуацию оставался у ближайшего сподвижника князя – подполковника Сергея Муравьева-Апостола. От диктатора требовалось сделать все, от него зависящее, чтобы отдалить арест васильковского руководителя. И именно отсюда – настойчивое противопоставление Пестеля и Муравьева в первых показаниях князя.
Глава VII. «Вечером поехали к госпоже Поль…»
На первом допросе утром 23 декабря кавалергардский корнет Петр Свистунов, сообщая о письме Трубецкого к Орлову, поведал еще одну подробность из их с Трубецким переговоров накануне восстания. Диктатор передал ему письмо в присутствии Ипполита Муравьева-Апостола, младшего брата руководителя Васильковской управы. Припертый к стенке откровением корнета, Трубецкой должен был признать, что Ипполит Муравьев присутствовал при разговоре не случайно: «Чрез Ипполита Муравьева-Апостола я послал к брату его Сергею письмо».
Суммируя показания князя, можно отчасти восстановить содержание отправленного в Васильков послания. Письмо было составлено по всем правилам конспирации: на французском языке, «без надписи и без подписи».
Трубецкой утверждал, что письмо содержало прежде всего изложение петербургских слухов и сплетен: «Начинал с получения здесь известия о болезни и кончине блаженной памяти государя императора, писал о данной присяге государю цесаревичу, о слухах, что его высочество не примет престола, и сообщал ему все те слухи, которые до меня доходили как на счет ныне царствующего государя императора, так на счет государя цесаревича, также все, что я слышал на счет расположения двора, гвардии, о мерах, которые будто бы хотели взять для приведения к присяге войск».
В подобном изложении письмо к Муравьеву-Апостолу не содержало в себе ничего криминального, и непонятно, зачем его надо было отправлять с особым курьером, «без надписи и без подписи». Частная переписка тех тревожных дней была наполнена подобными слухами. Но, в очередной раз комментируя для следователей это письмо, Трубецкой вдруг проговаривается: «Между прочим, я в оном говорил о слухах, что будто гвардию для присяги хотят вывести за город».
Трудно сказать, собирался ли кто-нибудь из высших военных руководителей выводить гвардию для присяги за город. Но вывести гвардию из Петербурга собирался сам Трубецкой. Скорее всего, в форме слухов и сплетен князь сообщал Сергею Муравьеву план собственных действий.
Следует отметить, что к подобной «тайнописи» в эпистолярном общении с Муравьевым-Апостолом князь прибегал не в первый раз: иносказательная форма изложения была заранее оговоренным приемом в переписке двух конспираторов.
Так, согласно собственным показаниям Трубецкого в 1824 году он письменно сообщил Сергею Муравьеву об итогах «объединительных» совещаний и о том, «как бредил Пестель», рассуждая о цареубийстве. Письмо передавал член Южного общества полковник Иван Повало-Швейковский, которого Трубецкой едва знал и которому боялся поверять конспиративную информацию. Поэтому совещания были описаны «в виде трагедии, которую читал нам общий знакомый и в которой все лица имеют ужасные роли».
Трубецкой показывал: отправляя накануне 14 декабря послание к Сергею Муравьеву, он хотел, чтобы руководитель Васильковской управы «не более приписывал мне участия в том, что произойти могло, как то, которое я имел». Иными словами, Муравьев предупреждался о том, «что произойти могло», о предстоящем восстании. Трубецкой сообщал ему и о своей собственной роли в предстоящих событиях.
Кроме пересказа слухов и сплетен, письмо содержало, согласно Трубецкому, сообщение о том, что «если правительство не примет надлежащих мер (разумея таких, которые бы могли тотчас убедить солдат в истине отречения государя цесаревича), то из сего последовать может беда»[349].
Естественно, что 13 декабря было ясно: присяга императору Николаю I, назначенная на утро 14-го числа, не сможет убедить солдат «в истине отречения государя цесаревича» – «правительство» просто не успеет принять «надлежащие меры». Если пытаться прочесть эту фразу, учитывая тайнопись князя, то, скорее всего, Трубецкой сообщал Муравьеву о безошибочном способе воздействия на солдат. Предлагалось действовать от имени великого князя Константина, отречение которого якобы не было «истинным».
Вряд ли можно верить князю, желавшему, судя по его показанию, «надлежащих мер» от правительства, чтобы предотвратить «беду». Последние перед восстанием дни Трубецкой все сделал для того, чтобы «беда» все же произошла – и очевидно, что Сергею Муравьеву-Апостолу посылалось приглашение участвовать в подготовке «беды».
Обстоятельства поднятого Муравьевым-Апостолом восстания на юге позволяют сделать и еще один вывод: в письме содержался призыв Трубецкого установить контакт с Киевом.
* * *
Подробности поездки курьеров Трубецкого – Петра Свистунова и Ипполита Муравьева-Апостола – важны для уяснения причин, по которым «южная» часть плана Трубецкого так и не была реализована. Подробности эти подтверждают банальную мысль: ход истории во многом зависит от целого ряда случайностей, которых не могут предвидеть даже самые прозорливые исторические деятели.
Биография Петра Свистунова хорошо известна. Отпрыск богатого аристократического рода, он был сыном Николая Петровича Свистунова, камергера двора и одного из фаворитов императора Павла I. Мать декабриста, Мария Алексеевна, урожденная Ржевская, была дочерью знаменитого поэта XVIII века, сенатора Алексея Ржевского; в 1815 году, после смерти мужа, она приняла католичество. Петр Свистунов учился в элитных частных пансионах Петербурга, затем окончил Пажеский корпус – лучшее военно-учебное заведение России. В Пажеский корпус, за редким исключением, принимались только сыновья и внуки военных и статских генералов. В 1823 году, окончив корпус, он стал корнетом Кавалергардского полка[350].
Декабрист Дмитрий Завалишин, хорошо знавший Свистунова по совместным годам сибирской каторги, на склоне лет даст ему следующую характеристику: «Свистунов был столько же труслив, как и развратен… В семействе своем Свистунов видел дурные примеры той смеси католического суеверия с развратом, которые обуяли тогда многие русские семейства»[351].
Историки в своих работах предпочитают этой характеристикой не пользоваться: Завалишин славился злоязычием, а его отношения со Свистуновым были стойко враждебными. Однако учитывая поведение корнета в декабре 1825 года, в характеристике этой нельзя не признать и доли правды.
Вряд ли «дурные примеры» поведения Свистунов почерпнул в своей семье: про какую-то особую «развратность» его ближайших родственников сведений не сохранилось. Скорее, примеры эти корнет видел среди своих товарищей по службе. Кавалергардский полк считался самым привилегированным в российской гвардии, а офицеры-кавалергарды славились среди современников своим «удалым» поведением.
Об этом «удальстве» писал в мемуарах Сергей Волконский. И хотя он характеризует поведение кавалергардов 1810-х годов, нет никаких оснований предполагать, что в 1820-х полковые нравы исправились.
Многие офицеры Кавалергардского полка состояли в заговоре. При этом членство в тайной организации «буйству» вовсе не противоречило. Феномен поведения кавалергардских офицеров было сродни российскому «чудачеству» XVIII века: одновременно участвуя и в заговоре, и в громких кутежах, молодые люди таким образом стремились проявить себя, выйти за рамки обыденности, доказать свою самость. Особенности мировосприятия кавалергардов хорошо понимал Пестель, с 1814 по 1819 год сам служивший в кавалергардах. Не случайно офицеры именно этого полка составили ядро созданной им петербургской ячейки Южного общества.
Членом столичной ячейки южан был и Петр Свистунов. В 1824 году его принял в общество кавалергардский корнет Федор Вадковский, близкий соратник Пестеля. Более того, Свистунов был и одним из руководителей этой ячейки: Пестель дал ему высокую в заговорщической иерархии должность «боярина» и поручил вербовать в тайное общество новых членов. Исполняя свою новую роль, Свистунов был активен: на его квартире Пестель вел с членами ячейки разговор о республиканской форме правления, а после отъезда Пестеля они с Вадковским собирались «воспользоваться большим балом в Белой зале для истребления священных особ августейшей императорской фамилии»[352].
О втором курьере Трубецкого, Ипполите Муравьеве-Апостоле, историкам известно гораздо меньше, чем о Свистунове. Несмотря на то, что его знаменитые братья – Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы – герои множества статей и монографий, биография Ипполита не привлекала и не привлекает к себе внимания исследователей. Исследователи убеждены: документов, проливающих свет на его биографию, не сохранилось: «Вряд ли когда-нибудь появится книга о младшем брате: 19-летняя жизнь оставила всего несколько следов в документах, преданиях… Где-то рядом были стихи, горе, радость, первые увлечения – не знаем. 3 января 1826 года – смерть»[353].
Но историки не правы: короткая жизнь младшего брата васильковского руководителя отразилась в большом количестве разнообразных документов. Документы эти позволяют сделать выводы о личности и мотивах поведения Ипполита Муравьева-Апостола с немалой степенью достоверности.
Ипполиту Муравьеву-Апостолу в 1826 году было не 19, а 20 лет: он родился в Париже 7 августа 1805 года[354]. Младший представитель знаменитого декабристского «муравейника», Ипполит рано остался сиротой. Его мать, Анна Семеновна Черноевич, дочь сербского генерала на русской службе, скоропостижно умерла в 1810 году, когда сыну было четыре года. Кроме того, с детства он был обойден вниманием отца. Отец, сенатор и писатель, бывший дипломат Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, вторично женившийся после смерти первой жены, отдал Ипполита на воспитание своей родственнице Екатерине Федоровне Муравьевой – матери декабриста Никиты Муравьева. Ипполит рос вместесмладшим братом Никиты Александром Муравьевым, впоследствии тоже ставшим заговорщиком.
В 1815 году отец забрал Ипполита у Екатерины Федоровны – несмотря на явное нежелание последней отдавать его. Но и после этого он подолгу не видел сына: известно, например, что осенью 1817 и зиму 1818 года Ипполит жил в Москве на попечении гувернера, отец же в это время «захлопотался» в своем имении в Полтавской губернии.
Образование, которое с ранней юности получал Ипполит, было чисто гуманитарным, классическим. В 1817 году Никита Муравьев сообщал матери: Ипполит «ничему не учился, кроме латинского и греческого языков». В изучении древних языков Ипполит явно делал успехи: к удивлению Никиты, двенадцатилетний ребенок на его глазах «переводил 1-ю песню “Илиады” с греческого». «Он имеет очень много способностей», – писал Никита матери.
Но для того, чтобы стать военным, знания латыни и греческого было явно недостаточно. Отец же не утруждал себя размышлениями о будущей карьере сына, забывал нанять ему учителей по другим предметам. И потому гувернер Ипполита, по-видимому, сочувствовавший своему воспитаннику, был вынужден нанимать ему учителей за собственные деньги[355].
В мае 1824 года, незадолго до девятнадцатилетия сына, отец отдал его учиться в Петербургское училище колонновожатых[356]. Училище это было гораздо менее престижным, чем Пажеский корпус. Однако и оно пользовалось популярностью в дворянских кругах: выпускавшиеся из его стен офицеры-квартирмейстеры быстро продвигались в чинах и – в итоге – делали хорошие карьеры. Однако нравы, царившие в этом учебном заведении, были суровыми: училище было казенным и закрытым, быт воспитанников строго регламентировался, отлучки дозволялись редко, в основном по праздникам. Строго воспрещались «курение, игра в карты, чтение книг, не разрешенных инспектором», а также «посещение театров, маскарадов, концертов, кондитерских, езда в экипаже». «За всякое нарушение установленных положений налагались разнообразные наказания, выговоры, лишение отпуска, занесение на черную доску, отделение за особый стол, разного рода аресты, наконец, исключение из заведения на службу в армию унтер-офицерами».
Военный историк Н. П. Глиноецкий, внимательно изучавший документы училища, был убежден: воспитанники относились к своим преподавателям «враждебно», как к «надзирателям и притеснителям». Эта вражда порождала в среде учеников озлобление и естественный протест, часто завершавшийся жестокими наказаниями. За три года существования этого заведения двадцать два его воспитанника были выпущены офицерами, а еще двадцать – разжалованы в унтер-офицеры или рядовые[357].
Несмотря на явные гуманитарные склонности, учиться Ипполиту было, по всей видимости, несложно: общий курс обучения составлял два года. Ипполит же проучился в корпусе несколько месяцев. По результатам выпускных экзаменов он получил чин прапорщика Свиты его императорского величества по квартирмейстерской части.
Матвей Муравьев-Апостол писал в мемуарах: буквально накануне трагических событий декабря 1825 года, «только что», Ипполит «выдержал блестящий экзамен, был произведен в офицеры генер[ального] штаба (т. е. в Свиту его императорского величества по квартирмейстерской части. – О.К.)»[358]. Из воспоминаний Матвея Муравьева следует, между прочим, что Ипполит ничего о заговоре не знал и уж тем более не ведал о том, какую роль в тайном обществе играют его старшие братья. Историки обычно принимают это утверждение на веру, однако в данном случае Матвей грешит против истины.
Во-первых, Ипполит окончил училище не «только что», а за девять месяцев до восстания: приказ о его выпуске из училища с чином прапорщика датирован 29 марта 1825 года[359]. Во-вторых, Ипполит был заговорщиком, и заговорщиком весьма активным. Несмотря на свой чин прапорщика квартирмейстерской части, он входил в тесный кружок офицеров-кавалергардов. Как и Свистунов, Ипполит состоял в петербургской ячейке Южного общества. На следствии показания об этом дали многие кавалергарды: и Свистунов, и Александр Муравьев – друг детства Ипполита, и поручик Александр Горожанский. Кроме того, об участии Ипполита в заговоре знал армейский офицер Владимир Толстой, член Южного общества, близкий к руководителю ячейки Федору Вадковскому. Ипполит был даже в курсе переговоров Васильковской управы с Польским патриотическим обществом: о факте этих переговоров он узнал от брата Матвея.
В десятых числах декабря 1825 года Ипполит получил назначение в штаб 2-й армии в Тульчин[360]. Назначение это было странным: видимых причин для его перевода из столицы обнаружить не удалось. Более того, жившая в Петербурге старшая сестра Ипполита Екатерина была замужем за полковником Илларионом Бибиковым. Бибиков занимал один из ключевых постов в армейской иерархии: он был начальником канцелярии Главного штаба армии, правой рукой начальника штаба генерала Ивана Дибича. Естественно, Бибикову не стоило большого труда добиться оставления юного прапорщика в Петербурге. Однако служить в столице его не оставили; более того, выехать к новому месту службы он должен был незамедлительно.
По-видимому, назначение Ипполита в провинцию было продиктовано не служебной необходимостью, а желанием родных – и прежде всего отца – оторвать его от дурной компании кавалергардов. Ипполиту не доверяли и не хотели отпускать к новому месту службы одного. Согласно показаниям Трубецкого Екатерина Бибикова просила его «взять с собой до Киева… брата ее родного Ипполита Муравьева-Апостола, назначенного во 2-ю армию». Но поскольку – в связи с надвигавшимися событиями – Трубецкой задержался в Петербурге, а приказ требовал немедленного отбытия Ипполита, родственники согласились на то, чтобы юного офицера сопровождал до Москвы Свистунов. Свистунов отправлялся в служебную командировку и в любом случае до Москвы должен был доехать.
Судя по осторожным показаниям Трубецкого, он, в отличие от Екатерины Бибиковой, Ипполиту доверял, а Свистунову – нет. Для князя не было секретом, что извещенный о готовящемся восстании, накануне решающего дня Свистунов испытывал мучительные колебания. И в конце концов отказался поддержать восстание. «Я с ним (Свистуновым. – О.К.) долго о сем говорил и должен отдать ему справедливость, что он старался доказать, что успеха не может быть в таком предприятии», – утверждал князь на следствии. Свистунов решил уехать из столицы – и воспользовался для этого удачно подвернувшейся командировкой.
Впоследствии, на допросе, Свистунов будет утверждать, что Ипполит, тоже знавший о намеченном на 14 декабря восстании, не принял в нем участие только потому, что послушался его, Свистунова, уговоров. Однако кавалергард, давая показания, не знал ни о восстании на юге, ни о роли в нем Ипполита. В данном случае логично предположить другое: прапорщик, несмотря на свой юный возраст, был человеком гораздо более решительным, чем Свистунов. И уехал он не вследствие увещеваний своего приятеля, а потому, что хотел в точности выполнить поручение Трубецкого.
Вообще же свои основные надежды диктатор возлагал именно на Ипполита Муравьева-Апостола: именно он, согласно первоначальному замыслу, должен был отвезти письмо генералу Михаилу Орлову.
Свистунов же попал в поле зрения диктатора случайно: 12 декабря Трубецкой узнал, что Ипполит «сговорился ехать с Свистуновым» из Петербурга[361]. Привлекая «к делу» кавалергардского корнета, Трубецкой, по-видимому, надеялся, что таким образом он освободит Ипполита от необходимости визита к генералу, сможет ускорить приезд прапорщика на юг. Ипполиту, чтобы исполнить возложенное на него поручение, вовсе не обязательно было заезжать в Москву и тем более там задерживаться.
Однако 22-летний корнет Свистунов оказался плохим попутчиком 20-летнему прапорщику Муравьеву-Апостолу.
* * *
Уезжая из Петербурга, Свистунов не знал, что его имя – в связи с деятельностью тайных обществ – уже известно вступавшему на престол великому князю Николаю Павловичу. 12 декабря Николай получил из Таганрога от Дибича сведения о «страшнейшем из заговоров»; в списке заговорщиков, составленном по результатам доносов на них, значилась и фамилия кавалергардского корнета. Имя Ипполита Муравьева-Апостола в донесении Дибича не фигурировало.
Согласно показаниям Свистунова они с Ипполитом, «выехав из С.-Петербурга 13-го числа в 6-м часу пополудни, прибыли в Москву 17-го числа в 10-м часу вечера»[362].
Ехали курьеры Трубецкого крайне медленно: обыкновенно путь из Петербурга в Москву занимал на сутки меньше; при быстрой езде можно было доехать до Москвы и за два дня. За время их поездки было подавлено восстание на Сенатской площади, а Трубецкой оказался в тюрьме.
По дороге друзья встретили генерал-адъютанта графа Е. Ф. Комаровского, едущего в Москву для организации присяги новому императору. Впоследствии Комаровский напишет в воспоминаниях, что «выезд Свистунова из Петербурга очень беспокоил государя, и когда его величество узнал от одного приезжего, что я Свистунова объехал до Москвы, то сие его величеству было очень приятно»[363].
17 декабря, когда заговорщики наконец доехали до Москвы, Следственная комиссия, созданная для раскрытия заговора, постановила арестовать «кавалергардского полка корнета Свистунова»[364]. На следующий день приказ об аресте Свистунова был отправлен в Москву.
Впрочем, судя по тому, как проводили время курьеры Трубецкого, и Николай, и следователи беспокоились напрасно. Следственное дело Свистунова сохранило яркие детали их с Ипполитом совместного пребывания в Москве. И в данном случае Свистунову можно верить: он называет имена и фамилии тех людей, с которыми встречался, – и показания его проверить было нетрудно.
Свистунов показывал, что, приехав, они с Ипполитом «ночевали в гостинице у Копа». Гостиница «Север», принадлежащая купцу 3-й гильдии И. И. Копу, располагалась в самом центре Москвы, в Глинищевском переулке, и считалась одной из самых дорогих в городе. День 18 декабря начался для обоих друзей с визита «к г[осподину] московскому коменданту».
Затем, согласно Свистунову, «князь Гагарин, с которым воспитывался в Пажеском корпусе и который остановился в той же гостинице, предложил нам ехать в русский трактир обедать. Мы согласились. Оттуда он меня повез к г[оспо]же Данжевили, у которой провели целый вечер; я там видел князя Волконского, что служил в л[ейб]-г[вардии] Конно-егерском полку»[365].
Госпожа Данжевиль – это, скорее всего, популярная французская актриса Данжевиль-Вандерберг, выступавшая в 1820-х годах на сцене Малого театра, «довольно молодая, полная и красивая мадам»[366].
К вечеру 18 декабря до друзей-заговорщиков докатилось эхо петербургских событий: «Возвратившись домой, я услышал от Муравьева, что неслись слухи о том, что в С.-Петербурге было возмущение, ему было сказано от Пушкина, свитского офицера, у которого он был в этот вечер».
Очевидно, ночь друзья провели в раздумьях о будущем, по крайней мере, «19-го числа поутру, опасаясь, чтобы данное письмо от Трубецкого не было найдено у нас, он (Ипполит Муравьев. – О.К.) решился его распечатать, сжечь и содержание открыть г[енералу] Орлову на словах и съездил к нему то же утро».
Трубецкой просил поехать к Орлову именно Свистунова, а не Ипполита Муравьева. Но, по-видимому, корнет в последний момент испугался этого визита – и, исполняя просьбу Трубецкого, за него это сделал Ипполит. Орлов впоследствии подтвердил: «19-го или 20-го поутру вдруг явился ко мне Ипполит Муравьев и сказал, что он привозил письмо от Трубецкого, в котором он приглашал меня в Петербург, но письмо им разорвано и сожжено».
Однако ни тревожные вести из столицы, ни разговор с Орловым не заставили Ипполита немедленно покинуть Москву и отправиться к брату. 19 и 20 декабря светские визиты и разного рода увеселения продолжились. Свистунов показывал: «Я поехал повидаться с князем Голицыным, поручиком Кавалергардского полка, и видел у него брата его. От него съездил к своему дяде Ржевскому, где видел того же к[нязя] Волконского и князя Голицына, Павловского полка капитана. Оттуда отвез письмо к г[осподину] Устинову от брата его. Я его видел и жену его. Потом поехал к бабушке своей, у которой обедал и провел целый день. Вечером поехал к корнету Кавалергардского полка Васильчикову, он только лишь тогда возвратился из деревни. Я встретил у него Муравьева, мы пробыли вечер с его матушкой и с ним. Так как я согласился с ним у него в доме жить, то он предложил нам ночевать у него.
20-го числа, получивши приказание явиться к московскому военному генерал-губернатору, мы поутру являлись к нему. От него поехали в гостиницу, где, расплатившись с хозяином, отправили свои вещи в дом к Васильчикову и у него обедали и провели целый день. Вечером поехали все к г[оспо]же Поль, француженке, и к другой особе женского пола, о которых упоминаю для того только, чтобы не упустить ни одной подробности».
Упоминаемый в тексте кавалергардский корнет Николай Васильчиков тоже был членом тайного общества, причем принял его в общество именно Свистунов[367]. Для Свистунова переезд к Васильчикову был вполне логичен: он не собирался уезжать из Москвы и планировал прожить в этом доме целый год. Очевидно, что Ипполит, который не должен был оставаться в Москве, переехал к Васильчикову «за компанию». Втроем молодым людям было нескучно – о чем свидетельствует их вечерний визит к «госпоже Поль, француженке».
Личность француженки впервые была раскрыта в именном указателе к 14-му тому документальной серии «Восстание декабристов», в котором были опубликованы показания Свистунова. Сама же француженка рассказала об этом визите следующее: «В это время (через несколько дней после восстания на Сенатской площади. – О.К.) забежал ко мне Петр Николаевич Свистунов, который служил в Кавалергардском полку, был впоследствии сослан по делу 14 декабря, но не застал меня дома. Он не был в Петербурге в день 14 декабря. Я знала, что Свистунов – товарищ и большой друг Ивана Александровича, и была уверена, что он приходил ко мне недаром, а, вероятно, имея что-нибудь сообщить о своем друге. На другой же день я поспешила послать за ним, но человек мой возвратился с известием, что он уже арестован»[368].
Строки эти принадлежат перу знаменитой Полины Гебль, в 1825 году – любовнице еще одного кавалергарда-декабриста, Ивана Анненкова, приятеля и однополчанина Свистунова и Васильчикова. Под псевдонимом Жанетта Поль она служила в Москве, во французском модном доме Дюманси. Впоследствии она поехала за Анненковым в Сибирь, обвенчалась с ним, стала Полиной Егоровной Анненковой, а в старости продиктовала дочери мемуары.
Достоверность «досибирской» части мемуаров «госпожи Поль» давно поставлена историками под сомнение. В частности, первые биографы Полины, С. Я. Гессен и А. В. Предтеченский сомневались в правдивости трогательной истории про бедную, но гордую модистку и влюбленного в нее богатого кавалергарда, про французскую Золушку и русского принца – истории, уже почти 200 лет вдохновляющей писателей и поэтов. Гессен и Предтеченский писали: «Роман продавщицы из модного магазина и блестящего кавалергарда по началу своему не содержал и не сулил чего-то особенного и необычайного. Гвардейские офицеры из богатейших и знатнейших фамилий весьма охотно дарили свою скоропроходящую любовь молодым француженкам… Трудно предугадать, чем мог кончиться этот роман, если бы неожиданные, трагические обстоятельства не завязали по-новому узел их отношений».
В своих воспоминаниях она многое недоговаривала, путала хронологию, неверно излагала факты – и все потому, что «ей крайне не хотелось сознаваться в той скоротечности, с которой развивались ее отношения с Анненковым. Она впервые встретилась с ним очень незадолго до декабрьских событий»[369].
Полина Гебль пишет о Свистунове как о старом знакомом. Между тем, согласно ее же мемуарам модистка познакомилась с Анненковым в июне 1825 года в Москве, с июля путешествовала со своим новым другом по его обширным имениям в Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерниях[370], а в ноябре вернулась в Москву. Свистунов в это время тоже путешествовал: с мая по сентябрь 1825 года был в отпуску и ездил на Кавказ[371], затем – до 13 декабря – не выезжал из столицы. И нет никаких сведений о том, что в ходе своего путешествия он встречался с «госпожой Поль». Скорее всего, корнет был знаком с Полиной еще до ее романтической встречи с Анненковым. Но, учитывая традиции эпохи, в невинную дружбу кавалергарда и модистки поверить еще сложнее, чем в историю о Золушке и принце.
Очевидно, именно поэтому биограф Свистунова В. А. Федоров, повествуя о визите молодых людей к француженке, не раскрывает ее настоящего имени, которое ему было, конечно, известно[372]. Скорее всего, он намерено не стал развивать щекотливую тему.
Вряд ли можно верить воспоминаниям Полины о том, что 20 декабря 1825 года корнет приезжал рассказать ей о судьбе Анненкова. Она знала, что Свистунов уехал из Петербурга до восстания – следовательно, судьба Анненкова не могла быть ему известна. Кроме того, из показаний Свистунова вовсе не следует, что «госпожу Поль» он не застал дома. И, скорее всего, в квартире Полины «на канаве… у Кузнецкого моста, в доме Шора»[373] друзья-заговорщики в тот вечер побывали.
Присутствие на этой встрече некой другой «особы женского пола» весьма знаменательно. Свистунов не назвал на допросе ее имени явно не потому, что не хотел называть, – имена и фамилии других женщин, с которыми он виделся в Москве, в его показаниях присутствуют. Свистунов вряд ли вообще знал ее имя; скорее всего, речь шла об обыкновенной московской проститутке. Несомненно, корнет хорошо понимал, к кому и зачем он повел своих друзей.
Вскоре по возвращении от «госпожи Поль» и «особы женского пола» Свистунов был взят под стражу. Его арестовали в присутствии Ипполита, и незадачливый курьер не мог не понять, что вполне может разделить участь друга и так и не доехать до брата. Стоит добавить, что на первом же допросе 23 декабря Свистунов назвал фамилию Ипполита; 24 декабря император подписал приказ об аресте прапорщика.
Ипполит уехал из города быстро: по свидетельству Орлова, в первый свой визит к нему прапорщик обещал взять с собою на юг корреспонденцию генерала. Однако больше в доме Орлова он не появился[374]. В Васильков Ипполит приехал через 10 дней после выезда из Москвы: для оберофицера, едущего на перекладных по казенной надобности, это была практически невозможная оперативность.
Вряд ли в данном случае стоит упрекать прапорщика в легкомыслии: он был лишен родительского внимания, и многочисленные родственники не могли заменить ему отца и мать. Суровые нравы Училища колонновожатых только способствовали развитию полудетской обиды на несправедливый мир. И поведение Ипполита было вполне традиционным юношеским протестом против этой несправедливости, а заодно – и против нравственных устоев общества. И, конечно же, не его вина, что протест этот совпал по времени с трагическими событиями как в истории России, так и в истории его собственной семьи. К тому же через две недели после посещения «госпожи Поль» прапорщик покончил с собой – чем в полной мере искупил свой проступок.
Но стоит отметить, что если бы Ипполит Муравьев-Апостол не задержался на сутки на пути к Москве, а затем не потерял бы четыре дня в самом городе, он мог приехать к брату в Васильков по меньшей мере на пять дней раньше. Вполне возможно, что тогда исход поднятого Сергеем Муравьевым-Апостолом восстания Черниговского полка был другим.
Глава VIII. «Живого не возьмут…»
Советские историки, размышлявшие о Южном обществе в последние месяцы его существования, противопоставляли «предательскому» поведению Пестеля поведение Сергея Муравьева-Апостола. В той же ситуации ареста подполковник действовал по-другому: он начал восстание в Черниговском пехотном полку. Ученые сходились в том, что таким образом Сергей Муравьев спас честь Южного общества; не случись восстания в полку, все действия заговорщиков свелись бы только лишь к безответственной болтовне.
Но документы свидетельствуют и о другом: действия васильковского руководителя погубили не только его самого и его единомышленников, но и многих совершенно ни в чем не повинных людей. События, происходившие под Киевом 29 декабря 1825 – 3 января 1826 года, едва не спровоцировали в России вполне реальную гражданскую войну. В ходе этого восстания подполковник Муравьев-Апостол имел достаточно времени, чтобы понять правоту Пестеля, несколько лет удерживавшего его от подобных действий.
Сергей Муравьев не мог, конечно, знать о том, что Трубецкой послал к нему курьера. Восстание Черниговского полка он поднял совершенно самостоятельно. В декабре 1825 года сложилась ситуация, во многом отвечавшая его первоначальным намерениям: ему предстояло поднимать мятеж именно на юге и без поддержки столичных заговорщиков – чья организация оказалась разгромленной.
О возможности самостоятельных действий Муравьев успел предупредить Пестеля: накануне ареста южный лидер получил от васильковского руководителя записку следующего содержания: «Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю дело»[375].
О том, что происходило с председателем Директории после заключения под стражу, достоверных сведений у Муравьева не было. Но, скорее всего, его не обошел стороной зафиксированный во многих документах декабря 1825 года слух о том, что «полковник Пестель, будучи арестованным, застрелился»[376].
Соответственно, арест Пестеля и стал катализатором восстания.
* * *
С 25 декабря 1825 года события стали разворачиваться с катастрофической быстротой.
Приехав в этот день в город Житомир, Сергей Муравьев-Апостол «глухо и без всяких подробностей» узнал от сенатского курьера о разгроме восстания в столице. В Житомире находился штаб 3-го пехотного корпуса 1-й армии, куда входил Черниговский полк. Поехал же Муравьев в штаб пока еще со вполне мирной целью: просить корпусное начальство дать отпуск Бестужеву-Рюмину.
Но известие о петербургском разгроме кардинальным образом изменило планы Муравьева-Апостола: он принял решение начинать собственное восстание. Матвей Муравьев-Апостол, сопровождавший брата в поездке, вспоминал впоследствии: «По приезде в Житомир брат поспешил явиться к корпусному командиру, который подтвердил слышанное от курьера. Об отпуске Бестужеву нечего было уже хлопотать. Когда брат возвратился на квартиру, коляска была готова, и мы поехали обратно в Васильков»[377].
Перед отъездом Сергей Муравьев успел, однако, встретиться с польским заговорщиком графом Петром Мошинским. Обсуждали события в Петербурге и планы дальнейших действий. Мошинский заявил, что «по слабости Польши у них постановлено правилом не начинать действия самим отдельно, а выжидать удобного случая». Муравьев, судя по его позднейшим показаниям, условился с поляком, «что если б Общество наше вознамерилось начать, то я уведомлю его письмом, в коем я назначу как будто днем приезда моего в Житомир день начинания действий»[378].
Первую остановку братья сделали в Брусилове, штабе Кременчугского пехотного полка. Братья надеялись поговорить с командиром полка Петром Набоковым, но того, по-видимому, не оказалось дома.
* * *
Задумав восстание, Сергей Муравьев столкнулся с серьезными проблемами. Проблемами, которых он, судя по его словам и действиям в 1821–1825 годах, раньше просто не замечал.
Пестель много лет пытался внушить Муравьеву, что выступать без поддержки – гибельно. Воли и мужества нескольких заговорщиков для успеха восстания явно недостаточно. Муравьев, возражая Пестелю, говорил, что можно поднять мятеж и одним полком, а все воинские команды, которые будут посланы на усмирение этого полка, тут же будут становиться их союзниками. Теперь, накануне решительных действий, Муравьев все же попытался добиться гарантий поддержки от членов своей управы.
К концу 1825 года Муравьеву-Апостолу казалось, что под его твердым контролем находятся два пехотных и один гусарский полк. В Черниговском полку служил сам Муравьев-Апостол. В заговоре состоял командир Полтавского полка Тизенгаузен, в этом же полку служил Бестужев-Рюмин.
Командиром Ахтырского гусарского полка, овеянного славой множества битв и одного из самых знаменитых в русской армии, был двоюродный брат Сергея Муравьева полковник Артамон Муравьев. Артамон Муравьев был активным заговорщиком, казалось, он всецело предан «общему делу». На заседаниях он «произносил беспрестанно страшные клятвы – купить свободу своею кровью», постоянно вызывался на цареубийство, называл себя «террористом». Уговаривая колеблющихся не покидать общество, он «как безумный, вызывался на все; говорил, что все можно, лишь бы только быть решительну»[379]. Незадолго до смерти Александра I Артамон Муравьев решил поехать в Таганрог и убить императора. При этом он показал такую решительную готовность и нетерпение, что Сергею Муравьеву едва удалось уговорить его отложить акцию до того момента, когда тайное общество будет готово к действиям.
Верность и преданность командира ахтырцев были тем важнее, что командиром еще одного гусарского полка, Александрийского, был родной брат Артамона полковник Александр Муравьев. Кроме того, васильковские заговорщики были уверены в поддержке своего «предприятия» 8-й артиллерийской бригадой 1-й армии. В этой бригаде служило большинство участников Общества соединенных славян.
Но, пытаясь поднять мятеж в этих частях, Муравьев-Апостол столкнулся с еще одной проблемой, которой раньше он значения не предавал – с проблемой связи. Из-за отсутствия связи сразу же пришлось расстаться с надеждами на помощь Полтавского полка. Во главе с полковником Тизенгаузеном полк был послан на строительные работы в город Бобруйск. Бобруйск был расположен далеко от Василькова, и отправить туда было некого. Но все же надежда на другие части оставалась – и Муравьев-Апостол перед восстанием попытался лично наладить с ними связь. После полтавцев наиболее надежным казались ахтырские гусары.
В тот же день, 25 декабря, в отсутствие батальонного командира, в Черниговском полку прошла присяга новому императору Николаю I. Все роты были собраны в Василькове. Младшие офицеры, состоявшие в заговоре, испытали по этому поводу «бурный порыв нетерпения» и едва не подняли самостоятельное восстание. Правда, в итоге они все же сумели удержаться в рамках благоразумия – и решили дождаться возвращения Сергея Муравьева-Апостола.
Член Славянского общества Иван Горбачевский расскажет впоследствии со слов офицеров-черниговцев, что «рано поутру» 25 декабря штабс-капитан Соловьев и поручик Щепилло пришли к командиру полка с рапортом о прибытии их рот в штаб. «Когда они явились, подполковник Гебель спросил у них, между разговорами, знают ли они причину требования в штаб? Соловьев отвечал, что он слышал, будто бы присягать новому государю. Гебель сие подтвердил, прибавляя, что он боится, чтобы при сем случае не было переворота в России, – и при сих словах заплакал. Соловьев отвечал с улыбкой, что всякий переворот всегда бывает к лучшему и что даже желать должно. “Ох, боюсь”, – сказал, закрыв руками лицо, Гебель, как будто предчувствуя то, что с ним случится. Соловьев начал шутить, Гебель – плакать, а Щепилло, который был характера вспыльчивого и нетерпеливого, ненавидел Гебеля за его дурные поступки, дрожал от злости, сердился и едва мог удерживать свою досаду». «Соловьев рассказывает, что из этого вышла пресмешная и оригинальная сцена», – добавляет Горбачевский.
Впрочем, присяга в полку прошла спокойно. Если, конечно, не считать того, что поручик Щепилло, отлучившись «неизвестно куда», не стал подписывать присяжные листы. А штабс-капитан Соловьев «вполголоса, но довольно внятно, осуждая возобновлявшуюся присягу, говорил, что должно оставаться верными государю цесаревичу Константину Павловичу; что, впрочем, можно целовать крест и Евангелие, лишь бы только в душе остаться ему преданными». Сразу же после того, как присяга окончилась, роты были отпущены по своим квартирам.
Офицеры же остались в Василькове: в тот вечер полковой командир давал бал у себя дома. Кроме офицеров, на балу присутствовали «городские жители и знакомые помещики с их семействами. Собрание было довольно многочисленное; хозяин всеми силами содействовал к увеселению гостей, а гости старались отблагодарить его радушие, веселились от чистого сердца и танцевали, как говорится в тех местах, до упаду. Музыка не умолкала ни на минуту; дамы и кавалеры кружились беспрестанно в вихре танцев; даже пожилые люди принимали участие в забавах, опасаясь казаться невеселыми. Одним словом – веселиться, и веселиться искренно было общим желанием, законом собрания; время летело быстрее молнии».
В разгар веселья «вдруг растворилась дверь в залу, и вошли два жандармских офицера», поручик Несмеянов и прапорщик Скоков. «Мгновенно удовольствия были прерваны, все собрание обратило на них взоры, веселие превратилось в неизъяснимую мрачность; все глядели друг на друга безмолвно, жандармы навели на всех трепет. Один из них подошел к Гебелю, спросил его, он ли командир Черниговского полка, и, получа от него утвердительный ответ, сказал ему:
– Я к вам имею важные бумаги.
Гебель тотчас удалился с ним в кабинет», – рассказывает Горбачевский[380].
Жандармы предъявили Гебелю приказ об аресте батальонного командира Сергея Муравьева-Апостола, а также его старшего брата Матвея.
Явившись на квартиру подполковника, командир полка и жандармы застали там Бестужева-Рюмина, ожидавшего возвращения друга. В его присутствии производился обыск, бумаги братьев Муравьевых опечатали. После обыска Гебель с жандармами отправился в погоню: необходимо было немедленно выполнить приказ об аресте.
Бестужев же после ухода жандармов тоже отправился разыскивать братьев – «уведомить» их о событиях в Василькове.
* * *
Утром 26 декабря Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы приехали в Троянов – место дислокации Александрийского гусарского полка. Допрошенный впоследствии по поводу визита кузенов командир полка полковник Александр Муравьев показал: визит кузенов его «нисколько не удивил», он посчитал их приезд «обыкновенным родственничьим посещением». Разговор шел, в частности, «о случившемся в С. Петербурге 14 числа декабря происшествии».
В ходе обеда с родственниками командир александрийцев прочел присланное ему из столицы письмо, в котором описывались подробности этого «происшествия». Содержание письма сильно повлияло на Сергея Муравьева. «Предузнав судьбу, меня ожидающую, но желая вместе скрыть чувства мои от Александра, я объявил ему, что далее остаться не могу, поеду в полк, но прежде посещу Артамона», – показывал васильковский руководитель на следствии.
О том, что оба кузена самым непосредственным образом связаны со столичными заговорщиками, Александр Муравьев не подозревал. По его собственным словам, «они меня к совокупному с ними действию никаким образом никогда не убеждали и не уговаривали»[381].
Александр Муравьев, по-видимому, говорил правду. План предусматривал, что командира александрийских гусар должен был «увлечь» Артамон, его родной брат. Убежденный противник революции, без этого командир александрийцев никогда не согласился бы поддержать восстание. Поэтому, пробыв несколько часов в Троянове, заговорщики отправились в местечко Любар – место квартирования Ахтырского гусарского полка.
27 декабря Сергей Муравьев-Апостол появился в местечке Любар, штаб-квартире ахтырских гусар.
Беседа с Артамоном тоже началась с обсуждения событий 14 декабря. «Они мне сообщали известия, слышанные ими, а я им дал газеты и получаемые мною приказы», – сообщил командир ахтырцев на следствии. Обострил ситуацию внезапный приезд в Любар Бестужева-Рюмина: он рассказал заговорщикам об обыске в васильковской квартире Сергея Муравьева-Апостола.
Первой мыслью будущего лидера мятежа было «отдаться в руки» разыскивавших его жандармов, Матвей Муравьев-Апостол предложил всем участникам беседы «застрелиться», не дожидаясь ареста.
О том, что происходило на квартире Артамона Муравьева после приезда Бестужева-Рюмина, красочно рассказывает Горбачевский:
«– Тебя приказано арестовать, – сказал он (Бестужев-Рюмин. – О.К.), задыхаясь, С. Муравьеву, – все твои бумаги взяты Гебелем, который мчится с жандармами по твоим следам.
Эти слова были громовым ударом для обоих братьев и Артамона Муравьева.
– Все кончено! – вскричал Матвей Муравьев. – Мы погибли, нас ожидает страшная участь; не лучше ли нам умереть? Прикажите подать ужин и шампанское, – продолжал он, оборотясь к Артамону Муравьеву, – выпьем и застрелимся весело.
– Не будет ли это слишком рано? – сказал с некоторым огорчением С. Муравьев.
– Мы умрем в самую пору, – возразил Матвей, – подумай, брат, что мы четверо – главные члены, и что своею смертью можем скрыть от поисков правительства менее известных.
– Это отчасти правда, – отвечал С. Муравьев, – но, однако ж, еще не мы одни главные члены Общества. Я решился на другое».
«Если доберусь до батальона, то живого не возьмут», – таким было окончательное решение руководителя Васильковской управы.
В этот же момент Артамон получил прямой приказ о начале восстания – и согласился этот приказ исполнить. «Артамон обещал присоединиться к нам, если мы выступим», – показывал Бестужев-Рюмин.
Пытаясь установить экстренную связь со «славянами», Сергей Муравьев написал записку в 8-ю артиллерийскую бригаду, Артамон же должен был отправить ее по назначению. После этого братья Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин уехали из Любара: надо было поднимать на восстание Черниговский полк. Наладить связь с другими частями они просто не успели.
Артамон Муравьев, однако, своего обещания не выполнил: ахтырские гусары остались на своих квартирах. Полковник давно служил в армии, участвовал в Отечественной войне изаграничных походах, и после отъезда кузена быстро оценил обстановкувсоответствии среальными обстоятельствами. Он понял, что выводить конный полк «в пустоту», без заранее подготовленных мест стоянок, без запаса провианта для людей и лошадей значило обрекать этот полк на погибель. «Преступно для спасения своей кожи губить людей безвинных», – именно так Артамон впоследствии объяснял свои действия. Кроме того, полковник осознал, что неизбежный разгром восстания сделает троих его детей сиротами, а жену – вдовой.
Измена командира ахтырцев означала для Сергея Муравьева-Апостола крах надежд не только на этот, но и на Александрийский гусарский полк. Артамон сжег записку к «славянам» – это значило, что 8-я артиллерийская бригада, в которой они служили, участие в восстании не примет.
Впрочем, не вполне доверяя Артамону, Сергей Муравьев отправил к «славянам» Бестужева-Рюмина. Подпоручик, по его собственным словам, «отправился уведомить “славян”, чтобы они приготовили солдат к соединению с нами, лишь только мы появимся»[382].
Но в этот раз поездка Бестужева-Рюмина не увенчалась успехом. За подпоручиком тоже началась погоня, и он едва не был арестован в доме у Густава Олизара, куда заехал переночевать. Пережидая визит жандармов к Олизару, он несколько часов провел в лесу, затем переоделся в статское платье и отправился назад, к Муравьеву.
Без поддержки других частей задуманное Сергеем Муравьевым восстание превращалось в трагический мятеж Черниговского полка. Между тем, в конце 1825 года Сергей Волконский, сопредседатель Каменской управы, командовал 19-й пехотной дивизией. Обращение за помощью к Волконскому выглядело бы вполне логично, тем более что он был арестован только 7 января. Но подполковник даже и не пытался обратиться за помощью к генералу – очевидно, зная, что получит отказ.
* * *
Гебель с жандармами следовали буквально по пятам Муравьевых-Апостолов. 26 декабря они появились в Житомире – но не застали братьев. Преследователи осведомились, «куда они из Житомира уехали, где потом останавливались и переменяли лошадей». Утром 27 декабря преследователи приехали в Любар и явились «прямо к командиру Ахтырского гусарского полка полковнику Муравьеву, от коего осведомились, что оба Муравьевы того же числа были у него на завтраке и после выехали, но куда, неизвестно».
По признанию Гебеля, в Любаре он и жандармы «потеряли след» Муравьевых и «принуждены были пробыть несколько лишних часов, употребя это время на разведывание, куда поехали Муравьевы, но ничего верного узнать не могли». В два часа ночи 28 декабря преследователи «наудачу» выехали в Бердичев.
Недалеко от «местечка Любар, по Бердичевской дороге» они «съехались у корчмы с жандармским поручиком Лангом, посланным от корпусного командира, генерал-лейтенанта Рота, для отыскания подпоручика Бестужева-Рюмина». Проведя несколько часов в бесплодных совместных поисках, преследователи разделились. Гебель оставил около себя одного Ланга, а «прочих бывших с ними жандармских офицеров» отослал «в разные места для отыскания Муравьевых-Апостолов»[383].
* * *
В ночь с 28 на 29 декабря мятеж начался. Причем начался трагически и во многом стихийно.
Возвращаясь из Любара в Васильков и пытаясь при этом уйти от погони, братья Муравьевы-Апостолы остановились на ночлег в деревне Трилесы, месте расположения 5-й мушкетерской роты Черниговского полка.
«В Трилесах же я решился остановиться потому, что уверен был: в сем селении меня не отыщут», – показывал Муравьев-Апостол. Но очевидно, что подполковник говорил неправду: «отыскать» его могли где угодно. Место дислокации одной из рот, входящих в его батальон, вряд ли на самом деле могло казаться васильковскому руководителю безопасным местом.
Но ротой этой командовал поручик Анастасий Кузьмин, храбрый, решительный и нетерпеливый заговорщик. Очевидно, что Муравьев не случайно поехал к Кузьмину: батальонный командир был уверен в поддержке ротного.
Однако Кузьмина дома не было, он был в Василькове. Сергей Муравьев отправил к нему записку с просьбой срочно прибыть к роте. Получив эту записку, Кузьмин, взяв с собою других заговорщиков: Вениамина Соловьева, Михаила Щепиллу и Ивана Сухинова (незадолго до событий переведенного из Черниговского в Александрийский гусарский полк, но не успевшего уехать к новому месту службы), отправился в Трилесы.
Однако офицеры опоздали: в 4 часа утра в Трилесах появились Гебель и Ланг. Разыскивая Муравьевых, они заехали они в Трилесы случайно, желая отдохнуть и переменить лошадей.
Гебель объявил братьям Муравьевым-Апостолам приказ об аресте и выставил вокруг дома караул. Муравьевы подчинились. Имея на руках предписание немедленно после ареста везти братьев в штаб армии, Гебель, однако, этого предписания не выполнил. Он решил дождаться утра, и в ожидании рассвета принял приглашение Сергея Муравьева-Апостола «напиться чаю».
Очевидно, что «чаепитие» это было мирным. В выборе вариантов дальнейших действий васильковский руководитель явно колебался.
Однако вскоре в Трилесы приехали черниговские офицеры. «Подъезжая к квартире Кузмина», они «увидели при оной караул и множество людей, кои объявили, что находились там полковник Гебель и заарестованный им подполковник Муравьев. Войдя в комнату, застали их пившими чай вместе с жандармским офицером Лангом, а в другой комнате увидели брата Муравьева, также арестованным неизвестно за что».
О том, что произошло после, сам Сергей Муравьев-Апостол показывал следующее: «Кузьмин, подошед к брату, спросил его, что делать; на что брат отвечал ему: “Ничего”; а я, на таковой же вопрос Кузьмина отвечал: “Избавить нас”.
Вскоре после краткого сего разговора услышал я шум в передней комнате, и первое мое движение было выбить окно и выскочить на улицу, чтобы скрыться. Часовой, стоявший у окна сего, преклонив на меня штык, хотел было воспрепятствовать мне в том, но я закричал на него и вырвал у него ружье из рук.
В это время налево от квартиры увидел я Гебеля, борющегося с Кузьминым и Щипиллою, и подбежав туда, после первой минуты изумления, произведенного сим зрелищем, вскричал я: “Полноте, господа!”. И тут подполковник Гебель, освободившись и нашед на дороге сани, сел в оные, чтобы уехать, и мы побежали было, чтобы воротить его, дабы он заблаговременно не дал знать о сем происшествии, что Сухинов, сев верхом, и исполнил.
Происшествие сие решило все мои сомнения; видев ответственность, к коей подвергли себя за меня четыре сии офицера, я положил, не отлагая времени, начать возмущение»[384].
Гебель же о происшествии в Трилесах рассказывал следующее: «Штабс-капитан барон Соловьев, поручики Кузьмин, Щепилло и Сухинов зачали спрашивать меня, за что Муравьевы арестуются, когда же я им объявил, что это знать, господа, не ваше дело, и я даже сам того не знаю, то из них Щепилло, закричав на меня: “Ты, варвар, хочешь погубить Муравьева” – схватил у караульных ружье и пробил мне грудь штыком, а остальные трое взялись также за ружья. Все четверо офицеры бросились колоть меня штыками, я же, обороняясь, сколько было сил и возможности, выскочил из кухни на двор, но был настигнут ими и Муравьевыми». Оружие применил и Сергей Муравьев-Апостол: по показаниям Гебеля, батальонный командир нанес ему штыковую рану в живот. Данные медицинского освидетельствования Гебеля красноречивы: «При возмущении, учиненном Муравьевым, получил 14 штыковых ран, а именно: на голове 4 раны, во внутреннем углу глаза одна, на груди одна, на левом плече одна, на брюхе три раны, на спине 4 раны. Сверх того перелом в лучевой кости правой руки»[385].
Гебель выжил, и – с помощью верных солдат – все же сумел выбраться из Трилес. Однако после произошедшего выбора ни у Сергея Муравьева, ни у его офицеров больше не осталось: всем им за вооруженное нападение на командира грозил расстрел. Собрав роту Кузьмина, Муравьев-Апостол провозгласил начало восстания.
Когда много позже, уже в наше время, историки попытаются найти рациональное объяснение происшедшему, ответ будет напрашиваться сам собой: Гебель был убежденным противником декабристов, палочником и тираном. Материала для такого рода выводов, на первый взгляд, предостаточно. Лично знавший Гебеля помещик Иосиф Руликовский писал о нем как о «человеке деятельном, хорошем служаке», не понимавшем, однако, того духа офицерского братства, который царил в полку. «Его суровое обращение с рядовыми солдатами вызывало против него общее недовольство и вместе с тем увеличивало привязанность к ротным командирам, которые руководили своими подчиненными путем чести»[386]. Сын Гебеля Александр подтвердит впоследствии, что его отец имел цель «подтянуть» полк, но, как показали события зимы 1825–1826 годов, не преуспел в этом[387].
Однако документальных данных об особых «неистовствах» Гебеля в полку нет. Логично предположить, что он хорошо разбирался во фрунтовой науке и действительно хотел «подтянуть» солдат, «распущенных», по его мнению, прежним командиром. Но вряд ли при этом он резко выделялся своей жестокостью среди множества других армейских офицеров. Жестоким «палочником» считался в армии Пестель, употреблял в своем полку телесные наказания и Артамон Муравьев. Вообще же наказания в русской армии начала XIX века – если они, конечно, не выходили за рамки закона – не были событием экстраординарным, не вызывали особого недовольства среди солдат и уж во всяком случае не способны были поднять их на бунт.
Все свидетельства о ненависти рядовых к Гебелю, очевидно, восходят к родившейся уже в ходе восстания легенде. Но и официальные, и неофициальные документы тех дней сходятся в одном: солдаты не помогали своим «любимым» офицерам избивать «нелюбимого» Гебеля, они «остались также посторонними тут зрителями», безучастно и хладнокровно наблюдавшими офицерскую драку[388].
Более того, рядовой 5-й роты Максим Иванов спас Гебеля от верной смерти, вывезя его, несмотря на угрозы мятежных офицеров, из Трилес[389].
Другая версия происшедшего на ротном дворе – давняя личная вражда Гебеля с подчиненными ему офицерами, впервые возникшая в штабе 3-го пехотного корпуса, куда входил Черниговский полк, сразу по получении известий о начале мятежа. Неожиданным образом версия эта нашла подтверждение в показаниях Матвея Муравьева-Апостола. Пытаясь облегчить судьбу младшего брата, он убеждал следователей, что «Кузьмин и Щепилло имели личную вражду против подполковника Гебеля… и воспользовались сим случаем, чтобы отомстить ему»[390].
Виноват же в этой вражде, по мнению Матвея Муравьева, сам командир полка. «Можно безошибочно сказать, что будь на месте Гебеля… человек, заслуживающий уважения своих подчиненных и более разумный, не было бы ни возмущения, ни восстания», – писал он в мемуарах[391].
Между тем данные о ничтожности характера Гебеля, о его трусости и злобности по отношению к офицерам другими источниками не подтверждаются. Даже самый краткий анализ некоторых фактов его биографии позволяет признать несостоятельной версию о «личностном» поводе южного мятежа.
По происхождению Густав Гебель не был дворянином. «Из лекарских детей Белорусско-Могилевской губернии. Крестьян не имеет», – гласил его послужной список. Его отец, военный лекарь, скорее всего, сам выслужил потомственное дворянство – и в 1816 году был уже надворным советником и главным доктором Варшавского военного госпиталя[392].
Семейство Гебеля было очень бедным. Сохранилась просьба подполковника на имя начальника Главного штаба Дибича о материальной помощи, датированная 16 июня 1826 года. После подавления восстания его повысили в чине, он получил должность второго киевского коменданта. Но ему было не на что сдать полк и перевезти семью в Киев[393]. Парадоксально, но факт: нищий разночинец пытался остановить мятеж, во главе которого стоял аристократ и сын сенатора. Целью же мятежа, в частности, было уничтожение сословий.
Как показывает военная, да и послевоенная служба Гебеля, он был смелым человеком. Будущий командир черниговцев участвовал в антинаполеоновских войнах 1805–1807 годов, был героем Отечественной войны и Заграничных походов. Когда офицеры ранят его в Трилесах, он, выбравшись оттуда, приказывает везти себя в Васильков, в полковую квартиру, зная, что мятежники не могут не пройти через этот город. В Василькове у него – трое маленьких детей и жена на восьмом месяце беременности.
О сколько-нибудь серьезных конфликтах между Гебелем и его офицерами сведений нет. Наоборот, сын Гебеля Александр в очерке, посвященном отцу, рассказывает о вполне нормальных отношениях его с Муравьевым в годы их совместной службы. Указание на это встречаем и в заметке дочери Гебеля Эмилии[394].
Невозможно представить, чтобы Гебель сознательно делал «неприятности по службе» Муравьеву, имевшему большие связи в обеих столицах и ставшему подполковником в 24 года (переведенный в армию после «семеновской истории», он считал этот чин незаслуженной опалой), в то время как сам командир полка получил подполковника лишь в 38 лет. И не случись в полку мятежа, вряд ли он мог рассчитывать на дальнейшее продвижение по службе.
Даже в момент ареста Гебелем братьев Муравьевых их разговор – вполне мирный. Нечего было делить Гебелю и со своими ротными командирами, которые если и не уважали его, то до поры до времени предпочитали слушаться. Во всяком случае, конкретными данными о конфликтах Гебеля со своими подчиненными историки не располагают.
В пользу версии о «незапланированности», стихийности избиения говорит и тот факт, что после нанесенных ему 14 ран Гебель остался жив. Офицеры, конечно же, умели владеть оружием – и если бы они заранее готовились к физическому уничтожению командира, результат происшедшего в Трилесах наверняка был бы другим.
Когда восстание было подавлено и началось следствие, арестованные заговорщики, признаваясь в других тяжелых преступлениях (членство в тайных обществах, активность во время мятежа, разные цареубийственные планы), все как один отрицали свое участие в избиении Гебеля. Сам Сергей Муравьев твердо стоял на том, что «ни одной раны не нанес подполковнику Гебелю». Соловьев показывал: били командира «Муравьев прикладом, Щепилло ружьем, а Кузьмин шпагою», Сухинов же пытался утверждать, что вообще не был свидетелем драки и даже помог Гебелю бежать вопреки приказу Муравьева. В качестве организаторов избиения офицеры согласно называли поручиков Кузьмина и Щепилло – к тому времени обоих уже не было в живых[395].
В конце концов вина Соловьева и Сухинова была доказана. Следствие установило, в частности, что Сухинов не спасал Гебелю жизнь, а наоборот, преследовал его, пытаясь вернуть к Муравьеву. Естественно, это во много раз утяжелило участь обоих заговорщиков. В приговор же Сергею Муравьеву этот эпизод не вошел: материалов для высшей меры наказания и без него оказалось достаточно.
Последствия избиения полкового командира оказались весьма пагубными для дела восстания. Дисциплина в полку дала первый серьезный сбой. В отсутствие Гебеля начальство над черниговцами принимал Сергей Муравьев – как старший офицер в полку. Но причину отсутствия полкового командира от солдат скрыть было невозможно, и следование приказам командира батальонного из обязательного превратилось в сугубо добровольное.
История с Гебелем не прошла даром и для самих участников избиения. Сергей Муравьев-Апостол, как и младшие офицеры, вовсе не был хладнокровным убийцей; видимо, все они действовали в состоянии некоего аффекта. Приехав через сутки в Васильков, руководитель мятежа хотел пойти и попросить у Гебеля прощения. Его отговорили, но, по словам мемуариста Ивана Горбачевского, «насильственное начало, ужасная и жестокая сцена с Гебелем сильно поразили его душу. Во все время похода он был задумчив и мрачен, действовал без обдуманного плана и как будто предавал себя и своих подчиненных на произвол судьбы»[396]. Вокруг дома полкового командира Муравьев распорядился поставить караул – чтобы оградить Гебеля от неожиданных визитов взбунтовавшихся солдат.
29 декабря. Трилесы. Придя в себя после ночных событий, Муравьев-Апостол размышлял о том, что же делать дальше. В середине дня подполковник едет в соседнюю с Трилесами деревню Ковалевку – поднимать на восстание 2-ю гренадерскую роту полка.
По показаниям ротного командира поручик Петина, Муравьев «поил солдат водкою и говорил им: “Служите за Бога и веру для вольности”[397]. Василий Петин состоял в заговоре. И хотя он к числу решительных заговорщиков никогда не относился, противиться действиям батальонного командира не стал. Рота соглашается пойти за подполковником.
Но 29 декабря был полковой праздник, день основания полка. Муравьев-Апостол остался на ночлег в Ковалевке: солдаты были пьяны, и необходимо было дать им время на законный отдых.
На следующий день, по пути из Ковалевки, к мятежникам присоединился Бестужев-Рюмин. Впрочем, в этот момент его революционная активность закончилась: на допросе он будет утверждать, что «почти машинально следовал за полком и в распоряжениях (как всем известно) участия не брал». Очевидно, это была правда: подпоручик не служил в Черниговском полку, солдаты его не знали. Одет он был во взятое у Олизара статское платье. Помощь не имевшего боевого опыта, никогда не командовавшего ни одним солдатом Бестужева была, кроме всего прочего, бесполезна для Муравьева.
Столь же бесполезным для дела восстания оказался в итоге и Матвей Муравьев-Апостол, отставной подполковник. На допросе он показывал, что сделал все, что от него зависело, «чтоб остановить брата». Именно на этой почве у старшего Муравьева быстро возник конфликт с офицерами-черниговцами.
Согласно «Запискам» Горбачевского Матвей «много вредил» предводителю восставших. «Не имея ни твердости в характере, ни желания жертвовать всем для достижения цели, этот человек, со своею детскою боязнью, своими опасениями, смущал С. Муравьева и отнимал у него твердость духа. После каждого разговора с братом С. Муравьев впадал в глубокую задумчивость и даже терялся совершенно. Офицеры, заметя сие, старались не оставлять Матвея наедине с братом и даже хотели просить С. Муравьева, чтобы он удалил его от полка… Вообще поведение его было таково, что офицеры раскаивались, что, из уважения к С. Муравьеву, не настояли на том, чтобы удалить его от отряда»[398].
30 декабря Сергей Муравьев во главе двух восставших рот вошел в Васильков.
При этом мятежникам пришлось сломить сопротивление командира 1-го батальона черниговцев майора Сергея Трухина.
Увидев входивших в город мятежников, Трухин «приказал барабанщику ударить тревогу, дабы собрать людей и остановить его, однако собралось оных весьма мало, почему Трухин оставил часть из них охранять в квартире полкового командира, а чтобы не терять времени, с остальными пошел навстречу Муравьеву».
По-видимому, беседа двух батальонных командиров была резкой. Майор показывал: встретившись с мятежниками, он «объяснил» подполковнику, что верен присяге. После этого Муравьев приказал «сорвать с него эполеты, почему Сухинов сорвал оные с него, Трухина, бросил на землю и топтал их ногами, потом оторвали у него, Трухина, шпагу и взяли его в шайку бунтовщиков, где толкали его, и вскоре отвели на гауптвахту под строгой арест».
Согласно же Горбачевскому, «миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина. Надеясь обезоружить их одними словами, в сопровождении нескольких солдат и барабанщика, он подошел к авангарду и начал еще издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями, но, когда он подошел поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в средину колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат: они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нем в куски мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями[399].
В Василькове к мятежникам присоединились еще три роты: 3-я, 4-я и 6-я мушкетерские. 3-й ротой командовал Щепилло, 4-й – штабс-капитан Карл Маевский. Командир же 6-й роты, капитан Андрей Фурман, член тайного общества, участия в восстании не принял; его ротой командовал поручик Сухинов.
* * *
В начале восстания Муравьев-Апостол столкнулся с еще одной проблемой, о которой его давно предупреждал Пестель, – с проблемой финансового обеспечения будущего похода. Выяснилось, что командир полка успел спрятать полковую казну. В штабе остался только ящик с артельными деньгами – собственностью нижних чинов. Ящик был вскрыт, и там оказалось около 10 тысяч рублей ассигнациями и 17 рублей серебром. Естественно, на длительный поход этих денег хватить не могло, и пришлось немедленно изыскивать дополнительные средства.
Самым простым способом пополнения казны оказалась продажа полкового провианта. Муравьев-Апостол «приказал вытребовать из Васильковского провиантского магазина на январь месяц сего года провиант и продать оный». Кроме того, деньги постарались получить с местных коммерсантов, полковых поставщиков. Согласно показаниям одного из таких поставщиков, купца Аврума Лейба Эппельбойма, его силой привели к подполковнику, который «грозил ему, Авруму Лейбе, не шутить с ним». Присутствовавший при разговоре поручик Щепилло присовокупил, что поставщик «будет застрелен, если не даст денег». Перепуганный коммерсант деньги достал, одолжив их в местной питейной конторе. Сумма составила 250 рублей серебром (около тысячи рублей ассигнациями).
От тысячи до полутора тысяч рублей (по разным свидетельствам) принес Муравьеву прапорщик Александр Мозалевский, командир караула на Васильковской заставе. Деньги эти были отобраны у пытавшихся въехать в город двух жандармских офицеров – тех самых Несмеянова и Скокова, которые 25 декабря привезли Гебелю приказ об аресте Муравьевых-Апостолов.
«Подъезжая к заставе, – показывал впоследствии поручик Несмеянов, – остановлены были стоящим там караулом, который почти весь был в пьяном виде, и когда доложили о приезде нашем находившемуся тогда в карауле прапорщику Мозалевскому, то он, выскоча ко мне с азартом и бранью с заряженным пистолетом, угрожал мне смертию, ежели я осмелюсь противиться, приказал солдатам взять меня с саней, сказывая: “Он приехал погубить нашего Муравьева”, ввели в караульню, посадив под арест, приказалиобыскивать; сам Мозалевский сорвалсменя сумку, вкоторой хранились казенные деньги и собственные мои 80 рублей, подорожная тетрадь на записку прогонов и все бумаги, у меня бывшие; и когда все сие выбрал из сумки, дал солдатам из оных денег 25 рублей, говоря: “Нате вам, ребята, на водку”. Покудова Мозалевский разбирал сумку, солдаты обыскивали меня, нет ли еще где каких денег и бумаг, издеваясь надо мною самым обидным образом; при обыске меня солдатами я сказывал прапорщику Мозалевскому, за что поступают со мною так жестоко, но он начал мне более угрожать смертию, прикладывая мне к груди заряженный пистолет, говоря “сей час застрелю”».
Через сутки после ареста жандармы были отпущены по личному приказу Сергея Муравьева. Однако деньги им, естественно, не вернули. Когда же один из них попытался намекнуть об этом лидеру мятежников, утверждая, что они «не имеют способу, чтобы добраться до полку», «то Муравьев, вынимая заряженный пистолет, сказал: “вот тебе способ, ежели ты более будешь говорить”; потом, вынимая ассигнацию 25 рублей, бросил на землю и уехал».
Трудно сказать, каким образом Муравьев-Апостол собирался тратить полученные деньги – мизерную сумму, если иметь в виду поход мятежного полка на столицы. Однако логика мятежа подсказала основную «статью расхода» – подкуп нижних чинов.
После истории с полковым командиром у Муравьева больше не было законных оснований для командования солдатами. Оставалось надеяться на их «доброе отношение» и на силу денег. Уже 29 декабря унтер-офицер Григорьев получил от своего батальонного командира 25 рублей за помощь в побеге из-под ареста. В последующие дни восстания и сам руководитель мятежа, и его офицеры активно раздавали деньги солдатам – в этом на следствии они сами неоднократно признавались. И если раньше, до восстания, раздача денег солдатам могла быть оправданна желанием облегчить их тяжелую жизнь, то теперь речь могла идти только о покупке их лояльности. Солдаты брали деньги очень охотно. Именно на эти цели ушли все «экспроприированные» у жандармов суммы.
И в глазах солдат Муравьев-Апостол быстро превратился из обличенного официальной властью командира в атамана разбойничьей шайки. Раньше его приказам они обязаны были подчиняться под угрозой наказания. Теперь же за исполнение приказа подполковник стал платить – а значит, этим приказам можно было и не подчиняться. В тот же день, 30 декабря, нижние чины уже настолько осмелели, что стали приходить на квартиру батальонного командира «в пьяном виде и в большом беспорядке». По свидетельству одного из случайно оказавшихся в Василькове офицеров, солдаты просили у Муравьева «позволения пограбить, но подполковник оное запретил»[400].
В Василькове руководитель мятежа понял, что не знает, куда вести свое войско. На следствии Муравьев-Апостол покажет: «Из Василькова я мог действовать трояким образом: 1) идти на Киев, 2) идти на Белую Церковь, и 3) двинуться поспешнее к Житомиру»[401]. В Белой Церкви был расквартирован 17-й егерский полк, в котором служил член Южного общества подпоручик Александр Вадковский, брат Федора Вадковского. Вадковкий приехал 30 декабря в Васильков, увиделся с Муравьевым и пообещал содействие. В Житомире же и около него служили многие члены Общества соединенных славян.
* * *
Все исследователи, занимавшиеся южным восстанием, сходятся в том, что его кульминацией был молебен на площади Василькова 31 декабря 1825 года – перед тем, как мятежные роты вышли из города. По приказу руководителя восстания полковой священник прочел перед полком «Православный катехизис» – совместное сочинение самого Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина.
«Во втором часу зимнего дня на городской площади был провозглашен единым царем Вселенной Иисус Христос», – писал историк Петр Щеголев, буквально зачарованный этим документом. Развивая щеголевские идеи в соответствии с собственной философской концепцией, Дмитрий Мережковский считал «Катехизис» попыткой обоснования нового религиозно-общественного порядка, «абсолютно противоположного всякому порядку государственному», провозглашением строительства «Царства Божия на Земле». Отсюда – всего лишь шаг до красивой концепции Натана Эйдельмана, соотнесшего фразу «Катехизиса» о «глаголящем во имя Господне», за которым должно последовать «русское воинство», с личностью и фамилией самого лидера черниговцев. Агитационный текст оказался у Эйдельмана едва ли не «последним откровением» «Апостола Сергея»[402].
«Катехизис Муравьева не был хитрой революционной уловкой, революционным обманом», – утверждал Г. В. Вернадский[403]. Конечно, этот документ не был обманом в бытовом смысле слова: Сергей Муравьев, глубоко верующий человек, много размышлял о соотношении революции и религии.
Однако вряд ли «Катехизис» мог преследовать цель изложить восставшим солдатам итоги этих размышлений.
Горбачевский утверждал, что «действовать на русских солдат религиею» Муравьев-Апостол решил задолго до восстания. «Чтение Библии», по мнению будущего руководителя мятежа, могло возбудить в солдатах «фанатизм» и «внушить им ненависть к правительству». Мемуарист описал разговор в Лещинском лагере, который Муравьев вел с «соединенными славянами»:
«– Некоторые главы, – продолжал он, – содержат прямые запрещения от бога избирать царей и повиноваться им. Если русский солдат узнает сие повеление божие, то, не колеблясь ни мало, согласится поднять оружие против своего государя».
Горбачевский, участвовавший в разговоре, склонялся к откровенному рассказу нижним чинам о цели будущей революции – поскольку «между нашими солдатами можно более найти вольнодумцев, нежели фанатиков». Кроме того, если солдату начать доказывать «Ветхим Заветом, что не надобно царя, то, с другой стороны, ему с малолетства твердят и будут доказывать Новым Заветом, что идти против царя – значит идти против бога и религии, и – наконец – что никто не захочет входить в теологические споры с солдатами, которые совсем не в том положении, чтобы их понимать, и не те отношения между ними и офицерами».
«– Вы делаете много чести нашим солдатам, – возразил С. Муравьев, – простой народ добр, он никогда не рассуждает, и потому он должен быть орудием для достижения цели.
Говоря сие, он вынул из ящика исписанный лист бумаги и, подавая его Горбачевскому (о себе Горбачевский писал в мемуарах в третьем лице. – О.К.), сказал:
– Поверьте мне, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца; она укажет путь к добродетели; поведет к великим подвигам русского, по вашим словам равнодушного к религии, и доставит ему мученический венец.
Горбачевский молча взял бумагу из рук Муравьева, пробежал ее глазами и увидел, что это – период той главы из Ветхого Завета, где описывается избрание израильтянами царя Саула»[404].
Формально «Катехизис» построен на библейских текстах, однако их выбор и интерпретация позволяют без труда понять вполне мирской смысл этого документа. По-видимому, составляя «Катехизис», его авторы действительно видели солдат «орудием» для достижения собственных целей.
Доказывая библейскими цитатами, что цари «прокляты яко притеснители народа», Муравьев и Бестужев опираются в основном на восьмую главу Книги Царств, в которой господь гневается на израильтян, просящих у него царя: «… собрашася люди Израилевы и приидоша к Самуилу и рекоша ему: ныне постави над нами Царя, да судит ны; и бысть лукав глагол сей пред очима Самуиловыма, и помолился Самуил к Господу, и рече Господь Самуилу: послушай ныне гласа людей, якоже глаголят тебе, яко не тебе уничижища, но мене уничижища, яже не царствовати ми над ними, но возвестиша им правду цареву. И рече Самуил вся словеса господня к людям, просящим от него Царя, и глагола им: Сие будет Правда Царева: Сыны ваши возьмет, и дщери ваши возьмет, и земли ваши одесятствует, и вы будете ему рабы и возопиете в день он от лица Царя вашего, его же избрасте себе и не услышит вас Господь в день он, яко вы сами избрасте себе Царя… Итак, избрание Царей противно воле Божией, яко един наш Царь должен быть Иисус Христос».
Нетрудно заметить, что авторы «Катехизиса» цитируют Библию весьма свободно: из текста выбрасываются «лишние», не относящиеся к делу слова. Не упоминается, например, о причинах внезапного желания народа израильского поставить над собой царя: «… Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем… Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1 Царств. 8:1-5).
Ничего не говорится и о том, что, несмотря на свой гнев, Господь все же «избирает» в цари крестьянина Саула, а пророк Самуил «помазывает» его на царство. Когда же Саул нарушает божественную волю, пророк произносит слова, убийственные для авторов «Катехизиса»: «… Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство» (1 Царств. 15:22). Естественно, Муравьев и Бестужев-Рюмин прекрасно знали все это.
Муравьев и Бестужев переделывали библейский текст, ставя перед собой вполне рациональную задачу: сделать не затронутых заговором солдат союзниками, оправдать в их глазах собственное поведение и доказать свое право по-прежнему командовать ими.
Если проанализировать этот документ в целом, то можно заметить, что он посвящен отнюдь не выяснению вопросов веры. Под маской религиозного произведения здесь скрывается вполне «мирское» содержание. «Православный катехизис» излагает (правда, в самых общих чертах) хорошо известное в начале XIX века учение о «естественных правах» и «общественном договоре».
Описывая основные черты «авторитарного» государства – каковым и являлась Россия в XIX веке – М. П. Одесский и Д. М. Фельдман справедливо отмечают: в таком государстве «монарх – сакрализован. Он почитается особой священной, его право повелевать – богоданно»[405]. Государь повелевает народами «от имени» бога, и любой офицер является нижних чинов командиром лишь постольку, поскольку сам выполняет волю бога и государя. «Нет власти не от Бога… Противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13:1-2; ср.: 1 Петр. 2:13-17) – именно этому учила солдат официальная церковь.
«Содержание его («Православного катехизиса». – О.К.) относится к представительному правлению», – показывал на допросе Матвей Муравьев-Апостол. Главная задача «Катехизиса» как раз и состояла в том, чтобы сломать укоренившуюся в солдатском сознании устойчивую вертикаль бог – царь – офицер, убрать из нее второй элемент. Следовало доказать, что «с законом Божием» сходно то правление, «где нет царей».
Выполнив эту задачу, заговорщики смогли бы полностью обосновать свое право на власть в отсутствии царя. А значит, дисциплина в полку бы сохранена. Без этого запланированная Васильковской управой военная революция превращалась в обыкновенный солдатский бунт.
Но цели своей текст Муравьева и Бестужева не достиг. «Когда читали солдатам “Катехизис”, я слышал, но содержания оного не упомню. Нижние чины едва ли могли слышать читанное», – показывал на следствии «образованный» солдат, разжалованный из офицеров Игнатий Ракуза.
По показанию же случайного свидетеля момента, «один из нижних чинов спрашивал у него, кому они присягают, но видя, что нижний чин пьян, он… удалился, а солдат, ходя, кричал: “теперь вольность”». Своеобразной была и реакция на «Катехизис» местных крестьян. «При выходе из церкви он (Сергей Муравьев-Апостол. – О.К.) им неоднократно читал упомянутые катехизисы… на что жители ему отвечали: “Мы ничего не знаем, нам ничего не нужно”», – доносил «по начальству» один из правительственных агентов.
«И как при сем случае солдатам дана была вольность, то оные на квартирах требовали вооруженною рукою необыкновенного продовольствия, сопряженного с грабительством хозяйственных вещей, водку же и съестные припасы брали без всякого платежа, с крайнею обидою для жителей»[406].
Сергей Муравьев ошибался, считая, что сможет своим «Православным катехизисом» сделать солдат союзниками, восстановит рухнувшие во время избиения Гебеля отношения субординации. Официально объявленную полковым священником «вольность» они поняли по-своему – как позволение безнаказанно грабить окрестные селения.
* * *
Сергей Муравьев-Апостол, увидев, что «Православный катехизис» «на умы солдат не произвел ожидаемого впечатления, опять возобновил внушения свои на счет соблюдения присяги, данной Цесаревичу… и силою сего ложного убеждения преклонил солдат последовать за собою из Василькова», – констатировало следствие[407]. Для того чтобы сохранить полк как боевую единицу, восставшие офицеры были вынуждены пустить в ход откровенную ложь.
Матвей Муравьев, подтверждая множество других показаний, признавал: «Во время мятежа говорили солдатам, что вся 8-я дивизия восстала, гусарские полки и проч., что все сии полки требуют великого князя Цесаревича, что они ему присягали – вот главная причина мятежа Черниговского полка».
Иван Сухинов вспоминал на следствии о некоем письме на французском языке, которое читали и переводили братья Муравьевы-Апостолы, сообщавшем, «что в столице вся армия в действии».
И даже за несколько часов до разгрома восстания, узнав о приближении правительственных войск, Сергей Муравьев, по словам очевидцев, убеждал подчиненных, что эти войска «следовали к ним для присоединения»[408].
Первые три дня похода офицерам удавалось сохранить в полку подобие дисциплины – поскольку ложь они поначалу могли подкрепить военной силой. 30 декабря в Василькове «усилены были караулы у острога и казначейства; наряжен оберегательный караул к дому, занимаемому Гебелем; отдан был приказ на всех заставах никого не впускать в город и не выпускать из него без ведома и разрешения брата», – вспоминает Матвей Муравьев.
Ему вторит Иван Горбачевский: «При самом начале один рядовой, сорвавший платок с головы женщины, провожавшей его как доброго постояльца, был немедленно строго наказан при всех его товарищах». По распоряжению лидера мятежа при приближении полка «к каждой корчме» посылались унтер-офицер и двое рядовых – «с строгим приказанием ставить у дверей корчмы часовых и никого не впускать в оную»[409].
Однако солдатский бунт, начавшийся вскоре после чтения «Катехизиса», быстро похоронил все надежды на бескровную военную революцию. Ситуация стала стремительно сдвигаться в сторону неуправляемого сценария событий. Муравьев приказал мятежным ротам покинуть город.
Глава IX. Миссия прапорщика Мозалевского
Присоединение к мятежному полку Ипполита Муравьева-Апостола – один из самых эффектных эпизодов восстания на юге. Эпизод этот наиболее красочно и подробно изложен в «Записках» декабриста Ивана Горбачевского.
Согласно Горбачевскому младший Муравьев-Апостол появился в Василькове в полдень 31 декабря 1825 года. Мятежные роты были выстроены на главной площади города. После чтения «Катехизиса» и краткой прочувствованной речи руководителя восстания «священник приступил к совершению молебна. Сей религиозный обряд произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца. Действие сей драматической сцены было усугублено неожиданным приездом свитского офицера, который с восторгом бросился в объятия С. Муравьева. Это был младший брат его – Ипполит. Надежда получить от него благоприятные известия о готовности других членов заблистала на всех лицах. Каждый думал видеть в его приезде неоспоримое доказательство всеобщего восстания, и все заранее радовались счастливому окончанию предпринятого подвига».
Ипполит Муравьев-Апостол, согласно Горбачевскому, был весьма растроган торжественностью сцены.
«– Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна (курсив мой. – О.К.), – говорил он, – заставил меня забыть все прошедшее. Может быть, ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честию пасть мертвым на роковом месте.
Сии слова тронули всех.
– Клянусь, что меня живого не возьмут! – вскричал с жаром поручик Кузьмин. – Я давно сказал: “Свобода или смерть!”
Ипполит Муравьев бросился к нему на шею: они обнялись, поменялись пистолетами, и оба исполнили клятву».
Однако Горбачевский сам себе противоречит. Чуть выше рассказа о приезде Ипполита в Васильков в момент молебна, повествуя о сборе мятежных рот для этого молебна, автор мемуаров сообщает: «В вечернем приказе С. Муравьева было сказано, что все роты, находящиеся налицо, должны собраться на площадь на другой день (31 декабря) в 9 часов утра. В назначенное время пять рот… пришли на сборное место. Сверх того находились тут и Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин, отставной полковник Матвей Муравьев-Апостол и приехавший во время сбора полка на площадь свиты е[го] в[еличества] подпоручик Ипполит Муравьев-Апостол»[410].
Из сопоставления этих фрагментов мемуаров следует, что сам Горбачевский плохо представлял себе обстоятельства приезда Ипполита. Он путает чин младшего Муравьева, называя его подпоручиком, не знает точно, приехал ли Ипполит до молебна или во время него.
Эти странности вполне объяснимы: как известно, сам Горбачевский в восстании Черниговского полка не участвовал, а мемуары его были написаны через несколько десятилетий после событий. О том, что происходило 31 декабря 1825 года в Василькове, ему могли рассказать двое участников тех событий, бывшие офицеры-черниговцы Вениамин Соловьев и Александр Мозалевский. Оба они присутствовали на молебне, а затем отбывали каторгу вместе с Горбачевским.
При анализе же следственных документов выясняется, что основным информатором Горбачевского в вопросе о времени приезда Ипполита был Александр Мозалевский, в момент событий – прапорщик Черниговского пехотного полка. У Мозалевского была своя, особая миссия: 31 декабря Сергей Муравьев послал его в Киев, где он должен был выполнить конфиденциальные поручения руководителя восстания. Приказ ехать в Киев Мозалевский получил от Сергея Муравьева до молебна на площади, затем он присутствовал на молебне, а сразу после молебна уехал. С поручениями Сергея Муравьева Мозалевский, однако, не справился. Вечером того же 31 декабря он был арестован в Киеве.
Существуют два показания Мозалевского о времени приезда Ипполита в Васильков. Причем показания эти столь же противоречивы, как и «Записки» Горбачевского. Первое из этих показаний, датированное 2 января 1826 года, повествует, что он был отправлен в Киев «по приезде из Петербурга в Васильков свитского прапорщика Муравьева-Апостола… в 10 часов утра, через час». Иными словами, согласно этому показанию Ипполит приехал в Васильков в 10 часов, до молебна. В Киев же Мозалевский отправился через час после приезда Ипполита и именно вследствие этого приезда.
В другом показании, данном 9 января 1826 года, Мозалевский предложит следствию другую версию происходившего: Сергей Муравьев-Апостол дал ему поручение ехать в Киев «прежде, нежели прибыл из Петербурга брат подполковника Муравьева, свитский прапорщик Муравьев же, которой приехал того ж 31-го декабря тогда, когда уже собрался полк к походу и служили молебен».
Для того чтобы понять, какая из этих двух версий верна, следует отметить и некоторые другие странности, предшествующие командировке Мозалевского в Киев.
Поддержка Киева и его гарнизона была жизненно необходима Сергею Муравьеву. Однако курьер в этот город был послан только на третий день восстания. Странен и выбор курьера: до начала восстания Мозалевский о заговоре в полку ничего не знал, в его верности делу восставших у Сергея Муравьева не могло не быть сомнений. Логичнее было бы отправить в Киев кого-нибудь из более опытных офицеров, тех, кто давно состоял в заговоре и у кого – после истории с Гебелем – не было пути назад.
К тому же Мозалевский устал: в ночь с 30 на 31 декабря он командовал караулом на заставе города Василькова, обеспечивая безопасность восставшего полка. И отправлять не спавшего всю ночь прапорщика в Киев сразу же «по смене с караула» значило значительно уменьшить шансы на успех его миссии[411].
Но Сергей Муравьев-Апостол послал в Киев именно Мозалевского: нет никаких свидетельств, что руководитель восстания хотя бы рассматривал вариант посылки другого курьера. Но этот странный выбор становится логичным, если предположить, что, отправляя курьера в Киев, руководитель восстания решал не только вопрос связи с городом, но и вопрос удаления Мозалевского из полка. Можно предположить также, что Мозалевский, командуя караулом на городской заставе в ночь с 30 на 31 декабря, был единственным из офицеров-черниговцев (кроме самого Сергея Муравьева), кто знал истинное время приезда в Васильков Ипполита. Наверняка младший Муравьев въехал в город задолго до полкового молебна, но факт этот необходимо было скрыть.
В этом случае становятся понятными и противоречия в показаниях Мозалевского: 2 января, еще не придя в себя после шквала обрушившихся на него событий, он невольно проговорился на допросе. Но уже 9 января, осознав свою ошибку, попытался ее исправить. Впоследствии же, когда и Сергей, и Ипполит Муравьевы-Апостолы погибнут, Мозалевский останется единственным, кто будет знать подробности этой истории. И, рассказывая много лет спустя о своей киевской миссии Горбачевскому, он, с одной стороны, захочет рассказать правду, а с другой – не сможет до конца раскрыть тайну, в сохранение которой он невольно оказался вовлечен. Отсюда и противоречивость «Записок» Горбачевского, повествующих о приезде Ипполита.
Эффектное же появление Ипполита перед восставшим полком во время молебна было, скорее всего, сценой театральной, постановочной. Сценой, позволявшей, с одной стороны, скрыть истинные мотивы отправки в Киев Мозалевского, а с другой – поднять боевой дух восставших. Горячие объятия Ипполита с братьями перед полком, его клятва «свобода или смерть» рождали в умах и душах офицеров столь дорогие им модели поведения античных героев. «В последний день 1825 года черниговские офицеры увидели сцену из древней Руси или древнего Рима: три брата, словно братья Горации, храм, молебен, свобода…», – констатирует Н. Я. Эйдельман[412].
Для солдат же, античных моделей не понимавших, приезд Ипполита был обставлен по-другому. Солдатам было объявлено, что в Васильков приехал курьер цесаревича Константина, привезший приказ, «чтобы Муравьев прибыл с полком в Варшаву».
Надо отметить, что мистификация с приездом брата Сергею Муравьеву удалась вполне. Об истинном времени приезда Ипполита не догадался никто – в том числе и Матвей Муравьев-Апостол, родной брат Сергея и Ипполита. Более того, торжественный въезд Ипполита в момент молебна поразил воображение Матвея: впоследствии он описывал этот эпизод много раз.
«В 12 часов по полудни роты были собраны – и тут брат мой меньшой Ипполит меня крайне огорчил своим неожиданным приездом… Между тем священник Черниговского полка отпел молебствие и прочел “катехизис” по совету Бестужева-Рюмина. После сего роты пошли в поход», – рассказывал Матвей на следствии. «Роты, помолившись, готовились выступить из Василькова; тут подъезжает почтовая тройка, и брат Ипполит бросается в наши объятья… Напрасно мы его умоляли ехать далее в Тульчин, место его назначения: он остался с нами», – читаем в его мемуарных записях[413].
Но для того, чтобы скрывать от ближайших соратников и даже от брата Матвея время приезда Ипполита, у Сергея Муравьева-Апостола должны были быть веские основания. По-видимому, сведения, которые привез Ипполит, оказались настолько секретными, что о них не должен был знать никто.
Матвей Муравьев-Апостол показывал на следствии: «Он (Ипполит Муравьев-Апостол. – О.К.) говорил, что имел от Трубецкого письмо к брату, но, узнав в Москве, что Свистунов арестован, он оное сжег, коего содержание не знал». Очевидно, удовлетворившись показаниями Матвея, Сергея Муравьева-Апостола о письме вообще не спрашивали. На основании все тех же показаний Матвея в «Донесении Следственной комиссии» будет отмечено, что письмо это доставлено не было. Из показаний Матвея и «Донесения» эти сведения попадут в историографию – и Н. Я. Эйдельман будет рассуждать о «зеленом мальчике» Ипполите, который «даже не догадался прочесть “истребляемое письмо”»[414].
На самом деле, рассказывая о письме, Ипполит попросту лгал Матвею. В курсе некоторых моментов содержания этого послания оказался Свистунов – и сообщить ему их мог только Ипполит. Нетрудно предположить, что письмо к Сергею Муравьеву Ипполит сжег утром 19 декабря, вместе с письмом к Орлову. Предварительно это письмо, как и письмо к Орлову, Ипполит прочел.
Но вряд ли Сергей Муравьев стал бы мистифицировать своих соратников только из-за Константиновского лозунга. Обстоятельства командировки Александра Мозалевского в Киев свидетельствуют: в письме, скорее всего, содержались адреса тех людей, с которыми Муравьев – чтобы выполнить «южную» часть плана Трубецкого – должен был связаться в Киеве. И именно поэтому эмиссар от восставших не мог быть послан в город до приезда Ипполита.
* * *
Позже, уже после подавления восстания, в одном из «оправдательных» рапортов командир 4-го пехотного корпуса князь Щербатов будет утверждать: «Первое словесное донесение о возмущении в Василькове получено мною от киевского губернатора 31-го числа пополудни, в два часа». Но утверждение это вряд ли соответствует действительности: источники опровергают генерала.
31 декабря 1825 года киевский гражданский губернатор Иван Ковалев получил сразу два сообщения о событиях 29–30 декабря: рапорт на собственное имя от городничего города Василькова и рапорт на имя губернского прокурора от васильковского поветового стряпчего. Конверт, адресованный прокурору Василию Каменскому, Ковалев не имел права вскрывать, но, очевидно, любопытство взяло верх – и Каменский, вместе с разорванным пакетом, получил уверения губернатора, «что пакет сей распечатал он невзначай вместе со своим».
Содержание обоих пакетов губернатор «в ту же минуту довел… до сведения командира 4-го пехотного корпуса г. генерал-адъютанта князя Щербатова».
И на первом, и на втором из этих сообщений стоит помета о том, что они получены в Киеве в три часа дня. И Иван Ковалев никак не мог сообщить их содержание Щербатову за час до того, как прочел их сам.
Конечно, разница между этими цифрами невелика – и ее можно объяснить простой забывчивостью генерала. Однако существует еще одно свидетельство, опровергающее оба предыдущих – свидетельство гвардии капитана Василия Сотникова, «могилевского шпиона», присланного в Киев после смерти генерала Эртеля.
31 декабря Сотников сообщает по экстренной эстафете в Могилев о том, что рапорты о случившемся были получены в Киеве в три часа ночи.
Скорее всего, в данном случае следует верить именно свидетельству Сотникова. И Ковалев, и тем более Щербатов были заинтересованы в том, чтобы снять с себя тяжелые подозрения в сочувствии мятежникам. Задача же Сотникова – грамотного разведчика – состояла в том, чтобы как можно точнее рассказать армейскому командованию обо всем происходившем в Киеве. И ни при каких условиях он не стал бы сообщать о Щербатове заведомо ложные сведения, которые к тому же легко было опровергнуть.
Кроме того, сам Сотников получил сведения о содержании пакетов в начале 4-го часа дня. При этом, как следует из донесения «могилевского шпиона», он узнал о них отнюдь не из первых рук: слух о восстании уже начал распространяться в городе. Нужно было довольно много времени, чтобы сверхсекретная информация стала достоянием гласности, а значит, пакеты эти вряд ли могли достигнуть канцелярии губернатора в три и даже в два часа дня.
Время, которое проставлено на первых рапортах о событиях в Василькове, явно не соответствует времени действительного получения этих сообщений в Киеве. Точно так же и князь Щербатов говорит неправду, указывая на «два часа пополудни».
По-видимому, корпусный командир сознательно отложил на 12 часов официальное «принятие мер». Но даже тогда, когда он был вынужден эти меры принять, они оказались весьма и весьма своеобразными.
Согласно документам штаба армии в Киеве, ближайшем к Василькову крупном центре сосредоточения войск, в момент начала восстания несли караул три пехотных батальона: два – Курского полка, и один – Муромского. 31 декабря батальон Муромского полка был сменен батальоном Низовского пехотного полка. «Муромский батальон» вышел из города и – в ожидании дальнейших распоряжений – расположился недалеко от города, в местечке Бровары.
Кроме того, в городе находилось много постоянных военных команд: внутренний гарнизонный батальон, жандармы, инвалидная рота, три роты артиллерийского гарнизона, военная команда инженерного ведомства, артиллерийский парк[415].
И ни один солдат из этого внушительного войска не принял участия в разгроме южного восстания. Черниговцев разбили войска, собранные генералом Ротом, командиром соседнего 3-го корпуса со штабом в Житомире.
Рот боялся Муравьева и его солдат, боялся, что к мятежу присоединятся другие полки 3-го корпуса. 1 января 1826 года он просил Щербатова: «Не угодно ли Вам будет приказать двум баталионам 7-й пехотной дивизии, из коих один должен сего же числа вступить в караул, а другой смениться, дать направление на м[естечко] Брусилов».
Но Щербатову было «не угодно» участвовать в подавлении мятежа. Повеление «двум баталионам» выступить против Муравьева он не отдал[416].
* * *
Командировка Мозалевского в Киев – одна из самых не проясненных на сегодняшний день страниц восстания на юге. Мозалевский показывал, что Сергей Муравьев-Апостол, приказав ему надеть партикулярное платье и предупредив об осторожности, «вручил три катехизиса, запечатанные в конверт, но не надписанные, приказав, чтобы по приезде в Киев по распечатании отдать их отправившимся со мною трем рядовым и одному унтер-офицеру в шинелях, у которых сам же Муравьев отпорол погоны, с тем, чтобы они раздали те катехизисы состоящим в Киеве солдатам, также дал мне письмо Курского пехотного полка к майору Крупникову и велел сказать ему, чтобы шел с баталионом в Брусилов на сборное место»[417].
Но в Курском пехотном полку не оказалось ни «майора Крупеникова», ни «майора Крупникова», о котором прапорщик тоже наводил справки. В Киеве служил только поручик Крупеников, связаться с которым заговорщики не успели. Время было упущено: городские власти объявили тревогу и отдали приказ задерживать всех подозрительных лиц. Прапорщик попытался скрыться, но – очевидно, от усталости – потерял бдительность и на выезде из города был арестован.
Однако писарь Курского полка, сообщивший Мозалевскому о том, что в полку служит именно поручик Крупеников, говорил правду. Свидетельство его легко проверяется по «Высочайшим приказам о чинах военных» – главному источнику информации о русском офицерском корпусе XIX веке. Человек именно с такой фамилией и в таком чине действительно служил в 1820-е годы в полку, и этот факт бесспорен.
Совершенно очевидно поэтому, что «Крупников» – ошибка Мозалевского, плохо расслышавшего или не сумевшего запомнить сказанного ему.
Двадцатилетний прапорщик был одной из самых светлых личностей южного восстания. Не состоя в тайном обществе, он играл важную роль в событиях и оказался благородным и лично преданным Муравьеву человеком; за участие в восстании он был приговорен военным судом к вечной каторге. Но, к сожалению, память часто подводила Мозалевского – это видно, например, из тех глав «Записок» Ивана Горбачевского, которые мемуарист составлял с его слов. В этих главах Крупеников уже «дорастает» до подполковника.
Сам же Сергей Муравьев-Апостол, говоря о своем киевском корреспонденте, ошибся в его фамилии только один раз – при первом допросе, 10 января 1826 года Муравьев, конечно, тогда еще не мог представить себе степень осведомленности правительства в делах тайного общества, и его главной задачей было «вспомнить» как можно меньше фактов и назвать как можно меньше реальных имен. Опираясь на свидетельство Мозалевского, следствие спрашивало его о Крупникове, и он отвечал о Крупникове. При этом Муравьев точно знал, что среди офицеров Курского полка человека с такой фамилией не было: во всех дальнейших его показаниях фигурирует только Крупеников[418].
Однако и в первом, и в последующих своих ответах он упорно именует Крупеникова майором. Объяснение этому одно – Муравьев действительно не знал Крупеникова лично и действительно был уверен в «майорском» чине последнего.
И здесь важно понять, кто на самом деле информировал черниговцев о Крупеникове, были ли эти сведения случайной ошибкой или преднамеренным блефом.
Конечно, Муравьев-Апостол говорит неправду, когда называет в качестве своего информатора поручика Черниговского полка Кузьмина. Анастасий Кузьмин к тому времени уже погиб, и указание на него было для арестованных заговорщиков удобным способом сокрытия истины. Для того чтобы установить действительный источник сведений Муравьева о Крупеникове, необходимо было прежде всего восстановить послужной список подпоручика. По мере возможности предстояло узнать также, не пересекалась ли его служебная дорога с дорогами членов тайных обществ.
Восстановление списка оказалось вполне разрешимой задачей: Александр Никитич Крупеников начал службу в 1813 году юнкером Московского казачьего полка. Вскоре полк этот был расформирован, и в 1815 году он уже числился портупей-юнкером и служил в польских уланах. В марте 1816 года «за усердие к службе» Крупеников стал корнетом.
22 февраля 1817 года он выходит в отставку, а через год возвращается на службу – прапорщиком в Екатеринославский гренадерский полк. 18 сентября 1819 года его произвели в подпоручики, а 11 февраля 1820 года перевели в Курский полк. Последний перед трагическими событиями зимы 1825–1826 годов чин поручика он получил 30 июня 1821 года[419].
Однако сопоставление его формуляра с послужными списками известных нам декабристов дало результат, обратный желаемому. Ни с кем из них Крупеников не служил. Сделать точный вывод о его связях с тайными обществами невозможно; скорее всего, он даже и не знал об их существовании.
Между тем, у Александра Крупеникова были еще три старших брата – Павел, Никита и Иван. Их послужные списки тоже оказалось возможным восстановить[420].
Формуляры их гораздо богаче, чем формуляр Александра. Все трое воевали в 1812–1813 годах, а второй из них, Никита, к тому же был кавалером двух боевых орденов[421].
И при сопоставлении данных о службе братьев Крупениковых с послужными списками членов тайных обществ открывается любопытная подробность: в 1813–1816 годах Никита, тогда штабс-капитан, служил в лейб-гвардии Гренадерском полку вместе с прапорщиком Михаилом Спиридовым – в 1825 году майором Пензенского полка и членом Общества соединенных славян. Об их знакомстве можно сделать точный вывод: Спиридов и Никита Крупеников не только вместе служили, но и вместе воевали. Они прошли с полком через всю Европу, вступили в Париж и осенью 1814 года возвратились в Санкт-Петербург.
Спиридов вполне мог сообщить фамилию боевого товарища и Сергею Муравьеву-Апостолу, и Бестужеву-Рюмину, своему родственнику.
Неизвестно, каких политических взглядов придерживался Никита Крупеников. Однако с большой долей уверенности можно утверждать, что в армии он имел репутацию человека, обиженного властью, и репутация эта подтверждалась несколькими его крупными неудачами по службе.
В апреле 1816 года Никита Крупеников был «выписан» из гвардии в армию, в Бородинский пехотный полк. И хотя при этом он был произведен в следующий, капитанский, чин (что соответствовало общепринятым для «молодой» гвардии правилам), все равно такой перевод свидетельствовал о существенном сбое в карьере.
Однако в Бородинском полку Крупеникову служить так и не довелось. После перевода ему был предоставлен отпуск; он не успел вернуться в полк к сроку – и в результате был обойден при составлении очередного переводного приказа. Крупеникову пришлось долго доказывать свои права, и в конце концов он все же получил майора, но был снова переведен – на этот раз в Тарутинский пехотный полк[422]. Этот чин – последний, который он получил на действительной военной службе.
Служебные неудачи должны были больно бить по самолюбию Никиты Крупеникова: судя по послужному списку, он был храбрым человеком, героем Фриланда и Бородина, Фер-Шампенуаза и Парижа. В ходе военной кампании 1812 года он был несколько раз ранен и контужен. Именно благодаря собственной храбрости он, начавший службу в 1806 году простым армейским солдатом, в конце 1812 года был уже штабс-капитаном гвардии[423].
Однако все эти сведения сами по себе еще не способны объяснить причину ошибки Спиридова и Муравьева. К моменту восстания Крупеников уже несколько лет был в отставке, и совершенно очевидно, что никаких связей со Спиридовым он не поддерживал (иначе подобная ошибка была бы невозможна).
Однако из «Высочайших приказов о чинах военных» видно, что середина 1810-х годов была сложным периодом в жизни братьев Крупениковых. Стесненные какими-то (скорее всего, финансовыми) обстоятельствами, все они приблизительно в одно время выходят в отставку. Одним приказом от 22 февраля 1817 года уволены от службы «за болезнию» Павел и Александр. Майор Никита оставляет военную карьеру в 1818 году. В 1821 году покидает службу и Иван, артиллерийский подпоручик. И до 1826 года из четверых братьев снова поступил на службу только Александр Крупеников[424].
По-видимому, Спиридов просто перепутал братьев: последний действительный чин Никиты Крупеникова вполне мог наложиться в сознании Спиридова на «послеотставочную» службу его брата Александра – и в результате Мозалевский был отправлен к «майору Курского полка Крупеникову», которого, естественно, найти было невозможно.
Но кто бы ни был действительным информатором мятежников, ясно, что этот человек допускал возможность подобной ошибки. На допросе Сергей Муравьев-Апостол показывал, что «поручик Кузьмин», не сомневаясь в помощи Крупеникова, оговаривался, «что если это тот, которого он знает»[425].
Содержание письма Муравьева установить невозможно: опасаясь ареста, Мозалевский его уничтожил. Скорее всего, в письме содержалась просьба попытаться поднять на помощь черниговцам Курский полк. Однако Муравьев не мог не понимать, что даже будучи майором, Крупеников мог контролировать максимум один батальон этого полка. «Возмущать» же батальон в городе с большим военным гарнизоном было равносильно самоубийству: мятеж подавили бы за несколько часов.
Поэтому вряд ли Муравьев-Апостол стал бы подвергать жизнь верного офицера и четырех нижних чинов смертельной опасности только ради того, чтобы разыскать Крупеникова и бросить на киевских улицах три экземпляра «Православного катехизиса». Ясно, что прапорщик имел и другое, более серьезное задание, о котором он смог умолчать на следствии.
* * *
В показаниях разжалованного из офицеров рядового Черниговского полка Дмитрия Грохольского есть любопытное свидетельство: 25 декабря 1825 года, узнав в Житомире о разгроме северного восстания, Сергей Муравьев-Апостол отправил со своим дворовым человеком Никитой Масленниковым письмо в Васильков, адресованное Бестужеву-Рюмину. Кроме сообщений о происшествии в столице, оно содержало просьбу к Бестужеву «как можно поспешнее» ехать в Киев к полковнику Ренненкампфу[426].
Полковник Ренненкампф, как и «майор» Крупеников, – личность полумифическая. Он не привлекался к следствию, и единственным общедоступным источником сведений о нем, кроме показаний Грохольского, является знаменитый «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу…», составленный А. Д. Боровковым.
Справка о Ренненкампфе, обер-квартирмейстере 4-го пехотного корпуса, полна логических неувязок: «По объяснению сего последнего (Ренненкампфа. – О.К.), с начальником штаба 1-й армии открывается, что Муравьев пред самым возмущением предлагал ему действовать для перемены правления. На вопросы о сем комиссии Муравьев отвечал, что не делал означенного предложения Ренненкампфу» и никого не посылал к нему. В то же время «Алфавит» сообщает, ссылаясь на Бестужева-Рюмина, что лидер мятежа все же «адресовался к нему, Ренненкампфу, но без успеха»[427].
Реальные отношения Муравьева с полковником Ренненкампфом остались неясными как для следствия, так и для исследователей. И если в истории с Крупениковым был некий элемент загадочности, тайны, что, безусловно, стимулировало исследовательский интерес, то на Ренненкампфа не обращали практически никакого внимания. Биография же его была относительно подобно изложена в справочнике Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, увидевшем свет в 1925 году[428].
Между тем сведения о Ренненкампфе, приводимые Модзалевским и Сиверсом и перепечатанные в других изданиях, ошибочны и расходятся даже с весьма лаконичной справкой «Алфавита». В официальных документах следствия Ренненкампф назван обер-квартирмейстером 4-го пехотного корпуса, входившего в состав 1-й армии. Однако спустя сто лет он вдруг оказался обладателем такой же должности во 2-й армии, и никто этой ошибки просто не заметил.
Более того, М. В. Нечкина, домысливая ситуацию, утверждала: «Ренненкампф был обер-квартирмейстером второй армии и, допрошенный П. Киселевым, показал, что Муравьев “перед самым возмущением предлагал ему действовать для перемены правления”»[429].
При этом исследователей не смущала явная несообразность: штаб 2-й армии находился в Тульчине, а следовательно, Муравьеву незачем было искать Ренненкампфа в Киеве. Участие же Павла Киселева – начальника штаба 2-й армии – в допросе полковника не подтверждается вообще никакими документами.
Впрочем, ничего удивительного в этой ошибке нет. Род Ренненкампфов, эстляндских дворян, был беден. Почти все мужчины из этого рода вынуждены были нести военную службу: фамилия эта в русской армии XIX – начала XX веков была распространена. И полковник Карл Павлович Ренненкампф, чьи биографические данные указаны в справочнике Модзалевского и Сиверса, наверняка был родственником Павла Яковлевича Ренненкампфа – человека, на которого и возлагали надежды заговорщики.
Впрочем, и Карл Ренненкампф не был обер-квартирмейстером 2-й армии. В 1821–1831 годах он служил во 2-м пехотном корпусе, который, как и 4-й корпус, входил в состав 1-й армии. Свидетельством его невиновности является тот факт, что во время коронации Николая I ему был пожалован орден Святой Анны I степени.
В отличие от него, Павел Ренненкампф с 3 февраля 1825 по 26 января 1827 года служил в штабе 4-го пехотного корпуса.
Незадолго до мятежа Черниговского полка Сергей Муравьев-Апостол сказал Ренненкампфу, что считает его благоразумным человеком «с большими дарованиями и способностями». И фраза эта – не преувеличение. Барон Павел Ренненкампф действительно был умным и талантливым офицером.
Дарованиям его помогла раскрыться война. С 19 лет Ренненкампф служил в армии, в квартирмейстерской части, и его служба – тема для отдельного подробного разговора.
Совершенно очевидно, что должность квартирмейстера была лишь прикрытием для его основной деятельности – военной дипломатии. В 1812–1814 годах он редко появляется в действующей армии, зато постоянно курсирует между Вильно, немецкими городами, Италией, много раз выполняет миссию личного курьера Барклая-де-Толли.
Дважды Ренненкампфа командируют в Ригу, в распоряжение генерала Ф. О. Паулуччи. Командировки эти весьма знаменательны: осенью 1812 года по личному приказу Александра I маркиз Паулуччи вел трудные переговоры с немецким генералом Йорком, командиром прусского вспомогательного корпуса, воевавшего на стороне Наполеона. Переговоры эти закончились успешно – 30 декабря была подписана знаменитая Тауроггенская конвенция, по которой Пруссия разрывала союз с Францией. Для участия в тайных дипломатических интригах русское командование привлекло многих толковых штабистов с немецкими фамилиями – Ренненкампф был одним из них. После окончания войны получил от прусского короля орден «За заслуги». К моменту окончания войны он был уже поручиком и, кроме немецкого, имел три русских боевых ордена и высший французский орден Почетного легиона.
«Секретные поручения» Ренненкампфа не кончились после взятия Парижа. Его опыт потребовался на Востоке – и в 1816 году он участвует в посольстве генерала Ермолова в Персию, разрабатывает маршрут посольства, а на обратном пути вместе с двумя другими приближенными к «проконсулу Кавказа» офицерами тайно отправляется «через Карабах в Тифлис для снятия и описания этой дороги»[430]. Из Персии он возвращается кавалером ордена Льва и Солнца.
В Киеве полковник Генерального штаба Павел Ренненкампф появился в начале 1825 года, очевидно, по протекции все того же генерала Щербатова. И, конечно, сразу же попал в поле зрения южных заговорщиков.
На следствии Сергей Муравьев показывал, «что он познакомился с Ренненкампфом… в доме князя Сергея Трубецкого, где большею частию разговаривал с ним о Грузии, Персии и вообще об отношении России с Азиею, ибо полковник Ренненкампф находился довольно долгое время в сих странах, и наблюдения его казались ему (С. Муравьеву. – О.К.) столько любопытными, сколько суждения его основательными, так что во время отъезда князя Трубецкого в Петербург полковник Ренненкампф приглашал его, Муравьева, если он вздумает приехать в Киев во время отсутствия князя Трубецкого, то чтобы заехал прямо к нему, и что они вдоволь наговорятся об Азии, и он покажет ему планы и рисунки, сделанные им в тех местах»[431].
Показания эти примечательны во многих отношениях. Ренненкампф был дружен с князем Трубецким. Очевидно, это было старое знакомство – оба они служили в Генеральном штабе, и оба практически в одно время перешли на службу к Щербатову. Квартирмейстер познакомился с Муравьевым через Трубецкого и сразу же проникся к нему симпатией – об этом свидетельствует приглашение черниговскому подполковнику «заехать прямо к нему», минуя квартиру Трубецкого.
Из-за того, что показания Муравьева о Ренненкампфе не были вовремя опубликованы, от историков декабризма укрылся важный факт: подполковник Муравьев-Апостол, согласно его собственному свидетельству, «в начале декабря» 1825 года приезжал в Киев и виделся с Ренненкампфом (основной темой их беседы, по Муравьеву, была «Азия»).
Сведения же об этой встрече, которые южное следствие получило от самого Ренненкампфа, были более конкретными: Муравьев, оказывается, посетил Киев «за несколько дней до восстания». И говорили они не только о кавказских впечатлениях полковника, но и о том, что «наступило время, где надо действовать решительно, переменить образ правления – которое дальше терпеть невозможно».
Сравнивая оба эти показания, нужно признать, что в вопросе о точном времени этого визита показания Ренненкампфа гораздо ближе к истине. Сергей Муравьев-Апостол, сделавший все для того, чтобы спасти квартирмейстера от репрессий, хотел уверить следствие в «нечаянности» своей поездки в Киев, в том, что эта поездка состоялась задолго до трагедии Черниговского полка. Ренненкампф же выгораживал себя и, естественно, не стал бы выдумывать на себя напраслину.
Визит этот мог состояться до 24 декабря 1825 года. 24 декабря Сергей и Матвей Муравьевы уже выехали из Василькова в Житомир и до начала восстания в Киеве не появлялись. В двадцатых числах декабря Сергей Муравьев еще не знал о разгроме на Сенатской площади – но знал об аресте Пестеля и о разгроме Тульчинской управы. Очевидно, он обдумывал будущее восстание, искал помощи со стороны – и его встреча с Ренненкампфом вполне объяснима.
Показания Ренненкампфа и Муравьева об итогах этой встречи расходятся так же кардинально, как и сведения о ее дате и содержании. По уверениям обер-квартирмейстера, на предложение содействовать заговору он отвечал, что «его (Муравьева. – О.К.) совсем не понимает, не наше дело преобразовывать правительство, и что он… просит его и подчиненных ему офицеров оставить в покое».
Муравьев же на вопрос следственной комиссии решительно утверждал: «Все сие изъяснение насчет отношений… с обер-квартирмейстером 4-го корпуса полковником Ренненкампфом совершенно ошибочно», уверяя, что он никогда не обращался к своему киевскому приятелю с просьбой о помощи.
И опять же этим показаниям Муравьева верить никак нельзя. Если бы «отношений» действительно не было, Ренненкампф не стал бы их выдумывать. И, если бы на предложение заговорщиков полковник действительно ответил отказом, то Муравьеву не было бы смысла скрывать факт этого отказа, рискуя лишний раз быть уличенным в даче ложных показаний.
Недаром опытный и проницательный генерал Толь, сравнив показания Муравьева и Ренненкампфа, доносил по начальству: «Полагаю я, что подозрение на Ренненкампфа… основательно относительно о принадлежности его к тайному обществу, ибо общество сие, наблюдавшее столь большую осторожность в вербовке своих членов, и в коем Муравьев был одним из главных, конечно, не побудило бы сего последнего делать формальные предложения в столь важном предприятии человеку, к обществу вовсе не принадлежащему»[432].
Ренненкампф ответил согласием на предложение Муравьева – это очевидно. Муравьев, начиная «дело», рассчитывал на его поддержку. Отсюда – и его письмо из Житомира к Бестужеву с просьбой ехать в Киев к полковнику. Отрицательный же ответ Бестужева-Рюмина на вопрос следствия об этом письме объясняется просто: до адресата оно не дошло. К тому моменту, когда письмо привезли в Васильков, Бестужева там уже не было – он отправился вслед за братьями Муравьевыми, пытаясь предупредить их о готовящемся аресте.
В комплексе документов, составляющих официальную переписку по поводу восстания Черниговского полка, сохранилось свидетельство рядового Курского пехотного полка Степана Кошелева о том, что прапорщик Мозалевский просил его проводить себя с Подола (где находились казармы Курского полка) на Печерск, объясняя свою просьбу тем, что на Печерске живет его брат[433]. Естественно, никакого брата у Мозалевского в Киеве не было, а на Печерск он должен был попасть по заданию Муравьева-Апостола. Печерск в начале XIX веке – элитарный район Киева, там находились квартиры высших военных и гражданских чиновников.
Очевидно, что на Печерск Мозалевский должен был попасть по поручению Муравьева, а солдата он «приглашал» с собой потому, что не знал города. Подтверждение этому находим в «Записках» Горбачевского – именно «на Печерске» жил некий «генерал», который, встретившись с Мозалевским, отказал восставшим в помощи.
«Прочитав письмо, он сказал Мозалевскому дрожащим голосом:
– Я не буду отвечать: скоро сам с ним (Муравьевым. – О.К.) увижусь.
Потом начал просить Мозалевского оставить скорее его дом и спешить выехать из Киева. Когда же Мозалевский спросил его: что сказать Муравьеву на словесные его поручения? – генерал отвечал ему с большим замешательством:
– Я ничего не знаю.
Мозалевский, видя его страх и опасение, и не получая от него никакого ответа, решился наконец удалиться».
Мысль о том, что этим робким «генералом» вполне мог быть полковник Ренненкампф, впервые в осторожной форме высказала М. В. Нечкина[434]. Но она считала полковника «обер-квартирмейстером второй армии», и ситуация эта так и осталась до конца не проясненной. Между тем, вполне логично предположить, что Муравьев послал Мозалевского именно к Павлу Ренненкампфу – к тому «верному» человеку, к которому за неделю до того не сумел попасть Бестужев-Рюмин.
Однако подробностям об этой встрече, изложенным в рассказе Горбачевского, вряд ли стоит доверять: они не подтверждаются ни одним из известных нам документов. И показания солдат-черниговцев, и свидетельства нижних чинов Курского полка сходятся в том, что «на Печерск», как и к Крупенникову, Мозалевский не попал.
Но Муравьев-Апостол вряд ли мог надеяться на Ренненкампфа в качестве организатора военной помощи восстанию. Он был штабным работником и имел в своем подчинении лишь нескольких офицеров-квартирмейстеров. Обращение Муравьева к Ренненкампфу – в контексте уже начавшегося восстания – выглядит нелогично. Но весьма вероятно, что фамилия эта присутствовала в том послании, которое Трубецкой написал Муравьеву.
Скорее всего, полковник, в прошлом военный дипломат, мыслился Трубецкому в качестве связного между Муравьевым и кем-то в Киеве, в чьем подчинении была реальная военная сила. Судя по происходившим в первые дни 1826 года в Киеве событиям, этим «кем-то» был корпусный командир генерал Щербатов.
* * *
Несмотря на личное мужество двадцатитрехлетнего прапорщика Мозалевского, его миссия в принципе не могла увенчаться успехом. Впоследствии, уже на каторге, он расскажет Горбачевскому, что князь Щербатов, допрашивая его после ареста, заметил: «Я знаю лично С. И. Муравьева, уважаю его и жалею от искреннего сердца, что такой человек должен погибнуть вместе с теми, которые участвовали в его бесполезном предприятии. Очень жалко вас: вы молодой человек и должны также погибнуть».
И при этом «слезы катились у доброго генерала».
Вполне возможно, что корпусный командир вообще отпустил бы прапорщика. Однако Мозалевского опознали оставшиеся верными власти и приехавшие в Киев черниговские офицеры: «Князь Щербатов вместе с Мозалевским вышел в ту комнату, где находились помянутые лица и с ними начальник штаба. Тут начал он спрашивать Мозалевского, к кому он приезжал в Киев и с какими именно поручениями. Мозалевский отвечал:
– Я убежал из восставшего полка с намерением явиться к вашему сиятельству.
– Это несправедливо, – возразил майор Трухин, обращаясь к князю. – Он приехал сюда с поручением от С. Муравьева, но к кому и зачем – я не знаю. Он участвовал в бунте и, вместе с Сухиновым, хотел убить меня, когда я содержался на гауптвахте… Жандармские офицеры говорили, что они были арестованы Мозалевским, стоявшим тогда с мятежниками в карауле, на выезде»[435].
Получив информацию о поисках Мозалевским Крупеникова, Щербатов рапортовал в штаб армии, что в Курском полку нет «майора Крупеникова». А поручик Крупеников «есть один из самых добронравных и верных офицеров, который, будучи, сверх того, обязан семейством, совершенно не заслуживает никакого подозрения, в чем я и ныне удостоверился, призывая его лично к себе». Визит посланца мятежников в Киев князь Щербатов объяснил стремлением Муравьева-Апостола «узнать, нет ли в Киеве беспокойства, и чтобы бросить возмутительный катехизис…».
О том, с Сергеем Муравьевым был связан Ренненкампф, командованию 1-й армии стало известно из одного из многочисленных донесений капитана Сотникова, которое последний отправил из Киева в Могилев уже 2 января 1826 года. Однако в отличие от других упоминавшихся в записках «могилевского шпиона» офицеров Ренненкампфа не арестовали. Роль генерала Щербатова во всей этой истории еще была неясна, сам же по себе полковник никакой угрозы для властей не представлял. Он не командовал солдатами, и можно было не бояться, что его помощь Муравьеву окажется значительной.
Вновь сюжет с Ренненкампфом возник во время следствия лишь в середине апреля 1826 года в связи с показаниями Грохольского. Тогда уже стало ясно, что арестованных по делу о тайных обществах оказалось слишком много. Было решено брать только тех, против кого есть неоспоримые улики. Против Ренненкампфа же таких улик не находилось: Муравьев-Апостол упорно отрицал, казалось бы, бесспорные факты, Бестужев ничего не знал о письме Муравьева к нему, прапорщик Мозалевский не упомянул на следствии фамилию обер-квартирмейстера. Не склонен был сажать в тюрьму подчиненного и князь Щербатов.
Ренненкампфу удалось уйти от уголовной ответственности, он отделался только административной высылкой в кавказскую армию, в «чиновники для особых поручений» при графе Паскевиче-Эриванском[436].
* * *
В подавлении мятежа на юге 4-й пехотный корпус участия не принял, не пошли против черниговцев и стоявшие в Киеве войсковые части. И здесь позиция Щербатова оказалась принципиальной. «Видя с большим удовольствием в войсках и жителях города Киева настоящую верность и преданность обязанности своей и приверженности к государю императору и, напротив того, беспорядок и потерянную надежду мятежников на дальнейшее с ними сообщество, я принял решительную меру показать всю твердость и доверие к войскам и жителям, и потому твердо положился не трогать с места никаких войск», – рапортовал он главнокомандующему Остен-Сакену уже после поражения восстания.
Единственной частью, получившей от корпусного командира приказ о передислокации, был батальон Муромского пехотного полка. Узнав, что черниговцы покинули Васильков, князь приказал батальону занять город[437].
Естественно, объяснения Щербатова не могли быть признаны удовлетворительными. Разгневанный начальник штаба 1-й армии генерал Толь писал Красовскому: если бы «тотчас по первому известию о мятеже сделано было форсированное движение к Василькову, то 1-го числа вся горсть пьяных мятежников была бы уничтожена, почти прежде, нежели посланный из Киева нарочный мог прибыть к генерал-лейтенанту Роту, которого войска могли действовать не прежде, как по прошествии трех дней».
Узнав о поведении Щербатова, граф Остен-Сакен «заболел». А выздоровев, написал царю о том, что «князь Щербатов не способен командовать пехотным корпусом, в особенности при затруднительных обстоятельствах; он имеет наивность воображать себя непогрешимым». «Насколько я имел случай быть довольным Ротом, настолько Щербатов, мне кажется, вел себя как баба», – констатировал император Николай I в письме к великому князю Константину[438].
От наказания Алексея Щербатова спасли эполеты «полного» генерала, слава героя 1812 года и обширные связи при дворе. После непродолжительной опалы его назначили командовать 2-м пехотным корпусом, а 4-й корпус вообще был расформирован.
Глава X. «Успех нам был бы пагубен для нас и для России…»
Маршрут мятежных рот хорошо известен историкам. Сергей Муравьев ждал вестей от Мозалевского – и местом встречи с киевлянами был назначен город Брусилов. «Из Брусилова, – показывал Муравьев на следствии, – я мог одним переходом прийти в Киев, если бы получил от Крупеникова положительный ответ, в противном же случае я находился также в расстоянии одного перехода от Житомира».
На пути к Брусилову находилось богатое селение Мотовиловка – имение сочувствовавшего заговорщикам польского помещика Иосифа Руликовского. Именно в Мотовиловку восставшие пришли вечером 31 декабря. «Я решил здесь передневать по случаю Нового года, дабы не возмутить ропота в солдатах», – показывал Муравьев-Апостол[439].
Естественно, что во время этой дневки мятежные офицеры обсуждали планы дальнейшего похода. Посвидетельству Руликовского, свой вариант действий предложил Бестужев-Рюмин: «Если… наши единомышленники, которых мы ожидаем, не соединятся с нами, и враждебная сила захочет нас атаковать, то в этом случае мы будем принуждены занять валы в саду и отстреливаться с другого этажа дворца, поставив пушки на балконе!».
Впрочем, нет сведений, что руководитель восстания собирался этот план реализовывать.
По воспоминаниям того же Руликовского, приход полка в селение сопровождался вымогательством водки, еды и денег: «Когда у меня не хватило уже мелкой серебряной монеты для раздачи, я дал одному из них полрубля серебром. А он, выйдя в сени, сказал: “Такой роскошный дом, а бедному солдату полтина, а если бы положить палец между дверьми, наверное, дал бы больше”».
Узнав об отдельных солдатских бесчинствах, Бестужев-Рюмин, согласно воспоминаниям поляка, заметил: «Пока мы вынуждены это терпеть, но когда будем в походе и несколько из них будет расстреляно, все успокоится». Он же пытался усовестить солдат: «Вы русские солдаты, христиане, не татары. Вы обязаны вести себя смирно и пристойно, быть довольными тем, что вам дают, и ни с кем не заводиться!» «Это был очень слабый способ успокоить обнаглевших солдат», – справедливо утверждал помещик[440].
* * *
Дневка в Мотовиловке показала: Черниговский полк как боевая единица больше не существует. Дисциплина рухнула после того, как одна из черниговских рот, 1-я гренадерская, отказалась присоединиться к восставшим. Примеру гренадер последовала и часть 1-й мушкетерской роты.
Собственно, 1-я мушкетерская рота была расквартирована в Мотовиловке. Капитан Самойло Вульферт, командир мушкетер, испугавшись Муравьева, бежал из селения, «скрылся от мятежников и явился к генерал-лейтенанту Роту».
Командир же гренадерской роты капитан Петр Козлов оказался идейным противником заговорщиков. Кроме того, еще и полугода не прошло с тех пор, как он был освобожден с полковой гауптвахты. На гауптвахте он отбывал двухмесячный арест за «буйное» поведение солдат своей роты, отправленных в гвардию.
Извлекая уроки из недавних событий, Козлов спрятал у себя сумевшего выбраться из Трилес Гебеля – а потом переправил его в Васильков. От Гебеля он получил приказ идти с ротой в Трилесы и арестовать Муравьева и его офицеров. Козлов отправился в Трилесы, но там никого уже не нашел. После чего полковой квартирмейстер Войнилович привез ему приказ Муравьева: прибыть с ротой в Мотовиловку. Этот приказ Козлов тоже выполнил – и рота пришла в Мотовиловку под его командой. При этом капитан, пользовавшийся уважением солдат, заранее убедил их оставаться верными присяге.
На следствии Козлов рассказывал, что «подполковник Муравьев-Апостол… начал уговаривать 1-ю гренадерскую роту, чтоб следовала за ним, Муравьевым, обещая им 10-ти летнюю службу; но как нижние чины не согласились, то бывшие при Муравьеве офицеры… ходили около роты с обнаженными шпагами и уговаривали нижних чинов; а когда и затем не соглашались они, то, говоря, что это по наущению его, Козлова, хотели его изрубить. Однако ж нижние чины, окружив его, Козлова, не допустили к нему никого из упомянутых офицеров. И после, требуя от Муравьева приказа, по которому должны выступить в поход, спрашивали: “Где наши начальники?”.
На что они все сказали, что корпусного командира закололи, а дивизионного начальника заковали уже в кандалы и что вместо Гебеля назначен полковым командиром Муравьев». Подполковник пытался дать им деньги на водку – но нижние чины заявили: «Нам ваша водка не нужна»[441].
Это был новый удар по полковой дисциплине. После ухода полутора рот выяснилось, что батальонному командиру можно вообще не подчиняться – и за это ничего не будет. Несмотря на все усилия офицеров удержать восстание в рамках военной революции, неуправляемый сценарий событий стал разворачиваться помимо их воли. Главными действующими лицами в событиях последних дней мятежа оказались солдаты-черниговцы. Они больше не слушались увещеваний и не воспринимали угрозу расстрела. И офицеры вынуждены были ограничиться ролью сторонних наблюдателей.
* * *
Судьба двух нижних чинов Черниговского полка – унтер-офицеров Прокофия Никитина и Тимофея Николаева – хорошая иллюстрация к теме «декабристы и народ».
Оба эти унтер-офицера состояли во 2-й гренадерской роте. Ротой командовал 24-летний поручик Василий Петин. Хотя Петин и состоял в тайном обществе, активным заговорщиком, как уже говорилось выше, он не был. К тому же он совсем недавно принял роту от уехавшего в отпуск штабс-капитана Глушкова. Очевидно, подполковник Сергей Муравьев-Апостол не надеялся на его безусловное участие в восстании и заранее пытался завязать дружеские, доверительные отношения с солдатами. Ему это удалось: в дни мятежа 2-я гренадерская рота – самая активная. 3 января 1826 года, при столкновении с правительственными войсками, она (правда, уже без своего командира) – во главе полковой колонны.
Николаев и Никитин – те, на кого Сергей Муравьев, начиная «дело», рассчитывал в первую очередь. «Мог я заметить, что 2-й гренадерской роты унтер-офицер Никитин был фаворит Муравьева», – показывал на следствии рядовой Дмитрий Грохольский. А поручик Петин утверждал, что прибывший «для возмущения» роты батальонный командир «целовал и обнадеживал унтер-офицера Николаева».
Подполковник в своих расчетах не ошибался: Николаев и Никитин пользовались уважением рядовых, солдаты за ними пошли. Часть роты не успела к общему поспешному построению и выходу из ротной квартиры, и отставшие догоняют полк во главе с Прокофием Никитиным. Тимофей Николаев же вместе с другими «доверенными» солдатами, участвует в захвате полковых знамен и артельной кассы в доме командира полка.
Серьезное поручение подполковника унтер-офицеры выполняют 31 декабря. Вместе с полковым квартирмейстером Антоном Войниловичем они отправляются в самые «ненадежные» роты – 1-ю гренадерскую и 1-ю мушкетерскую – с приказом о присоединении к восстанию.
Подпоручик Войнилович не состоит в тайном обществе, как и многие другие офицеры, он случайно попал в водоворот мятежа и ищет случая «уклониться». Это его настроение становится известно Муравьеву, и Николаев с Никитиным (согласно показаниям подпоручика) получают приказ «буде бы он вздумал ехать в другое какое-либо место, а не туда, куда было приказано, лишить его жизни»[442].
С поручением Войнилович справился лишь частично: роты дождались Муравьева, но 1-я гренадерская не примкнула к восстанию, 1-я же мушкетерская разделилась: часть пошла с полком, часть вернулась на свои квартиры. Войнилович под конвоем унтер-офицеров догоняет полк на переходе Васильков – Мотовиловка.
На следующий день, 1 января, Николаев и Никитин снова в поле зрения командира. Радушный хозяин Мотовиловки Иосиф Руликовский страдает от назойливых пьяных солдат, вымогающих у него деньги и водку. Он просит защиты у Муравьева, тот опять вызывает верных унтеров. «Слушай, Никитин, я на тебя полагаюсь как на самого себя, что ты не позволишь солдатам обидеть этого пана», – говорит он[443]. Николаев и Никитин становятся у дверей дома и выгоняют вымогателей. Руликовский успокаивается.
Но верность Муравьеву унтер-офицеры сохраняют до тех пор, пока чувствуют над собой его непосредственную власть. Когда же эта власть ослабевает, долго копившаяся в них энергия разрушения вырывается наружу.
В суете сборов к походу, в лихорадочной выработке планов действий Муравьев, уходя из Мотовиловки, забывает снять караулы. И первое, что делают Николаев и Никитин, сообразив, что остались одни, – бросают пост и заходят в соседний дом, где у «еврейки Гнеи Мордковой» насильно забирают вещи ее мужа.
После посещения еврейской хаты солдаты на лошадях Руликовского отправляются в Фастов. По пути они напились водки и «напоили возчика так, что лошади сами доставили его в Мотовиловку».
В Фастове – сначала мелкие кражи и грубости местным жителям, потом – разбойное нападение на дом местного арендатора («посессора») Ольшевского. Этот эпизод получил широкую огласку и был впоследствии специально расследован властями – очевидно, потому, что на пути унтер-офицеров оказалось «официальное лицо» – майор местной фурштатской команды.
Рапорт майора Тимофеева, равно далекого и от мятежников, и от их идейных противников, безыскусен и правдив; он подтверждается многими другими документами: «2-го числа сего месяца (января 1826 года. – О.К.) приезжали из числа бунтовавших рот Черниговского пехотного полка в местечко Фастов, 2-й гренадерской роты унтер-офицеры Тимофей Николаев и Прокофий Никитин… и при них рядовые 5-й мушкетерской роты…
Поясненные чины прибыли в дом посессора Ольшевского, в коем только находилась оного посессора мать, обремененная старостью лет, и по прибытию в дом рядовые, взявши ружья, оставались с подводами на дворе, а унтер-офицеры, также с ружьями, Николаев стоял у дверей, а Никитин взошел в покой, требовал от хозяйки дома на каждого человека по рублю серебром и, взломавши сундук, выкидывал из оного платья, в каковом состоянии застан мною с бывшими при мне г.г. офицерами…»[444]
Тимофеев и его офицеры без труда обезоружили и связали пьяных черниговцев и отправили «за надлежащим караулом» в Белую Церковь, в штаб дивизии.
Поведение солдат мятежных рот, в общем, аналогично поведению Николаева и Никитина. Первоначально многие из них шли за Муравьевым, подчиняясь приказу, – и не все понимали даже, что идут «бунтовать». Солдаты любили его и, конечно, верили, что ни на что плохое он их не поведет. Но потом, увидев, что поведение офицеров необычно, заметив отсутствие командира полка, услышав слова о вольности и о «незаконном» вступлении на престол Николая Павловича, они почувствовали себя свободными от дисциплины.
Летом 1827 года, ровно через год после казни Сергея Муравьева-Апостола, в Василькове началось новое следствие. Речь шла «об убытках, нанесенных жителям возмущением Черниговского полка». Первоначально жителей опрашивал киевский губернатор Ковалев, но в Петербурге нашли, что он вел дело необъективно: убытки определил слишком большие. По городу Василькову они составили 3397 рублей 33 копейки ассигнациями, по уезду – 19 221 рубль ассигнациями плюс еще 123 рубля 39 копеек серебром[445]. Сумма по тем временам оказалась немалая, с Муравьева-Апостола взыскать что-либо было уже невозможно, и Петербург, прежде чем выплатить деньги из государственной казны, предпочел все перепроверить. Перепроверку поручили генерал-лейтенанту Петру Желтухину, военному губернатору Киева.
Посланник Желтухина подполковник Панков совместно с городскими властями Василькова составил подробнейшие – до копеек – ведомости убытков и тщательно сопоставил их с данными Ковалева. Материалы эти частично опубликованы и проанализированы украинским историком В. М. Базилевичем. Базилевич, в частности, опубликовал рапорт Панкова Желтухину о том, что «к открытию настоящей истины в понесенных жителями убытках за давно прошедшим временем нет никакой возможности»[446]. Однако даже с учетом неполноты собранных сведений документы эти вполне красноречивы.
Из ведомостей Панкова видно, что больше всего привлекали солдат спиртные напитки. Владелец трактира еврей Иось Бродский заявлял, например, об украденных у него «водки 360 ведер». Панков сначала не поверил ему, но нашлись свидетели, подтвердившие, что «водки и прочих питий действительно в указанном количестве вышло потому, что солдаты не столько оных выпили, сколько разлили на пол, – ибо в тех местах, где брали питья, были облиты оными»[447]. Подсчитывали количество выпитого солдатами Мотовиловская и Белоцерковская экономии, Васильковский питейный откуп, Устимовский, Ковалевский, Пологовский, Мытницкий, Сидорианский питейные дома. Практически у каждого второго из поименованных в ведомостях евреев после ухода полка не оказалось в хозяйстве одного-двух ведер водки.
Вообще, повальное пьянство – бич южного восстания. В том, что солдаты почти весь поход были в нетрезвом виде, сходятся многие источники: об этом доносит васильковский поветовой стряпчий, рассказывают правительственные агенты, рапортуют генералы – командиры корпусов, показывают на допросах арестованные офицеры-черниговцы, вспоминает Иосиф Руликовский. И все эти сведения красноречиво опровергают мнение советских историков о том, что «солдаты Черниговского полка, присоединившиеся к восстанию, на всем его протяжении проявили замечательную революционную выдержку и готовность на любые жертвы во имя грядущего торжества свободы»[448].
Среди «противузаконных поступков», в которых были уличены мятежные солдаты, пьяные драки – на одном из первых мест. Например, рядовой 2-й мушкетерской роты Исай Рубцов обвинялся в том, что «по показанию унтер-офицера Ляшковского и фельдфебеля Полякова… делал грубости и ругательства и ударил из них Ляшковского по щеке… Но Рубцов, хотя прямо в том не сознался, однако говорит, что может его и ударил, но как был очень пьян, то совершенно не помнит». Аналогичные обвинения предъявлялись рядовым Михаилу Башкину, Яну Матвееву, Фоме Лапину и многим другим.
Унтер-офицер 5-й мушкетерской роты Спиридон Пучков, тоже, кстати, любимец Муравьева, «в сердцах» тяжело ранил денщика подпоручика Войниловича, и эпизод этот наверняка сыграл не последнюю роль в окончательном решении Войниловича «отстать» от полка[449].
После того как «в шести шинках была выпита водка», многие из солдат просто потеряли контроль над собственными действиями. По свидетельству Руликовского, восставшие «напали на хату крестьянина, хорошего хозяина, и, войдя в хату, нашли там только что умершего старика Зинченка, который окончил свою жизнь, имея более ста лет. По деревенскому обычаю, покойник лежал на скамье, одетый в белую рубашку и покрытый новым полотенцем. Солдаты спьяна издевались над телом старика, – а был он малого роста и сухопарый. Всю его одежду забрали, да еще, схвативши мертвое тело, тащили его танцевать»[450].
Естественными спутниками пьянства стали грабежи. Грабежам подвергались прежде всего местные евреи: ведомости об «убытках» Ковалеву и Панкову подали мещане Гершка Козыр, Хайом Ровенский, Иошка Ратманнский, Аврум Витянский, Дувид Бейлис, Аврум Лейба Мазур, Хаим Менис, Овсей Гершка, Гдаль Сайзберг, Аврум Лейба Эппельбойм, Янкель Смоляр, Мошка Вильский, Зельман Герзон, Дудя Кимельфельд, Рувин Шутин, Гершка Троцкий, Аврум Белопольский и многие другие. Еврей же Абель Солодов, подавая список убытков, присовокупил к нему: «Содрано с жидовки половину наушниц с жемчугом и золотом» на 40 рублей ассигнациями[451].
Однако грабежу подвергались не только питейные дома, не только евреи-арендаторы, но и обыкновенные крестьяне, те, кого, по революционной логике вещей, восставшие солдаты призваны были защищать. У «вдовы Дорошихи», например, украли «кожух старый», оцененный в четыре рубля ассигнациями, на такую же сумму понес убытков житель Василькова Степан Терновой. Солдаты Юрий Ян, Исай Жилкин и Михаил Степанов обвинялись в том, что «в селе Мотовиловке отбили у крестьянина камору и забрали вещей на 21 рубль». Некоторые из этих вещей потом были найдены у них после усмирения восстания, а некоторые оказались «на дворе под артельными повозками спрятанные». В списках «заграбленных» вещей – бесконечные сапоги, шапки, платки, холст, скатерти, юбки, рубахи, наволочки, чулки, иконы. Ведомости об убытках подали крестьяне Савва Зинченко, Ефим Костенко, Степан Тищенко, Иван Кузьменко, Осип Сулименко, Павел Нестеренко и др.
Иосиф Руликовский утверждает, что грабежом мелких хозяйственных вещей черниговские солдаты не ограничивались. Он приводит в своих «Записках» факты разбоя, избиений, изнасилований. Так, например, некий местный житель, «ехавший верхом из Киева», встретился с полком на подступах к Василькову. «Любопытствуя узнать, что за войско так быстро марширует к Василькову, не то ли, что изрубило полковника (Гебеля. – О.К.)… он решился расспросить об этом в присутствии пьяных солдат, которые не спеша тянулись за батальоном. Те, возмущенные этими расспросами, отозвались: “и тебя так изрубим”, и, схватив его за баки, сильно отлупили его палками».
«Какая-то пани в пароконных санях с кучером ехала в Киев на контракты. По пути увидела она издалека войско. Не зная хорошо местности, она против Большой Салтановки свернула вправо, к так называемому Бибикову Яру, чтобы там спрятаться, и застряла в снежном сугробе. Роты, проходившие под командой офицеров, прошли мимо, ее не трогая, но мародеры, что следовали за ротами, увидели ее, напали, сделали ей немало неприятностей и забрали деньги».
«Вдруг вбежала в испуге жившая далеко на фольварке жена эконома с ребенком на руках. Спасаясь от солдатской настойчивости и защищая себя ребенком, она получила легкую рану тесаком». «Когда во время следствия солдаты сами признались, что две еврейки были принуждены уступить их насилию, тогда через нижний суд требовали подтверждения этого от потерпевших. Но евреи не признались, что это так было, потому что их закон требует, чтобы в таких случаях мужья давали развод своим женам».
«Полк вошел в Срединную Слободу и разбежался по селу в поисках живности. Большая часть полка напала на корчму и, не найдя шинкаря, уничтожила все, что там оставалось, так как по приказу белоцерковской экономии всюду из корчем водку вывезли и спрятали»[452].
Несмотря на тщательное расследование, установить всех виновников грабежей и разбоев так и не удалось. Жители не могли на следствии подробно описать тех, кто нападал на них, «по той причине, что некоторые поудалялись в то время из домов, а некоторые, хотя и были в домах, но оных, как набегавших… по десяти и двадцати человек вдруг с заряженными ружьями и примкнутыми штыками при угрожении стрелять и колоть, от испугу заметить не могли»[453].
Уважения солдат к командирам больше не было. Нижние чины «силой забирали все, что было приготовлено для офицеров и унтер-офицеров, приговаривая: “Офицер не умрет с голоду, а где поживиться без денег бедному солдату!”».
Только через два часа после приказа о выступлении из Мотовиловки с большим трудом удалось построить мятежные роты. «Муравьев, собравши унтер-офицеров, приказал им расстановиться, но сии отказались, говоря при том, к чему сия цель будет служить, ибо они в своих пределах никакой опасности не предвидят», – докладывал начальству васильковский поветовой стряпчий[454].
* * *
«Хотел этого Муравьев или нет, но восстание, на которое он шел, помимо воли его руководителей начинало перерастать именно в ту форму, которой декабристы боялись: оно апеллировало к активной форме сочувствия народа, иначе теряло смысл», – утверждала М. В. Нечкина[455].
Исследовательница была права: заговорщики могли избежать разгрома лишь в том случае, если бы они сознательно решились возглавить народный бунт. Реализовать этот вариант Сергею Муравьеву-Апостолу было нетрудно.
Так, свидетель событий, военный историк А. И. Михайловский-Данилевский утверждал: в Белой Церкви, имении графини Браницкой, Муравьева «ожидали, чтобы с ним соединиться», «четыре тысячи человек, недовольных своим положением. Это были большею частью старинные малороссийские казаки, которых Браницкая укрепила за собою несправедливым образом».
Горбачевский подтверждал его слова: «Объезжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно:
– Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш».
Руководитель восстания «тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение» – но призывать их себе в союзники не стал.
По свидетельству Руликовского, «офицеры… до самого последнего момента отличались безукоризненным поведением и сохранили не запятнанной даже каким-либо пустяком свою воинскую честь». Однако с потерей управляемости полком им все же пришлось смириться. Муравьев-Апостол и его офицеры попали в полную и безусловную зависимость от нижних чинов.
«Проходя Ковалевкой, солдаты припомнили, что благодаря местному еврею-арендатору они были наказаны, так как причинили ему какую-то обиду. Поэтому, остановившись на короткое время, они сильно побили арендатора за то, что он на них когда-то пожаловался. Хотя это стало известно Муравьеву, он должен был им потакать, чтобы не утратить привязанность солдат, и двинулся дальше, как будто ничего не знал», – вспоминал владелец Мотовиловки[456].
* * *
2 января Муравьев с трудом вывел своих солдат из разграбленной Мотовиловки, многие из них были пьяны и едва держались на ногах. В полку началось массовое дезертирство. Из офицеров остались те, кто начинал восстание и кому, собственно, все равно нечего было терять. Кроме того, до конца за васильковским руководителем пошли его братья Матвей и Ипполит, Бестужев-Рюмин и подпоручик Черниговского полка Андрей Быстрицкий.
Движение к Киеву уже не имело смысла. «Не имея никаких известий о Мозалевском и заключив из сего, что он взят или в Киеве, куда, следственно, мне идти не надобно, или в Брусилове, где, стало быть, уже предварены о моем движении, я решился двинуться на Белую Церковь, где предполагал, что меня не ожидают, и где надеялся не встретить артиллерии», – показывал Муравьев-Апостол на следствии.
Квартировавший в Белой Церкви 17-й егерский полк был последней надеждой Муравьева. Однако даже если бы случилось чудо, и полк этот принял участие в восстании, двумя полками все равно невозможно было бы противостоять собранной для подавления мятежа военной силе. После провала миссии Мозалевского ни на какой успех заговорщикам рассчитывать не приходилось.
Ночь со 2 на 3 января полк провел в селении Пологи, в 15 верстах от Белой Церкви. Посланный в город осведомитель сообщил, что 17-й егерский полк оттуда выведен, а занявшие его правительственные войска усилены артиллерией. Сообщение это делало положение черниговцев безнадежным. «Не имев уже никакой цели идти в Белую Церковь, – показывал Сергей Муравьев, – я решился поворотить на Трилесы и стараться приблизиться к “славянам”»[457]. Через Трилесы шла дорога на Житомир. Однако до Житомира мятежникам тоже дойти не удалось.
Очевидно, за несколько часов до разгрома не только офицеры, но и солдаты в полной мере осознали, что восстание проиграно. Руликовский утверждал: «Когда сельский люд из двух зажиточных сел выходил из церкви после воскресного богослужения, мужчины, одетые по украинскому обычаю в новые кожухи (тулупы) и свиты (полушубки)… солдаты бросились к ним и начали менять свои мундиры и кивера на крестьянские кожухи и шапки»[458].
Офицеры же – те, кто остался с полком, – перед разгромом занимались уничтожением документов. Горбачевский сообщает, что незадолго до столкновения с правительственными войсками «С. Муравьев вместе с офицерами пересматривал бумаги, взятые у него Гебелем в Василькове и опять отнятые в Трилесах. Как бы предчувствуя ожидавшее его поражение, он сжег все письма, полученные от членов тайных обществ, и некоторые из бумаг, относящиеся к сим делам»[459].
3 января 1826 года мятежники были разгромлены. Общая схема движения муравьевских рот напоминает перевернутую на бок цифру 8: восстание захлебнулось в том же самом месте, где и началось, около деревни Трилесы.
Много лет спустя Иван Горбачевский попытался проанализировать действия Сергея Муравьева-Апостола как военного руководителя восстания. И действия эти мемуарист оценивал скептически: «Спрашивается, что заставляло его после столь смелого начала ограничиться движениями около Василькова, делать небольшие переходы и дневать в Мотовиловке, между тем как солдаты, так и офицеры только того и желали, чтобы действовать наступательно… Если бы движения Черниговского полка были быстры, внезапны, то, кроме существенной выгоды, сии движения укрепляли бы дух подчиненных и поддерживали их надеждою успеха».
Медлительность Муравьева Горбачевский склонен был объяснять несбывшимися надеждами на присоединение других воинских частей – тех, в которых служили члены тайных обществ: «Высокие чувства и благородная душа С. Муравьева не позволяли ему сомневаться в обещании других членов… Он верил всем, не воображая, что в этом случае люди, известные своею храбростью и честностью, сыграют роль трусов и обманщиков. Обещания их набросили на его шею веревочную петлю, за уверенность в их мужестве и правдивости он заплатил жизнью».
Однако представляется, что Горбачевский не был точен в своих выводах. Гораздо грамотнее – с военной точки зрения – причины поражения восставших описал военный историк Михайловский-Данилевский: «Он (Муравьев-Апостол. – О.К.) не мог повелевать своими движениями, ибо власть, не основанная на законах, не дает продолжительной и постоянной силы над людьми, а потому, вместо того, чтобы с быстротою действовать… он вынужден был уступить настояниям солдат и сделать дневку, отчего войска, отряженные для уничтожения его, успели его догнать и окружить»[460].
* * *
Командир 3-го пехотного корпуса генерал Рот вывел против мятежников бо́льшую часть своих войск, разделенных на несколько крупных отрядов. 3 января полк натолкнулся на один из таких отрядов, им командовал генерал-майор Федор Гейсмар. Отряд состоял из трех эскадронов гусар и одной конно-артиллерийской роты.
И если на Сенатской площади с мятежниками вели переговоры о мирной сдаче оружия, то в данном случае действовало предписание начальника штаба 1-й армии генерала Толя: «Сила оружия должна быть употреблена без всяких переговоров: происшествие 14-го числа в Петербурге… лучшим служит для нас примером»[461]. «Южный бунт» был подавлен жестко.
Сергей Муравьев-Апостол расскажет на следствии: «Между деревнями Устимовкою и Королевкою был встречен отрядом генерала Гейсмара, я привел роты, мною водимые, в порядок, приказал солдатам не стрелять, а идти прямо на пушки, и двинулся вперед со всеми остававшимися офицерами. Солдаты следовали нашему движению»[462].
Позже мемуаристы и исследователи будут недоумевать: предупрежденный разведкой о появлении отряда Гейсмара, Сергей Муравьев не захотел попытаться обойти его деревнями, а, несмотря на уговоры младших офицеров, повел солдат степью, «прямо на пушки», – и в результате полк был расстрелян картечью в упор. Подполковник Муравьев-Апостол, получивший хорошее военное образование, был опытным боевым офицером. Историки удивлялись: почему же он не сумел решить элементарной тактической задачи. Особое недоумение вызывал последний приказ Муравьева: не стрелять в противника.
Однако учитывая ход восстания, нельзя не увидеть в действиях подполковника вполне определенной логики. Запретив сопротивление, Муравьев-Апостол единственным оставшимся ему способом прекращал бунт и погром, с которыми он не смог справиться.
Впрочем, победа восставших была не возможна даже теоретически. Осмотр конфискованных солдатских ружей показал, что большая часть их «были не заряжены и имели деревянные кремни». Видевший девять черниговских «карабинов» Руликовский подтверждает: «… Некоторые из них не имели кремневых курков, а лишь деревянные. А два из них были заряжены очень странным образом: один был заряжен наоборот – пулей внизу, а порохом сверху, а другой вместо заряда имел кусок сальной свечки».
«Все это могло произойти от неумеренного употребления водки, выпитой в Мотовиловке», – констатирует Руликовский[463].
Выведя полк под пушечный огонь, предводитель мятежников не оставил и себе лично шанса на спасение.
Находившийся в момент расстрела восставших впереди полковой колонны, Сергей Муравьев-Апостол был тяжело ранен и чудом избежал смерти. «Попавшая мне в голову картечь… повергла меня без чувств на землю. Когда же я пришел в себя, нашел батальон совершенно расстроенным и был захвачен самыми солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы стараться собрать их; захватившие меня солдаты привели меня и Бестужева к Мариупольскому зскадрону, куда вскоре привели и брата и остальных офицеров», – показывал он.
Согласно материалам следствия «раненый в голову картечью, Сергей Муравьев схватил было брошенное знамя, но, заметив приближение к себе гусарского унтер-офицера, бросился к своей лошади, которую держал под уздцы пехотинец. Последний, вонзив штык в брюхо лошади, проговорил: “Вы нам наварили каши, кушайте с нами”».
Фамилия рядового была Буланов, он числился в 1-й мушкетерской роте. Позже Николай I распорядился простить его «за бытность в числе бунтовщиков» и перевести в другой полк. Ударил же он штыком лошадь командира, решив, что тот хочет ускакать, скрыться от ответственности. «Нет, ваше высокоблагородие, и так мы заведены вами в несчастие», – такими, по другим источникам, были слова Буланова.
Когда в 1823 году интервенция разгромила испанскую революцию, Риего выдали карателям простые испанские крестьяне-свинопасы. Этот факт из недавней истории Сергей Муравьев-Апостол очень хорошо знал. И, наверное, не удивился тому, что солдаты-черниговцы, поняв, что дело проиграно, сами «захватили» его и сдали правительственному отряду. Комментируя покорность руководителя мятежа в эту роковую минуту, подпоручик Бестужев-Рюмин скажет на допросе: «Муравьев предпочел лучше пожертвовать собой, чем начать междоусобную войну».
* * *
По-другому описал разгром полка Матвей Муравьев-Апостол: «Брат Сергей упал, раненый в голову. Брату моему Ипполиту раздробило левую руку; я пошел, чтобы сыскать, нет ли какого-либо фельдшера, чтобы перевязать их, но тут же эскадрон наехал в хвост колоны. Гусары кричали солдатам: “Бросайте ружья”, что они очень охотно делали. Не было ни одного выстрела из ружья. Я уже нашел брата моего Сергея окруженного гусарами, и мне тут сказали, что Ипполит после был убит».
«Ипполит, полагая, что брат убит, застрелился из пистолета», – уточнит Матвей в воспоминаниях.
Матвей не прав: Ипполит, раненный в руку картечным выстрелом, покончил с собой не в результате стихийного порыва, не потому, что увидел падение Сергея с лошади и решил, что он убит. О своем возможном самоубийстве он, по-видимому, думал с того момента, как присоединился к восставшему полку. Согласно сделанным в Петропавловской крепости записям Матвея вечером 2 января, когда разгром мятежников уже не вызывал сомнений, Ипполит вел с ним «продолжительный разговор… о судьбе человека».
В ходе разговора Матвей опять просил брата уехать, объясняя, что в ином случае его ждет долгий тюремный срок. Но Ипполит «успокаивал брата, уверяя его, что, оставшись с ними, он, наверное, не попадет в тюрьму». По-видимому, прапорщик уже решил сам определить свою судьбу, не дожидаясь, пока победители это сделают за него. Но Матвей просто не сумел адекватно понять признание Ипполита.
Мы, конечно, никогда не узнаем точно мотивы, по которым Ипполит Муравьев-Апостол свел счеты с жизнью. Но нельзя исключить, что среди этих мотивов было и осознание юным прапорщиком собственной вины за поражение южного восстания.
«На другой день, когда нас отправили в Белую Церковь, майор, который нас конвоировал (он был Мариупольского полка), по моей просьбе позволил мне проститься с Ипполитом; я его нашел: он лежал, раздетый и брошенный, в сенях малороссийской хаты», – таков был финал жизни Ипполита в изложении Матвея Муравьева[464].
* * *
Ипполит Муравьев-Апостол был не единственной жертвой восстания, поднятого его братом. Картечными выстрелами были убиты Михаил Щепилло и шестеро солдат, через несколько часов после разгрома покончил с собою Анастасий Кузьмин. Выживших мятежников, младших офицеров-черниговцев, судили военным судом в Могилеве. Троих из них – Вениамина Соловьева, Ивана Сухинова и Александра Мозалевского – приговорили к расстрелу, замененному вечной каторгой. К бессрочным каторжным работам был приговорен Андрей Быстрицкий.
Жертвами «южного бунта» стали и солдаты, ушедшие в Сибирь, насмерть запоротые по приговору военного суда. А также совершенно ни в чем не виноватые крестьяне, жители Василькова и окрестных деревень. «Самый успех нам был бы пагубен для нас и для России», – признает потом Бестужев-Рюмин[465].
* * *
Мятежники были разбиты, но шок, вызванный восстанием у местных жителей, прошел не скоро. По Васильковскому уезду стали распространяться слухи о грядущих погромах. Слухи эти радостно поддерживали те, кого воодушевили «подвиги» черниговских солдат.
Выдержки из следственных дел той поры весьма красноречивы. «Мещанин Василий Птовиченко, будучи пьяным, говорил, “что будут выпускать из тюрем арестантов и… будем резать шляхту, евреев и другого звания людей, и тогда, очистивши таким образом места, государь император будет короноваться”».
«Шляхтич Андреевский будто бы сказал еврейке Хайме, что зарежет ее; крестьянин Кондашевский заметил на это: “Худая до мяса, надобно искать пожирнее”, а Роман Пахолка (крестьянин) прибавил: “надобно два дня ножи точить, а потом резать”».
Крестьянин Медведенко «пьяный в шинке просил четырех рядовых поднять восстание наподобие Черниговского полка и говорил: “уже час било чертовых жидов и ляхов резать”, а солдаты на это отвечали: “на это нет повеления”».
«Священник Григорий Левицкий… говорил, что “во время наступаемых светлых праздников первого дня ночью, когда дочитают Христа, резать будут ляхов и жидов”».
«Когда об этом только и говорили, то ясно, что крестьяне, православное духовенство, а также так называемые поповичи для большего устрашения распространяли басни и пугали уже назначенными сроками общего призыва к резне. Такими днями должны были явиться: “Сорок мученников”, Благовещение, Верба, Пасха и Фомина неделя. Когда же они, один за другим, проходили, то это еще не уменьшало общей тревоги»[466].
Тревога эта не была безосновательной: через три месяца после разгрома черниговцев в уезде появился некий “солдат Днепровского полка Алексей Семенов”, который, сколотив шайку в полторы сотни человек, назвался «штаб-офицером по секрету и в чужом одеянии, поставленным от государя императора арестовывать помещиков и объявлять крестьянам свободу от повинностей» и несколько недель безнаказанно предавался грабежу.
«Такие-то и им подобные события и происшествия нагнали панический ужас на жителей: шляхту, ксендзов и евреев, которые припомнили ту страшную уманскую резню, что произошла в 1768 году. По этой причине много богатых панов выхлопотало себе воинскую охрану. Иные обеспечили себя ночной охраной… Другие, которые имели много денег, вооружили своих дворовых людей», – вспоминает Руликовский.
В сознании обывателей основным источником возможных погромов оставались черниговские солдаты – те, которым удалось скрыться с поля боя и избежать ответственности. Неудивительно поэтому, что дивизионный командир, объезжая Васильковский уезд, в одной из деревень был встречен «толпою крестьян… с палками, которые полагали, что он был Черниговского полка, увидев красный воротник, бежали к нему навстречу, крича: “рабуси (полонизм, грабители. – О.К.) черниговцы”, и он был вынужден поворотить назад и как наиспешайше выехать из деревни»[467].
Глава XI. «Самая жалкая фигура в этом кровавом игрище»
Князь Сергей Трубецкой был арестован в ночь с 14 на 15 декабря 1825 года в доме своего близкого родственника, австрийского посла в России Людвига Лебцельтерна; в аресте принимал участие сам министр иностранных дел Карл Нессельроде. Вскоре после инцидента австрийский посол был отозван из России.
Тактика, которой придерживался Трубецкой на следствии, на первый взгляд кажется весьма странной. Князь обвинялся в организации военного мятежа, его положение было в полном смысле слова катастрофическим. Попав в тюрьму, он сразу же согласился сотрудничать со следствием, и логично было бы ждать от него подробных описаний предшествовавших 14 декабря событий, серьезного анализа причин, по которым в столице империи произошел мятеж. По-видимому, именно этого и ожидало от Трубецкого следствие.
Однако несмотря на покаянный тон показаний диктатора, на его полное самоуничижение на первых допросах, ожидания следователей были обмануты. «В присутствии Комитета допрашиван князь Трубецкой, который на данные ему вопросы при всем настоянии членов дал ответы неудовлетворительные», – читаем в «Журнале» Следственной комиссии от 23 декабря. Невнятно повествуя о собственных взаимоотношениях с отставным подпоручиком Рылеевым накануне столичных событий, он упорно отсылал следствие на юг, туда, где находился истинный виновник произошедшего – руководитель Директории Южного общества, командир Вятского пехотного полка полковник Павел Пестель.
Согласно Трубецкому Пестель был человеком «порочным и худой нравственности», злым и жестоким честолюбцем, который рвался к диктаторской власти и ради этого был готов на все. В том числе и на цареубийство: «Он обрекал смерти всю высочайшую фамилию… Он надеялся, что государь император не в продолжительном времени будет делать смотр армии, в то же время надеялся на поляков в Варшаве, и хотелось ему уговорить тож исполнить и здесь».
Собственно, цель общества в столице, как и личная цель Трубецкого, согласно его показаниям, состояла в противодействии Пестелю. Не будь его, все заговорщики давно бы разошлись, и 14 декабря бы не случилось. Пестель оказывался таким образом главным виновником событий на Сенатской площади.
Трубецкой резюмировал: «Я имел все право ужаснуться сего человека, и если скажут, что я должен был тотчас о таком человеке дать знать правительству, то я отвечаю, что мог ли я вздумать, что кто б либо сему поверил; изобличить его я не мог, он говорил со мною глаз на глаз. Мне казалось достаточною та уверенность, что он без содействия здешнего общества ничего предпринять не может, а здесь я уверен был, что всегда могу все остановить – уверенность, которая меня теперь погубила».
Согласно показаниям Трубецкого с разгромом заговорщиков на Сенатской площади опасность для государственной власти в России не исчезла. Князь утверждал: перед его отъездом из Киева в ноябре 1825 года Пестель просил передать ему, «что он уверен во мне, что я не откажусь действовать, что он очень рад, что я еду в Петербург, что я, конечно, приготовлю[сь]» к действию, которое, может быть, он начнет в будущем году.
Трубецкой в данном случае подтасовывал факты: истинных планов Пестеля он не знал и в 1826 году собирался действовать вовсе не с ним. Но он старательно внушал следствию: пока Пестель на свободе, праздновать победу рано (о том, что руководитель Южного общества был арестован 13 декабря в Тульчине ни Трубецкой, ни столичные следователи еще не знали).
У следствия, судя по настойчивым показаниям князя, был только один шанс избежать кровавого кошмара: не арестовывать единственного человека – кроме, конечно, самого Трубецкого, – который может противостоять Пестелю. Этим человеком был Сергей Муравьев-Апостол.
Трубецкой неоднократно подчеркивал: Сергей Муравьев – человек мирный, совершенно неопасный для правительства. И при этом васильковский руководитель «Пестеля ненавидит» и всячески препятствует его злодейским замыслам. Князь писал, что Муравьев поклялся: «Если что-нибудь Пестель затеет делать для себя, то всеми средствами ему препятствовать»[468].
Ни Пестель, ни Сергей Муравьев-Апостол на следствии не распространялись на тему взаимной ненависти и смертельной вражды. В показаниях Пестеля практически не звучит и тема борьбы лично с Трубецким. Более того, злобный авантюрист и цареубийца Пестель в декабре 1825 года хладнокровно сдался властям. А «мирного» Сергея Муравьева-Апостола почти неделю усмирял пехотный корпус. Обезвредить подполковника власти смогли только попаданием картечи в голову.
Рассказывая об этом противостоянии, Трубецкой пытался выиграть время, дать Ипполиту Муравьеву-Апостолу возможность доехать добрата.
* * *
В связи с восстанием Черниговского полка императору Николаю I, только что вступившему на престол, пришлось пережить много неприятных минут. Ситуация казалась еще более угрожающей, чем была 14 декабря: о том, что происходит на юге, оперативных сведений не было.
5 января, в день получения известия о мятеже Николай I писал цесаревичу Константину: «Я… не могу не опасаться, как бы Полтавский полк, командуемый Тизенгаузеном, который еще не арестован, а также Ахтырский гусарский и конная батарея, командиры которых тоже должны были быть арестованы, не присоединились к восставшим. Князь Волконский, который поблизости, вероятно, присоединится к ним. Таким образом, наберется от 6.000 до 7.000 человек, если не окажется честных людей, которые сумеют удержать порядок»[469].
Но уже 9 января в столицу пришло известие о подавлении восстания. В тот же день Трубецкой получил от следствия вопрос следующего содержания: «Кто дал прапорщику квартирмейстерской части Ипполиту Муравьеву-Апостолу прокламации, которые он из Петербурга отвез к Сергею Муравьеву-Апостолу? Кто составил их и какого они содержания»?
На этот вопрос князь отвечал: «Я ничего не знаю о сей прокламации и в первый раз о ней слышу. Я уже показывал, что я дал ему к брату его письмо на французском языке, о котором уже я был спрашиван в Комитете, а что он еще получал и от кого, мне неизвестно»[470].
Опираясь на показания прапорщика Мозалевского от 2 января – о том, что Ипполит приехал в Васильков до молебна на площади, – следователи хотели знать, не был ли Трубецкой автором прочитанного после этого приезда «Православного катехизиса». Трубецкой отвечал отрицательно, и в данном случае говорил правду. Однако 9 января князь не мог не понять: Ипполит Муравьев-Апостол увиделся с братом. Но, поскольку следствие располагает какими-то сведениями об этой поездке помимо тех, которые сообщил он сам, Сергею Муравьеву-Апостолу выполнить их совместный план не удалось. Судьба Трубецкого теперь напрямую зависела от того, как руководители южан – и прежде всего сам Муравьев-Апостол – будут вести себя на допросах.
Самое страшное, что могло бы произойти в ходе следствия над Трубецким – это, конечно, не выявление деталей его противостояния с Пестелем. И даже не выяснение планов, которые они с Муравьевым-Апостолом строили в 1825 году. Смертный приговор Трубецкому стал бы неминуемым, если бы следствие заинтересовалось деятельностью в Киеве генерала Эртеля. Или всплыло бы истинное содержание письма, отправленного накануне 14 декабря в Васильков.
* * *
Пестель был доставлен в Петербург 3 января 1826 года. И если на первых допросах в Тульчине он отговаривался полным «незнанием» о тайном обществе, то в Петербурге ему пришлось изменить тактику и начать давать признательные показания.
Ситуация, в которой в самом начале следствия оказался Пестель, была крайне сложной. Когда его доставили в Петербург, царь и те, кто исполнял его волю в Следственной комиссии, уже прекрасно понимали, что имеют дело с руководителем заговора. Следствие располагало множеством уличающих полковника показаний участников и Северного, и Южного обществ.
Император Николай I в мемуарах называл Пестеля «извергом» – и, видимо, с самого начала рассматривал его как главного обвиняемого. Южному лидеру пришлось отвечать за все преступления заговорщиков с начала существования тайных обществ. По свидетельству знаменитого духовника православных арестантов Петра Мысловского, «никто из подсудимых не был спрашиван в Комиссии более его (Пестеля. – О.К.); никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же».
Тот же Мысловский был убежден: Пестель на следствии остался «равен себе самому». Это утверждение верно: следователям так и не удалось сломить его волю и мужество. Южный лидер остался таким же, каким был раньше: человеком умным, смелым и стойким, способным на крайне рискованные шаги – пусть даже и не безупречные с точки зрения «чистой» морали, и при этом умеющим отвечать за свои поступки.
Практически сразу же Пестель вступил со следователями в некие «особые отношения» – слухи о которых проникли даже за стены Петропавловской крепости. Так, глубоко сочувствовавший южному лидеру декабрист Андрей Розен написал в своих мемуарах: «Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ».
Аналогичные сведения имел в своем распоряжении и хорошо информированный Александр Тургенев – родной брат политического эмигранта Николая Тургенева, приятель Пушкина, известный своими придворными связями. Александр Тургенев не сочувствовал Пестелю, подобно императору, считал его «извергом». И отмечал в письме к брату, что в период следствия «слышал» о том, как «Пестель, играя совестию своею и судьбою людей, предлагал составлять вопросы, на кои ему же отвечать надлежало».
Трудно сказать наверняка, насколько подобные утверждения верны в деталях. Точно можно утверждать лишь одно: предложенная Пестелем в показаниях схема ответов была принята Следственной комиссией. Следствие над Пестелем во многом предопределило ход всего процесса по делу о «злоумышленных тайных обществах».
Схема, предложенная Пестелем следствию, была проста: полная откровенность в рассказе об идейной и организационной сторонах заговора – и взамен возможность умолчать о реальной подготовке вполне реальной революции в России.
Южный лидер был необычайно откровенен на допросах – в том, что касалось о структуры тайных обществ, их идейной эволюции, тех людей, которые на разных этапах входили в тайное общество. Рассказал он и о проектах цареубийства, постоянно возникавших на протяжении десятилетнего существования заговора. Но при этом он умолчал о главном – о своей деятельности в тульчинском штабе, о том, кто и каким образом должен был вести революционную армию на столицы.
Тактика южного лидера отвела, например, смертный приговор от Алексея Юшневского. История с Эртелем, которую Пестель, скорее всего, хорошо знал, была такого же свойства: Трубецкой действовал в сугубо практической плоскости, спасая – с помощью служебного положения, связей и влияния – тайное общество от разгрома.
Пестель представил свой заговор исключительно как идеологическое движение – таким он остался и на страницах его следственного дела, и в составленном по итогам следствия «Донесении Следственной комиссии», и в позднейшей историографии.
Придерживаясь этой своей схемы, Пестель опять же пошел до конца. Так же безоглядно, как раньше он участвовал в армейской коррупции и штабных интригах, он назвал все известные ему фамилии участников тайных обществ. И – с точки зрения морали – Пестель снова проиграл, заслужив у многих своих товарищей по заговору репутацию предателя. Обобщая устные рассказы многих заговорщиков, сын декабриста Ивана Якушкина Евгений писал: «В следственной комиссии он (Пестель. – О.К.) указал прямо на всех участвовавших в обществе, и ежели повесили только пять человек, а не 500, то в этом нисколько не виноват Пестель: со своей стороны он сделал все, что мог».
Можно понять императора Николая I, согласившегося с предложенной схемой. Ему вовсе не нужно было показывать всему миру, что российская армия коррумпирована, плохо управляема, заражена революционным духом. И что о заговоре знали и заговорщикам сочувствовали высшие армейские начальники: начальник штаба 2-й армии генерал Киселев, корпусный командир генерал Рудзевич, знаменитый герой 1812 года, главнокомандующий 2-й армией генерал Витгенштейн. Гораздо удобнее было представить декабристов как юнцов, начитавшихся западных либеральных книг и не имеющих поддержки в армии.
Сложнее понять, зачем самому Пестелю понадобилось так рисковать своей исторической репутацией. Возможно, он надеялся на сравнительно легкий приговор – и на возможность в той или иной мере продолжить дело своей жизни. Может быть, он предвидел, что если следствие начнет распутывать заговор во 2-й армии, то круг привлеченных к следствию и – в итоге – осужденных окажется гораздо большим. Вырастет и число тяжелых приговоров: все же, согласно его собственным замечаниям на следствии, «подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить», «от намерения до исполнения весьма далеко», «слово и дело не одно и то же».
Схема, предложенная Пестелем, была следствием дополнена лишь одним пунктом: за возможность скрыть свой «заговор в заговоре» Пестель должен был заплатить жизнью. Южный руководитель, как следует из его показаний, понял условие игры где-то в середине следствия – и принял его. Правда, смириться с этой мыслью Пестелю, молодому, полному сил и энергии офицеру, было непросто. «Если я умру, все кончено, и один лишь Господь будет знать, что я не был таким, каким меня, быть может, представили», – писал он в частном письме следователю Чернышеву. Фразу эту он потом дословно повторит в одном из своих показаний[471].
* * *
19 января в Петропавловскую крепость был заключен Бестужев-Рюмин.
Тактика, которую первоначально приняло следствие по отношению к нему, была тактикой запугивания. По мемуарному свидетельству Андрея Розена, на одном из начальных допросов в Зимнем дворце следователь Василий Левашов угрожал заговорщику: «Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить». Однако вскоре выяснилось, что пугать его – занятие бесперспективное.
Ни разу во время следствия Бестужев-Рюмин не попросил ни о прощении, ни о снисхождении к себе. Если в первые дни следствия он находился в состоянии нравственного смятения, вызванного разгромом мятежа, то уже к середине января 1826 года он из этого состояния вышел. У него появилась своя линия поведения, которой он придерживался до самого конца следствия.
Бестужев-Рюмин пытался вести со следствием сложную и опасную игру, в общем похожую на ту, которую вел Пестель. Игра эта представляла собой попытку договориться с властью, показать ей, что идея насильственных реформ возникла не на пустом месте, доказать хотя бы частичную справедливость идей тайного общества, даже дать власти некоторые полезные советы. Более того, понимая свою значимость в делах тайного общества, в начале следствия Бестужев-Рюмин попытался договориться напрямую с императором.
Еще в Могилеве, на одном из первых допросов, он просил позволения «написать государю». Вскоре по приезде в Петербург, 24 января, он был допрошен императором.
Как следует из письма, которое Бестужев написал Николаю I через два дня после этого свидания, заговорщик хотел рассказать монарху «все о положении вещей, об организации выступления, о разных мнениях общества, о средствах, которые оно имело в руках». «В мой план входило также говорить с Вами о Польше, Малороссии, Курляндии, Финляндии. Существенно, чтобы все то, что я знаю об этом, знали бы и Вы», – объяснял Бестужев-Рюмин императору.
Из того же письма явствует, что Николай I не оправдал надежд арестованного мятежника: его совершенно не интересовало мнение подпоручика «о положении вещей», ему нужны были лишь фамилии участников тайных организаций. Верный тактике запугивания, император кричал на него, был «строг». Разговор с царем привел Бестужева-Рюмина «в состояние упадка духа».
В письме Бестужев просил Николая «даровать» ему еще одну встречу – потому что «есть много вещей, которые никогда не смогут войти в допрос; чего я не могу открыть вашим генералам, о том бы я сообщил очень подробно Вашему величеству».
Однако второй аудиенции у царя Бестужев-Рюмин не получил, и был вынужден договариваться с «генералами». В показании от 4 февраля он писал: «Можно подавить общее недовольство самыми простыми средствами.
Если строго потребовать от губернаторов, чтобы они следили за тем, чтобы помещичьи крестьяне не были так угнетаемы, как сейчас; если бы по судебной части приняли меры, подобно мерам великого князя Константина; если бы убавили несколько лет солдатской службы и потребовали бы от командиров, чтобы они более гуманно обращались с солдатами и были бы более вежливы по отношению к офицерам; если бы к этому император опубликовал манифест, в котором он обещал бы привлекать к ответственности за злоупотребления в управлении, я глубоко убежден, что народ оценил бы более эти благодеяния, чем политические преобразования. Тогда тайные общества перестали бы существовать за отсутствием движущих рычагов, а император стал бы кумиром России».
Но для того, чтобы эти и подобные им идеи были восприняты адекватно, Бестужеву необходимо было доказать свою готовность сотрудничать со следствием. Поэтому его показания наполнены развернутым изложением замыслов заговорщиков, весьма подробно он пишет о взаимоотношениях с Польским патриотическим обществом. Не менее детально он рассказывает о революционных планах Васильковской управы, о цареубийственных приготовлениях Пестеля, Артамона Муравьева, Василия Давыдова и многих других участников Южного общества. Кроме того, логика этой игры вела и к «называнию фамилий» известных ему участников заговора.
Особенно не повезло «соединенным славянам». По-прежнему, видимо, считая их «пушечным мясом», в показании от 27 января Бестужев впервые заявил, что в ходе «объединительных» совещаний «славяне» сами вызвались «покуситься» на жизнь императора. Он вспомнил о находившемся у него, а затем уничтоженном списке «славян», в котором были помечены те, кого готовили на роль цареубийц. И утверждал, что большинство из «славян» сами внесли себя в этот список.
На этих показаниях Бестужев-Рюмин настаивал почти до самого конца следствия. Однако в мае ему были предложены очные ставки со «славянами», и он был вынужден согласиться с тем, что почти все они попали в злополучный список «заочно». Поместили же их туда сам Бестужев, а также славянские «посредники» Горбачевский и Спиридов.
Правда, в игре со следствием у Бестужева-Рюмина была некая грань, за которую он не переступал никогда. Этой гранью была возможность доказать свою искренность за счет Сергея Муравьева. Бестужев самоотверженно защищал своего друга, пытался взять на себя как можно большую часть его вины. В бестужевском показании от 5 апреля читаем: «не он (Сергей Муравьев. – О.К.) меня, а я его втащил за собою в пропасть».
Эту мысль он развивал и потом, в показаниях от 7 мая: «Здесь повторяю, что пылким своим нравом увлекая Муравьева, я его во все преступное ввергнул. Сие готов в присутствии Комитета доказать самому Муравьеву разительными доводами. Одно только, на что он дал согласие прежде, нежели со мной подружился, – это на вступление в общество». «Это все общество знает. А в особенности Пестель, Юшневский, Давыдов, оба Поджио, Трубецкой, Бригген, Швейковский, Тизенгаузен».
Составляя это показание, Бестужев, скорее всего, рассчитывал получить очные ставки не только с Сергеем Муравьевым, но и со всеми «знающими». И, предупреждая возможное «запирательство» со стороны товарищей по заговору, добавлял: «каждому из них, буде вздумает отпереться, я многое берусь припомнить».
Однако Трубецкой не оспаривал роли Бестужева в обществе. В нарисованной им картине деятельности Васильковской управы Бестужев-Рюмин оказался гораздо деятельнее, чем Муравьев-Апостол – и гораздо ближе к Пестелю. Младший руководитель управы, по словам Трубецкого, был связным между ним сами и Пестелем, по просьбе Пестеля вел переговоры с поляками и – уже по своей инициативе – завязал знакомства с «соединенными славянами»[472]. Тактике Бестужева на следствии такая позиция вполне соответствовала. «Припоминать» Трубецкому, близкому другу Сергея Муравьева, историю с Эртелем он не стал, содержание же привезенного Ипполитом письма ему вообще не было известно.
* * *
В один день с Бестужевым-Рюминым, 19 января, с юга привезли раненого и закованного в кандалы руководителя восстания черниговцев.
Первые его следователи – армейские и корпусные начальники – были еще очень сильно раздражены недавними событиями. Кроме того, они не могли не предчувствовать, что за мятеж в подведомственных им войсках император спросит и с них тоже. Естественно, допросы и другие следственные действия проходили в грубой, оскорбительной для Сергея Муравьева форме; обращение с арестованным вызывало негодование у невольных свидетелей[473].
В предписании о порядке конвоирования Муравьева в столицу, подписанном генералом Толем, запрещалось снимать с узника цепи даже во время отдыха, во избежание самоубийства с помощью ножа или вилки пищу ему надо было мелко резать и в таком виде уже подавать, и даже «справлять нужду» арестант должен был в присутствии вооруженного часового[474].
Не лучше относились к Муравьеву и в столице. Сведения, которые столичные власти имели о восстании, были извлечены из официальных донесений военного начальства; некоторые из них 12 января были опубликованы в правительственной печати. Были опубликованы два приказа начальника Главного штаба Ивана Дибича и два рапорта генерала Рота.
Из опубликованных документов следовало: «Когда было приступлено к арестованию подполковника Муравьева-Апостола, он… успел возмутить часть Черниговского пехотного полка, под тем же ложным предлогом сохранения верности прежде данной присяге… он арестовал посланных за ним фельдъегеря и жандармов, ограбил полковую казну, освободил закованных каторжных колодников, содержавшихся в Васильковской городовой тюрьме, и предал город неистовству нижних чинов».
Вслед за этим Муравьев-Апостол попытался «овладеть у графини Браницкой значительной суммой». Но в итоге «злодейские планы» снова не удались: мятежный полк, «быв принят картечным огнем, расстроился; тогда кавалерия сделала атаку, и все бунтовщики бросили оружие; до семисот человек нижних чинов сдались, равно как и сам подполковник Муравьев-Апостол, который при том весьма тяжело ранен картечью и сабельным ударом в голову»[475].
Ю. Г. Оксман, комментировавший опубликованные 12 января документы, справедливо отмечал, что они – откровенная ложь[476]. Так, Муравьев-Апостол вовсе не грабил полковую казну; казна была спрятана верными законной власти офицерами. Он не освобождал колодников из тюрьмы, не предавал город Васильков «неистовству нижних чинов», не собирался похищать сокровища графини Браницкой. При усмирении восстания подполковник действительно был тяжело ранен в голову, но сабельный удар тут не при чем – мятежника настиг только картечный выстрел.
Лживость этих донесений была вполне ясна, например, князю Петру Вяземскому. В частном письме он утверждал: «Я, например, решительно знаю, что Муравьев-Апостол не предавал грабежу и пожару города Василькова, как о том сказано в донесении Рота. К чему же эта добровольная клевета? Муравьев по одному возмущению своему уже подлежит казни, ожидающей государственных преступников. Кажется, довольно было того. Чего же ожидать, на какую достоверность надеяться, когда подобные примеры совершаются на глазах наших? И это известие не уличное, оно почерпнуто из официального источника»[477].
Очевидно, у Вяземского были свои информаторы. Однако у властей другой доступной информации о восстании Черниговского полка не было.
* * *
Сразу же по приезде в столицу Муравьев-Апостол был допрошен императором.
Моральное состояние поверженного мятежника хорошо видно из мемуарной записи Николая I: «Тяжело раненый в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного (так в тексте. – О.К.). Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой раны и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что – причиной нещастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:
– Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть – преступным злодейским сумасбродством?
Он поник голову, ничего не отвечал, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно.
Когда допрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки»[478].
Офицер, возглавивший военный бунт и допустивший превращение своей команды в толпу пьяных грабителей, командир, подкупавший подчиненных и пытавшийся ложью повести их за собой, по любым – и юридическим, и моральным – законам того времени был, безусловно, достоин смерти. Очевидно, Муравьев-Апостол и сам хорошо понимал, что избегнуть эшафота ему не удастся.
Однако император заблуждался, считая, что Муравьев рассказывает ему «весь план действий и связи свои». В своих показаниях подполковник был гораздо более сдержан, чем большинство его товарищей по обществу. Тактику, которую принял для себя Муравьев-Апостол в ходе следствия, хорошо иллюстрирует запись в журнале Следственной комиссии, датированная 5 апреля 1826 года: подполковник «принимал на себя все то, в чем его обвиняют другие, не желая оправдаться опровержением их показаний»[479].
Похоже, Муравьева на следствии заботило лишь одно: он старался уйти достойно. Он действительно не запирался и не лгал, называл известные ему фамилии членов заговора, комментировал всевозможные цареубийственные проекты, рассказывал о планах тайного общества. Зачастую он просто не желал вникать в предложенные ему следствием формулировки – и машинально повторял их в своих ответах[480].
Однако главным криминальным эпизодом биографии подполковника было восстание на юге – и, рассказывая о нем, Муравьев-Апостол пытался по возможности никого не скомпрометировать. На допросах подполковник особо подчеркивал, что «раскаивается только в том, что вовлек других, особенно нижних чинов, в бедствие, но намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем один бог его судить может и что составляет единственное его утешение в теперешнем положении»[481].
Особенно тщательно Муравьев оберегал свои киевские контакты, отрицая порою даже очевидные факты – как, например, свой разговор с Ренненкампфом накануне событий в Черниговском полку. Он обходил молчанием сюжеты, связанные с командировкой Мозалевского. Имени Трубецкого в связи с восстанием на юге Сергей Муравьев-Апостол не произнес ни разу. И вообще ни разу не произнес имени брата Ипполита.
* * *
В мемуарах Трубецкой обмолвился: «Сидя в своем номере равелина, я дивился, что не имею вопросов о членах общества на юге». По-видимому, он ждал от южан откровенных показаний о собственной роли в событиях. Но поскольку вопросов об этом ему не задавали – он начал менять выстроенную в первых показаниях стройную «югоцентричную» концепцию заговора. Задача князя состояла теперь в том, чтобы вся его конспиративная деятельность была сведена к участию в подготовке северного восстания.
Из его показаний уходит мотив противостояния «порочного» Пестеля и «мирного» Сергея Муравьева. Главным антигероем показаний князя вместо Пестеля становится Кондратий Рылеев, затянувший его самого, нерешительного и колеблющегося человека, в сомнительное предприятие. Причем если судить по этим показаниям, то, как и в случае с Пестелем, он стремился минимизировать последствия активной деятельности Рылеева. По его показаниям, все «решительные» распоряжения исходили накануне 14 декабря от Рылеева, он же, напротив того, выступал едва ли не союзником будущего императора в среде заговорщиков. Комментируя свое неудавшееся диктаторство, Трубецкой отмечал: «Если мне почитать себя диктатором, как мне то было объявлено, то я должен полагать, что во всех отношениях должна была исполняться моя воля. Если же другие члены между собою положили что-либо к исполнению, то я уже не диктатор»[482].
И следствие в целом поверило Трубецкому, несмотря даже на то, что от большинства своих показаний он отказался на очной ставке с Рылеевым. Именно на Рылеева была возложена главная ответственность за 14 декабря – хотя главным организатором восстания был, конечно, Трубецкой. Ответственность же за южное восстание целиком взял на себя Муравьев-Апостол – несмотря на то, что план восстания он разрабатывал вместе с князем. В тонкостях конспиративных намерений руководителя северного заговора следствие не захотело разбираться: пришлось бы привлекать к ответственности многих из тех, кто, формально не входя в тайные общества, обещал Трубецкому военную поддержку. В частности, генерала от инфантерии князя Щербатова.
* * *
Сергей Муравьев-Апостол был повешен 13 июля 1826 года. Вместе с ним погибли Пестель, Бестужев-Рюмин, Рылеев и Петр Каховский, на которого предпочли списать убийство 14 декабря 1825 года генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича.
Трубецкой же казни избежал. Можно согласиться с утверждением М. Н. Покровского: «Если Трубецкой не увеличил собой списка казненных, то лишь потому, что слишком он много оказал услуг следствию, с одной стороны… а с другой – явно боялись поставить в заголовок дела о бунте одно из крупнейших имен русской знати».
Но император Николай I, сохранив Трубецкому жизнь, сделал все, чтобы жизнь эта была ему в тягость. «Надо же наконец признать, что ни на кого не сыпалось столько незаслуженных укоров, как на князя Трубецкого, между тем как в оправдание его можно многое сказать», – писал в мемуарах Свистунов.
Сосланный на каторгу преступник неоднократно имел возможность пожалеть о том, что не стал шестым повешенным. Во всех правительственных версиях событий князь выглядел полным ничтожеством. Уже в «Донесении следственной комиссии» русской публике объявлялось: Трубецкой 14 декабря весь день «скрывался от своих сообщников, он спешил в Главный штаб присягать вашему величеству, думая сею готовностию загладить часть своего преступления, и потому, что там соумышленники не могли найти его, ему несколько раз делалось дурно; он бродил весь день из дома в дом, удивляя всех встречавших его знакомых, наконец пришел ночевать к свояку своему, посланнику двора австрийского».
Автор «Донесения» откровенно извращал факты: Трубецкой 14 декабря императору Николаю I не присягал и ни от кого не прятался. Кроме того, согласно собственным показаниям князя «дурно» ему делалось не «несколько раз», а только однажды – при известии, что Московский полк вышел на площадь. И вовсе не от страха за собственную жизнь, а от мысли, что он, «может быть, мог предупредить кровопролитие». Кроме того, в день восстания на площади не было ни Рылеева, ни Булатова – но в «Донесении» их поведение выглядит гораздо более пристойно, чем поведение Трубецкого.
Отвлекаясь же от сюжетов, связанных непосредственно с Сенатской площадью, «Донесение» сообщало, что Трубецкой в 1817 году сознательно обманул своих товарищей сообщением о том, что «государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области и что, будто предвидя неудовольствие, даже сопротивление русских, он думает удалиться в Варшаву со всем двором и предать отечество в жертву неустройств и смятений» – и эта ложь спровоцировала Московский заговор, один из первых обнаруженных следствием планов цареубийства. Между тем, вполне возможно, что Трубецкой в данном случае адекватно передавал императорское намерение, а если и заблуждался – то заблуждался искренне.
Читатели узнали из «Донесения», что Трубецкой – не только трус и лжец, но и растратчик. Пять тысяч рублей, собранных участниками заговора в виде членских взносов, были «отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела тайного общества»[483]. Но Трубецкой был очень богат, и тратить общественные деньги ему просто не было смысла.
Публичная, печатная клевета была дополнена и клеветой устной: Николай I много раз рассказывал своим приближенным о том, как на первом же допросе Трубецкой упал к его ногам, умоляя о пощаде. Трудно сказать, было ли так на самом деле, однако настораживает настойчивость, с которой царь внедрял этот рассказ в сознание подданных.
Эти и им подобные измышления быстро распространились в высшем свете, где у Трубецкого было много друзей и родственников, затем попали за границу. Клевета распространилась и среди товарищей бывшего диктатора по каторге, которые «не могли иметь к нему того сочувствия, которое было общим между ними друг к другу. Он не мог не замечать этого, и хотя ни одно слово не было произнесено в его присутствии, которое бы могло прямо оскорбить его, не менее того, однако, уже молчание о 14 декабря достаточно было, чтобы показать ему, какого все об нем мнения».
Впоследствии официальная характеристика личности и дел Трубецкого отразилась в записках современников – как недекабристов, так и декабристов. Так, например, журналист Николай Греч, едва знавший князя, свел воедино все, что почерпнул о нем из правительственных сообщений. И выдал эту компиляцию за собственный мемуарный рассказ: «Князь Сергей Трубецкой, самая жалкая фигура в этом кровавом игрище… умом ограниченный, сердцем трус и подлец… 12-го числа был у Рылеева на сходбище, условился в действиях, но, проснувшись на утро 14-го числа, опомнился, струсил, пошел в штаб, присягнул новому государю и спрятался у свояка своего графа Лебцельтерна, австрийского посланника. Когда его схватили и привели к государю, он бросился на колени и завопил: “Жизни, государь!” Государь отвечал с презрением: “Даю тебе жизнь, чтоб она служила тебе стыдом и наказанием”».
К «Донесению следственной комиссии» восходят воспоминания заговорщика Ивана Якушкина: «14 декабря, узнавши, что Московский полк пришел на сборное место, диктатор совершенно потерялся и, присягнувши на штабе Николаю Павловичу, он потом стоял с его свитой».
Столь же компилятивны и мемуарные записи Матвея Муравьева-Апостола, близкого друга Трубецкого, тесно общавшегося с ним в Сибири – но, по-видимому, так и не простившего князю смерти Ипполита. Матвей Муравьев писал: «С[ергей] П[етрович] был назначен на день 14 декабря 1825 года диктатором и верховным распорядителем восставших войск; но обычная воинская доблесть к храбрость С[ергея] П[етровича] на этот раз изменили ему, и он провел весь день в самом нелепом малодушном укрывательстве от своих товарищей, а наконец искал спасения от неизбежного ареста в доме австрийского посла графа Лебцельтерна… преданный суду, проявил при допросах малодушие и был из числа самых болтливых подсудимых».
Трубецкой прекрасно знал о грязных толках и слухах вокруг своего имени – и стоически переносил несправедливость. Товарищи по каторге не слышали с его стороны «ни одного ропота, ни одной жалобы». Бывший диктатор «безропотно, с кротостью и достоинством» покорялся «всем следствиям своей ошибки или слабости».
В 1848 году он написал письмо Зинаиде Лебцельтерн, сестре своей жены, в котором между прочим утверждал: «Знаю, что много клеветы было вылито на меня, но не могу оправдываться. Я слишком много пережил, чтоб желать чьего-либо оправдания, кроме оправдания господа нашего Иисуса Христа»[484].
И этому утверждению князя трудно не поверить.
Вместо эпилога. Участь солдата
Судьба рядового Черниговского пехотного полка Дмитрия Грохольского никогда еще не становилась предметом изучения специалистов – декабристоведов. «Мы почти ничего не знаем о Грохольском… совершенно темные для нас 42 года жизни», – утверждал Н. Я. Эйдельман. Ни в одном из многочисленных исследований, посвященных восстанию Черниговского полка, не ставился вопрос о роли Грохольского в подготовке и в самом ходе восстания, не анализировались посвященные ему следственные материалы.
Однако взгляд на Грохольского как на человека, случайно попавшего в орбиту декабризма, о жизни которого, кроме того, не сохранилось никаких документальных свидетельств, в корне неверен. Архивы и уже опубликованные документы позволяют восстановить его биографию, хотя бы в общих чертах. Судя по собственным показаниям Грохольского, он родился в 1784 году в семье богатого помещика Смоленской губернии; по традиции родители избрали для него судьбу военного.
Если не считать позднего возраста вступления в службу, его военная карьера первоначально ничем не отличалась от подобных же карьер тысяч его современников, молодых дворян александровской эпохи. К 1812 году Грохольский получил военное образование в Дворянском полку – учебной военной части, готовившей армейских офицеров, оттуда был выпущен прапорщиком в Полтавский пехотный полк, сразу же после выпуска попал на войну.
Служба Грохольского не знала никаких бурных перемен, свойственных военному времени: к 1814 году он «дорос» всего лишь до подпоручика. Не обладая никакими выдающимися способностями, служил, как все – не хуже и не лучше. Отличился в боях за Шевардинский редут, за что получил объявленное в приказе «монаршее благоволение»[485]. Вскоре ему вручили первый и единственный в его жизни орден – Святую Анну IV степени.
К 1819 году Грохольский дослужился до штабс-капитана и, видимо, стал командиром роты все в том же Полтавском полку. Вполне возможно, что, старательно и терпеливо служа, он имел неплохие шансы стать командиром батальона. И закончить свою служебную карьеру, выйдя в отставку с мундиром и полным пенсионом. Однако этому не суждено было сбыться: в 1821 году штабс-капитан был лишен чинов и дворянства и надел шинель рядового Черниговского пехотного полка.
Организаторы восстания Черниговского полка, рассуждая впоследствии о причинах, по которым им без труда удалось поднять на бунт почти целый полк, указывали на «большое число разжалованных офицеров» как на источник постоянного брожения умов в армейской среде. Справедливость этого утверждения признала и Следственная комиссия: в секретном приложении к знаменитому «Донесению», написанном специально для императора, об этих людях говорилось, между прочим, что они – горючий материал для всякого рода мятежей, ибо «лишены всякой надежды на улучшение своей судьбы в будущем»[486].
Система разжалования, широко применявшаяся в русской армии в эпоху Александра I, действительно была очень жестокой. Не ставя себе целью проанализировать место разжалования в общей системе наказаний в России, замечу, что офицеров лишали чинов и дворянства почти каждый день. Практически ни один «Высочайший приказ о чинах военных» не обходился без нескольких строк на эту тему. Эполеты в 20-х годах XIX века потерять было очень несложно.
Наказание это было одним из самых страшных для офицера начала XIX века. С потерей чина еще как-то можно было смириться, с потерей же дворянской чести – невозможно. Честь определяла не только социальный статус дворянина, она была основой его мировоззрения. Человек, потерявший честь – а чаще всего разжалование действительно являлось следствием неблаговидных поступков офицера, – становился изгоем в обществе. И был готов на все, чтобы восстановить утерянные права.
В фонде Аудиториатского департамента Военно-исторического архива хранится «Дело о исполнении конфирмации Полтавского пехотного полка над штабс-капитаном Грохольским и поручиками Здоровым и Жиленковым», никогда еще не попадавшее в поле зрения исследователей. Материалы этого дела достаточно красноречивы – они в полной мере дают представление о причинах, по которым чаще всего офицеров лишали эполет.
Документы эти полностью опровергают известную фразу из «Записок» Горбачевского о том, что отличительными чертами характера штабс-капитана были «кротость и благородство души»[487], и не соответствуют устоявшемуся в мемуарной литературе представлению о Грохольском как о жертве судебной несправедливости. В истории, произошедшей в 1819 году в Полтавском полку, не было ничего романтического. Грохольский не поладил со своим батальонным командиром майором Дурново, и этот факт оказался роковым для них обоих.
Острый конфликт между двумя офицерами возник в августе 1819 года, в Полтаве, куда батальон пришел для содержания караулов. Грохольский был назначен старшим по караулам. В качестве ординарца при нем состоял некий подпрапорщик Самойленко, юнец, видимо, не имевший еще представления о фрунтовой службе. Осматривавший караулы Дурново остался недоволен «видом» ординарца и попытался арестовать за это самого Грохольского.
Однако идти под арест Грохольский наотрез отказался. По словам майора, штабс-капитан сначала обругал Самойленко «дерзкими и весьма непристойными словами», а потом «начал делать… дерзкие грубости» и ему самому. «Под присягою утверждает поручик Юдин, что Грохольский, отойдя от майора Дурново далеко, сказал с матерными словами, что не самому ему Грохольскому Самойленко учить, а поручик Корлызеев и подпоручик Демьянович, что Грохольский ругал оного Самойленку и грубил майору Дурново с тем, что не только при нем будет ругать оного, но даже и бить, за что Дурново хотел его арестовать, но он, не дав шпаги, сказал: “еще тот не дождется, чтобы его мог арестовать”».
«Буде офицеру или солдату в Его Величества службе от начальника своего что управить повелено будет, а он того из злости или упрямства не учинит, но тому нарочно и с умыслу противиться будет, оный имеет, хотя вышний или нижний, всемерно живота своего лишен быть», – гласил 27-й параграф Воинских артикулов. Однако упрямство и грубость первоначально сошли Грохольскому с рук.
Полтавским полком командовал тогда полковник Шеин – боевой заслуженный офицер. Получив рапорт Дурново, он не дал ему хода. Кляузников в армии не любили, и дела об оскорблении офицерской чести не принято было решать рапортами по начальству. Подавая жалобу о нанесенной ему «обиде», Дурново, конечно, был в своем праве, но офицерское общественное мнение не могло не увидеть в этом свидетельство его трусости.
Может быть, дело бы удалось замять, и судьба Грохольского не была бы такой страшной, если бы он, увидев, что и командир, и другие офицеры полка в целом на его стороне, не решился бы мстить батальонному начальнику. Уверенность в собственной безнаказанности погубила штабс-капитана.
С помощью своих приятелей, поручиков Здорова и Жиленкова, он попытался силой заставить Дурново забрать свой рапорт; майор отказался, дело дошло почти до драки. В частности, было доказано, что Грохольский, будучи на полковом празднике в доме полковника Шеина, схватил своего врага за руку и кричал, обращаясь к Здорову и Жиленкову: «Ребята, сюда, тащи его на двор, мы ему все ребра пересчитаем и сорвем ордена и эполеты».
«Почему Дурново остался обиженным от подчиненных своих и не получа от полкового командира удовлетворения, удалился на квартиру и приказал из взятых им с гауптвахты караульных поставить у дверей часового, для предохранения себя от посещения поручиков Здорова и Жиленкова, которые, забыв благопристойность и время ночи, насильно ворвались к нему в квартиру в три часа по полуночи, где Здоров сорвал с его постели одеяло и, не уважая просьбы оставить его в покое, оба они требовали от него согласия не довести до сведения начальства сделанных ими грубостей».
Доведенный до крайности Дурново написал новый рапорт – на этот раз на имя командира дивизии. И после этого шансов сохранить хотя бы дворянство ни у Грохольского, ни у Здорова с Жиленковым уже не осталось. Все трое были немедленно преданы военному суду.
«Г. главнокомандующий Армиею конфирмировать изволил: подсудимых штабс-капитана Грохольского, поручиков Здорова и Жиленкова, за… поступки, разрушающие всю воинскую субординацию и дисциплину, лиша чинов и дворянского достоинства, а Грохольского и ордена Св. Анны IV степени, написать в рядовые впредь до отличной выслуги с определением на службу: Грохольского в Черниговский, Здорова в Алексопольский, а Жиленкова в Кременчугский пехотные полки». Главнокомандующий армией граф Остен-Сакен подписал приговор военного суда в июне 1821 года, Высочайшее утверждение его последовало 23 июля.
Полковник Шеин был отставлен от командования полтавцами, и полк у него принял Василий Тизенгаузен, будущий участник заговора. «За неприличные слова, произнесенные им к поручику Здорову», получил строгое замечание и, в конце концов, вынужден был уйти в отставку и майор Дурново[488].
Моральный климат в Черниговском полку, куда после разжалования попал Дмитрий Грохольский, был сложен. Между Муравьевым и его младшими офицерами были достаточно напряженные отношения, известно, что они далеко не во всем понимали друг друга. По словам все того же Горбачевского, Муравьев видел в черниговских офицерах лишь «цепных собак», которых до поры до времени следует «унимать»[489].
Поэтому, подготавливая Черниговский полк к бунту, Муравьев не ограничивался опорой на них. Они старался завязать дружеские, доверительные отношения с рядовыми – и прежде всего с бывшими офицерами. «Предполагали мы, – показывал на допросе Бестужев-Рюмин, – употребить разжалованных офицеров, находящихся в дивизии, как то в Черниговском полку Башмакова, Лярского, Рагузина (Ракузу. – О.К.), Грохольского, в Алексопольском полку Здорова».
Дело Грохольского было хорошо известно и Сергею Муравьеву, и Бестужеву-Рюмину. После Семеновской истории оба они были переведены в Полтавский полк и попали на новое место службы в самый разгар следствия по делу штабс-капитана. И когда вслед за Грохольским Муравьев-Апостол оказался в Черниговском полку, он сразу же приблизил бывшего офицера к себе. «Нередко бывал я приглашаем Муравьевым, дабы бывать у него как можно чаще и даже, если хочу, и всегда жить», – показывал Грохольский на допросе.
Нетрудно понять, какие чувства должен был испытать Грохольский, почувствовав расположение к себе подполковника Муравьева-Апостола. Он, разжалованный, потерявший все, замаравший дворянскую честь, вдруг был принят в высший офицерский круг полка. Благодаря Муравьеву к нему стали относиться с уважением, не попрекая прошлыми ошибками, – и уже за одно это Грохольский мог пойти за подполковником куда угодно.
Конечно, Сергей Муравьев искренне сочувствовал положению бывшего офицера: умение подполковника сочувствовать чужой беде, отмеченное многими мемуаристами, привязывало к нему людей. Однако вряд ли предложение дружбы, сделанное им Грохольскому, было бескорыстным.
Известно, что по характеру Муравьев-Апостол был замкнутым человеком, вовсе не расположенным предлагать свою дружбу любому встречному. Сочувствие к другим сочеталось в нем с нежеланием раскрывать кому бы то ни было собственную душу. И при этом почти все разжалованные в полку числились у него в «друзьях», а бывший полковник Флегонт Башмаков даже жил в его доме. Очевидно, что в случае с Грохольским искреннее желание помочь ему сочеталось у Муравьева с холодным расчетом.
Младшие офицеры полка понимали значение разжалованных для дела революции. Так же, как и Сергей Муравьев, они пытались привлечь их на свою сторону. Правда, они вербовали разжалованных в заговор прямолинейно, прагматично, не предлагая взамен лояльности свою дружбу. Методы агитации, использовавшиеся ими в беседах с бывшими офицерами, хорошо видны из показаний Игнатия Ракузы, чья судьба практически аналогична судьбе Грохольского.
Ракуза подробно описал на следствии разговор, который с ним вел член тайного общества капитан Андрей Фурман. Фурман, между прочим, говорил Ракузе: «ты вовсе забыт; никто не хочет о тебе стараться; скажи, на кого ты надеешься?»
Услышав же, что Ракуза надеется только на бога, Фурман возражал: «Но надежда твоя плохая… ты знаешь, что разжалован невинно, не Бог тебя разжаловал – государь! Я советую тебе нас послушаться; ты не знаешь еще наших намерений».
«Тут начал он хулить правительство как можно хуже; говорил, что оно есть подлое, что никакого порядка нет; “в сем случае ты можешь найти средство сделать доброе дело, т. е. внушать об оном некоторым тебе известным нижним чинам и вливать в их сердца, что покуда будет существовать фамилия Романовых, потуда доброго не будет”».
Разжалованных офицеров использовали в качестве своеобразных «передаточных звеньев» между офицерами-заговорщиками и не состоявшими в заговоре солдатами. По словам того же капитана Фурмана (в передаче Ракузы), самим офицерам было «неловко уговаривать нижних чинов», поэтому эта роль отводилась разжалованным. Они были гораздо ближе к солдатской массе, могли к тому же постоянно находиться в казармах, не вызывая подозрений.
Трудно сказать, кто из заговорщиков первый успел посвятить Грохольского в тайну заговора. Но точно можно констатировать, что все они проявляли большой интерес к скромной персоне солдата. Посещая квартиру Муравьева, Грохольский, по его собственным словам, был «неоднократно подговариваем Бестужевым, Башмаковым, также адъютантом Шахиревым, поручиками: Шепиллою, Сухиновым, Кузьминым и Петиным присоединиться к их обществу и следовать их намерениям».
На уговоры офицеров Грохольский ответил согласием: несмотря на почтенный возраст и нелегкий жизненный путь, он оказался очень доверчив. Объясняя свое участие в восстании, рядовой признавался следователям: «Муравьев и Бестужев убеждали меня остаться с ними, говоря, что мне будет хорошо, почему я и оставался с ними».
По словам Бестужева-Рюмина, они с Сергеем Муравьевым внушали бывшему офицеру, что участие в их планах для него «единственный способ возвратить потерянное»[490]. Восстановление же в чинах и дворянстве было для Грохольского вопросом жизни: во второй половине 1825 года он влюбился. Его возлюбленная, вдова коллежского регистратора Ксения Громыкова, отвечала ему взаимностью, однако только возвратив себе прежний статус, он получал шанс соединиться с ней.
Известие о бунте в полку застало Грохольского в Василькове. Узнав о происшествии в Трилесах, он самовольно вернул себе офицерский сюртук – и это было первым его «революционным действием». Вообще же в первые дни восстания Грохольский был активен и постоянно находился на виду у Муравьева.
Подполковник доверял рядовому. После ухода мятежного полка Грохольский по приказу командира остался в городе. В его задачу входило оповещение желавших примкнуть к восставшим военных команд о месте расположения мятежников.
Это распоряжение Муравьева оказалось весьма кстати: в последний день 1825 года из Германовки в Васильков пришла 2-я мушкетерская рота Черниговского полка. Ее командир, штабс-капитан Вениамин Соловьев, был активным заговорщиком, но своих солдат он привести на общий сбор не успел. После участия в избиении Гебеля он 30 декабря приехал в Васильков, где по приказу оставшегося верным властям майора Трухина был арестован. Потом Соловьев был освобожден вошедшими в город повстанцами, но в результате упустил драгоценное время. Подпоручик Быстрицкий, принявший по приказу Трухина под свою команду роту Соловьева и приведший ее в Васильков, ничего не знал о заговоре в полку. Еще 30 декабря он без тени сомнений участвовал в аресте своего ротного командира.
Однако утром 31 декабря Соловьев ушел из Василькова вместе с Муравьевым: очевидно, и у него не было сомнений в способности Грохольского «возмутить» его солдат и привлечь Быстрицкого к мятежу. И надежды эти оправдались вполне.
По словам прапорщика, «разжалованный из офицеров Грохольский объявил ему… именем Муравьева, чтобы он немедленно следовал со 2-ой ротою в Большую Салтановку, а оттуда в Мотовиловку» – догонять мятежные роты.
«Объявление» Грохольского оказалось весьма убедительным: хотя рота эта не принадлежала к батальону Муравьева, и его «имя» для Быстрицкого значило мало, подпоручик, не раздумывая, повел солдат к восставшим и благополучно сдал роту Соловьеву. Впоследствии за свой поступок Андрей Быстрицкий заплатил тринадцатью годами каторжных работ.
На этом участие Грохольского в бунте не закончилось. Следствие установило, что во время похода черниговцев он участвовал в освобождении арестантов с васильковской гауптвахты, сам «командовал ротою», «был в карауле за офицера и им же, Муравьевым, и сообщниками употребляем был в разные посылки с поручениями».
Однако активным Грохольский оставался недолго. Пыл его охладила дневка полка в селении Мотовиловка 1 января 1826 года, самый трагический период в восстании на юге. Дисциплина ослабла, нижние чины, почувствовав «вольность», занялись грабежом; начались повальное пьянство и дезертирство. Муравьев потерял контроль над полком; его попросту перестали слушаться.
Хотя рядовому Грохольскому о состоянии дел в полку предпочитали не сообщать, он, бывший боевой офицер, прекрасно все понял. И, судя по материалам следствия, еще с вечера 31 декабря начал просить Муравьева позволить ему «возвратиться в Васильков».
Однако согласия на это лидера мятежа Грохольский не получил ни 31 декабря, ни в последующие дни мятежа. Офицеры дезертировали из полка вместе с солдатами, силы восставших таяли, и мятежными ротами просто некому было командовать. Видимо, на Грохольского возлагались большие надежды – его решили оставить в полку во что бы то ни стало.
«Для сильнейшего удержания» Грохольского в ход был пущен обыкновенный обман. Поручик Щепилло предъявил ему два письма. Одно из них было от «артиллерийского офицера по фамилии Горбачевского», авторами второго были названы солдаты Пензенского пехотного полка. В письмах «между прочим было написано, что они людей уже не приготовляют, но удерживают».
Письма эти были старые, скорее всего, времен Лещинского лагеря: в дни восстания Муравьев так и не смог наладить связей ни с Горбачевским, ни с пензенцами. Очевидно, Грохольский заподозрил подлог, и тогда на него решили воздействовать другим, более действенным способом.
«1-го числа генваря в Мотовиловке, – показывал он на следствии, – получив в подарок от Бестужева серебряные вещи, ныне в комиссии находящиеся, я хотел было отвезти оные сам в Васильков к находящейся у меня на содержании вдове Ксении Громыковой; но Бестужев, удержав меня от сей поездки, приказал написать ей письмо и, показывая на бывшего тут… помещика, сказал: “Вот этот господин доставит оное: на него можно надеяться”». Комиссия установила, что бестужевский «подарок» Грохольскому состоял из «семи ложек, ножей и вилок шести пар и чайного ситечка»[491]. Лояльность Грохольского стоила, в общем, не так уж и дорого.
Владелец Мотовиловки Иосиф Руликовский, который, собственно, и должен был передать возлюбленной Грохольского серебряные вещи и письмо, вспоминал позднее: «Я немедленно переслал это серебро при верном содействии моего служащего Ордовского и отдал по адресу указанной офицерше». Однако память на этот раз подвела Руликовского, в остальном довольно точного мемуариста: ни письма, ни серебряных вещей Ксения Громыкова так и не получила. Найденные в архиве материалы позволяют установить, что поручение, данное ему Бестужевым, владелец Мотовиловки не выполнил. В последнюю минуту помещик испугался ответственности и отдал вещи и письмо васильковскому городничему «для поступления с оным по усмотрению». Городничий же в суете первых после восстания дней и недель о злополучном «подарке» просто забыл.
Однако Грохольский был уверен, что его весточка дошла по назначению. Благодарный Муравьеву и Бестужеву-Рюмину, он оставался с ними до конца – «до самого забратия гусарами». На поле боя, увидев, что полк погиб, он пытался бежать – но вскоре был пойман и отправлен в кандалах в Белую Церковь, куда были доставлены все мятежные нижние чины[492].
На допросах Грохольский оказался необыкновенно стоек, прекрасно понимая, чем могут ему грозить его дружеские связи с Муравьевым. Он настаивал, что действовал в мятеже, лишь подчиняясь приказу, и до апреля 1826 года, «невзирая на явные улики, и сделанные ему при неоднократных допросах и перепросах убеждения… не изъявлял чистосердечного признания, а напротив того, с явным упорством отрицал все то, что на него было доказываемо». Сергей Муравьев-Апостол старался вообще не упоминать на следствии фамилию Грохольского, а Бестужев-Рюмин хотел доказать, что разжалованные в обществе никогда не состояли.
К сожалению, подлинное следственное дело Грохольского, как и весь комплекс следственных дел офицеров и солдат Черниговского полка, пока обнаружить не удалось. Однако большинство косвенных свидетельств говорят о том, что участие Грохольского в заговоре, его значительную роль в восстании в первые три месяца допросов следователи доказать не смогли. И к концу марта 1826 года Грохольский не без основания мог надеяться, что его дело вообще может кончиться простым переводом в другой полк.
К этому времени основные следственные действия в отношении мятежных солдат уже были закончены, был облегчен и режим содержания арестантов: секретный агент правительства доносил впоследствии, что «якобы Громыкова по письму Грохольского сожгла какие-то бумаги»[493]. По свидетельству Ивана Горбачевского, Громыкова даже получила доступ в тюрьму, и «каждый день по несколько часов проводила… с злополучным женихом своим»[494].
Однако в первых числах апреля положение рядового Грохольского резко ухудшилось: городничий Василькова вдруг вспомнил о хранившихся у него серебряных приборах и письме и передал их генерал-майору Антропову, председателю следственной комиссии. Вещи эти были предъявлены Грохольскому 8 апреля 1826 года – и в этот момент все его надежды на благоприятный исход событий неминуемо должны были рухнуть. От дружеских отношений с Муравьевым и Бестужевым было уже не отпереться. В знании же целей похода черниговцев рядового уличала фраза, написанная им собственноручно: «Дела наши идут очень, очень хорошо». Кроме того, следствие заинтересовалось и личностью Ксении Громыковой – и это окончательно сломило Грохольского.
8 апреля его подвергают новому допросу. Согласно рапорту Следственной комиссии в штаб 1-й армии на этом допросе, он «не видя уже средств продолжать далее свое упорство, – учинил сознание в участии его в злоумышленном обществе и, открывая тайные намерения оного, наименовал всех тех лиц, общество сие составлявших, кои ему были известны». Протокол этого допроса весьма красноречив: Грохольский называет не только известных ему членов заговора, но и просто знакомых Сергея Муравьева-Апостола, подробно повествует о целях и ходе восстания черниговцев. Своими показаниями рядовой уничтожил для себя всякую надежду на спасение.
5 августа 1826 года приговор по делу о мятежных солдатах был конфирмирован командующим армией. Приговор гласил: «Рядовых… Дмитрия Грохольского и Игнатия Ракузу, разжалованных напредь сего за преступление из офицеров с лишением дворянского достоинства, кои еще прежде возмущения были известны о тайном обществе злоумышленников и о злодейской их цели, о коих не только не объявили начальству, но по возможности оказывали к тому содействие» прогнать шпицрутенами «чрез тысячу человек по четыре раза» и «отправить как порочных на службу в Кавказский отдельный корпус». Подаренные же «подпоручиком Бестужевым-Рюминым рядовому Грохольскому серебряные ложки, вилки, ножи и ситечко, хранящиеся ныне в киевской казенной палате, продав с публичного торгу, вырученные за оные деньги обратить по принадлежности»[495].
Горбачевский вспоминает: «Сии приговоры приведены были в исполнение в Белой Церкви генерал-майором Вреде. Тамбовский и Саратовский полки назначены были к экзекуции. Человеколюбие генерал-майора Вреде заслуживает особой похвалы. Он просил солдат щадить своих товарищей, говоря, что их поступок есть следствие заблуждения, а не злого умысла. Его просьбы не остались тщетными: все нижние чины были наказываемы весьма легко. Но в числе сих несчастных находились и разжалованные прежде из офицеров Грохольский и Ракуза… Незадолго до экзекуции пронесся слух, что Грохольский и Ракуза лишены офицерского звания за восстание Черниговского полка и, не взирая на сие, приговорены судом к телесному наказанию. Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат; они радовались случаю отомстить своими руками за притеснения и несправедливости, испытанные более или менее каждым из них от дворян. Не разбирая, на кого падет их мщение, они ожидали минуты с нетерпением; ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров – ничто не могло остановить ярости бешеных солдат; удары сыпались градом; они не били сих несчастных, но рвали кусками мясо с каким-то наслаждением; Грохольского и Ракузу вынесли из линии почти мертвыми».
Скорее всего, Грохольский и Ракуза действительно погибли во время экзекуции: об их дальнейших судьбах нет никаких следов в архивах, ничего не знают о них и многочисленные мемуаристы. В списках же отправленных на Кавказ солдат-черниговцев эти фамилии отсутствуют.
Трагически сложилась и судьба Ксении Громыковой. Согласно Горбачевскому она присутствовала на экзекуции, несмотря на уговоры родных уехать из Белой Церкви. «Вид ее жениха, терзаемого бесчеловечными палачами, его невольные стоны смутили ее рассудок: в беспамятстве бросилась она на солдат, хотевши исторгнуть из их рук несчастного страдальца; ее остановили от сего бесполезного предприятия и отнесли домой. Сильная нервическая горячка была следствием сего последнего свидания. Во все продолжение краткой своей болезни она слышала стон своего друга, видела кровь его и старалась остановить свирепых его мучителей: искусство врачей было бесполезно, – и в тот же самый вечер смерть прекратила ее страдания»[496].
* * *
Жизни Дмитрия Грохольского и Ксении Громыковой оставили едва заметный след в исторических документах. В отличие от лидеров заговора Грохольский и его возлюбленная не творили и не пытались творить историю, они просто попали под ее безжалостное колесо.
Однако лицо декабризма определяют не только лидеры тайных обществ. В обоих восстаниях зимы 1825–1826 годов велика роль рядовых участников событий, тех, о ком почти никогда не пишут книг и статей. Невнимание к биографиям этих людей несправедливо. Судьбы их, безусловно, достойны изучения, ибо результаты этой работы способны существенно обогатить наши представления о 20-х годах XIX века.
Борьба за свободу, за равенство, за человеческие права уживалась в членах тайных обществ с беспощадностью к конкретной человеческой личности, с ложью, подкупом и предательством – жертвами этой второй стороны декабризма и стали Грохольский и Громыкова. Не учитывая все это, не анализируя тщательно подобные судьбы, мы не сможем понять генетическую связь событий того времени с позднейшими трагическими периодами российской истории.
Сноски
1
Воспоминания Бестужевых. СПб., 2005. С. 41–42; Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 158.
(обратно)2
Лернер Н. Ad Decabrustiana // Бунт декабристов. Юбилейный сборник. 1825–1925. Л., 1926. С. 398–399.
(обратно)3
Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 2001. С. 385.
(обратно)4
Кюстин А., де. Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1. С. 249.
(обратно)5
Восстание декабристов. Документы и материалы (далее – ВД). М.; Л., 1925. Т. I. С. 174.
(обратно)6
Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 229; Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 258; Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 371. Ср.: Парсамов В. С. К характеристике личности П. И. Пестеля // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 19. Саратов, 2001. С. 11.
(обратно)7
Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 35. Оп. 1/242, св. 33. Д. 1. Л. 6 об. – 7.
(обратно)8
ВД. М.; Л., 1927. Т. IV. С. 6–7.
(обратно)9
Соколова Н. А. Военные страницы биографии П. И. Пестеля // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2000. С. 115.
(обратно)10
РГВИА. Ф. 395. Оп. 60, 2 отд., 1 ст., 1816. Д. 142. Л. 3.
(обратно)11
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики // Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004. С. 133.
(обратно)12
Соколова Н. А. Указ. соч. С. 105, 122.
(обратно)13
См. об этом: Киянская О. И. Пестель. М., 2005. С. 55–57.
(обратно)14
ВД. Т. IV. С. 173.
(обратно)15
Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 16.
(обратно)16
ВД. Т. IV. С. 273, 101, 90–92; М., 1980. Т. XVII. С. 27.
(обратно)17
Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения. М., 1999. С. 55, 57.
(обратно)18
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля // Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С. 312, 311.
(обратно)19
ВД. Т. XVII. С. 26.
(обратно)20
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля. С. 321.
(обратно)21
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 218–219.
(обратно)22
Парсамов В. С. П. И. Пестель и якобинская диктатура // Великая Французская революция и пути русского освободительного движения. Тезисы докладов научной конференции. 15–17 декабря 1989. Тарту, 1989. С. 35.
(обратно)23
Рудницкая Е. Л. Феномен Павла Пестеля // Annali. Serione storico-politicosociale. XI–XII. 1989–1990. Napoli, 1994. P. 107.
(обратно)24
Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 165. Ср.: Она же. Союз Спасения // Исторические Записки. М., 1947. Т. 23. С. 168.
(обратно)25
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля. С. 321.
(обратно)26
Нечкина М. В. «Русская Правда» и движение декабристов // ВД. М.; Л., 1958. Т. VII. С. 20–21.
(обратно)27
ВД. Т. VII. С. 229, 230.
(обратно)28
Кропотов Д. А. Жизнь графа М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874. С. 192, 194.
(обратно)29
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 28.
(обратно)30
Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 199.
(обратно)31
ВД. Т. I. С. 306.
(обратно)32
Там же. М., 2001. Т. ХХ. М., 2001. С. 394; Т. IV. С. 108.
(обратно)33
Там же. Т. IV. С. 100–101; Т. ХХ. С. 30, 247.
(обратно)34
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики. С. 107–109.
(обратно)35
Одесский М. П., Фельдман Д. М. Поэтика террора. М., 1997. С. 101–102. О том, насколько узнаваема для современников была произнесенная Н. И. Тургеневым фраза, можно судить по одному из эпизодов его собственной книги «Россия и русские»: «Мне даже рассказывали, что один из членов Верховного суда, бывший французский эмигрант и кавалерийский генерал, при решении моей участи так сформулировал свой вотум: “La mort sans phrases”» (Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 109). Впрочем, Тургенев утверждал, что был неправильно понят: в данном случае он имел в виду всего лишь выборы президента для ведения собрания.
(обратно)36
Чернов С. Н. Несколько справок о «Союзе благоденствия» перед Московским съездом 1821 г. // Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 18–19.
(обратно)37
Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 37.
(обратно)38
ВД. Т. X. М., 1953. С. 279.
(обратно)39
Нечкина М. В. «Русская Правда» и движение декабристов // ВД. М.; Л., 1958. Т. VII. С. 27.
(обратно)40
ВД. Т. I. С. 299, 302–303; Т. VII. С. 113–212.
(обратно)41
Историю возникновения этого документа см.: Нечкина М. В. Из работ над «Русской Правдой» Пестеля // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 73–83.
(обратно)42
ВД. Т. VII. С. 115, 152.
(обратно)43
ВД. Т. VII. С. 174.
(обратно)44
Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 83.
(обратно)45
ВД. Т. VII. С. 183, 143–144, 148, 149, 174, 118.
(обратно)46
См., напр., Рудницкая Е. Л. Феномен Павла Пестеля. P. 108.
(обратно)47
ВД. Т. VII. С. 214, 215.
(обратно)48
Там же. М.: 1969. Т. XII. С. 367; Т. VII. С. 419.
(обратно)49
Чернов С. Н. Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля // Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. С. 389.
(обратно)50
Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов. Исторический очерк. М., 1906. С. 95. Ср.: Базилевич В. М. Декабрист О. П. Юшневський // Декабристи на Українi. Київ, 1930. Т. 2. С. 49.
(обратно)51
Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 337.
(обратно)52
ВД. Т. IV. С. 111.
(обратно)53
См. об этом: Киянская О. И. Пестель. М., 2005. С. 119–140.
(обратно)54
Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 62.
(обратно)55
ВД. М., 1969. Т. XII. С. 298.
(обратно)56
ВД. М., 1969. Т. X. С. 259–260.
(обратно)57
ВД. М., 1969. Т. XII. С. 404.
(обратно)58
ВД. М., 1969. Т. IV. С. 110.
(обратно)59
Парсамов В. С. Быт и поэзия декабриста Василия Львовича Давыдова // Освободительное движение в России. Межвузовский научный сборник. № 18. Саратов, 2000. С. 35, 36.
(обратно)60
Чулков Г. И. Мятежники 1825 года. М., 1925. С. 85.
(обратно)61
Парсамов В. С. Быт и поэзия декабриста Василия Львовича Давыдова. С. 36.
(обратно)62
ВД. Т. X. С. 260.
(обратно)63
Пушкин А. С. Письма: в 3 т. Т. 1. М.; Л., 1926. С. 14.
(обратно)64
ВД. Т. X. С. 191.
(обратно)65
Там же. М., 1954. Т. XI. С. 78.
(обратно)66
ВД. Т. IV. С. 102–103.
(обратно)67
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики. С. 118.
(обратно)68
Свистунов П. А. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах // Русский архив. 1870. № 8–9. С. 1644.
(обратно)69
Из записок А. Г. Хомутовой // Русский архив. 1867. № 1–2. С. 1056–1057.
(обратно)70
Волконский С. Г. Записки. С. 304–305.
(обратно)71
Волконский С. М. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пг., 1922. С. 15, 98–99.
(обратно)72
Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990. С. 39.
(обратно)73
Волконский С. Г. Записки. С. 129–131, 136 и др.
(обратно)74
РГВИА. Ф. 395. Оп. 65/320, 2 отд., 1 ст. Д. 350; Ф. 36. Оп. 1. Д. 617; Ф. 36. Оп. 1. Д. 617. Л. 10; Д. 723.
(обратно)75
ВД. Т. Х. С. 100.
(обратно)76
Переписка П. Д. Киселева и А. А. Закревского // Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – Сборник ИРИО). СПб., 1891. Т. 78. С. 210.
(обратно)77
Караш Н. Ф., Тихантовская А. З. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский и его «Записки» // Волконский С. Г. Записки. С. 13.
(обратно)78
Караш Н. Ф., Тихантовская А. З. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский и его «Записки» // Волконский С. Г. Записки. С. 326, 176, 177.
(обратно)79
Пыляев М. И. Указ. соч. С. 60.
(обратно)80
Волконский С. Г. Записки. С. 357–359, 364, 384, 368.
(обратно)81
Муллин В. Неизвестный документ о свадьбе Сергея Волконского // Русская филология. Сборник научных студенческих работ. Тарту, 1971. С. 87–93.
(обратно)82
Караш Н. Ф., Тихантовская А. З. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский… С. 34.
(обратно)83
ВД. Т. VII. С. 216; Т. Х. С. 156; Т. XII. С. 298.
(обратно)84
Волконский С. Г. Записки. С. 178–179.
(обратно)85
Лемке М. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1909. С. 26.
(обратно)86
Тихантовская А. З., Капелюш Б. Н., Караш Н. Ф. Комментарий к «Запискам» С. Г. Волконского // Волконский С. Г. Записки. С. 440.
(обратно)87
ВД. Т. Х. С. 179.
(обратно)88
ВД. Т. Х. С. 144.
(обратно)89
Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву // Каторга и ссылка. 1933. № 2. С. 109, 383.
(обратно)90
ВД. Т. XII. С. 98.
(обратно)91
Там же. М., 2001. Т. XIX. С. 443–448, 447.
(обратно)92
Из архива декабриста Юшневского // Бунт декабристов: Юбилейный сборник. 1825–1925. Л., 1926. С. 324, 325.
(обратно)93
Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 71; Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 266.
(обратно)94
Белоголовый Н. А. Из воспоминаний сибиряка о декабристах // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 356–357.
(обратно)95
Базилевич В.М. Декабрист О. П. Юшневський: Спроба бiографiї // Декабристи на Українi. Київ, 1930. Т. 2. С. 51.
(обратно)96
ВД. Т.Х. С. 40.
(обратно)97
Казаков Н. И. Борьба декабриста А. П. Юшневского за права и привилегии болгарских переселенцев в Бессарабии в 1816–1817 гг. // Доклады и сообщения Института Истории АН СССР. М., 1965. С. 41.
(обратно)98
ВД. Т. Х. С. 84.
(обратно)99
Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар в Бессарабии в 1812–1820 гг. Кишинев, 1957. С. 95.
(обратно)100
Из архива декабриста Юшневского // Бунт декабристов. Юбилейный сборник. 1825–1925. Л., 1926. С. 324, 325.
(обратно)101
Казаков Н. И. Указ. соч. С. 45–46.
(обратно)102
ВД. Т. IV. С. 108; Т. XII. С. 144; Т. Х. С. 48–49.
(обратно)103
Азадовский М.К. Затерянные и утраченные произведения декабристов // Азадовский М. К. Страницы истории декабризма. Иркутск, 1992. Кн. 2. С. 66; ВД. Т. X. С. 49.
(обратно)104
ВД. Т. IV. С. 111, 161; Т.Х. С. 90–94.
(обратно)105
См. об этом: ВД. Т. Х. С. 62–63; Чернов С. Н. Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 388.
(обратно)106
ВД. М., 1986. Т. XVI. С. 197; Т. Х. С. 93; Т. XII. С. 122; Т. XIX. С. 22.
(обратно)107
Сыроечковский Б. Е. Балканская проблема в планах декабристов // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 214.
(обратно)108
Учреждение для управления большой действующей армией. СПб., 1828. Отд. III. С. 3; Отд. VI. С. 41–42; Отд. III. С. 3.
(обратно)109
Переписка П. Д. Киселева и А. А. Закревского. Т. 78. С. 195.
(обратно)110
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 109, Оп. 1, 1 эксп. Д. 61. Ч. 230.
(обратно)111
Розен А. Е. Указ. соч. С. 267; Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири. Киев, 1908. С. 126.
(обратно)112
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 396.
(обратно)113
ВД. Т. IX. М., 1950. С. 111; Т. Х. С. 232; Т. IV. С. 101–102, 278, 180.
(обратно)114
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 367.
(обратно)115
Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. СПб., 1882. С. 230.
(обратно)116
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5384. Л. 1–5 об., 2.
(обратно)117
Заблоцкий-Десятовский А. П. Указ. соч. Т. 1. С. 197.
(обратно)118
ВД. Т.Х. С. 157, 284.
(обратно)119
Там же. М.: 1954. Т. XI. С. 306; Т. IX. С. 61.
(обратно)120
ВД. Т. VI. М.; Л., 1929. С. 364.
(обратно)121
Плестерер Л. История 62-го пехотного Суздальского полка. Белосток, 1903. Т. 4. История Суздальского (1819–1831) и Вятского (1815–1833) пехотных полков. С. 188.
(обратно)122
Подробнее о системе контроля за военными расходами в начале XIX века см.: Тиванов В. В. Финансы русской армии (XVIII – начало XX века). М., 1993. С. 82–89.
(обратно)123
Мiяковский В.В. Повстання Чернiгiвського полку // Рух декабристiв на Українi. Харкiв, 1926. С. 16.
(обратно)124
Полное собрание законов Российской Империи (далее – ПСЗРИ). Собр. I. СПб., 1830. Т. 34. № 27.173.
(обратно)125
РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 634. Д. 88. Л. 25–25 об.
(обратно)126
ВД. Т. IX. С. 83.
(обратно)127
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 18. Д. 203. Л. 1.
(обратно)128
Плестерер Л. Указ. соч. С. 182.
(обратно)129
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 18. Д. 203. Л. 17 об., 7, 5, 25; Ср.: Ф. 395. Оп. 85. 2 отд., 4 ст., 1830. Д. 1037. Л. 1.
(обратно)130
ВД. Т. XIX. С. 430–431. Ср.: Лорер Н. И. Указ. соч. С. 78.
(обратно)131
РГВИА. Ф. 395. Оп. 324, 5 отд., 1819. Д. 247. Л. 2; Оп. 22, 1 отд., 2 стол, 1833. Д. 892. Л. 7; Там же. Оп. 278, канц., 1842. Д. 549. Л. 3 об, 4 об.; Там же. Оп. 278, канц., 1842. Д. 549. Л. 3 об. – 4, 5. См. также: ВД. Т. IV. С. 8–9.
(обратно)132
РГВИА. Ф. 395. Оп. 278, канц., 1842. Д. 549. Л. 5.
(обратно)133
Басаргин Н. В. Указ. соч. С. 77–78.
(обратно)134
РГВИА. Ф. 395. Оп. 278, канц., 1842. Д. 549. Л. 5, 10.
(обратно)135
Пестель П. И. Завещание // Красный архив. 1925. Т. 6 (13). С. 320.
(обратно)136
ВД. Т. IV. С. 59–69 – показания поручика Вятского полка М. П. Старосельского от 25.12.1825 г.
(обратно)137
Волконский С. Г. Указ соч. С. 380; ВД. Т. IV. С. 51–52, 192.
(обратно)138
ВД. Т. IV. С. 52.
(обратно)139
Басаргин Н. В. Указ. соч. С. 78. Ср., напр., Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 229.
(обратно)140
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 380.
(обратно)141
Троцкий И. М. Ликвидация Тульчинской управы Южного общества // Былое. 1925. № 5 (33). С. 53; Плестерер Л. Указ. соч. С. 211.
(обратно)142
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 412 об.
(обратно)143
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 305, 341, 337, 310 об.
(обратно)144
Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 636, 674, 1103, 1104.
(обратно)145
ВД. Т. IV. С. 77.
(обратно)146
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 412 об. – 413.
(обратно)147
Плестерер Л. Указ. соч. С. 211.
(обратно)148
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 355.
(обратно)149
ВД. Т. IV. С. 167.
(обратно)150
ВД. Т. XIX. С. 430.
(обратно)151
ВД. Т. XII. С. 91–92; См.: Троцкий И. М. Указ. соч. С. 50.
(обратно)152
См.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2. С. 197; Троцкий И. М. Указ. соч. С. 50.
(обратно)153
ВД. Т. IV. C. 84.
(обратно)154
Вигель Ф. Ф. Записки: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 1087–1088.
(обратно)155
См.: Кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца I и II степени: Биографический словарь. СПб., 2002. С. 423.
(обратно)156
Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 г.: Исторические материалы // Русская старина. 1882. № 7. С. 196.
(обратно)157
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 388, 396.
(обратно)158
Цит. по: Смирнова А. О. Записки (Из записных книжек 1826–1845 гг.). СПб., 1895. Ч. 1. С. 51–52.
(обратно)159
См.: Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 г. С. 149; ВД. Т. Х. С. 147; Ланда С. С. Мицкевич накануне восстания декабристов // Литература славянских народов. М., 1959. Вып. 4. Из истории литератур Польши и Чехословакии. С. 145.
(обратно)160
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 381.
(обратно)161
См.: ВД. Т. IV. С. 91.
(обратно)162
См.: Мицкевич А. Собрание сочинений. М., 1954. Т. 4. С. 388; Федоров В. А. Своей судьбой гордимся мы… М., 1988. С. 29.
(обратно)163
Лорер Н. И. Указ. соч. С. 71; ВД. Т. X. С. 64.
(обратно)164
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 376.
(обратно)165
ВД. Т. Х. С. 73; Т. XII. С. 125; Т. XIX. С. 189.
(обратно)166
Волконский С. Г. Указ. соч. С. 371–372; ВД. Т. XII. С. 256; Т. X. С. 260; Лорер Н. И. Указ. соч. С. 349; ВД. Т. IV. С. 92.
(обратно)167
Нечкина М. В. Кризис Южного общества декабристов // Историк-марксист. 1935. № 7. С. 30–47: Файерштейн С. М. Южное общество декабристов: дис…. д-ра ист. наук. М., 1950. С. 754; Порох И. В. О так называемом «кризисе» Южного общества декабристов // Учен. зап. Саратовского гос. ун-та. Харьков, 1956. Т. 47. Вып. исторический. С. 123.
(обратно)168
Михайловский-Данилевский А. И. Вступление на престол императора Николая I // Русская старина. 1890. № 11. С. 496.
(обратно)169
ВД. Т. I. С. 164.
(обратно)170
Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в мемуарах и переписке членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 33.
(обратно)171
ВД. М.; Л., 1926. Т. V. С. 387.
(обратно)172
Толстой Л. Н. Стыдно // Собр. соч. М., 1964. Т. 16. С. 449.
(обратно)173
Чулков Г.И. Мятежники 1825 года. С. 75.
(обратно)174
Шугуров М. Ф. О бунте Черниговского полка // Русский архив. 1902. № 2. С. 284.
(обратно)175
Щеголев П. Е. Катехизис Сергея Муравьева-Апостола (Из истории агитационной литературы декабристов) // Щеголев П. Е. Исторические этюды. СПб, 1913. С. 330.
(обратно)176
Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. М., 1975.
(обратно)177
ВД. Т. IV. С. 273.
(обратно)178
См.: Семевский В.И. Волнение в Семеновском полку // Былое. 1907. № 2. С. 83–86, 92–93; Лапин В. А. Семеновская история. Л., 1991. С. 151 и далее.
(обратно)179
Цит. по: Лапин В. А. Указ. соч. С. 166.
(обратно)180
Сборник ИРИО. Т. 73. С. 138.
(обратно)181
ВД. Т. ХХ. С. 125.
(обратно)182
См.: Рыбаков И. Ф. Тайная полиция в «семеновские дни» 1820 г. // Былое. 1925. № 2. С. 69–86; Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К. 40. Д. 17 и др.
(обратно)183
ВД. Т. IV. С. 273; Т. XI. С. 246; Т. IV. С. 172, 192; Т. XII. С. 359; Т. IX. С. 58.
(обратно)184
ВД. Т. IV. С. 179; Т. IX. С. 57. Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 85; Басаргин Н. И. Записки // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 45; Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 55.
(обратно)185
Чулков Г. И. Мятежники 1825 года. С. 85; Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 141.
(обратно)186
Эйдельман Н. Я. К биографии Сергея Ивановича Муравьева-Апостола // Исторические записки. М., 1975. Т. 96. С. 270.
(обратно)187
ВД. Т. IX. С. 110–111, 145, 46, 68, 66, 113.
(обратно)188
Нечкина М. В. Общество соединенных славян. М.; Л., 1927. С. 63. Ср.: Она же. Вступительная статья к следственным делам М. П. Бестужева-Рюмина и М. И. Муравьева-Апостола // ВД. Т. IX. С. 11.
(обратно)189
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 189.
(обратно)190
Азадовский М. К. Указ. соч. С. 89.
(обратно)191
ВД. Т. VII. С. 123; Т. X. С. 131; Орлов М. Ф. Указ. соч. С. 86.
(обратно)192
ВД. Т. X. С. 201. Ср. в показаниях С. Г. Волконского: Там же. Т. X. С. 128. Сам Бестужев-Рюмин, однако, склонен был на следствии объяснять мотивы своего «вояжа» личными обстоятельствами (Там же. Т. IX. С. 3).
(обратно)193
ВД. Т. X. С. 128; Т. IX. С. 65.
(обратно)194
Цит. по: Медведская Л. А. Южное общество декабристов и Польское патриотическое общество // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 284; ВД. Т. IX. С. 87; М., 1980. Т. XVII. С. 203–204.
(обратно)195
Текст его см.: Там же. Т. IX. С. 63–65; 69–74. Ср.: Медведская Л. А. Указ. соч. С. 286–288.
(обратно)196
ВД. Т. IX. С. 72–73.
(обратно)197
ВД. Т. IX. С. 132; Т. IV. С. 116.
(обратно)198
Модзалевский Б. Л. Страница из жизни декабриста М. П. Бестужева-Рюмина // Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 3. С. 210–211; Цявловский М. Примечания к «Письму К. Н. Бестужева-Рюмина к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужеве-Рюмине» // Декабристы и их время. М., 1928. Т. 1. С. 209.
(обратно)199
ВД. Т. X. С. 225; Т. IV. С. 284.
(обратно)200
ВД. Т. IV. С. 130, 119.
(обратно)201
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. С. 117.
(обратно)202
ВД. Т. IV. С. 280.
(обратно)203
Ланда С. С. Дух революционных преобразований. Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816–1825. М., 1975. С. 294 и др.
(обратно)204
Бестужев-Рюмин К. Н. Письмо к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужеве-Рюмине. С. 208. Ср. ВД. Т. IX. С. 49.
(обратно)205
Мерзляков А. Ф. Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. М., 1821. С. 91, 99.
(обратно)206
Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963. С. 9.
(обратно)207
Мерзляков А. Ф. Указ. соч. С. 93.
(обратно)208
ВД. Т. V. С. 279; Т. IX. С. 116, 117, 78; Т. V. С. 31, 279.
(обратно)209
Нечкина М. В. Общество соединенных славян. С. 71.
(обратно)210
ВД. Т. V. С. 31; Т. IX. С. 116; М., 1975. Т. XIII. С. 221.
(обратно)211
Нечкина М. В. Общество соединенных славян. С. 79–80.
(обратно)212
ВД. Т. V. С. 35; Т. XIII. С. 151, 365.
(обратно)213
Дед Бестужева-Рюмина приходился двоюродным братом М. М. Щербатову. См. об этом: Бестужев-Рюмин К. Н. Воспоминания // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 67. № 4. СПб., 1901. С. 3, 6.
(обратно)214
См. об этом: Нечкина М. В. Общество соединенных славян. С. 62.
(обратно)215
О происхождении и содержании этого документа см.: Нечкина М. В. Из работ над «Русской Правдой» Пестеля. С. 73–83.
(обратно)216
ВД. Т. V. С. 111, 126, 279, 300; Т. IX. С. 77, 140, 85, 82.
(обратно)217
Нечкина М. В. Общество соединенных славян. С. 68, 86.
(обратно)218
См.: ВД. Т. XI. С. 241, 280; Т. IV. С. 158; Т. IX. С. 38.
(обратно)219
См.: ВД. Т. XI. С. 275.
(обратно)220
См.: ВД. Т. Х. С. 79; Т. IV. С. 394, 258, 177, 278; Т. IX. С. 112.
(обратно)221
Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 56.
(обратно)222
ВД. Т. IX. С. 265.
(обратно)223
ВД. Т. IV. С. 110.
(обратно)224
Цит. по: Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 4. С. 16–17.
(обратно)225
Цит. по: Заболоцкий-Десятовский А. П. Указ. соч. Т. 1. С. 86.
(обратно)226
См.: Приказ по 1-й армии от 9 апреля 1825 г. № 51 // РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/ 291 (11 а). Св. 16 (229). Д. 103. Л. б/н.
(обратно)227
РГВИА. Ф. 14414. – Оп. 1. Д. 196, ч. 1. Л. 374; Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 55.
(обратно)228
Цит. по: Никитин А. О. Новое слово о декабристе М. А. Щепилло // Рязанская старина. 2004–2005. Рязань: Край, 2006. С. 241; РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 370, 436; Высочайшие приказы о чинах военных за 1822 год. СПб., 1822. Приказ от 29.06.1822 г.
(обратно)229
Похилевич Л.I. Краєзнавчi працi. Киев, 2007. С. 82–83.
(обратно)230
ПСЗРИ. Собр. I. СПб., 1830. Т. 31. № 24.346.
(обратно)231
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далее – ЦДIАК). Ф. 533. Оп. 5. Д. 1019. Л. 2.
(обратно)232
Державний архів Київської області (далее – ДАКО). Ф. 2. Оп. 3. Д. 4889. Л. 2.
(обратно)233
Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербурга (далее – РГИА). Ф. 1286. Оп. 3. 1825 г. Д. 160. Л. 19.
(обратно)234
Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербурга (далее – РГИА). Ф. 1286. Оп. 3. 1825 г. Д. 160. Л. 17.
(обратно)235
Похилевич Л.I. Указ. соч. С. 83–84.
(обратно)236
ЦДIАК. Ф. 533. Оп. 5. Д. 1019. Л. 2–2 об.; Ф. 485. Оп. 1. Д. 5491. Л. 1.
(обратно)237
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1825 г. Д. 160. Л. 29.
(обратно)238
ЦДIАК. Ф. 485. Оп. 1. Д. 5491. Л. 1, 41 об.
(обратно)239
Селянський Рух на Українi. Середина XVIII – перша четверть XIX ст. Збiрник документiв i матерiалiв. Київ, 1978. С. 380.
(обратно)240
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1825 г. Д. 160. Л. 4, 26, 31–31 об.
(обратно)241
Рахматуллин М. А. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 гг. М., 1990. С. 4.
(обратно)242
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1825 г. Д. 160. Л. 10.
(обратно)243
Крестьянское движение в России в 1796–1825 гг. Сб. документов. М., 1961. С. 746–747; Селянський Рух на Українi. С. 379–386.
(обратно)244
ЦДIАК. Ф. 485. Оп. 1. Д. 5491. Л. 3, 43–44 об.
(обратно)245
ВД. Т. VI. С. 146 и др.
(обратно)246
ЦДIАК. Ф. 485. Оп. 1. Д. 5491. Л. 51 об., 53–53 об., 55.
(обратно)247
ВД. Т. VI. С. 80.
(обратно)248
«Прошу избавить меня от сего поручения…»: Письмо декабриста Н. В. Басаргина П. Д. Киселеву // Исторический архив. 2000. № 6. С. 21–29.
(обратно)249
Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1988. С. 245.
(обратно)250
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни // Наше наследие. 1989. № 4. С. 572.
(обратно)251
ВД. Т. VI. С. 347–348, 176.
(обратно)252
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 175–176, 25.
(обратно)253
Покровский М. Н. Предисловие к 1-му тому серии «Восстание декабристов» // ВД. Т. I. С. IX; Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2. С. 282.
(обратно)254
Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. С. 112–115; Захаров Н. С. Петербургские совещания декабристовв 1824 году // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 84–120;Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 3–57; Экштут С. А. В поисках исторической альтернативы. М., 1994. С. 177–188; Коржов С. Н. Северный филиал Южного общества декабристов // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2000. Вып. III. С. 100–105; Павлюченко Э. А. Декабрист Никита Муравьев // Муравьев Н. М. Письма декабриста. М., 2000. С. 28–30 и др.
(обратно)255
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 40, 53.
(обратно)256
ВД. Т. IX. С. 260; Т. X. С. 70.; Т. IV. С 163.
(обратно)257
Коржов С. Н. Указ. соч. С. 105–106.
(обратно)258
Пушкина В. А., Ильин П. В. Персональный состав декабристских тайных обществ // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. II. СПб.; Кишинев, 2000. С. 44–52.
(обратно)259
Семенова А. В. Кавалергарды – члены тайного общества в день 14 декабря 1825 года // История СССР. 1979. № 1. С. 199.
(обратно)260
ВД. Т. I. С. 35.
(обратно)261
Сборник ИРИО. Т. 73. С. 400; РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 141. Д. 1524. Л. 1.
(обратно)262
РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244, св. 141. Д. 1524. Л. 2.
(обратно)263
Цит. по: Щербатов А. Г. Мои воспоминания. СПб., 2006. С. 196.
(обратно)264
Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 1040.
(обратно)265
РГВИА. Ф. 35. Оп. 5/246. Св. 313. Д. 1841а. Л. 8.
(обратно)266
Документы о финансовых махинациях секретаря киевского гражданского губернатора П. А. Жандра см.: Киянская О. И. Из записной книжки историка // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008. С. 76–136; ПСЗРИ. Собр. I. СПб., 1830. Т. 43. Ч. 1. С. 89.
(обратно)267
РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361–363. 2 отд. Д. 178. Л. 4–4 об., 6–7.
(обратно)268
РГВИА. Ф. 395. Оп. 73, 2 отд., 1821. Д. 1273. Л. 6–7, 10 и др.
(обратно)269
ДАКО. Ф. 2. Оп. 3. Д. 4634. Л. 5.
(обратно)270
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 167. Л. 1; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 25. Д. 12. Л. 1.
(обратно)271
ДАКО. Ф. 2. Оп. 145. Д. 320. Л. 5; Оп. 3. Д. 4634. Л. 5; Оп. 147. Д. 12. Л. 1 об., 2.
(обратно)272
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 76.
(обратно)273
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003. Т. 1. С. 158; Второв И. А. Москва и Казань в начале XIX в. Записки И. А. Второва // Русская старина. 1891. Т. LXX. Кн. 4. С. 11.
(обратно)274
Рукописный отдел Института русской литературы. Ф. 617. Д. 1. Л. 6.
(обратно)275
РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361–363. 2 отд. Д. 178. Л. 27–31; Ф. 14414. Оп. 1. Св. 25. Д. 181. Л. 5–6, 8; Д. 183. Л. 1, 3 об., 4 об.-5; Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 800; Ф. 395. Оп. 77/361–363. 2 отд. Д. 178. Л. 3, 33, 39–39 об.
(обратно)276
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 76.
(обратно)277
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 183. Л. 9–9 об.; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 4. Д. 12. Л. 2–2 об.; Ф. 14414. Оп. 1. Д. 186.
(обратно)278
ВД. М.; Л., 1927. Т. III. С. 139–140; М., 1976. Т. XIV. С. 339; Т. IX. С. 259; Т. IV. С. 187; Т. IX. С. 214, 132; Т. IV. С. 116.
(обратно)279
Показания Трубецкого в деле А. О. Корниловича // ВД. М., 1969. Т. 12. С. 332–333.
(обратно)280
РГВИА. Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 4. Д. 12. Л. 2.
(обратно)281
ПСЗРИ. Собр. I. СПб., 1830. Т. 32. № 24.971. С. 59, 53.
(обратно)282
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 64(277). Д. 382, ч. 1. Л. 8–10; Оп. 9/292, св. 4(181). Д. 95. Л. 474–475; 482–486; Оп. 9/292. Св. 5(182). Д. 159. Л. 95–96.
(обратно)283
РГВИА. Ф. 395. Оп. 76. 2 отд. 1 ст. Д. 406. Л. 13.
(обратно)284
РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 510, 596, 627 и др.; Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 667 об.
(обратно)285
РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361–363. 2 отд. Д. 178. Л. 3.
(обратно)286
ВД. Т. XII. С. 333.
(обратно)287
Цит. по: Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 196.
(обратно)288
ВД. Т. I. С. 78.
(обратно)289
РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749.
(обратно)290
ВД. Т. I. С. 27, 35.
(обратно)291
Там же. М.; Л., 1925. Т. I. С. 35.
(обратно)292
Там же. М.; Л., 1925. Т. I. С. 35.
(обратно)293
Там же. Т. IX. С. 56, 68.
(обратно)294
См., напр., Потапова Н. Д. Позиция С. П. Трубецкого в условиях политического кризиса междуцарствия // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 1997. Вып. 1. С. 48, 51.
(обратно)295
ВД. Т. IV. С. 284; Ср.: Там же. С. 103–104; Т. IX. С. 190, 67; Т. I. С. 100, 101.
(обратно)296
О Щербатове и его связях с декабристами см.: Киянская О. И. Генерал Щербатов и его мемуары // Щербатов А. Г. Мои воспоминания. СПб., 2006.
(обратно)297
РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 144. Д. 1662. Ср.: Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 85.
(обратно)298
Материалы о восстания Черниговского полка из архива А. Г. Щербатова // Декабристы. М., 1938. С. 15.
(обратно)299
ВД. Т. IV. С. 333.
(обратно)300
Цит. по: Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 196–197.
(обратно)301
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 195, ч. 1. Л. 45–46, 50 об.
(обратно)302
ВД. Т. X. С. 263, 286–287.
(обратно)303
Чернов С. Н. Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 383–384.
(обратно)304
ВД. Т. X. С. 272; Т. IV. С. 172, 192; Т. XII. С. 359, 425 и др.
(обратно)305
РГВИА. Ф. 14057. Оп. 2. Д. 16. Ср.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 93, 70 и др. Ср.: ВД. Т. XII. С. 402.
(обратно)306
ВД. Т. XII. С. 357.
(обратно)307
РГВИА. Ф. 14057. Оп. 1. Д. 11. Л. 135; Оп. 3. Д. 7. Л. 134а.
(обратно)308
РГВИА. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 7. Л. 134а; Оп. 3. Д. 11. Л. 135.
(обратно)309
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 15. Л. 4 об.
(обратно)310
Вистицкий М. С. Указатель дорог Российской империи. СПб., 1804. Ч. 1. С. 102, 110, 127, 138, 167.
(обратно)311
РГВИА. Ф. 14047. Оп. 3. Д. 11. Л. 128.
(обратно)312
ВД. Т. XII. С. 372; Т. IV. С. 196–198; Т. Х. С. 118, 134–135, 149, 153.
(обратно)313
ВД. Т. XIX. С. 430; Т. X. С. 143; Т. IV. С. 171; Т. XI. С. 365; Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики. С. 118.
(обратно)314
ВД. Т. IV. С. 172, 67; Т. XVII. С. 62–64. Ср.: Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 207.
(обратно)315
ВД. Т. IV. С. 53; Т. X. С. 212; Т. XVI. С. 197; Т. XII. С. 383.
(обратно)316
ВД. Т. Х. С. 72, 80.
(обратно)317
Лорер Н. И. Указ. соч. С. 76, 78–79.
(обратно)318
См.: Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 215.
(обратно)319
ВД. Т. XII. С. 404.
(обратно)320
ВД. Т. IV. С. 192.
(обратно)321
В биографическом справочнике «Декабристы» (М., 1988. С. 207) дата ареста А. П. Юшневского указана неверно – 13.12.1825. Правильную дату см.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 646. Д. 1б. Л. 21.
(обратно)322
См.: ВД. Т. XII. С. 355. Ср.: Чернов С. Н. Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 347–389.
(обратно)323
Сафонов М. М. Зимний дворец в планах выступления 14 декабря 1825 года // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008. С. 230.
(обратно)324
См. об этом: Киянская О. И. П. И. Пестель на следствии // Россия XXI. 2007. № 1. С. 162–196; Готовцева А. Г., Киянская О. И. Движение декабристов в государственной пропаганде 1825–1826 гг. // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. С. 447–493; Киянская О. И. П. И. Пестель на следствии // Россия XXI. 2007. № 1. С. 162–196.
(обратно)325
ВД. Т. XVII. С. 49, 51, 53, 55, 58.
(обратно)326
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 225–227, 242, 281; Она же. День 14 декабря 1825 года. М., 1985. С. 22.
(обратно)327
Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 90–91, 93.
(обратно)328
Сафонов М. М. Указ. соч. С. 228–291.
(обратно)329
ВД. Т. I. С. 103–104.
(обратно)330
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 246–247.
(обратно)331
ВД. Т. I. С. 247.
(обратно)332
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен // Покровский М. Н. Избранные произведения. М., 1965. Кн. 2. С. 265.
(обратно)333
Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. С. 463.
(обратно)334
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 228.
(обратно)335
ВД. М., 1984. Т. XVIII. С. 295; Т. I. С. 247, 6, 19, 443.
(обратно)336
Свистунов П. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 2002. С. 171; ВД. Т. I. С. 347.
(обратно)337
ВД. Т. I. С. 160–162, 158, 187–188, 69, 103–104.
(обратно)338
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 176.
(обратно)339
ВД. Т. I. С. 488, 248, 347, 152, 184–185; Т. XIV. С. 151.
(обратно)340
ВД. Т. I. С. 36, 65, 70; Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 288.
(обратно)341
ВД. Т. I. С. 18, 36, 37, 65; Т. XVIII. С. 295.
(обратно)342
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 289.
(обратно)343
ВД. Т. I. С. 19, 58, 179, 94, 103–105; Т. IV. С. 284; Т. XII. С. 47.
(обратно)344
Лавров Н. Ф. «Диктатор 14 декабря» // Бунт декабристов. Л., 1926. С. 189.
(обратно)345
ВД. Т. XIV. С. 334; Т. I. С. 19, 58, 15; Т. ХХ. С. 172–173.
(обратно)346
ВД. Т. I. С. 59, 164; Т. ХХ. С. 165.
(обратно)347
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 246.
(обратно)348
ВД. Т. I. С. 154.
(обратно)349
ВД. Т. XIV. С. 334; Т. I. С. 50, 42, 59, 16, 87–88.
(обратно)350
Подробную биографию Свистунова см.: Федоров В. А. Декабрист Петр Николаевич Свистунов // Україна i Росiя в панорамi столiть. Чернiгв, 1998. Ср.: Федоров В. А. Декабрист Петр Николаевич Свистунов // Свистунов П. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 2002.
(обратно)351
Завалишин Д. И. Воспоминания. М., 2003. С. 452.
(обратно)352
ВД. Т. XIV. С. 348.
(обратно)353
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 296.
(обратно)354
«Погостный список», составленный М. И. Муравьевым-Апостолом // Декабристы. Материалы для характеристики. М., 1907. С. 172.
(обратно)355
Муравьев Н. М. Письма декабриста. М., 2001. С. 83, 84, 94, 104, 114, 117, 101.
(обратно)356
РГВИА. Ф. 395. Оп. 182, 4 отд. 1824 г. Д. 87.
(обратно)357
Глиноецкий Н. П. История русского генерального штаба. СПб., 1883 Т. 1. С. 309, 310. С. 310.
(обратно)358
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 53.
(обратно)359
Высочайшие приказы о чинах военных. 1825. СПб., 1826. С. 182.
(обратно)360
ВД. Т. XIV. С. 391, 340, 342; Т. XVIII. М., 1979. С. 254; Т. XV. С. 242.
(обратно)361
ВД. Т. I. С. 62, 41; Т. XIV. С. 342.
(обратно)362
ВД. Т. XIV. С. 342.
(обратно)363
Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990. С. 148.
(обратно)364
ВД. Т. XVI. С. 27.
(обратно)365
ВД. Т. XIV. С. 342.
(обратно)366
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 1012.
(обратно)367
ВД. Т. XIV. С. 342–343; Т. ХХ. С. 176; Т. XVIII. С. 91.
(обратно)368
ВД. Т. XIV. С. 490. Анненкова П. Е. Воспоминания. М., 2003. С. 34–35.
(обратно)369
Гессен С. Я., Предтеченский А. В. Полина Гебль и декабрист Анненков // Воспоминания Полины Анненковой. М., 1929. С. 12–13.
(обратно)370
Анненкова П. Е. Воспоминания. С. 32–33.
(обратно)371
ВД. Т. XIV. С. 333.
(обратно)372
Федоров В. А. Декабрист Петр Николаевич Свистунов // Свистунов П. Н. Сочинения и письма. С. 18.
(обратно)373
Анненкова П. Е. Воспоминания. С. 51.
(обратно)374
ВД. Т. XVI. С. 35; Т. ХХ. С. 165.
(обратно)375
Лорер Н. И. Указ. соч. С. 77.
(обратно)376
ВД. Т. VI. С. 4.
(обратно)377
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 52.
(обратно)378
ВД. Т. VI. С. 283.
(обратно)379
ВД. Т. XI. С. 98.
(обратно)380
ВД. Т. VI. С. 137, 131; Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 39, 40.
(обратно)381
ВД. Т. IV. С. 284, 235–236.
(обратно)382
ВД. Т. IX. С. 47, 109, 122; Т. XI. С. 110; Горбачевский И.И. Указ. соч. С. 52.
(обратно)383
ВД. Т. VI. С. 107.
(обратно)384
ВД. Т. IV. С. 241, 286; Т. VI. С. 140, 142, 286.
(обратно)385
ВД. Т. IV. С. 242; Т. VI. С. 108; РГВИА. Ф. 25. Оп. 161а. Д. 493. Л. 23.
(обратно)386
Руликовский И. Восстание Черниговского полка // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 2008. Т. II. С. 429–439.
(обратно)387
Гебель А. Г. Из записок полковника гвардии А. Г. Гебеля // Русский архив. 1871. Т. 10. С. 1717–1718.
(обратно)388
ВД. Т. VI. С. 108.
(обратно)389
ВД. Т. VI. С. 5.
(обратно)390
ВД. Т. IX. С. 183.
(обратно)391
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 52.
(обратно)392
РГВИА. Ф. 25. Оп. 161а. Д. 493. Л. 18; Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 68(281). Д. 107. Ч. 3.
(обратно)393
РГВИА. Ф. 25. Оп. 161а. Д. 493. Л. 17.
(обратно)394
Гебель А. Г. Указ. соч. С. 1717; Гебель Э. Г. Подполковник Гебель // Русская старина. 1873. № 8. С. 238–239.
(обратно)395
ВД. Т. IV. С. 243; Т. VI. С. 140.
(обратно)396
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 91.
(обратно)397
ВД. Т. VI. С. 155.
(обратно)398
ВД. Т. IX. С. 32; Т. XI. С. 235; Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 91.
(обратно)399
ВД. Т. VI. С. 134; Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 66.
(обратно)400
ВД. Т. VI. С. 127, 157, 175, 193; Памяти декабристов: Сб. материалов. Л., 1926. Т. 2. С. 81, 84; ВД. Т. IV. С. 287; Т. XVII. С. 69; Бумаги генерал-майора Ф. Г. Гогеля о бунте Черниговского полка // Русский Архив. 1871. № 1. С. 274.
(обратно)401
ВД. Т. IV. С. 287.
(обратно)402
Щеголев П. Е. Катехизис Сергея Муравьева-Апостола (Из истории агитационной литературы декабристов) // Щеголев П. Е. Исторические этюды. СПб., 1913. С. 317; Мережковский Д. С. Революция и религия // Мережковский Д. С. Павел I. Александр I. Больная Россия. М., 1989. С. 659; Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 231–238. Текст «Православного Катехизиса» см.: ВД. Т. VI. С. 128–129.
(обратно)403
Вернадский Г. В. Два лика декабристов // Свободная мысль. 1993. № 15. С. 90.
(обратно)404
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 30–31.
(обратно)405
Одесский М. П., Фельдман Д. М. Революция как идеологема (к истории формирования) // Общественные науки и современность. 1994. № 2. С. 69.
(обратно)406
ВД. Т. IV. С. 311; Т. IX. С. 184; Цит. по: Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 357; Бумаги генерал-майора Ф. Г. Гогеля о бунте Черниговского полка. С. 287; ВД. Т. VI. С. 29.
(обратно)407
ВД. Т. IV. С. 408.
(обратно)408
ВД. Т. IV. С. 134; Т. IX. С. 241; Т. VI. С. 143, 144.
(обратно)409
Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 53; Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 72.
(обратно)410
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 71–72, 69.
(обратно)411
ВД. Т. VI. С. 21; Т. IV. С. 251, 250.
(обратно)412
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 252.
(обратно)413
ВД. Т. VI. С. 159; Т. IV. С. 286; Т. IX. С. 239; Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 53.
(обратно)414
ВД. Т. IX. С. 191; Т. XVII. С. 54; Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 267.
(обратно)415
ВД. Т. VI. С. 54, 9, 7, 11, 54; Мiяковский В.В. Указ. соч. С. 26–27; РГВИА. Ф. 14414. Оп. 2. Д. 163. Л. 5 об.
(обратно)416
Декабристы / под ред. Н. П. Чулкова. М., 1938. С. 16–17; ВД. Т. VI. С. 57; РГВИА. Ф. 36. Оп. 4. Св. 28. Д. 572. Л. 29, 36 и др.
(обратно)417
ВД. Т. VI. С. 21.
(обратно)418
ВД. Т. IV. С. 247–278, 285.
(обратно)419
РГВИА. Ф. 395. Оп. 84. Д. 419. Л. 7; Там же. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3158. Л. 137 и др.; Высочайшие приказы о чинах военных за 1816–1821 гг. СПб., 1816–1821.
(обратно)420
РГВИА. Ф. 395. Оп. 81. Д. 1082; Оп. 60. Д. 3304; Ф. 489. Оп. 1. Д. 1117, 2668, 2849 и др.
(обратно)421
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1117. Л. 31 об.
(обратно)422
Высочайшие приказы о чинах военных за 1816 г. СПб., 1816. Приказ от 13.01.1816; РГВИА. Ф. 395. Оп. 60. Д. 3304; Высочайшие приказы о чинах военных за 1816 г. Приказ от 30.10.1816.
(обратно)423
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1117. Л. 31 об. – 32.
(обратно)424
Высочайшие приказы о чинах военных за 1817 г. СПб., 1817; Там же за 1818 г. СПб., 1818. Приказ от 26.03.1818; Там же за 1821 г. СПб., 1821. Приказ от 17.01.1821.
(обратно)425
ВД. Т. IV. С. 285.
(обратно)426
ВД. Т. VI. С. 308.
(обратно)427
Декабристы. Биографический справочник. С. 309.
(обратно)428
ВД. Т. VIII. Л., 1925. С. 386.
(обратно)429
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 351.
(обратно)430
РГВИА. Ф. 395. Оп. 156. Д. 358. Л. 23 об, 24, 26; Оп. 164. Д. 531. Л. 3 об., 4–7; Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196, ч. 1. Л. 191; Лачинов Е. Е. Дневник следования посольства // Декабристы об Армении и Закавказье. Ереван, 1985. С. 44.
(обратно)431
Эти показания не были опубликованы в 1927 г. в составе следственного дела Сергея Муравьева-Апостола; оригинал их хранится в ГАРФ. В данной работе они цитируются по копии, составленной в штабе 1-й армии, где проводились разыскания о связях Ренненкампфа с декабристами (РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196, ч. 2. Л. 262–262 об).
(обратно)432
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196. Ч. 2. Л. 191, 1919 об.; Д. 196. Ч. 1. Л. 191 об.
(обратно)433
ВД. Т. VI. С. 23.
(обратно)434
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 255–256; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 370.
(обратно)435
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 77–78.
(обратно)436
ВД. Т. VI. С. 18, 16; РГВИА. Ф. 395. Оп. 164. Д. 531. Л. 3 об.
(обратно)437
ВД. Т. VI. С. 18, 56.
(обратно)438
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 453. Л. 35 об.; Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов… С. 181; ВД. Т. VI. С. 68. Ср.: Вершинин А. А. Щербатов Алексей Григорьевич // Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004. С. 810.
(обратно)439
ВД. Т. IV. С. 287–288.
(обратно)440
Руликовский И. Указ. соч. С. 445, 448.
(обратно)441
ВД. Т. VI. С. 20, 127, 134.
(обратно)442
ВД. Т. VI. С. 309, 156–157, 199, 159, 158.
(обратно)443
Руликовский И. Указ. соч. С. 446.
(обратно)444
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 12. Д. 7. Л. 145 об.; Руликовский И. Указ. соч. С. 450; ВД. Т. VI. С. 324.
(обратно)445
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6491а.
(обратно)446
Базилевич В. М. Збитки вiд повстання 1825–1826 рр. // Декабристи на Українi. Київ, 1926. Т. 1. С. 101–113.
(обратно)447
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6491а. Л. 15 об.
(обратно)448
Гессен С. Я. Солдаты и матросы в восстании декабристов. М., 1930. С. 90.
(обратно)449
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 12. Д. 7. Л. 144–148 об.
(обратно)450
Руликовский И. Указ. соч. С. 460.
(обратно)451
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6491. Л. 19; Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 12. Д. 7. Л. 149 об.; Базилевич В. М. Збитки вiд повстання 1825–1826 рр. С. 103.
(обратно)452
Руликовский И. Указ. соч. С. 459, 460, 461, 451.
(обратно)453
Базилевич В. М. Указ. соч. С. 104.
(обратно)454
Руликовский И. Указ. соч. С. 445, 450; ВД. Т. VI. С. 30.
(обратно)455
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 353.
(обратно)456
Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 496; Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 79; Руликовский И. Указ. соч. С. 461, 459.
(обратно)457
ВД. Т. IV. С. 287.
(обратно)458
Руликовский И. Указ. соч. С. 455.
(обратно)459
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 84.
(обратно)460
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 91–92; Михайловский-Данилевский А. И. Вступление на престол императора Николая I // Русская старина. СПб., 1890. № 11. С. 495–496.
(обратно)461
Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай I. СПб., 1903. Т. 1. С. 337.
(обратно)462
ВД. Т. IV. С. 288.
(обратно)463
Воспоминания генерал-майора Василия Абрамовича Докудовского // Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань, 1897. Т. XII. Вып. 1. С. 163; Руликовский И. Указ. соч. С. 457.
(обратно)464
ВД. Т. IV. С. 288; Там же. Т. IX. С. 47, 226; Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 54, С. 13; Комментарии М. И. Муравьева-Апостола к мемуарной записи Ф. Ф. Вадковского «Белая Церковь» // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931. Т. 1. С. 201.
(обратно)465
ВД. Т. IX. С. 495–496.
(обратно)466
Иконников В. С. Крестьянское движение в Киевской губернии в связи с событиями того времени. СПб., 1905. С. 55, 59, 61, 66; Руликовский И. Указ. соч. С. 408–409.
(обратно)467
Крестьянское движение в России в 1826–49 гг. М., 1961. С. 39; Руликовский И. Указ. соч. С. 469; Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 40. Имеются в виду события так называемой «колиивщины», когда восставшие крестьяне во главе с уманским сотником Гонтой и запорожским казаком Железняком громили помещичьи усадьбы и убивали «панов, ляхов и жидов» (см. об этом, напр., Ф.Ф. Предание о Гонте // Киевская Старина. 1901. Июль – авг. С. 4–7).
(обратно)468
ВД. Т. XVI. С. 34; Т. I. С. 23, 21, 26, 27, 34, 15.
(обратно)469
Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов… С. 175.
(обратно)470
ВД. Т. XVI. С. 34; Т. I. С. 23, 21, 26, 27, 34, 15, 48.
(обратно)471
Мысловский П. М. Из воспоминаний // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 309; Розен А. Е. Указ. соч. С. 155; Заозерский А. И. Вторая оправдательная записка Н. И. Тургенева // Памяти декабристов: Сб. материалов. Л., 1926. Т. II. С. 117. Ср.: Курилкин А. Р. Комментарии к книге Н. И. Тургенева «Россия и русские». М., 2001. С. 685; Якушкин Е. И. Замечания на «Записки» («Mon Journal») А. М. Муравьева // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 143; Штрайх С. Я. Декабрист П. И. Пестель. Новые материалы // Былое. 1922. № 20. С. 106; ВД. Т. IV. С. 103, 112, 419.
(обратно)472
Розен А. Е. Указ. соч. С. 143; ВД. Т. IX. С. 37, 42–43, 74, 61, 142, 143, 149, 112, 145; Т. Х. С. 27–28.
(обратно)473
См., напр., Воспоминания генерал-майора Василия Абрамовича Докудовского. С. 163. В 1825–1826 гг. Василий Докудовский являлся корпусным адъютантом 3-го пехотного корпуса и принимал участие в допросах арестованных заговорщиков.
(обратно)474
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 453.
(обратно)475
Санкт-Петербургские ведомости. 1826. 12 января. № 4. С. 32, 33.
(обратно)476
Оксман Ю. Г. Восстание Черниговского полка // ВД. Т. VI. С. XVI.
(обратно)477
Переписка П. А. Вяземского с В. А. Жуковским // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1913. Т. 5. Вып. 2. С. 159.
(обратно)478
Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов… С. 33.
(обратно)479
ВД. Т. XVI. С. 157.
(обратно)480
См. об этом: Киянская О. И. П. И. Пестель на следствии // Россия XXI. 2007. № 1. С. 163–196.
(обратно)481
ВД. Т. XVI. С. 158.
(обратно)482
Трубецкой С. П. Указ. соч. Т. 1. С. 263; ВД. Т. I. С. 68.
(обратно)483
Покровский М. Н. Предисловие к 1-му тому серии «Восстание декабристов» // ВД. Т. I. С. IX; Свистунов П. Н. Указ. соч. С. 170; ВД. Т. XVII. С. 58, 27, 28; Т. I. С. 7; Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. М., 1989. С. 84–93.
(обратно)484
См. об этом подробнее: Павлова В. П. Декабрист С. П. Трубецкой // Трубецкой С. П. Указ. соч. Т. 1. С. 54–60; Басаргин Н. В. Указ. соч. С. 432; Греч Н. И. Указ. соч. С. 318; Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 157; Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 74; Кологривов И. Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая // Современные записки. Париж, 1936. Т. 62. С. 254.
(обратно)485
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 256; ВД. Т. VI. С. 303–304; Высочайшие приказы о чинах военных за 1812 год. СПб., 1812. Приказ от 19.11.12.
(обратно)486
ВД. Т. IX. С. 241; Т. XVII. C. 68.
(обратно)487
Горбачевский И. И. Указ. соч. C. 104.
(обратно)488
РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 313; ПСЗРИ. Собр. I. СПб., 1830. Т. V. № 3006. С. 327–328; Высочайшие приказы о чинах военных за 1821 год. СПб., 1821. Приказ от 23.07.1821.
(обратно)489
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 243.
(обратно)490
ВД. Т. IX. С. 90; Т. VI. С. 304; Т. IV. С. 307–308, 304, 309; Т. IX. С. 90.
(обратно)491
ВД. Т. VI. С. 49, 146–147, 309, 310–311; РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196. Ч. 1. Л. 193, 193 об.
(обратно)492
Руликовский И. Указ. соч. С. 449; РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196, ч. 1. Л. 160; ВД. Т. VI. С. 98.
(обратно)493
РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196. Ч. 1. Л. 193 об., 305 об.; ВД. Т. IX. С. 90.
(обратно)494
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 105.
(обратно)495
ВД. Т. VI. С. 303–311, 201–201; РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 196. Ч. 1. Л. 194.
(обратно)496
Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 104, 105; Новые архивные документы о «нижних чинах» Черниговского полка, сосланных на Кавказ в 1826 году // Декабристы об Армении и Закавказье. Ереван, 1985. Ч. 1. С. 257–403.
(обратно)





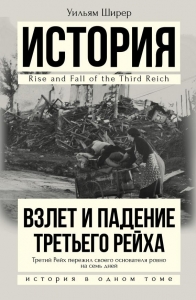


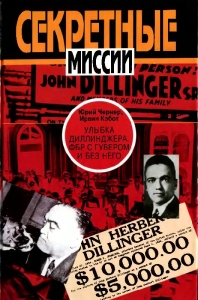
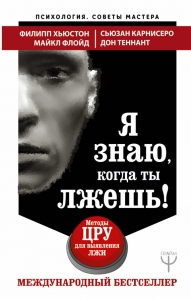

Комментарии к книге «Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка», Оксана Ивановна Киянская
Всего 0 комментариев