Валентин Михайлович Фалин Второй фронт Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© В. М. Фалин, 2016
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, 2016
* * *
Фото на титуле Ф. Ремеджа (США)
Пролог
К познанию через сомнение
«Война Черчилля» – объемистый труд под этим заголовком издал в 1987 году Дэвид Ирвинг.
Нет, пожар запалил не Черчилль, утверждает Эрнст Топич. «Война Сталина: 1937–1945» – так назвал он свою книгу, выпущенную в 1990 году. Германия и Япония были, на взгляд Топича, всего лишь «инструментами» Сталина в его стратегии противоборства с более опасными «империалистами, прежде всего англосаксонскими».
Достоверность гипотез как Ирвинга, так и Топича подвергает сомнению Дирк Бавендамм. Это была «война Рузвельта», заявляет он и даже датирует момент ее развязывания американцами: 1937 год[1].
Впрочем, в почти неодолимой чащобе публикаций на темы Второй мировой войны вариантов не занимать. Вот Дэвид Л. Хогган. Он упрямо и многословно – на 931 странице – отстаивает версию, что в крушении мира повинны в первую очередь британский лорд Галифакс и министр иностранных дел Польши полковник Ю. Бек[2]. Не без соучастников, понятно.
Если так дальше пойдет, то, глядишь, на долю «величайшего революционера двадцатого столетия»[3] почти ничего не достанется. Холокост, может быть, и пара других «шалостей».
Муссолини. Дуче покидает чистилище отмытым едва ли не добела. Недавно всплывшие его дневники (британские эксперты не склонны выдавать их за очередное творение фальсификатора Кияу) запечатлели душевные терзания автора при принятии роковых решений. А сыщутся невзначай оригиналы адресованных ему писем У. Черчилля и некоторых других западных политиков, что не забывали привечать своим вниманием Муссолини в предвоенное время и после начала войны, – и публике откроется: итальянский диктатор терзался не один[4].
Букет японских милитаристов тоже заметно слинял на фоне «разоблачений» последних десятилетий. В новейших писаниях они чаще походят на политических простаков, которых коварные недруги завлекли в ловушку и затем распяли.
В общем, чем дальше в лес… Но как бы ни был сомнителен исторический жанр, присягающий идеологическим догмам и расхожей моде, некую положительную функцию он все-таки выполняет. Вольно или невольно подтверждается древняя пропись – «односторонность есть пагуба мысли». Любая односторонность, в том числе прилаживающая победителям ангельские крылья. Уводя в сторону от истины, отгораживая общественность от нее наращиваемым вширь и ввысь частоколом, последняя также поит и кормит исторический экстремизм.
Политиков различного склада наличие подобного частокола устраивало и устраивает. Здесь, наверное, объяснение тому, что ключевые и незаменимые документы, в том числе трофейные, и поныне остаются для исследователей недоступными. «Кто контролирует прошлое, тот программирует будущее» – это, похоже, не профессорский афоризм, но твердая идейная установка. Насколько она диссонирует с императивами третьего тысячелетия, его новыми вызовами и испытаниями, – другой вопрос, консенсуса по которому нет и не предвидится.
По этой и многим иным причинам возвращение к проблематике Второй мировой войны не просто оправданно. Оно необходимо и закономерно. С учетом масштабов совершавшихся в 30-40-х годах событий и глубины их воздействия – прямого и опосредованного – на структуру современного мирового сообщества. Принимая во внимание, что к той эпохе восходят многие из концепций и доктрин, по сию пору играющих совсем не второстепенную роль. Имея в виду, что при огромном количестве публикаций и исследований генезис величайшей из человеческих трагедий, ее развертывание и развязка остаются непроясненными, а где-то намеренно закованными в скобки.
Даже, казалось бы, солидные монографии, вобравшие обширный документальный материал, порождают подчас больше вопросов, чем дают убедительных ответов. Почему столь внешне нелогичными были поступки государств и их экспонентов во многих критических ситуациях? Отчего в самых что ни на есть очевидных обстоятельствах политиков влекли кружные и скользкие тропы? Как получалось, что здравый смысл пасовал почти всякий раз, когда идеология и реальность приходили в столкновение?[5]
С изъянами прослежены и вскрыты причинные взаимосвязи различных явлений и процессов в тогдашнем мировом развитии. Национализм и гипертрофированный эгоизм повсюду алкали свою корысть, смешивая друзей и врагов. Но только ли характерами и спецификой режимов обусловливались, к примеру, фарисейство и фабианство, обрекшие на погибель несметное число жизней?
При квалификации имевшего место быть важный симптом – мотивы поступков или бездействия. Именно тут особенно охотно хватаются за спасительные соломинки, когда в свете вскрытых фактов от ответственности за, скажем, саботаж коллективных усилий по возведению барьера на пути агрессий или за выбор оптимальных способов борьбы с ними, когда худшее становилось явью, невозможно увернуться. Ведь невольные заблуждения и несчастливые совпадения легче извиняются, чем завзятое вероломство и верхоглядство. А в какие непроницаемые закоулки прячут свидетельства двурушничества и подсидок, что, как доказывает опыт, обездвиживают и выхолащивают союзничество!
Короче, объективная истина обнаружила себя пока лишь избирательно и подцензурно. И не похоже, чтобы пробелы в исторической летописи скоро восполнились. Британское правительство объявило о намерении держать под спудом важнейшие предвоенные и военные документы по меньшей мере до 2017 года. Не говорит ли это само за себя? Спрашивается, чего таиться, если бы в материалах и документах, широким кругам неведомых, не содержалось ничего приметного?
С вашингтонскими секретами еще сложнее. Ф. Рузвельт держался обычая беседовать с глазу на глаз, распоряжения отдавать устно, не оставлять пометок на телеграммах и записках, которые докладывались ему министрами, генералами, послами и личными советниками. Как и И. Сталин, он не поощрял записей на проводившихся под его началом совещаниях. Вроде бы и обнародовать особенно нечего. Кроме…
Кроме документов Ф. Рузвельта, не вошедших в трехтомник У. Кимбелла «Полная переписка премьер-министра и президента»[6]. Берем том 1. Он охватывает период с октября 1933 по ноябрь 1942 года. Листаем страницы за июнь, июль, август 1941 года[7]. Ни слова о совершенном нападении нацистской Германии на Советский Союз.
Первое упоминание об этом встречается в послании Черчилля Рузвельту от 1 сентября 1941 года в контексте планов Лондона на Ближнем Востоке.
Кимбелл пересказывает мнение, будто советско-германская война была предметом устных переговоров глав двух правительств по трансатлантическому телефонному кабелю (с. 211). Весьма сомнительно, чтобы издатель сборника сам верил воспроизводимой им легенде.
Если копнуть на полный заступ, обнажатся небезынтересные пласты, освещающие «миссию мира» американского дипломата Самнера Уэллеса (весна 1940 года), вашингтонские прикидки на случай поражения Советского Союза в 1941 и 1942 годах, дискуссии политических и военных руководителей США и Англии касательно модальностей дальнейшего ведения войны в 1943 году. Пока тут на поверхность поднялись крохи[8].
Далее, правительство США завладело после оккупации Германии обширными документальными фондами нацистского рейха. Ценные материалы были изъяты, в частности, из вчерне сооруженной последней ставки Гитлера[9] и тайников, оборудованных нацистами на территории Чехословакии, Австрии и самого Третьего рейха. Американские службы интересовала не столько документация по планированию и осуществлению конкретных операций. Особо ценились данные о каналах нацистского проникновения в страны Старого и Нового Света, о поставленной на консервацию финансово-экономической базе в ожидании наследниками фюрера следующего часа x. Микрофильмы и картотеки, полученные Вашингтоном от генерала Гелена и его сотрудников, а также от Хёттля, – лишь капля в той «специальной» информации, которой предстояло сыграть не последнюю роль в «холодной войне».
Среди трофеев были, например, данные высотной авиаразведки территории СССР, проводившейся в канун нацистской агрессии специально оборудованными самолетами люфтваффе[10]. К 1945 году материалы не утратили практического значения.
Администрация США, насколько можно судить, не проявила чрезмерного усердия, чтобы документы из специальных нацистских фондов попали в распоряжение Нюрнбергского трибунала при разборе дел главных нацистских военных преступников. Не сыскались, среди прочего, «зеленая папка» Гиммлера, текст преступного приказа об уничтожении вермахтом в случае пленения советских военных и «гражданских» комиссаров (разослан по штабам вплоть до дивизий в 340 экземплярах), другие документы генштаба, служб безопасности, личного архива Гитлера. Еще бы – они могли обременить назревавшее привлечение нацистского генералитета на службу «демократиям»[11].
Что до Японии, американцы оказались, по сути, безраздельными хозяевами ее государственных бумаг. Как Вашингтон этой привилегией распорядился, иллюстрирует пример «отряда 731» генерала Исии, занимавшегося разработкой бактериологического оружия и методики его применения в экспериментах на людях, а также в диверсионных операциях против Китая и потенциального противника – СССР. Помимо этого, отряд опробовал пригодность при ведении военных действий инсектицидов и медикаментов различного профиля.
Исия и американские официальные лица вошли в сделку: Соединенным Штатам передавались восемь тысяч слайдов, запечатлевших опыты над животными и людьми, и другие материалы «отряда 731», а Пентагон и госдепартамент в свою очередь обязались позаботиться о том, чтобы ни один сотрудник отряда не предстал перед судом за участие в подготовке (и ведении) бактериологической войны. Соответственно правительству СССР отказали в передаче ему материалов об «отряде 731» с ссылкой на то, что «для обвинений в преступных действиях японской армии в отношении китайского народа (с использованием бактериологического оружия) нет оснований достаточных, чтобы квалифицировать их как военные преступления».
Между тем власти США владели точными сведениями о времени и обстоятельствах применения бактериологического оружия не только против Китая, но и Советского Союза. Летом 1942 года в ходе операции под кодовым названием «Летние маневры» в реку Дэрбул при ее впадении в Аргунь было внесено 12 килограммов бактерий сапа. Подобные диверсии совершались японцами вдоль маньчжурско-советской границы многократно[12].
Пустым и недостойным занятием было бы прихорашивать советскую, а также нынешнюю российскую практику обращения с архивными материалами – собственными и трофейными. Хотя Советский Союз не декларировал вслед за США, что за свою внешнюю политику не извиняется, но и без громких слов он старался и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А это предполагало сокрытие и препарирование правды, усечение всего негабаритного и обоюдоострого, создание тенденциозных композиций. Как и в других странах, документы перед публикацией часто подвергались в СССР «стилистической правке» и купюрам.
Странное дело – среди прочего обрекались на безмолвие документы, способные без долгих слов и доказательно найти – на пользу самому СССР – искомую истину. Но… При Сталине попало под запрет все, что хотя бы отдаленно походило на комплименты в адрес его соперников и жертв или давало повод усомниться в безгрешности и сверхпрозорливости вождя. После Сталина запрет лег на трехмерное освещение уже его собственной деятельности. Изгнали Хрущева, и на четверть века он оказался персоной нон грата. Тот же удел постиг постхум Брежнева.
Имелись препоны и иного свойства. М. М. Литвинову не нравился Г. В. Чичерин, первый советский министр иностранных дел. Литвинов не был в чести у В. М. Молотова и еще меньше вызывал симпатий у А. А. Громыко[13].
Последний не благоволил, кроме того, И. Майскому, причем настолько, что его, ветерана дипломатии, не удостоили в 1967 году приглашения на торжества, где отмечался юбилей советской дипломатической службы. Майскому годами отказывали в доступе к собственным дневниковым записям и другим материалам, изъятым у него при аресте в 1952 году и переданным «на хранение» в МИД.
Рестриктивная практика, донельзя сузившая даже высшему звену МИД СССР возможность обращения к архивам, вредила повседневной деятельности министерства, ибо вне поля зрения оставались первичная информация и прецеденты, столь важные в обычном международном праве. В этом смысле историко-дипломатическое управление МИД с годами стало напоминать Общий отдел ЦК КПСС, сидевший на горах информации, как собака на сене, послушная воле исключительно Генерального секретаря.
Трофейные архивы оценивались в СССР, если совсем сжато, под углом зрения выгод или невыгод раскрытия того, что конкретно оказалось в советских руках, степени проработки материалов архивариусами, возможностей использования соответствующих документов в специальной работе, рассекречивания считавшегося тайным в самом Советском Союзе. Приведем примеры. При фотокопировании оригиналов дневников Геббельса (всего 13 блокнотов) скрупулезно опускалось все, что наводило на мысль: секретные протоколы к советско-германским договорам 1939 года существовали. В одном из хранилищ, помимо документов, освещавших деятельность гестапо и контрразведывательных институтов рейха, содержались материалы, конфискованные нацистами у бывшего рейхсканцлера Й. Вирта и других лиц, которых гитлеровский режим полагал своими оппонентами. Никто не мог внятно объяснить, почему эту часть архива не возвратили бывшим владельцам или хотя бы не отдали в распоряжение ученых.
Особую разновидность советских фондов составляли «трофейные трофеи» – материалы, захваченные нацистами в Париже и некоторых других столицах. Весьма содержательными оказались документы французской разведки. В них прослеживалась, в частности, активность Германии, Англии и Франции по периферии России от Прибалтики до Кавказа с 1917 по 1939 год. Попытки рассекретить хотя бы сведения политического характера не встретили понимания в 1954–1955 годах у В. М. Молотова, а в 80-х годах – у М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева и В. А. Медведева.
Целиной, в свое время едва тронутой и с годами в значительной мере утраченной для правосудия и науки, являлись документы штабов армий, корпусов и дивизий вермахта, карательных войск и нацистских комендатур всех видов, рассеянных по временно оккупированной советской территории. Даже для беглого ознакомления с преимущественно рукописными записями не было, особенно на местах, средств, штатов и элементарных условий.
С изложенными и неназванными оговорками можно, таким образом, рассчитывать на открытие в историческом океане неизведанных островов и целых архипелагов. Это вдохновляет. Скверно, однако, когда мощение путей к познанию на одних направлениях сопровождается подкопом под правду на других, нетерпимостью к мнению, которое не приемлет идейной монокультуры.
Если насилование истории не прекратится, Вторая мировой война из символа империалистического, расистского в полном смысле слова вырождения, из злодейства, которому нет и не может быть оправдания, превратится всего лишь в «ситуацию», вышедшую по вине некоих персоналий из-под контроля. В одну из тех, что случались несчетное число раз в прошлом и без драматизма должны восприниматься в будущем как непротивоестественное выражение будто бы внутренних потребностей развития систем и государств.
Вдумаемся всерьез. Не отзвуки ли это откровений сенатора Р. Тафта и других видных деятелей Запада, ратовавших в 1941–1942 годах за умиротворение Германии? Нацизм выступал, в их представлении, как другая форма правления, а не чуждая демократиям система. До определенного момента, так считалось, конкурировали различно выражавшиеся, но генетически не исключавшие один другого интересы, присягавшие силе и возводившие в норму гегемонизм более могущественного. Сложно, понятно, ставить под сомнение конструктивный опыт былого советско-американского сотрудничества, не размежевываясь с собственным прошлым, с политикой США военной поры.
Чего ждать от будущего? Перенятия эстафеты обиженного маккартизма в политологии и историографии? Атаки на деятельность Ф. Рузвельта реакция повела уже в 1945 году, когда она пускалась во все тяжкие, чтобы сбить высокий престиж Советского Союза, убедить общественность Запада в невозможности и недопустимости продолжения сотрудничества с Москвой. Такие авторы, как Ч. Беард, Г. Барнес, Дж. Бернхэм, У. Чемберлин, Ч. Тэнсилл, не приписывали Рузвельту вину за развязывание войны. Покойного президента осуждали за «некомпетентность», «распродажу американских интересов», «измену американскому образу жизни», ибо в войне его занесло не на ту сторону. Даже трумэновское «сдерживание» являлось в глазах реакционеров боязливо-оборонительной стратегией, несоразмерной «советскому вызову» и, что еще важнее, тогдашнему американскому потенциалу, позволявшему, как полагали, стереть «коммунистическую опасность» с лица Земли.
Что впереди – утихомиривание страстей и адаптация к качественно новой обстановке, сложившейся в мире в преддверии ХХI века? Ведь дело сделано. Так или иначе, Советский Союз канул в Лету. Является ли его крушение запоздалой местью Гитлера, победа над которым далась закритичным перенапряжением наших сил? Или это конечный итог холодной войны, результат в корне порочной стратегии в ней, выбранной Москвой и загодя обрекавшей страну на поражение? На вопросы подобного порядка сейчас, наверное, не сыщется категорических ответов. Связь времен, однако, не дано отменить: ее закономерности есть величина объективно заданная. От политиков, правда, в известной степени зависит, как, где и когда она себя проявит.
Пока ясно одно: черта под прошлым не подведена. И в нынешних, изменившихся условиях будет продолжаться с переменным итогом борьба между максималистами, выводящими свое право и свою мораль единственно из силы, и фракциями, не склонными обозревать новый мир сквозь старые очки.
На уровне современных знаний едва ли мыслимо проставить точки над «i» по большинству из рассматриваемых ниже вопросов. Если не впадать в амбициозность, придется, видимо, удовольствоваться в основном обозначением темы. Где-то, отталкиваясь от выверенных данных, можно вступить в диспут с устоявшимися или, вернее, стандартными мнениями, предложить альтернативное прочтение вроде бы давно известного. Опять-таки не оригинальности ради.
Взглянем на задачу проще: любой прогресс открывается ересью. Она не совсем уж недостойный проступок, если не объявлять греховодной мысль Альберта Эйнштейна: каждая новая эпоха вооружает нас новыми глазами.
Глава 1 Версаль – политический пустоцвет
Версальский мирный договор, под которым 28 июня 1919 года Германию понудили поставить свою подпись, победители тут же восславили как рубеж, разграничивавший нескончаемое насилие и вечный мир. Верили архитекторы Версаля в совершенство и несокрушимость того, что сотворили?
Допустим, текст гигантского юридического построения свелся бы к первым 26 статьям. В таком случае у нас поныне имелся бы повод сказать: попытка заново организовать всемирное сообщество, оснастив его международной конституцией, парламентом и правительством в виде Лиги Наций, не удалась, но она все-таки была предпринята в убеждении – будущим конфликтам путь преградит не победа, а согласие, не разделение наций и континентов на отверженных и элитарных, но их единение на принципах равноправия.
Победители искали, однако, компромиссы не с вчерашними противниками, а между собой. Немецкий историк А. Хилльгрубер справедливо замечает, что мировой порядок 1919–1920 годов возводился на сбалансировании интересов Англии, Франции и США[14]. Проигравшие войну обрекались неопределенно долго нести ярмо париев.
Пойди развитие по версальской схеме, немцам пришлось бы выплачивать репарации – 132 миллиарда золотых марок! – до 1938 года[15]. Советской России, которую числили тоже по разряду потерпевших поражение, уготовили нечто худшее. В наказание за разрыв с Антантой и своевольный выход из войны с Германией в ноябре 1917 – марте 1918 года ее вообще вытолкнули за борт, поставили вне закона. России, являвшейся на протяжении веков субъектом права и одним из столпов европейского и мирового порядка, назначили стать объектом, поделенным бывшими союзными и противными державами на «сферы действия» (У. Черчилль).
Не велика была беда остаться вне Лиги Наций, тем более что США – инициатор создания «универсального союза»[16], – отказавшись ратифицировать Версальский договор, исключили сами себя из его состава еще до того, как представители 45 европейских и внеевропейских государств сошлись 20 января 1920 года на первую сессию. Не станем, однако, спешить с заключениями.
Изоляционизм, лишивший Лигу отцовского благословения, не означал схода Соединенных Штатов с мировой арены. В 1919–1920 годах он не удержал Вашингтон от вмешательства в дела Советской России на стороне противников Ленина. Это была идеологически обусловленная и политически выверенная вооруженная интервенция, если не агрессия. Примем к сведению, что, в отличие от других интервентов, США до 1923 года официально держались принципа «целостности территории русского народа»[17] и на этом основании не признавали самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии как образований, отторгнутых от России кайзеровской Германией. Вместе с тем Вашингтон, насколько известно, не возражал, в изъятие из перемирия 1918 года и общего версальского урегулирования 1919-го, против «временного» оставления германских войск в Прибалтийских государствах, тогда как со всех остальных оккупированных территорий немецкий военный персонал подлежал немедленному удалению. Лигу Наций этот реликт Первой мировой войны тоже не лишил сна.
Больше того, до начала 30-х годов англичане и некоторые их попутчики смотрели на Лигу не столько как на организацию по поддержанию мира, сколько как на инструмент для координации действий враждебного Советскому Союзу свойства. С этих позиций Лондон предпринимал попытки оживить интерес США к Лиге Наций, впрочем безуспешно.
В целом о Версале как системе «стабилизации европейского мира» можно говорить лишь условно или с отрицательным подтекстом. Почему? Договор 1919 года педантично прочертил новые границы на западе и в центре Европы, не забыв про гарантии, казавшиеся, по крайней мере на словах, внушительными. Польско-германскую границу тоже обозначили, хотя и не слишком чеканным слогом. Но ведь этим территориальное многообразие в Европе не исчерпывалось.
У той же Польши, помимо западной и южной, имелись северо-восточные и восточные границы. Запамятовали или проигнорировали необходимость их фиксирования, которая громко давала знать о себе? А может быть, заранее связывали кое-какие расчеты с тем, что Пилсудский еще до простановки подписей под Версальским договором провокационно заявлял: рекомендации Верховного совета союзных держав от 8 декабря 1918 года насчет этнографического принципа при территориальном переустройстве (линия Керзона) и установления, вырисовывавшиеся на мирной конференции 1919 года, ему не указ. Ввиду неуемного экстремизма польского предводителя и его попыток противопоставить свое соглашение с немцами от 10 ноября 1918 года[18] перемирию между западными державами и Германией Пилсудского в Версаль не пустили как «нежелательное лицо», но и только.
O прекраснодушии или альтруизме применительно к Англии и Франции, к Ллойд Джорджу и Клемансо можно вещать не иначе как с изрядной долей сарказма. Асимметрии в международной безопасности являлись неотрывной составной политической философии демократов и демократий.
Стрельба на Западе кончилась – стало быть, долгожданный мир уже не журавль в небе, а реальность. Не важно, что на Востоке война, меняя личину, продолжалась. Это где-то там далеко, в тридевятом царстве, и не стоит того, чтобы сбиваться на минор в салонах Парижа, Лондона или Рима.
Не смущало, что правители возрождавшейся Польши не колеблясь хватались за оружие: в ноябре 1918 года Рыдз-Смиглы взял Львов, в декабре того же года, рассчитывая поставить мирную конференцию перед совершившимся фактом, польские национал-демократы созвали конгресс своих сторонников из Силезии, Западной Пруссии, Познани и устроили настоящую баталию с местной немецкой милицией. 19 апреля 1919 года настал черед Вильнюса: он был отторгнут от Литвы. К 17 июля 1919 года, уже после подписания Версальского договора, польские войска изгнали украинские национальные вооруженные силы из всей Восточной Галиции, входившей прежде в Австро-Венгрию.
«Гаранты» нового порядка в Европе должны были как-то реагировать? Реагировали. Командующий союзническими оккупационными войсками французской генерал Ле Ронд занял сторону польских «добровольцев», вторгшихся в Верхнюю Силезию и атаковавших размещенные там итальянские воинские части.
При ведущей роли французского генералитета и с помощью отряженных Парижем офицеров была подготовлена и осуществлена наиболее крупная из военных акций Пилсудского – поход на Киев, который предполагалось, если повезет, развить в поход на Москву. Перед нападением официальная Варшава отвергла советское предложение от 28 января 1920 года установить «линию соблюдения мира», которая на многих участках могла бы пройти восточнее линии Керзона.
13 марта Пилсудский в категорических выражениях довел до сведения западных союзных держав, что не примет иной границы с Россией, кроме границы 1772 года. Почему не 1612 года? Это будущий диктатор оставил за горизонтом видимости. Повышение ставок не исключалось. Французское добро было у Пилсудского в кармане, но сначала предстояло попотеть в сражениях.
26 апреля 1920 года польские войска вторглись в пределы Белоруссии и Украины. «Восточная программа» Пилсудского обрела статус польской национальной догмы, а после взятия Киева он был увенчан старым лавровым венком Батория и короля Владислава IV.
Наваждение сгинуло столь же споро, как и нахлынуло. Контрнаступление Красной Армии перенесло в конце июля – начале августа войну к стенам Варшавы. Правительство Скульского пало. Его преемник Грабский, обращаясь к западным державам, взмолил о помощи. Помощь пришла не только в форме «советов» генерала Вейгана, но и в виде массированных поставок военных материалов[19]. И от Сталина, не выполнившего распоряжение главнокомандования о передаче соединений Южного фронта в подчинение Тухачевскому, который из-за измотанности личного состава долгими переходами и отрывом от тылов попал в крайне уязвимое положение.
С подачи французов неожиданно представившийся шанс был использован. «Чудо на Висле» стало путеводной звездой Пилсудского. Оно же отозвалось семнадцать лет спустя гибелью М. Тухачевского и заодно других советских военачальников: Сталин не прощал обид.
Ожидание, что польско-советский конфликт явится прологом нового вала интервенции Англии, Франции и других западных стран (японцы еще удерживали обширные районы советского Дальнего Востока), побудило Москву искать замирение с Варшавой любой ценой: возникло фактически второе издание Брест-Литовского мира. Чем раздел Украины и Белоруссии лучше разделов Польши? Этого не доказал никто. И пока таких доказательств нет, безнравственно выдавать захваченные агрессором в 1920 году Западную Украину и Западную Белоруссию за «Восточную Польшу», как это практикуется поныне.
Версальская конструкция, следовательно, изначально несла в себе вопиющие перекосы. Соединенные Штаты придумали свой выход из положения: 25 августа 1921 года подписали отдельный мирный договор с Германией. Если судить по балансу прав и обязанностей, он выглядел как рефрен Версаля (с опущением всего относящегося к Лиге Наций и международному сотрудничеству). Логика американской позиции была примерно такой: интересы США не забыты, в остальном же поживем – посмотрим.
А что надлежало делать Советской России? Мирного договора с Германией, Австрией и их союзниками она не заключала (не по своей вине) и заключить не могла. Неустроенным и туманным оставался статус отношений Советской России с США, Англией, Францией и Японией. Признание Деникина, Колчака и прочих претендентов на Первопрестольную в качестве выразителей российской государственности, поддержание с ними полномасштабных политических, военных, экономических связей, прямая интервенция превращали западные державы в соучастников жесточайшего противоборства, обошедшегося нашей нации в 16 миллионов жизней. Вынужденный вывод с советской территории войск интервентов совершался как сугубо односторонний акт. Он не сопровождался урегулированием порожденных вторжением осложнений или взятием каких-либо обязательств перед советской стороной на будущее.
Лютая враждебность демократов к Стране Советов принимала иное по упаковке состояние. На вооруженные вылазки отряжались наемники, и, коль скоро давали себя знать любители острых ощущений типа Пилсудского или Скоропадского, их привечали, снабжали на бранное дело всем необходимым и никогда не одергивали.
«Непризнание» Советского Союза, которого из крупных держав дольше всех держались США, – совсем не формальность. Это – претензия полагать себя вольноопределяющимся по отношению к любым международно-правовым нормам и обычаям, в которых, между прочим, не отказывают даже противнику на войне.
Заключение Рапалльского договора между Советской Россией и Германией 16 апреля 1922 года не было, конечно, низвержением Версаля. Тем не менее советско-германское взаимопонимание показало, что у версальской модели разделения систем и государств на чистые и нечистые есть позитивная альтернатива. Рапалльский договор вопреки неулегшимся инсинуациям не был нацелен против какой-либо нации, не ставил под вопрос существовавшие границы ни на Западе, ни на Востоке, он признавал за каждым народом право определять строй своей жизни без вмешательства извне.
Если быть точным, в Рапалло состоялась гражданская панихида по мечте о перманентной мировой революции и были предприняты первые практические шаги в овладении искусством мирного сосуществования[20]. Хранителей версальского миража взбудоражило провозглашение равенства партнеров нормой международных свершений, ибо лейтмотив неравенства пронизывал большинство из 440 статей Версальского мирного договора – одного из наиболее пространных, но отнюдь не самых безупречных произведений политиков, идеологов и правоведов из теперь уже далекого 1919 года.
Можно было бы заняться выявлением взаимозависимостей между Рапалло и, скажем, крутым решением Франции и Бельгии (нейтральной страны) оккупировать Рур в январе 1923 года. Целесообразней, экономии места ради, дать слово профессору Карлу Буркхардту, последнему из верховных комиссаров Лиги Наций в Данциге и позднее президенту Международного Красного Креста. Он не принадлежал к безоговорочным поклонникам послеверсальской политической карты Европы. На вкус Буркхардта, неудачным был территориальный передел между Германией и Польшей. Польские претензии, полагал швейцарец, следовало щедрее удовлетворять за счет Украины и Белоруссии, которым он отказывал, как и Чехословакии, в праве на национальную целостность. Буркхардт сожалел, что Россию не постигла в 1918–1919 годах судьба Оттоманской империи. Вместо этого ликвидировали, писал он в 1959 году, Австро-Венгрию, «историческим назначением» которой являлось отражение угроз с Востока и, в сотрудничестве с сербами, «недопущение проникновения (России) к теплым морям»[21].
Натура цельная, аккумулировавшая настроения консервативного европейского истеблишмента в период между двумя мировыми войнами, Буркхардт пронес через всю жизнь неприязнь не к Советскому Союзу, а именно к России и россиянам, сетуя при каждом случае на верхоглядство Англии, Франции и США, которые предали забвению итоги – не всякому придет такое на ум – Крымской войны 1853–1856 годов. В 1925 году он отправил Гуго фон Хофманнсталю письмо, которое через тридцать лет счел достойным включения в сборник собственной корреспонденции.
Англия с доминионами и США высматривают для себя опасности в беспомощной Германии, между тем «подлинная опасность вызревает за германским фасадом, между Балтикой и Тихим океаном, на пространстве, еще неведомом человечеству. Федерация на базе повсюду внедряемого мировоззрения, поставленная на службу националистическому империализму, – это кристаллизация, которой невозможно противиться. Что в сравнении представляет собой германский реваншизм, так мало привлекательный в остальном мире, германский экспансионизм?.. Россия в качестве центра спасительного учения собирает силы, подобно арабскому миру, некогда воспламененному Магометом… Германия и Япония есть естественные противники русской экспансии. Однако Запад, английская империя и Соединенные Штаты, которым в долгосрочном плане эта экспансия угрожает больше всех, тщатся ослабить Германию и Японию»[22].
Непосредственного влияния на политику европейских держав Буркхардт еще не оказывал. Тем симптоматичней, что по сути аналогичный подход стал крестным отцом договора в Локарно (октябрь 1925 года, участники – Германия, Англия, Франция, Италия и Бельгия), фиксировавшего незыблемость франко-германской и бельгийско-германской границ, как они были установлены в Версале, а также сохранение режима демилитаризации в Рейнской области. Германия и Бельгия – соответственно Германия и Франция – взаимно обязывались «ни в коем случае не прибегать друг против друга к агрессии, нападению или к войне». Гарантами договоренностей выступали Англия и Италия. Наградой Германии за Локарно было ее принятие в сентябре 1926 года в Лигу Наций.
Вроде бы возникла причина для очередного ликования. Что плохого, если ранее навязанные обязательства подтверждались добровольно, а несколько поблекшие гарантии (США выпали из обоймы) прописывались каллиграфически четко заново? Можно было бы, похоже, идентифицироваться со словами британского министра иностранных дел сэра Остина Чемберлена (не путать с Невилем, будущим премьером), певшего хвалу Локарно как «водоразделу между годами войны и годами мира»[23]. Если бы…
Если бы договор не повторял и не усугублял родовой порок Версаля: дозволенное избранным не распространяется на изгоев. Яснее против прежнего оттенялось, что границы на востоке оставлялись без правового прикрытия, отдаленно сопоставимого с подстраховкой и перестраховкой на западе. Некоторые из восточных границ – к примеру, польско-литовская или советско-румынская – вообще были юридически не оформленными и международно не признанными. Простор для любых выводов и вызовов в зависимости от степени испорченности[24].
Советское правительство потребовало сатисфакции в виде «восточного Локарно», но встретило афронт. Москве пришлось искать эрзацы посредством двухсторонних соглашений (например, Берлинского договора о дружбе и нейтралитете с Германией от 24 апреля 1926 года) и региональных урегулирований со своими соседями.
Тенденциозные историки охотно обкатывают тезис: Берлинский договор, освеживший букву и дух Рапалло, документировал антипольский прицел германского ревизионизма. При этом, как правило, опускается тот факт, что первые штабные разработки рейхсвера, в которых в качестве ближайших целей определялись устранение особого статуса Рейнской зоны, ликвидация «польского коридора», возвращение в состав рейха Верхней Силезии, аншлюс Австрии, датируются декабрем 1925 года. И двух месяцев не истекло с момента лобызаний в Локарно. Воистину в Берлине не теряли времени даром. Благословения из Москвы там никто не ждал.
Если даже руководящие деятели Великобритании, глядя потерянному вслед, засомневались в том, что Версаль справился с задачей открыть мирную главу в развитии Европы, то простится историку смелость высказать гипотезу, возводящую в сан подлинного замирителя после Первой мировой войны пакт Бриана-Келлога.
Импульс к размышлениям о неделимости мира и необходимости всеохватывающей системы обязательств по его ненарушению дал французский министр иностранных дел Аристид Бриан. Он пригласил США – в развитие Локарно и первых признаков сближения позиций государств при обсуждении проблемы разоружения – заключить франко-американский договор об отказе навечно от войны во взаимных отношениях и тем подать пример для подражания остальным членам международного сообщества. К приятному удивлению Парижа, американцы высказались за с условием, что задуманное французами двухстороннее мероприятие сразу превратится в мультинациональное.
27 августа 1928 года представители 15 государств скрепили своими подписями документ, провозглашавший отказ от войны «как инструмента национальной политики» и обязывавший его участников стремиться «все споры и конфликты, которые могут возникнуть между ними (партнерами по договору), независимо от их истока или истоков, решать и регулировать не иначе, как мирными средствами»[25].
А. Бриан замыслил перебросить мосты через рвы, раздробившие Европу. Он выступал за учреждение конференции, прообраза Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству, как постоянно действующего политического института, наделенного определенными исполнительными полномочиями.
Кто воспрепятствовал, чтобы эта часть французского проекта реализовалась? Хулители пакта как «декларативного», «беззубого», «вводящего в заблуждение» увиливают от ответа на сей вопрос. Они предпочитают фиксировать внимание на оговорках, которыми сопровождалась ратификация пакта в США, Англии, Японии и других странах (обязательства по договору не умаляют права его участников «оборонять свою территорию в случае агрессии и вторжения»), как если бы сходные и гораздо более весомые оговорки не следуют тенью почти за каждым договором, что заключается по нынешнюю пору, особенно по проблематике безопасности.
Оппоненты из тех, кто слышит, как трава растет, усматривают в отвержении и осуждении войны происки Москвы. Чем иначе объяснить, что «Литвинов всячески форсировал ратификацию пакта»? И не только торопил его введение в силу, но и подкреплял фланкирующими акциями. С позиций Буркхардта, это не лезло вообще ни в какие ворота. Еще бы, Советский Союз добился подписания правительствами Польши, Румынии и Прибалтийских государств так называемого протокола Литвинова, который исключал войну как метод решения международных споров[26].
Вместо отлучения от европейских и мировых свершений бастарду – Советскому Союзу – дозволяли показывать флаг. Чуть позже незаконнорожденный осмелеет до того, что присвоит себе ведущую роль при определении понятия агрессии. 4 июля 1933 года между Румынией, СССР, Чехословакией, Турцией и Югославией (днем позже – и между Советским Союзом и Латвией) был подписан договор, раскрывавший смысл этого понятия. Принятое в договорах обозначение агрессии получило в честь советского министра иностранных дел название «определение Литвинова»[27]. Английские представители в это время твердили: Великобритания – империалистическая держава, и в качестве таковой она не может не быть агрессивной.
Нравилось это кому-то или нет, на 1933 год к пакту Бриана-Келлога присоединилось не менее шестидесяти пяти стран. Но летописная история цивилизации не знает ни одного правового акта (объявление войны не в счет), который бы сам по себе и мгновенно материализовался. Даже безоговорочные капитуляции не являются исключением. В целом сотворение человеческого мира зарекомендовало себя как чрезвычайно трудоемкое и малоблагодарное занятие. В отличие от библейского мира, отвлекшего Всевышнего от прочих забот на шесть дней и омраченного – по крупному счету – лишь грехопадением Адама с Евой да Всемирным потопом.
Непременной предпосылкой успеха конструктивного мероприятия являются взаимодополняющие действия партнеров, адекватные поставленной цели. Эффективность пакта Бриана-Келлога зависела не от совершенства легших на бумагу формулировок. Готовность и желание каждого из примкнувших к нему государств не искать для себя изъятий из новых, в чем-то стеснительных правил, не возвышать свое частное над общим целым, сделать отречение от насилия законом прежде всего собственного поведения были залогом плодотворности всего предприятия. Единственно они, и ничто другое.
Когда же в 1931 году Япония вторглась в Северо-Восточный Китай и за пять месяцев оккупировала территорию 580 тысяч квадратных километров, то была не «рядовая» военная экспедиция, коих в наш беспокойный век пруд пруди в Старом и в Новом Свете. Это была первая широкомасштабная проба стратегии молниеносных войн, очевидная и преднамеренная агрессия, как констатировала после семнадцатимесячного неспешного разбирательства специальная комиссия Лиги Наций, агрессия, сошедшая агрессору с рук[28]. Это был конец начала. Не пацифистов, штурмовавших на рубеже XIX–XX веков небо. Не лихой «большевистской» атаки на волчью мораль, прославлявшую силу и насилие[29]. Скончался вполне респектабельный и благопристойный эксперимент, ставивший задачей облагородить действительность, снивелировать ее контрасты.
Пакту Бриана-Келлога была суждена до обидного краткая биография. Он не стал предвестником лучшего будущего. Вовсе не потому, что его инициаторы ошиблись в выборе ориентиров. Недостало иного – воли участников превратить убеждение, если таковое присутствовало, в действие, с которым вынуждены были бы считаться агрессоры, любые противники добрососедского существования наций. Но когда в товарищах согласья нет, как заметил баснописец, если доброй воли дефицит или же она изводит себя в краснобайстве, если первое же проявление циничного правового нигилизма не карают, а пытаются от него откупиться чужими интересами, то латание прорех и пробоин терявшей остойчивость версальской системы ничем путным обернуться не могло. Разрыв обязательств делает партнеров по договору противниками, низвержение принципа освобождает место для его антипода.
Так и подмывает вбить гвоздь по шляпку: лучше никакого урегулирования, когда исчерпывающие гарантии недостижимы, – хотя подобный приговор заведомо неуместен и способен лишь ввести в заблуждение. Ни одно государство не отменяет своих внутренних законоположений – гражданских или уголовных, – сталкиваясь с их постоянным нарушением. Напротив, оно заботится о том, чтобы повысить эффективность юридических норм. Если без перехлестов, это только справедливо.
Декларация Великой французской революции 1789 года констатировала: «У естественных прав каждого человека нет иных границ, кроме тех, которые обеспечивают другим членам общества возможность пользоваться теми же правами. Эти границы определяет только закон». Перенесите сие познание на естественные же права каждой нации, примите за аксиому, что границы этих прав может определять лишь добровольно заключенный между равными договор, и будут подсечены корни большинства конфликтов. К сожалению, подобного не удалось сделать ни в ХVIII веке, ни после Первой, ни после Второй мировых войн. Политика на свой лад переиначивает философское отрицание отрицания. Здесь сила оплодотворяет силу, разнуздывает ее, вместо того чтобы стреножить и умерять.
Агрессией против члена Лиги Наций Китая другая страна – участник Лиги Япония застолбила не просто и не только собственную заявку на вседозволенность и произвол. Она провела межу между периодом, который с большими натяжками, но все же можно было счесть если не за мирный, то за послевоенный, – его апогеем и являлся пакт Бриана-Келлога, – и смутным временем вползания человечества в самый кровопролитный и разрушительный в его истории вооруженный конфликт.
Развязывание Второй мировой войны не было единовременным и одноразовым актом. Занавес поднялся не в 4.45 утра 1 сентября 1939 года[30]. Цепь событий, первым и, видимо, роковым звеном в которых стало вторжение Японии в Китай в 1931 году, а общим знаменателем – безнаказанность правоотступников, гнала развитие по наклонной чем дальше, тем с более крутой траекторией падения.
Агрессоры бросали вызов не одним прицельно избранным своим жертвам, но всему международному сообществу, цивилизации как таковой. Постфактум приходится с горечью записать: ни одно государство не в состоянии похвалиться, что оно оказалось тогда на высоте. Каждое из них несет свою долю ответственности за катастрофу, которую должно и можно было предотвратить.
Глава 2 Становление фронтов нового мирового пожара
Чем сложнее действительность, тем больше спрос на схемы. И чем незамысловатей схема, тем легче вселять веру в нее. Правительства и политики жируют на этой ниве. Первой жертвой их соперничества неизменно становится правда, особенно если она не поддается оскоплению или, хуже того, глаза колет. В век сплошной идеологизации правда лишена привилегии ходить в беспартийных.
Трудно отказать любому государству в праве вести свою национальную хронику событий. Несовпадения в углах зрения и акцентах не должны никого оскорблять и провоцировать на риторику. Пока удобства, потребные для самовыражения и самооправдания, не делают лабиринт, из которого давно пора выбираться, еще запутанней и безысходней.
Господствующая схема деления новейшей истории на главы гласит: Вторая мировая война открылась агрессией нацистской Германии против Польши. Эта схема – производное от гегемонистских замашек, от навязчивой мечты об «идеальном мире», вращающемся вокруг Альбиона. Как если бы речь не шла и не идет о глобальных явлениях, для которых неприемлем даже региональный подход, делающий не то что одну страну, а всю Европу пупом Земли. Эта схема рвет общую логику и ткань происходившего, прилагает разную шкалу мер и весов к различным жертвам одного зла – агрессии, подыгрывает идее: до какого-то момента, опять-таки определявшегося Лондоном, обхаживание агрессоров не было безнравственным занятием.
Обратимся к фактам. Они – упрямая штука. Фактам тесно и неуютно на угодных правителям орбитах. Факты понуждают исследователей не довольствоваться отрывным календарем, маркируя ход событий. Вопрос, когда, где, почему война непрошено ворвалась в чужие дома, совсем не академический. Ответ на него могут дать опять-таки факты, все факты, и ничего кроме фактов.
Где, когда и кем был упущен момент истины? В 1931 году, когда Квантунская армия, вторгшаяся в Китай, установила контроль над территорией, равной площади Франции? Или в 1933 году, после того как агрессор прихватил еще китайскую провинцию Жэхэ? Может быть, в 1935 году, с вторжением японских войск в Чахар и Хэбэй?
Государства, претендовавшие на почетное звание «миролюбивые», подверглись в 1935 году еще одной пробе: они приглашались определиться по отношению к нападению Италии на Абиссинию, в ходе которого фашистские войска под командованием маршала Бадольо применяли боевые отравляющие вещества против фактически беззащитного населения. Сколько «цивилизаторы» уничтожили людей, то неведомо. В войнах подобного типа подсчитываются подавленные «очаги сопротивления». Если для этого надо извести четверть или треть населения – не велика беда.
Лига Наций высказалась за санкции против агрессора. Англию и Францию удалось подвигнуть лишь на символические жесты. От нефтяного эмбарго, которое могло бы произвести впечатление на Рим, они категорически отказались. Мотив? Противодействие фашистской экспансии чревато опасностью «возникновения коммунистического правительства» в Италии и «коренным изменением расстановки сил в Европе»[31].
Не до конца ясно, разделяли ли в Вашингтоне британские страхи, да и не очень интересно. Существеннее другое. США получили разведывательные сведения о подготовке Италии к захвату Абиссинии в августе 1934 года.
Переполоха в Вашингтоне они не вызвали. Как-никак итальянцы и англичане сговаривались с 1919 года о расчленении Абиссинии, а в 1925 году Б. Муссолини и О. Чемберлен пришли к секретному соглашению, как сие без шума обделать. Сделка сорвалась из-за досадных публикаций во французской прессе. В январе 1935 года, заручившись поддержкой Лаваля, итальянцы попытались восстановить взаимопонимание с Лондоном. Британские консерваторы пошли навстречу фашистам. И опять журналисты вставили палки в колеса.
Государственный секретарь США К. Хэлл, зная, куда клонится маятник, направил 18 декабря 1934 года указание американскому поверенному в делах в Аддис-Абебе воздерживаться от каких-либо действий, способных поощрить правительство Абиссинии обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о посредничестве. Хэлл принял, очевидно, к сведению информацию – совет Буллита, посла США в Москве: «Как только (Буллит ссылался на мнение итальянского собеседника) Абиссиния осознает, что никто на свете не окажет ей помощи, она быстро потеряет свое преувеличенное представление о независимости и согласится с обоснованными требованиями Италии, в результате чего не придется применять силу»[32].
По поступлении известия: итальянские войска вторглись в независимую страну, портившую колониальный лик Африки, и, таким образом, правительство Муссолини порвало с пактом Бриана-Келлога, – президент США настоял на немедленном опубликовании прокламации о нейтралитете (согласно резолюции сената и палаты представителей конгресса от 31 августа 1935 года). Ф. Рузвельт не захотел дожидаться итогов обсуждения в Лиге Наций возникшей ситуации: нейтралитет загодя освобождал Вашингтон от моральной и политической потребности присоединяться к любым возможным антиитальянским санкциям и демаршам, коль скоро таковые прорисовались бы, или иным способом выражать сочувствие жертве агрессии.
Нейтралитет США ни в коей степени не сдерживал Германию, Италию или Японию. Там, где они напрямую не задевали американские интересы, калькулировали агрессоры, Вашингтон не будет правовернее папы римского.
Если японцам и итальянцам авантюры сходят с рук, то с какой стати немцам пребывать в нерешительности? Первоначальное введение частей вермахта в Рейнскую область приурочивалось нацистами к 1937 году. Контакты с Лондоном на высшем уровне[33], инертность Франции и США подсказали: не упускайте случай. 7 марта 1936 года «германские войска» вошли в запретную зону. И всего-то этих войск набралось около тридцати тысяч человек, из них Рейн пересекли, чтобы продефилировать в Аахене, Трире и Саарбрюккене, три батальона. На сорок восемь часов нацистским правителям достало волнений: неужто пронесет? «Европа наблюдала. Никто не действовал», – читаем мы в монументальном труде «Германский рейх и Вторая мировая война»[34].
А причин поразмыслить и сделать выводы было в избытке. Забрало поднято. Гитлер отбросил версальские поделки (хотя произнес это вслух лишь в октябре 1939 года). Был объявлен недействительным Локарнский договор 1925 года. Его гарантов – Англию и Италию – не удостоили даже презрительным взглядом. Рим погряз в Абиссинии и по уши завязался на поддержку Франко, готовившего мятеж в Испании. Бездействие Муссолини извиняло бездействие англичан, если допустить почти невероятное: Лондон в ином случае выполнил бы свои обязательства.
Аргументация разрыва Берлина с Локарно тоже не могла не настораживать: заключив союзный договор с СССР, Франция совершила враждебный шаг по отношению к Германии. В переводе на недипломатический язык это означало: попытки закрепить статус-кво на Востоке будут отзываться расшатыванием статус-кво на Западе.
16 июля 1936 года мятежные генералы поднялись против законного правительства Испанской республики. На стороне мятежников – Муссолини и Гитлер[35]. В критические для Франко дни конца июля 1936 года нацисты предоставили в его распоряжение для переброски из Марокко в Испанию двадцать транспортных самолетов «Юнкерс-52» с истребителями сопровождения. Возник первый воздушный мост в истории вооруженных конфликтов.
Располагая исчерпывающей информацией о далеко идущих планах Германии, Италии и их протеже Франко, демократы облачились в тогу отпетых ортодоксов. Англия и Франция ударили… «невмешательством» по проискам противников европейского мира. Республика отдавалась на растерзание двум самым экстремистским режимам континента. На испанском театре выковывалась ось Берлин-Рим и хоронилась коллективная безопасность. А чтобы Испания не затерялась за голенищем у немецких нацистов и итальянских фашистов или, еще хуже, чтобы ее не занесло влево, британское правительство тайно поддерживало… каудильо.
Недалеко от официального Лондона примостилась администрация Рузвельта. 7 января 1937 года Вашингтон со ссылкой на билль о нейтралитете отказался помогать правительству Испании. США вплотную подошли к признанию мятежников стороной в конфликте, которая может претендовать на определенные права, если не на равный с законным правительством страны статус. Полвека спустя президент Р. Рейган лягнул Ф. Рузвельта за «половинчатость» и осудил тех американцев, которые в составе интернациональных бригад приняли на испанской земле первый открытый бой с фашизмом.
В апреле 1939 года Гитлер впервые привел сводные данные о жертвах, коих к тому времени стоило свержение в Испании республики, – погибло более 775 тысяч человек[36]. Есть оценки и помрачнее – свыше 1 миллиона. Как бы то ни было, насилие, захлестнувшее Пиренейский полуостров, как в капле воды отразило будущую общеевропейскую трагедию. О каком «невмешательстве» можно было вести речь, когда человечество уже погружалось в войну во всей ее жестокой очевидности?
Так, между прочим, невзначай, из-за политической неуклюжести или лености и рухнуло версальское сооружение, хотя его архитекторы вроде бы предусмотрели контрфорсы и прочие хитрости почти на все мыслимые и немыслимые ситуации. Не вдруг и не враз. Вернемся на несколько лет назад.
Гитлер занял кресло рейхсканцлера 30 января 1933 года благодаря благоволению президента Гинденбурга, мощных финансово-промышленных групп (не только немецких) и голосам консервативно-национал-социалистского альянса в рейхстаге. Состав первого кабинета (всего-то три министра – представителя НСДАП), внешнеполитическая и военная программы излучали вовне преемственность: в главном все как прежде, только лучше.
В своей «Второй книге», то есть в 1928 году, Гитлер выделил значение, особенно на начальном этапе, правильной внешнеполитической тактики: нужен камуфляж, облегчающий «воссоздание германской армии. Только после этого жизненные потребности нашего народа получат своего практического выразителя»[37].
В 1933–1939 годах Германия израсходовала на перевооружение больше ресурсов, чем Англия, Франция и США, вместе взятые. А в 1933 году Берлин выдал не меньше этих трех держав авансов, что не замутит воды, что в служении миру он видит первейшую свою заботу и что в мыслях не держит ревизии границ в ущерб чужим народам.
В циркулярной ноте статс-секретаря МИД Германии Б. фон Бюлова (30 января 1933 года) отмечалось, что также на будущее Германия «не поставит свою позицию в отношении заграницы в зависимость от максималистских заявок того или иного правительства»[38]. Внешняя политика поднималась над идеологиями, что, по мнению авторов, могло настроить Москву отстраненней воспринимать оголтелый нацистский антикоммунизм на фоне инсинуаций новых германских правителей в адрес Франции, шедшей за главного врага[39].
У руководства СССР, помимо циркуляра Бюлова, имелось в избытке материалов для раздумий, не оставлявших места самообману. В мае – июне 1933 года советская сторона повела дело к прекращению военно-технического сотрудничества между Красной армией и рейхсвером[40]. Целесообразность сохранения этих связей, завязанных сторонами в начале 20-х годов, ставилась под вопрос еще в 1928–1929 годах. Полпред в Германии Н. Н. Крестинский, подчеркивавший важность данной сферы для общего тонуса межгосударственных отношений, и советские военные, упиравшие на свои специфические интересы, каждый раз добивались пролонгации того, что на тот период было достигнуто.
На встрече с генералом А. фон Бокельбергом 8 мая 1933 года К. Ворошилов, А. Егоров и М. Тухачевский констатировали, что отношения между вооруженными силами как государственными институтами не могут быть отделены от «большой политики правительств». Германская внешняя политика была охарактеризована ими как «двуличная»[41].
Англия, Франция и Италия восприняли прорыв Гитлера к власти по-своему. Надежд на спасение Версаля нацификация Германии, конечно, не прибавила, но она открыла перспективу устранения призрака Рапалло. Под этим кисло-сладким соусом Б. Муссолини преподнес британскому премьер-министру Р. Макдональду и его министру иностранных дел Дж. Саймону 18 марта 1933 года «пакт четырех». В соответствии с ним на континенте должна была быть установлена директория Англии, Франции, Германии и Италии. Остальным, включая СССР, отводилась роль статистов или объектов политики. США оставлялись вне европейских дел. Одновременно намечалось совершить частичное территориальное переустройство, утолив аппетиты Берлина, главным образом за счет поляков.
Спонтанная реакция англичан на проект от 18 марта малоизвестна. В общем за, детали теряются в тумане. В научной литературе и закрытых служебных бумагах, однако, присутствует точка зрения, что мысль о «квартете» была навеяна Б. Муссолини именно Р. Макдональдом, хотя свои заслуги премьер не счел нужным оттенять.
Французы идею приняли, но так округлили углы, что формально из текста пакта трудно было вычислить, против кого он замыслен. Лондон и Рим французские поправки приняли. Гитлера эта редакция тоже устраивала. И не потому только, что давала «спокойствие и воздух»[42], желанные на крутом вираже. Существенней было, что западные державы принимали его правила игры, что на третий месяц пребывания на вершине власти он получал то, в чем демократы полтора десятилетия отказывали веймарским правительствам.
В данном контексте возникает обширный каталог вопросов. Были ли Стиннес, Крупп, Шредер и другие политически активные представители германской промышленной и финансовой олигархии лишь казначеями и толкачами при передаче канцлерского кресла предводителю нацистского движения? Или вернее иная интерпретация: они отождествляли себя с программными целями этого движения, ставили на «сильную руку, готовую сокрушить всех и вся во имя „Германия превыше всего“»? Покров над этой сокровенной тайной был едва приподнят в 1945 году, чтобы вскоре задернуться плотнее и дольше, чем до скончания века.
Другой слывущий за крамольный вопрос: было ли выдвижение Гитлера в канцлеры сугубо внутригерманской интригой или ей, выразимся предельно мягко, сочувствовали демократы в ряде столиц по обе стороны Атлантического океана? Не секрет, что Стиннес и прочие авторитеты немецкой элиты с 20-х годов систематически обрабатывали своих партнеров на Западе, рекомендуя им нацистов в качестве приемлемой или даже оптимальной альтернативы «марксистам» любого толка. Архивы, что держат под запором в США, могли бы кое-что высветить конкретно и предметно. Пока же отметим: «пакт четырех» не экспромт. Он как идея долго вызревал в недрах демократической дипломатии и взошел в известной нам форме на антикоммунистических дрожжах.
Итак, 15 июля 1933 года «пакт согласия и сотрудничества» – первый международный акт с участием нацистской Германии – состоялся[43]. Нет, это не оговорка. Сути не меняло то, что Национальное собрание Франции не ратифицировало пакт, вернее – ввиду протестов общественности правительство воздержалось вносить документ на одобрение парламента, и юридически он не обрел силу. И без ратификации Гитлер был введен в круг руководителей великих держав. С тех пор ему ни в чем не перечили, его просили лишь не перегибать палку, по принципу – всему свое время. Стартовала «политика умиротворения». Состоялась проба пера, которым через пять лет будет выведено пресловутое понятие «Мюнхен».
«Пакт четырех» в этом смысле не эпизод, а знак качества, символизировавший переход Европы в другое состояние. Военным его не назовешь. Но мирным оно тоже уже не было. Вступала в активную фазу стратегия, призванная, как комментировал заметный в ту годину лорд Ллойд, «отвлечь от нас (англичан) Японию и Германию и держать СССР под постоянной угрозой». И не просто под угрозой. «Мы, – заявлял лорд, – предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширит корейско-маньчжурскую границу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири… Мы откроем Германии дорогу на Восток и тем обеспечим столь необходимую ей возможность экспансии»[44].
А как отзывались европейские новации в Вашингтоне? О безразличии говорить едва ли уместно. При усердном изыске можно обнаружить отсветы треволнений. Но доказать, что администрация Ф. Рузвельта распознала, куда поползла стрелка политического барометра со сменой вех в Берлине, не удастся даже самым горячим почитателям президента. Как и властью предержащей в Лондоне и Париже, американской политической верхушкой руководила не истина, а идеологически зауженное представление о ней. Планы окружения и ликвидации Советского государства не вызывали протеста, несмотря на состоявшееся в 1933 году дипломатическое признание Соединенными Штатами СССР и многообещающий обмен нотами при установлении официальных отношений[45].
Активизация агрессивных сил побудила Советский Союз выступить 29 мая 1934 года с инициативой в пользу превращения Конференции по сокращению и ограничению вооружений в постоянную конференцию мира, наделенную полномочиями оказывать государствам, над которыми нависла угроза, «своевременную, посильную помощь, будь то моральную, экономическую, финансовую или иную»[46].
Франция и ряд малых стран заинтересовались этой идей. Англия была против. Госсекретарь США К. Хэлл в беседе с поверенным в делах СССР в Вашингтоне Б. Сквирским заявил, что он «не может связывать себя определенной позицией за или против проекта». Якобы по причине сдержанного отношения американцев к участию в любой международной организации[47]. Ларчик имел менее замысловатый замок: сближение с Советским Союзом по крупному международному вопросу неизбежно приняло бы антибританский оттенок, ибо за большинством международных интриг стоял тогда официальный или неофициальный Лондон.
«Хоть святых выноси» – гласит русская идиома, характеризующая накал страстей. В 30-х годах святых в Европе надо было искать днем с огнем. Парижу в любом случае делать заявку на последовательность и твердость позиции было бы не с руки.
Заявление Ж. Поль-Бонкура советскому полпреду в Париже В. Довгалевскому: «Мы с Вами приступаем к великой важности делу, мы с Вами начали сегодня делать историю»[48], – звучало красиво без скидок на стремление оставить автограф на летописной ленте. Однако оно не передавало того факта, что параллельно Франция творила историю иного свойства с Берлином. Особенно после убийства Л. Барту.
Ставя 2 мая 1935 года подпись под франко-советским договором о взаимной помощи, преемник Барту П. Лаваль думал в последний черед о придании ему должного веса и эффективности. Для него договор с Москвой являлся разменной фигурой в шахматной партии с Германией[49].
В начале 1935 года Лондон развил очередную комбинацию в расчете на договоренность с Берлином. Англичане нащупали слабую струну Гитлера, сыграли на его желании не просто казаться, но и быть. Они были готовы, легализуя германский экспансионизм (под видом признания «естественного» и объяснимого ревизионизма), снять или снизить планку ограничений на перевооружение рейха. Ставили на то, что «потребность в экспансии толкнет Германию на Восток, поскольку это будет единственной открытой для нее областью, и, пока в России существует большевистский режим, эта экспансия не может ограничиваться лишь формами мирного проникновения»[50].
Гитлер не слишком рисковал, объявляя 13 марта 1935 года: германские ВВС существуют – и вводя три дня спустя всеобщую воинскую повинность. На заседании британского правительства, состоявшемся 8 апреля, после визита министра иностранных дел Саймона и лорда – хранителя печати Идена 25–26 марта в Берлин, нацистские акции были приняты к сведению, а про себя консерваторы условились: Англия не станет брать обязательств «не допускать нигде нарушения мира»[51]. Если и когда англичане сойдут с позиции невмешательства, то исключительно ради собственных интересов, а не из жалости к жертве агрессии. Альбион и альтруизм скверно сочетались.
Дальше – больше. 18 июня 1935 года состоялось подписание англо-германского морского соглашения. Заявку на то, что ВМС Германии должны равняться не менее 35 процентам британских, фон Нойрат обосновывал потребностью господствовать на Балтийском море[52]. Балтийский бассейн пошел с молотка как сфера германского влияния. Не было совпадением, что, конкретизируя географические координаты «жизненного пространства», на которое он вознамерился накинуть саван, Гитлер в последующие годы не упускал случая называть «Балтику».
35 процентов от состава британского флота – на большее производственных мощностей германских верфей в то время и недоставало – рассматривались сторонами сделки как промежуточное решение. В будущем не исключался – при наличии обоюдного согласия – паритет.
Излишний вопрос: имелся ли у Гитлера повод не унывать после фиаско с «пактом четырех»? Разлад между Лондоном и Парижем, отделение Вашингтона от европейских дел, смыкание агрессивных режимов, соединявшее разбросанные по планете очаги конфликтов в глобальный кризис, параллельный поиск главными капиталистическими государствами антисоветского вектора – какой более благоприятной среды могли желать нацистские правители в качестве отправного пункта своей программы захватов и завоеваний?
Не случайно, скорее закономерно подписание 25 ноября 1936 года Германией и Японией «антикоминтерновского пакта» (с непременными для договорной практики тех лет секретными приложениями)[53], дополненного неделей позже итало-японским договором. Почти логично, что на 1937 год пришлись перевод Гитлером экспансионистской программы, изложенной в «Майн кампф», на рельсы государственной политики и переход Японии к полномасштабной войне против Китая.
Еще в 1927 году премьер-министр и министр внутренних дел Японии генерал Танака Гиити разработал программу экспансии и борьбы за мировое господство («меморандум Танаки»): «Для того чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны и страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами… Имея в своем распоряжении все ресурсы Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, Архипелага, Малой Азии, Центральной Азии и даже Европы. Но захват в свои руки контроля над Маньчжурией и Монголией является первым шагом…» «В программу нашего национального роста, – говорилось в меморандуме, – входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии в целях овладения богатствами Северной Маньчжурии».
Нет прямых сведений о том, когда содержание «меморандума Танаки» стало достоянием Лондона, Вашингтона и Нанкина. Советское руководство располагало его текстом с 1928 года[54]. Добытые затем материалы о переговорах между японцами и их ставленником Чжан Сюэляном об образовании на территории Маньчжурии и Внутренней Монголии буферного государства под протекторатом Японии с обязательством маньчжурского правительства проводить агрессивную политику против СССР и МНР («Северная Монголия»), как и документальные сведения о параллельных и совместных действиях японцев и англичан по отрыву от Китая Синьцзяна с превращением его в плацдарм для борьбы с Советским Союзом, требовали не просто повышения элементарной бдительности, но принципиальной квалификации всех действий Токио в 30-40-х годах.
Удостоверившись в намерениях США, Англии и Франции не сходить с позиций созерцания, а где-то и потворства и заручившись обещаниями Германии и Италии оказать «активную военную помощь на случай, если в дальневосточном конфликте СССР окажется на стороне Китая»[55], Япония вторглась в Северный и чуть позже в Центральный Китай. Для пущего порядка японские милитаристы инспирировали «инцидент» с китайским военным персоналом у моста Лугоуцяо близ Пекина.
В осаде Шанхая участвовало 10 дивизий (около 300 тысяч офицеров и солдат) под командованием генерала Матсуи. За семь недель китайцы потеряли из числа военных 140 тысяч человек, расправа над гражданским населением описана следующим образом: из района площадью 4,5 квадратного километра не ушел никто, и еще месяцы город выглядел как после землетрясения[56].
После этого настал черед Нанкина. Гоминьдановские части практически не оказали сопротивления. Завоеватели, однако, отметили «победу» убийством около 200 тысяч человек – каждого второго жителя тогдашней китайской столицы.
На овладение всем Китаем японцы отводили 150 дней, примеряясь к графику разбирательства подобных дел в Лиге Наций и в коридорах власти Вашингтона, Лондона и Парижа. Токийские оракулы ошиблись дважды.
Правительство Китая обратилось в Совет Лиги Наций с просьбой о применении к Японии санкций. СССР поддержал эту просьбу. Англичане и французы добились того, чтобы «японо-китайский конфликт» был изъят из компетенции Лиги и передан на рассмотрение специальной конференции стран, «заинтересованных в положении на Дальнем Востоке». США и Советский Союз приняли статус «заинтересованных» и направили в Брюссель своих представителей.
Конференция заседала с 3 по 24 ноября 1937 года. Из докладов, в частности, военного атташе в Китае полковника Стилуэлла, правительство США знало о злодеяниях японских агрессоров. По словам заместителя госсекретаря С. Уэллеса, однако, США не чувствовали себя в состоянии провести различие между агрессором и жертвой агрессии и «на каком-либо основании сочувствовать жертве»[57]. Распространив де-факто эмбарго на поставки военных материалов в Испанию, Соединенные Штаты уклонились от применения положений закона о нейтралитете к Японии. Глава американской делегации Н. Дэвис предложил искать урегулирование на «приемлемой для обеих сторон основе». Не правда ли, снова призрак Мюнхена?
Возникший тупик вынудил прервать работу конференции «для дальнейшего изучения мирных методов урегулирования конфликта»[58]. Пауза и с ней японо-китайская война затянулись до сентября 1945 года.
Японская агрессия обошлась Китаю в 25–30 миллионов человеческих жизней[59]. Эти жертвы не принимаются в зачет при определении совокупной цифры потерь во Второй мировой войне. Так же, как не засчитывают погибших в Абиссинии. Про Испанию и говорить излишне.
По какому праву и по какой морали? Чтобы не навести пятен на незаходящее солнце западных демократий, не пошатнуть версию, что до 1 сентября 1939 года на Земле царил мир? Совершались «экспедиции», имели место «инциденты», «случаи». В китайском «случае» и в «абиссинской экспедиции» Гаагская и Женевская конвенции не соблюдались. Агрессоры не брали пленных. «Элементы» (так японцы окрестили сдававшихся солдат) тут же уничтожались.
«Никаких правил» значило «никаких запретов». Факт использования отравляющих веществ против Абиссинии выше приводился. В бойне, учиненной 3 апреля 1935 года у озера Ашанги, фашисты задействовали 140 самолетов, несших химические бомбы. В Китае агрессоры применяли ОВ свыше 530 раз. Число операций, где японцы «экспериментировали» на китайцах с бактериологическим оружием, известно только Токио и Вашингтону, но не раскрыто ими до настоящего времени.
Но ведь войны не было – стало быть, во Второй мировой войне не дошло до применения ни химического, ни бактериологического оружия. В заботе о беспробудной дреме совести опускаются еще кое-какие «мелочи»: выкуривание газами советских защитников катакомб в Одессе и Керчи, ликвидация до 1500 советских военнопленных в Освенциме, на которых химики из «И.Г.Фарбениндустри» и нацистские палачи «уточняли» убойные дозы «Циклона», душегубки, изуверски сплавившие убийство и транспортировку десятков (или сотен?) тысяч жертв.
3 ноября 1937 года открылась Брюссельская конференция, обсуждавшая «положение на Дальнем Востоке». 5 ноября Гитлер созвал совещание с участием военного министра Бломберга, главнокомандующих родами войск фон Фрича, Редера и Геринга и министра иностранных дел фон Нойрата. Если в памятной записке к четырехлетнему плану (август 1936 года) фюрер требовал: Германия должна быть готова вести войну с любым противником к 1940 году (Гитлер настраивался на возможность образования всемирного альянса против СССР[60]), – то на сей раз он по-крупному озадачил своих сообщников: «проблема германского пространства» подлежит решению к 1943–1945 годам. Не позже.
С кого начать? С Чехословакии и Австрии, и не останавливаться перед применением оружия. Когда? Выбор момента глава режима оставлял за собой – в зависимости от итало-французского вооруженного столкновения, в которое могла втянуться Англия. Попытки вычитать из «протокола Хосбаха»[61] (адъютант вермахта при Гитлере, присутствовал на совещании 5 ноября 1937 года), что крайний срок (1943–1945 годы) распространялся только на операции против Чехословакии и Австрии или относился в первую очередь к ним, поскольку Советский Союз, Балтика и Польша Гитлером не упоминались[62], не выдерживают критики.
«Проблему германского жизненного пространства» в толковании нацистов даже при изрядной дозе фантазии нельзя свести к перевариванию Австрии и Чехословакии. Подобное прочтение опровергается и последовавшими затем действиями фюрера. 21 декабря 1937 года был обновлен план операции «Грюн»[63] (предшествовавший вариант составлен 24 июня 1937 года). Принципиально новым элементом в подходе Гитлера являлась готовность к насилию и в том случае, «если та или иная великая держава выступит против нас»[64].
Предполагал ли Гитлер, что в стан его открытых противников перекочует Англия? Сомнительно, хотя пилюля, которую решили подсунуть Лондону, была трудноперевариваемой.
Статс-секретарь МИД Германии Э. фон Вайцзеккер изготовил 10 ноября 1937 года записку о политике в отношении Англии. В ней значилось: «Мы хотим от Англии колоний и свободы действий на Востоке. Англия желает от нас военного покоя, а именно: на Западе… английская потребность в спокойствии велика. Стоит установить, сколько Англия захочет заплатить за свое спокойствие»[65]. Гитлер набирался советов и мнений к назначенному на 19 ноября 1937 года приему заместителя британского премьера лорда Галифакса.
Правильнее всего было бы воспроизвести рядком немецкую и британскую записи редкостного коктейля из воркования и клекотания. Увы, тема диктует свои пределы. Поэтому только самое существенное.
В советских публикациях недавнего прошлого консервативный Лондон уж слишком бесхитростно пристегивался к национал-социалистской колеснице. Между тем англичане вели собственную сложную игру. Им (как Сталину в 1939 году) надо было оттянуть конфликт в Европе, используя паузу для пополнения своих арсеналов. Занятие небезопасное, но не без шансов на благополучный исход, считал Невил Чемберлен. «Я верю, – писал британский премьер, – что двойной политический курс – перевооружения и установления лучших отношений с Германией и Италией – проведет нас в целости через полосу угроз»[66].
Гитлер, заявил Галифакс (при встрече с фюрером в ноябре 1937 года), «совершил великое дело не только в Германии, уничтожив коммунизм в собственной стране, он закрыл ему путь в Западную Европу», поэтому Германия по праву может считаться «оплотом Запада против большевизма». На этой базе возможно «взаимопонимание» между двумя державами. От него не следовало бы отлучать Францию и Италию. Им надо было бы показать, что «германо-английское партнерство ни в коей степени не имеет антиитальянского и антифранцузского крена». «Хозяевами дома», решающими европейские дела (и заодно вопросы колоний), должны были бы выступать эти четыре державы. И только они.
Гитлер обусловил «взаимопонимание», в частности, аннулированием Францией и Чехословакией договоров о взаимной помощи с СССР, как осложняющих европейскую ситуацию и подстегивающих гонку вооружений. И словно малиновый звон в ухо Галифаксу: «Лишь одна страна – Советская Россия – может выиграть от всеобщего конфликта».
Нет-нет, никакого конфликта! Перефразируя слова Чемберлена[67], Галифакс заявил, что Лондон «смотрит в глаза (потребности) адаптации на новые обстоятельства, исправления прежних ошибок и на ставшие необходимыми изменения существующих реалий». «Мир, – по словам лорда, – не статичен, и никакие модальности перемен в существующих реалиях нельзя исключать». Единственная оговорка, которую делает правительство Чемберлена ради самосохранения: «Изменения должны были бы быть следствием разумных урегулирований».
Галифакс нарушил британскую традицию. Он не оставил собеседнику расшифровывать ребусы и продолжал: в европейском порядке, вероятно, «рано или поздно» произойдут перемены, которых желает Германия, конкретно – «в вопросах, касающихся Данцига и Австрии и Чехословакии». Англия имеет только одну заботу – «эти перемены должны состояться посредством мирной эволюции»[68].
Диалог Гитлер-Галифакс добавил нацистам уверенности, что с Англией Чемберлена удастся стакнуться. Берлину оставалось выстроить приоритеты – не идти ва-банк, поставив на кон собственную голову, пока довольствоваться тем, что само просилось в руки, проклиная про себя англичан за их старомодную замедленную приспособляемость к темпам современной жизни. Гитлер не обманывал себя и знал, что его стратегия молниеносных действий, построенная на предельном напряжении сил, не допускала серьезного сбоя, ибо любое поражение было бы началом конца. Но без замаха – все или ничего – нацизм не был бы нацизмом.
Китай, Абиссиния, Рейнская область, Испания, перевод европейских часов на военное время – взаимозависимость этих событий, происходивших последовательно и параллельно на различных континентах, обычно не акцентируется. Между тем налицо четкий ритм явлений, своеобразная периодическая система в действиях агрессоров, совпадения в замыслах, что касается методики шантажа, изоляции намеченных объектов экспансии и их захвата поодиночке. И еще – Япония, Германия, Италия успешно паразитировали вместе и порознь на хроническом недуге демократий – затмевавшем их рассудок антисоветизме.
Британский премьер Стэнли Болдуин в 1936 году отмечал, что в случае вооруженного конфликта Англия «могла бы разгромить Германию с помощью России, но это, по-видимому, будет иметь своим результатом лишь большевизацию Германии»[69]. На заседании кабинета 23 мая 1937 года Болдуин сетовал: «Мы имеем в Европе двух сумасшедших, коих ничто не сдерживает. Мы должны настраиваться на худшее»[70]. На худшее, ибо в рассматривавшихся вариантах не выкраивалось ниши, не уничижавшей достоинства СССР. Было бы «несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря советской помощи», – заявил Н. Чемберлен в апреле 1938 года[71]. Малую страну не захотели спасать, вняв также советам фон Бека и других фрондеров, занимавших заметные посты в Германии, которые считали операцию «Грюн» авантюрой и с риском для жизни раскрывали демократам глаза на слабости рейха. «Кто поручится, – возразил глава английского правительства, – что Германия не станет после этого большевистской?»[72]
На Темзе менялись премьеры, но не набор стереотипов, призванных сообщить достоверность «политике умиротворения», опускавшейся временами до подобострастия перед агрессорами. Поставить на место Муссолини – стало быть, подыграть в Италии «левым», защитить республиканскую Испанию – сродни потакательству «марксистскому заговору». Если фон Бек свалит Гитлера, то на свободу выйдут политические заключенные, а три четверти из них – коммунисты. Лучше дать поработать времени и нацистским заплечных дел мастерам.
Так ли в действительности страшились коммунизма, который к этому времени Сталин скомпрометировал больше, чем кто-либо еще? Советский диктатор превратил марксистскую теорию в бездушную схоластику, а партию – в безликую массу при некоем рыцарском ордене. Беззакония и репрессии Сталина унесли в СССР из жизни втрое или даже впятеро больше коммунистов, чем их уничтожили нацисты. Видели это на Западе?
В обильном литературном наследии У. Черчилля затерялась его книга под названием «Шаг за шагом» (1936–1939 годы), изданная в 1940 году в Амстердаме[73]. Это – сборник эссе, которые будущий премьер публиковал, начиная с 13 марта 1936 года, каждую вторую неделю. Комментарий от 4 сентября 1936 года касался московских показательных процессов.
Расправа над «отцами русской коммунистической революции», «архитекторами выведенной из логики утопии», «пионерами прогресса налево»[74] – повод темпераментному ненавистнику Советов для площадных ругательств, вместо некролога в адрес жертв Сталина. Это заслуживает упоминания постольку, поскольку позволяет выбрать верный размер при оценке в дальнейшем радиообращения Черчилля вечером 22 июня 1941 года и особенно его олимпийского спокойствия, чтобы избежать слова «безразличие», к страданиям населения СССР от нацистского нашествия.
Здесь же примечательней иное. «Как влияет этот забой на Россию – фактор силы в европейском балансе? – спрашивал Черчилль. – Данность в том, что Россия решительным образом отошла от коммунизма. Состоялся сдвиг вправо. План мировой революции, вдохновлявший троцкистов, разваливается, если не разрушен полностью. Национализм и некоронованный империализм России проявляют себя несовершенным образом, но все же как нечто более надежное. Вполне возможно, что Россия в старых одеждах личного деспотизма дает больше точек соприкосновения, чем евангелисты III Интернационала. В любом случае ее будет легче понять. Действительно, речь идет в меньшей степени о манифестации мировой пропаганды, чем об инстинкте самосохранения общества, которое боится острого германского меча, и имеет для этого все основания»[75].
Обратимся к запеву комментария: «Едва ли проходит неделя без того, чтобы не быть отмеченной мрачным, непоправимым событием, свидетельствующим о скатывании Европы в пропасть или о колоссальном давлении под поверхностным слоем». Ужасы Испании. Внутренний раздрай во Франции. «Гитлер объявляет количественное и качественное удвоение германской армии. Муссолини похваляется тем, что 8 000 000 итальянцев поставлены им под ружье… Повсюду в быстром темпе наращивается производство военной техники, а наука прячет свою бесчестную голову в нечистотах изобретений, служащих убийству. Единственно Великобритания, безоружная и беззаботная, предается иллюзиям безопасности». И с этой черчиллевской колокольни перечитаем его же вывод: заняв позицию антикоммунизма, Сталин сам создал предпосылки для сотрудничества с Россией.
Это не ремарка публициста, зарабатывавшего литературным трудом средства на пропитание. С 1936 года Черчилль чаще и громче, чем любой другой британский буржуазный деятель, выступал за военное сотрудничество в СССР как антитезу политике «умиротворения» и реальный шанс поставить заслон агрессорам, а затем поразить их.
Экземпляр сборника статей У. Черчилля, оказавшийся в распоряжении автора, уникален. И вот почему. В 1945 году у Г. Геринга, взятого американцами под стражу, появился досуг для чтения неслужебных бумаг. С карандашом в руках он основательно прошелся по страницам «Шаг за шагом». «Я прочитал книгу с большим интересом, – начертал бывший номер два нацистского рейха, – и извлек из нее пользу для моей защиты. Герман Геринг. 1945. Нюрнберг». Наибольшее число восклицательных и вопросительных знаков, подчеркиваний и прочих пометок выпало на комментарий «Враг слева».
В эссе У. Черчилля «Франция после Мюнхена» (4 октября 1938 года) Геринг выделял его заключительный абзац: «Преступно отчаиваться. Мы должны учиться находить в неудаче источники будущей силы. Наше руководство должно позаимствовать по меньшей мере долю духа того германского ефрейтора, который, когда все вокруг него превратилось в развалины, когда Германия, казалось, навечно погрузилась в хаос, не убоялся выступить против победивших государств и уже нанес им решительное поражение. Момент повелевает не отчаяние, но мужество и волю к восстановлению, и этот дух должен возобладать в нас»[76].
В конце книги под заголовком «Верные места» Геринг вывел: «С. 323 – пример немецкого ефрейтора». То ли решился подражать ему в упрямстве и после двенадцати гнуть свое, то ли вслед за «ефрейтором» увильнуть под занавес от ответа за содеянное, покончив дела земные самоубийством? Это не откроется никому.
Принцип неделимости международной безопасности, если в 1936–1937 годах он вообще котировался в западных столицах, плохо корреспондировал с деляческой схемой: во что обойдется реализация неудобного принципа, не дешевле ли беспринципность? И пока не унималась дрожь в коленках перед наглостью и силой соперника, в заначке держали чужие интересы, коими можно приторговывать для подстраховки собственных. Логика оппортунизма загоняла демократов в порочный круг двойных и тройных мер и весов, низводящих международное право в фикцию. Мир терял реальные временные, пространственные и веками наработанные моральные параметры. Идеологические шоры не дозволяли видеть дальше собственного носа.
Соверши Германия чудо, сумей она, реализуя гегемонистские концепции, обтечь Францию и умастить Англию, до общеевропейской войны могло бы и не дойти. Нападение на Советский Союз не в счет: нацисты выводили его за рамки обычного международного права. Это – конфликт не между государствами, а столкновение двух несовместимых идеологий. Устрой Гитлер подобный финт до агрессии против Польши, он пожал бы в среде демократов дружные аплодисменты.
Абстрактно-теоретическое допущение? Не скажите. Дитя предвоенных политических алхимиков, возмужав в переделках 1939–1945 годов, осело в документах администрации Трумэна под названием «война по идеологическим мотивам». Мирное сосуществование различных систем отрицалось как модус вивенди и для Западного, и для Восточного полушария. Необходимость считаться с кем-то другим представлялась излишней, когда под лавкой такой аргумент, как атомная монополия.
Непоправимым просчетом Токио было нападение на Пёрл-Харбор. Как признавался Ф. Рузвельт в беседе со Сталиным в Тегеране, не будь Пёрл-Харбора и объявления Гитлером войны Соединенным Штатам, американцы вполне могли бы остаться при своем «нейтральном» статусе.
До 1937 года включительно демократии приглашались состыковывать декларации и дела на примерах, как минимум, Китая, Абиссинии, Испании. Их уклонение от следования долгу не отменяло факта и реальности войны, а уверенность агрессоров, что возмездия не будет, лишь раззадоривала Японию, Италию, Германию, содействовала разрастанию зла. Репертуар театра абсурда, вход в который оплачивается жизнью миллионов, был производным от нежелания его постановщиков откликнуться на беду, постигшую ближнего или дальнего соседа. Сколько же держав, и насколько великих, должны признать войну войной, чтобы она в этом качестве была зарегистрирована в анналах истории? Иными словами: по каким критериям и кем расставляются мировые события по ранжиру?
С политиков спрос – как с козла молока. Людовик XIV изрек: «Франция – это я». Государственные мужи и дщери поныне исповедуют то же самое, правда, по большей части тайком или оснащаясь методом доказательства от противного: где нет меня, не может случаться ничего существенного.
Целесообразней поэтому обратиться к мнению ученых. Они, понятно, тоже только люди, и не каждый напрашивается в послушники правды. Некогда великолепно было сказано: пусть погибает Рим, но торжествует закон! От подобных высот наука и право удалены сегодня не меньше, чем от гибели Второго или Третьего Рима, пожалуй, даже больше.
Так что же творилось в земном доме до 1 сентября 1939 года? Наряду с вооруженными «экспедициями» против Китая, Абиссинии, Испании, были еще аншлюс Австрии, раздел и поглощение Чехословакии, присоединение к Германии Клайпеды (Мемеля), агрессия Италии против Албании, нападение Японии на Монголию, вылившееся в баталии на Халхин-Голе. Это – «локальные конфликты», поучают нас, ибо «мировые державы» держались от них поодаль. Позвольте, по крайней мере три, если не четыре тогдашние мировые державы уже вели войну. Сколько нужно было еще прибавить, чтобы количество перешло в качество? Чего недоставало Китаю, чтобы удостоиться державного статуса? С ним число воюющих составило бы пять. Консенсус среди историков, политологов, юристов отсутствует. Большинство склонно полагать, что «просто» войны стилизовал в «мировые» прежде всего вердикт Англии.
O вкусах не спорят. К гуманности взывать тоже бесполезно. Радетели прав человека издавна ведут двойную бухгалтерию при подсчете чужих и своих жертв. Миллионы погибших до 1939 года китайцев – это статистическая величина, как если бы их унесла эпидемия гонконгского гриппа. Примем допущение, что мировые войны пеклись на Темзе, как у чиновника Поприщина, рожденного фантазией гениального Н. Гоголя, луну делали в Гамбурге. Все равно неувязка получается. Англия объявила войну Германии 3 сентября. Если логика, прилагаемая к Китаю и другим, верна, то 1–2 сентября в Европе велась одна из банальных местных войн.
Серьезные исследователи не закрывают глаза на шаткость платформы, опирающейся на такую переменчивую величину, как эгоистический интерес. Наука есть дань фактам, а не капризам или моде, – всем фактам, в том числе самым несимпатичным. Иначе быть не может, поскольку история складывается из реалий, а не мнений, пусть самых сверхавторитетных.
А. Хилльгрубер толкует о нападении на Польшу как о «первой фазе европейской войны»[77]. Гитлер задумывал эту агрессию как «региональную войну» и, стремясь предотвратить вступление в нее Англии, заключил договор о ненападении со Сталиным. Следующая фаза «европейской войны» сопряжена, по Хилльгруберу, с поворотом стратегии Гитлера на Восток и подготовкой к вторжению в СССР. На период с 22 июня до 11 декабря 1941 года приходятся акции «всемирно-политического» масштаба – нападение Германии на Советский Союз и объявление ею войны Соединенным Штатам. Слияние европейской войны с восточноазиатским конфликтом в «мировую войну» (в лексическом смысле) произошло в результате внезапного японского удара по главной базе тихоокеанского флота США[78].
Видимость логики присутствует, но логики в чем-то искусственной. Почему германо-итало-японских союзных связей не хватало для сведения воедино географически разрозненных театров войны и потребовалось обязательно установление союзных отношений Соединенных Штатов с Англией, СССР и Китаем? Имело вовлечение Вашингтона в войну обратную силу для японо-китайского «конфликта» или последний превратился в войну только 7 декабря 1941 года?
Профессор Э. Еккель в общем разделяет методу А. Хилльгрубера: включение США против их желания в войну превратило ее из европейской в мировую. Он интерпретирует декабрь 1941 года как «перелом в войне» не в смысле капризов фортуны, а в силу «скопления всемирно-исторических событий, сконцентрировавшихся в несколько дней и позволяющих рассматривать их в сравнении и в глобальной взаимосвязи»[79]. Последняя фраза вроде бы намекает на комплексный, а не избирательный подход. Только от этого не делается понятней, что прежде мешало политикам, а ныне препятствует ученым осознать «глобальную взаимосвязь» явлений до смены Соединенными Штатами вывески «заинтересованная» на «воюющую» державу. Не был ли бы убедительней анализ под углом зрения не состава участников войны, а целей, которые преследовали государства-агрессоры, и не они одни?
Для ученых, в отличие от политиков, жертвы – не цифирь, и цель не может оправдывать средства. Наука обязана до последнего вздоха отстаивать принцип равноправия народов и высшую ценность человеческой жизни, без которых международное право и свобода человека – звук пустой.
Кто же все-таки прав: Генри Стимсон, министр иностранных дел в администрации Гувера (1929–1932 годы) и военный министр при Рузвельте и Трумэне, который четко отслеживает «путь во Вторую мировую войну… от железнодорожных рельсов под Мукденом до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки»?[80] Или Черчилль, квалифицировавший (пока не освоился с ролью премьера и не приступил к сотворению своей Второй мировой войны) интервенцию держав оси в Испанию и мюнхенский сговор о расчленении Чехословакии как акты войны? Или историографы, не просто продолжающие – с оговорками либо без оных – традицию «евро-» и «германоцентризма», но без зазрения рвущие связь времен и причин, когда и если без насилия над правдой их версии рассыпаются в прах? В самую пору припомнить завет античных греков: даже боги не в силах сделать небывшим то, что было.
12 марта 1938 года Германия насильственно[81] присоединила Австрию. Двумя днями раньше Г. Вильсон, эхо премьера Н. Чемберлена и его главный советник, довел до сведения Берлина, что Лондон будет «продолжать курс на соглашение с Германией и Италией». При этом, заметил англичанин, интересами СССР можно пренебречь: «В один прекрасный день господствующая там система должна исчезнуть»[82].
Привязка слов Вильсона к Австрии и Чехословакии была вне сомнений. «Исследовательский центр» Геринга расшифровал депешу МИД Франции своему посланнику в Вене: «Великобритания не готова призвать г-на Шушнига к сопротивлению». Вскоре центр перехватил донесения, из коих следовало, что французская «акция (в поддержку независимости Австрии) сорвалась только из-за того, что Англия выступила против» (так называемые «коричневые сообщения» 1183709 и 83722).
В Берлине, право, зря тратились на хлопотное и дорогое дешифрование. Чтобы постичь подноготную чванливых на публике тори, там вполне могли бы обойтись всем доступными протоколами британского парламента. Выступая в палате общин 24 марта 1938 года, Чемберлен высказал «суровое порицание» тем, кто разглагольствует о применении силы и таким образом чинит помехи деятельности дипломатии. Британское правительство не может заранее принять никакого обязательства в отношении района, где жизненные интересы Англии «не затрагиваются в такой степени, как это имеет место в отношении Франции и Бельгии».
Что-то должно было перепасть от британских щедрот Муссолини, дабы он невзначай не смазал «умиротворение». 16 апреля 1938 года Чемберлен и дуче подписали договор о дружбе и сотрудничестве, скрепленный английским признанием захвата итальянцами Абиссинии. Тут же и Франко получил из рук Чемберлена статус воюющей стороны. Путь к довершению распятия Испанской республики был расчищен.
Япония прощупывала слабые места обороны и характера СССР на Дальнем Востоке. Серию провокаций увенчал удар японского вооруженного отряда по советским погранзаставам у озера Хасан. Заранее подтянутые к месту событий регулярные части Красной армии отбросили «нарушителей» и сдержали приведенную было в готовность Квантунскую армию. А если бы инцидент не был столь скоротечным и Советский Союз проявил нерешительность? Безвестное озеро могло бы стать колыбелью необозримых осложнений.
Отдавали ли руководители Англии, Франции и США себе отчет в том, в какой огонь они подливают масло, что заигрывание с агрессорами совсем не салонное развлечение? Знали и понимали[83]. Но не зря сказано, что надежда умирает последней.
Германия была неудобным партнером. Неудобства эти, однако, могла с лихвой искупить ее «непримиримая вражда» к Советскому Союзу, только бы удалось ее подобающим способом канализировать.
В ноябре 1937 года Англия и Франция сговорились «уступить» Гитлеру Чехословакию, если аннексия Судетов совершится по-тихому. Установку – Англия не должна быть вовлечена в войну из-за Чехословакии – Чемберлен обосновывал без витийств: «Достаточно посмотреть на карту, и станет ясно – ничто из того, что в состоянии сделать Франция или мы, не может уберечь Чехословакию от нашествия немцев, если они на него решатся». «Поэтому, – продолжал Чемберлен 20 марта 1938 года, – мы не могли бы помочь Чехословакии. Она (помощь) стала бы на деле лишь поводом для начала войны с Германией. Об этом можно было бы подумать лишь тогда, когда имелась бы перспектива быстро поставить ее на колени. Я не вижу, однако, никакого шанса для этого. Поэтому я отказался от мысли дать какие-либо гарантии Чехословакии или также французам в контексте их обязательств по отношению к этой стране»[84].
Английский премьер обнажил именно эту свою позицию в палате общин 24 марта. Тем самым Чемберлен ответил на мартовское (1938 года) предложение советского правительства созвать конференцию СССР, Англии, Франции, США и ЧСР, чтобы противопоставить «большой союз» нацистским планам завоевания мира[85]. Тогда же Советский Союз подтвердил готовность выполнить свои обязательства перед Чехословакией, если аналогично поступит Франция. Чехословакия поддержала идею конференции. Франция, поставленная Лондоном перед дилеммой – СССР или Англия, выбрала последнюю, примкнула к курсу: Москва должна была быть изолирована.
Президент Рузвельт лавировал, сталкиваясь с изоляционистами у себя дома и нежеланием Чемберлена допустить «любое вмешательство Соединенных Штатов в европейские дела»[86]. Собравшись с духом, Вашингтон предложил созвать конференцию для «очищения» мировых проблем и выработки «правил» мирного международного сотрудничества.
Английское «нет» остудило порыв президента США. В конце концов, в Европе, по американским понятиям, не происходило ничего экстраординарного, ничего, что США не практиковали бы сами в Центральной и Латинской Америке, что в сознании вашингтонских верхов без осадка укладывалось в нормы классической демократии. Шел традиционный для империалистической эпохи передел сфер влияния, при котором малым и средним странам отводилось определенное место в свите того или иного сюзерена. Малых можно было перебрасывать из одной сферы в другую. В своем кругу – это в порядке вещей.
Летом 1938 года выразителями вовне американской позиции становились зачастую послы США в Лондоне, Париже и Берлине. В своей угодливости Гитлеру и стремлении вплести в будущий мюнхенский сговор антисоветскую прядь, в грубом давлении на Чехословакию они подчас оставляли в тени даже англичан. 26 сентября слово снова берет президент. В телеграммах Чемберлену, Даладье и Гитлеру он солидаризовался с демаршами Лондона и Парижа, имевшими смыслом заставить президента ЧСР Эдуарда Бенеша капитулировать, и призывал Берлин продлить переговоры. Особого обхождения удостоился Муссолини: Вашингтон просил его употребить все влияние, чтобы Англия, Франция и Германия не расчехлили орудий и закончили дело мировой.
Подражая великим, Польша спешила не сгинуть на политической обочине. Министр иностранных дел Ю. Бек обещал поддержать германские претензии на Австрию при том условии, что нацисты не станут возражать против польских планов в отношении Литвы. Взаимопонимание оформили заявлениями Бек – Герингу (январь 1938 года) и Геринг – польскому послу в Берлине Липcкому (март 1938 года). В предвидении контрдействий с советской стороны правители рейха предложили условиться о «польско-германском военном сотрудничестве против России»[87]. 17 марта Липскому было дано указание информировать Геринга о готовности правительства Польши учитывать интересы рейха в контексте «возможной акции против Литвы».
Предполагалось, что польские и германские войска войдут в соответствующие районы Литвы одновременно[88].
Антилитовскую затею сорвало советское предостережение. В отместку Варшава попыталась сколотить враждебный Советскому Союзу блок государств (западные соседи СССР плюс Югославия и Греция). Имелось в виду таким способом затруднить оказание советской помощи Чехословакии и Франции в случае их конфликта с Германией[89]. С румынами проговаривались варианты территориального раздела европейской части Советского Союза[90].
Варшавский экстремизм по отношению к ЧСР выводил из себя даже англичан. На их призывы к сдержанности поляки 22 сентября 1938 года высокомерно заявили Галифаксу, что Бек не видит причин обсуждать с Лондоном какие-либо мероприятия, которые он считает подходящими для обеспечения «справедливых польских интересов»[91].
Лукашевич, посол Польши в Париже, предрекал в беседе с послом США 25 сентября 1938 года, что кризис выльется в конфликт мировоззрений между нацизмом и большевизмом и с Бенешем как агентом Москвы. Польша введет войска, помимо района Тешина, также в Словакию, образуя общий фронт с дружественной Венгрией. Польский дипломат не исключал, что за этими действиями последует «русская атака» на Польшу, но поляки ее не страшатся. В течение трех месяцев Германия и Польша, хорохорился Лукашевич, обратят Россию в «дикое бегство»[92].
Лукашевич приподнял пелену, что окутывала (или должна была окутывать) тайну[93]: Варшава и Берлин обговаривали детали синхронных военных действий против Чехословакии и согласовывали линии разграничения сфер интересов. Поляки допускали, что при военном сценарии развития событий они могут взять на себя функцию забойщика.
Примем на минуту, что прогноз Лукашевича сбылся бы и Чехословакия стала объектом не косвенной, а открытой агрессии. Начальник генерального штаба германских сухопутных сил Л. Бек оппонировал тогда Гитлеру не потому, что был против «очищения дела Чехии» (слова генерала). К отдельной, ограниченной военной операции вермахт готов, но в европейской и, особенно, в мировой войне Германия, по оценке Бека, не имела шансов. На что рассчитывали польские политики и военные, пристегивая себя к рейху? На подарок судьбы? Или на то, что расползание войны на восток заставит Англию и Францию подстроиться под «победителей», коими они видели себя в союзе с Германией?
Гитлер постфактум находил, что Мюнхен испортил ему обедню – не позволил показать новый вермахт в деле. Возможно, суждения Варшавы в чем-то разнились, и не просто не нюансах. Но то, что Польша сама себе рыла яму, едва ли у кого вызывало сомнения. Она способствовала тому, что идея коллективной безопасности окончательно увяла. Обязательства Франции перед поляками не могли иметь большей практической ценности, чем перед чехословаками. Исчезновение Чехословакии с политической карты Европы делало стратегическое положение Польши в противостоянии Германии безнадежным. Смыкаясь с претензиями Гитлера к чехам и выдвигая под сурдинку собственные, польские правители напрашивались на предъявление аналогичных требований к самой Варшаве. И форма этих требований вряд ли могла быть иной, чем, к примеру, ультиматум Ю. Бека Праге от 30 сентября 1938 года, в заносчивости перехлестывавший мюнхенский диктат.
О самом мюнхенском сговоре выполнен ряд капитальных исследований. Поэтому выделим лишь несколько моментов, существенных для анализа позиций сторон и их концепций на будущее.
Первое. США, Англия и Франция заведомо знали об изготовке нацистов к захвату Чехословакии. Они располагали запасом времени, чтобы определить оптимальный способ противоборства, имея не в последнюю очередь в виду, что с поглощением ЧСР Гитлер связывал успех или неуспех всей программы строительства «тысячелетнего рейха».
Чехословакия выполняла роль соединительного звена западной и восточной систем безопасности – несовершенных, но все-таки реально существовавших. Единственная из малых и средних стран региона, ЧСР располагала крупным оборонным потенциалом и развитой военной промышленностью. Стратегическое положение страны даже превосходило по значению ее военные возможности. Преодоление этого барьера – в сочетании с аншлюсом Австрии – облегчало германское проникновение в Восточную, Южную и Юго-Восточную Европу, выход к Черному и Средиземному морям.
Второе. Мюнхен – не сработанная в спешке, а тщательно спланированная сделка. Заклание Чехословакии было не вынужденным, а осознанным выбором, навеянным идеологическими и прагматическими мотивами. Известный британский дипломат, парламентарий и публицист Г. Никольсон сделал 11 сентября 1938 года следующую запись о беседе с членом правительства О. Стенли: «Оливер согласен, что конфликт в действительности порожден вовсе не чехословацкой проблемой… „Видите ли, победим мы или потерпим поражение (в войне) – это будет конец всего того, что мы отстаиваем“. Не было сомнений, что „мы“ для него – класс буржуазии»[94].
Лучше, если удастся обойтись без войны. Но если не получится миром, да будет это война против СССР. Здесь «стержень политики умиротворения» во всех ее вариациях – от Китая и Абиссинии до Австрии и Чехословакии. В деталях Англия, Франция и США расходились. В главном торжествовали социальные инстинкты[95].
Западные «умиротворители», справедливо констатирует Б. Человски, руководствовались «не принципами демократии и права, а антисоветизмом». Англии претило участие «полуазиатской» России в европейских делах, и она была «исполнена решимости не допустить его»[96].
Третье. Демократии располагали набором возможностей для отпора нацизму. В союзе с СССР и даже без него. Но никак не против Советского Союза. Любой из вариантов предполагал верность долгу и твердость. В наличии не оказалось ни того ни другого. Желание снискать нацистскую «покладистость» было у Лондона столь велико, что он пускался в фальсификации чужой позиции, когда говорил от имени также Франции. В беседе с Гитлером 27 сентября 1938 года Г. Вильсон, чтобы «не раздражать фюрера», заменил слова «наступательные действия» в предостережении Франции на «активные враждебные действия». Даже смягченная редакция побудила Гитлера внимательней прислушаться к своим генералам и не манкировать, что входило в его первоначальные намерения, предложение Муссолини о «встрече четырех»[97].
Убедив себя, что скорый триумф в случае войны с Германией нереален, а война на измор слишком обременительна и социально опасна для Британской империи, Чемберлен все поставил на одну карту – на «компромисс» с Гитлером, даже если он по сути будет сдачей своих позиций. 1 сентября 1938 года Г. Вильсон известил поверенного в делах Германии Т. Кордта, что при достижении взаимопонимания между Англией и Германией мнениями Франции и ЧСР можно будет пренебречь. Урегулирование чехословацкого кризиса, посулил Вильсон, откроет Германии простор для экономической экспансии в Юго-Восточную Европу[98]. В письме от 13 сентября 1938 года королю Георгу VI Чемберлен акцентировал намерение превратить Германию и Англию в «два столпа мира в Европе и оплоты против коммунизма»[99].
В качестве «бастиона» против Советского Союза Третий рейх имел в глазах лидеров Запада преимущества перед Веймарской республикой. «Британцы, – читаем мы в одной из обстоятельных работ об антигитлеровском Сопротивлении в Германии, – втянулись в войну не против нацистского режима, а против его внешней политики. Они хотели мира не ради замены режима»[100].
Четвертое. Советский Союз не просто провозглашал решимость выполнить обязательства перед ЧСР, но и провел некоторые подготовительные мероприятия для этого. Согласно докладу К. Ворошилова на совместном заседании политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР 28 сентября 1938 года, советская сторона собиралась поднять 30 сентября в помощь Чехословакии 246 бомбардировщиков и 302 истребителя И-16. 29 сентября нарком отдал приказ о приведении в двухдневную боевую готовность авиационных, танковых и пехотных соединений западных военных округов. В вооруженные силы было дополнительно призвано 330 тысяч резервистов[101].
Сложнее с ответом на вопрос, до какого момента Сталин не исключал взаимодействия СССР и ЧСР в отсутствие решения Франции прийти чехословакам на помощь. В заключительной фазе кризиса советскому представителю в Праге Александровскому давалась строгая директива «прекратить навязываться в защитники». Но это случилось в самом конце сентября.
На протяжении весны и лета Москва не уставала разъяснять, убеждать, предупреждать Англию, Францию и США: Европа на пороге катастрофы. Выше упоминалось советское предложение о проведении международной конференции для выработки неотложных мер по борьбе с агрессией.
Англия моментально ответила отказом. Франция – под давлением Лондона – не отважилась произнести «да». Вашингтон оставил призыв СССР без ответа, чтобы, как заметит К. Хэлл в своих мемуарах, не разочаровывать советскую сторону формальным «нет»[102].
Уклоняясь от сотрудничества с Советским Союзом, американцы настраивали против него также ЧСР. В те самые дни, когда в августе 1938 года в Праге находился лорд Ренсимон, туда же прибыл посол США в Германии Хью Вильсон. Посол втолковывал пражским собеседникам, что Чехословакия может рассчитывать на «нормализацию» отношений с Германией, лишь отрекшись от договора о взаимной помощи с СССР[103].
Когда Муссолини не без благословения Вашингтона предложил созвать конференцию четверки, администрация Рузвельта нажала на все педали, чтобы, в частности, французы не вздумали тянуть и «спасительная возможность» не была упущена. Нет материалов, которые говорили бы о том, что Вашингтон одергивал польских руководителей, античехословацкой воинственностью досаждавших «умиротворителям». И как бы президент Рузвельт в душе ни относился к ликвидации Чехословакии, он принял мюнхенское соглашение безропотно.
Пятое. Демократии не заблуждались на тот счет, что мюнхенское решение не финал, а трамплин к расширению германской экспансии. Нацистский рейх был введен в круг «избранных» с их особым статусом в вопросах права и морали. Германию уже не увещевали, не умоляли не злоупотреблять оружием. Бряцать можно, но не стрелять. В любом случае не стрелять в своих.
Мюнхенская встреча завершилась подписанием еще одного документа: англо-германской декларации о ненападении, мире и консультациях. Французам пообещали то же самое, хотя и не сразу. Франко-германская декларация состоялась 6 декабря 1938 года и, по мнению Риббентропа, «устранила последние остатки опасности франко-русского сотрудничества». Ж. Бонне, соавтором декларации, владела другая идефикс. Информируя французских послов об итогах переговоров с главой нацистского дипломатического ведомства, он писал: «Германская политика отныне ориентируется на борьбу с большевизмом. Германия проявляет свою волю к экспансии на Восток»[104]. Еще бы: при подготовке декларации Париж обещал Берлину «не интересоваться восточными и юго-восточными делами»[105].
И Лондону, и Парижу, и многим в Вашингтоне привиделось, что игра стоила свеч, зажженных за упокой Абиссинии, Испанской Республики, Австрии, теперь Чехословакии. Бывший президент США Г. Гувер открыто заявлял, что, если не мешать германской экспансии, «естественно ориентированной на Восток», Западной Европе нечего опасаться Третьего рейха[106]. Оставалось, чтобы так же думали в Берлине.
Поначалу все как будто сходилось. Сразу после Мюнхена нацистское руководство занялось прощупыванием, насколько Варшава созрела для превращения сотрудничества, наладившегося во время аншлюса Австрии и ликвидации ЧСР, в военный союз против СССР. Возражений касательно движения на Восток от поляков не последовало. Они могли бы поддержать подобный разворот развития при условии, что вермахт обрушится на «большевиков» в обход территории Польши, например через Румынию[107]. Диалог МИД Польши с румынским правительством свидетельствовал о том, что почва для немецкого обращения к румынам имелась.
Встреча Риббентропа 24 октября 1938 года с польским послом Липским и его же беседы с Беком в Варшаве 6 и 26 января 1939 года прояснили одно. «Мы знаем, – доверил германский посол в Польше Г. Мольтке своему собеседнику, – что в случае германо-советского конфликта Польша будет стоять на нашей стороне»[108]. Это немало, но приступать к конкретному планированию операции на основании лишь «общего впечатления» затруднительно. Напомним: сосредоточение максимума сил на самых уязвимых для объекта агрессии исходных рубежах являлось непременной составной концепции блицкригов.
Шаблонное сочетание кнута и пряника дало нацистам богатый навар в Сааре и Рейнской области, Австрии и Чехословакии. Однако примененная к Польше – государству с иной историей и неповторимым политическим менталитетом – эта тактика забуксовала. Флирт Берлина с Варшавой и вовсе подостыл после оккупации (15 марта 1939 года) вермахтом того, что оставалось от Чехословакии.
Отвлечемся на время от Европы и, чтобы понять образ мыслей и суть поступков администрации США, поставим вопрос так: были ли руководители этой великой державы столь же отстраненно спокойны и терпеливы, когда в визир германских и японских агрессоров попадали американские интересы или то, что под этим подразумевается?
9 октября 1938 года Ф. Рузвельт обратил внимание министра внутренних дел Г. Икеса на возможность того, что Англия и Франция, утоляя колониальные претензии Третьего рейха, уступят ему часть своих владений в Западном полушарии, к примеру Тринидад и Мартинику. «Президент решил, – занес Икес в свой дневник, – если такое случится, к островам будет направлен американский флот, чтобы занять их»[109].
Еще в январе 1938 года Рузвельт потребовал и получил от конгресса один миллиард долларов на создание «флота двух океанов». Сразу после Мюнхена он добился выделения дополнительно 349 миллионов долларов для оснащения массовой армии. На секретном совещании с представителями родов вооруженных сил глава администрации выдвинул задачу создания ВВС в составе 20 тысяч самолетов (при ежегодном производстве 24 тысяч машин) с целью обороны Нового Света от Северного до Южного полюса.
Через дипломатические и другие каналы Вашингтон энергично противодействовал нацистскому проникновению в Латинскую Америку и участвовал в отпоре попыткам профашистских путчей, в частности в мае 1938 года в Бразилии, в сентябре того же года в Чили. Позднее слухи о подготовке про берлинского переворота в Уругвае и возможности с началом войны Германии против Англии и Франции высадки нацистских десантов в Бразилии вызвали разработку планов экстренного захвата французских, английских и голландских колоний в Вест-Индии и военного прикрытия Бразилии силами 100 тысяч военнослужащих. Профилактические меры принимались в отношении Аргентины, Чили, Боливии, Эквадора, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы и Мексики. Среди прочего готовилось занятие войсками США поселений европейцев в Латинской Америке. Действовала принципиальная установка, сформулированная Рузвельтом в апреле 1939 года: США применят силу для защиты неприкосновенности Западного полушария[110].
Эти скупые данные иллюстрируют, как двойственность в восприятии своего и чужого выливалась в раздвоение политики, в создание двух безопасностей, двух видений войны. Изобретение разных эталонов, прилагаемых к явлениям одного порядка, падает, таким образом, не на период после Второй мировой войны. Это – давний недуг, с комфортом обустроенное прибежище прагматизма. Прагматизма, воплощающего поверье, что без обязательств и без догмата живется проще и вольнее.
Захват Германией остатков Чехословакии был стоически принят Лондоном[111] и Парижем. Вашингтон также ничем не обнаружил своей озабоченности, если она имелась. Помощник госсекретаря США А. Берле заметил, что очередной акт нацистской агрессии «не очень обеспокоил» Рузвельта, – президент, как и многие англичане, возможно, надеялся, что германская экспансия на Восток облегчит положение Англии и Франции[112].
22 марта Германия оккупировала Клайпеду (Мемель), снова презрев англо-французские гарантии. 23 марта Румыния была вынуждена принять статус экономического вассала Германии и отдать в распоряжение последней всю нефть и сельскохозяйственную продукцию. И это проглотили, лишь поморщились.
Кто следующий? Данные, поступавшие в Москву, не оставляли сомнений в том, что приглашение англичан нацистскому рейху разряжать свою экономическую и военную энергию на востоке и юго-востоке Европы не было платоническим жестом, платой за одоленный страх. Франция потворствовала Лондону в этом занятии, США – сочувствовали. У. Буллит отмечал, что после Мюнхена англичане и французы желали, чтобы «дело дошло до войны между германским рейхом и Россией», к концу которой демократии смогли бы «атаковать Германию и добиться ее капитуляции»[113].
В публикациях на тему Мюнхена редко присутствует такой сюжет, как принесение Чехословакии «во имя мира» на жертвенный алтарь сказалось на темпах и объемах гонки вооружений в Европе. Провожая 30 сентября 1938 года министра иностранных дел Италии Чиано, Геринг просил передать дуче: завтра в Германии начнется гонка вооружений, какой мир еще не знал.
На заседании «имперского совета обороны» 18 ноября Геринг от имени Гитлера поставил задачу утроения производства военной техники и материалов, подчинения этой программе всех остальных планов и работ. Другие страны – Италия, Англия, Франция, Советский Союз – не остались в долгу.
Германия загоняла себя в порочный круг, объявила сама себе экономический блицкриг. Разорительные последствия милитаризации народного хозяйства, всех пор жизни могли быть сглажены только военной добычей, причем достаточно весомой и захваченной без отлагательств. Война становилась не только главным средством экспансии, но и бегством от банкротства.
В 1937 году Гитлер прикидывал, что к основным военным операциям, которые выведут Германию на искомое «жизненное пространство», он приступит «не позднее 1943–1945 годов». Затем контрольную дату перенесли на 1942 год[114]. Японцы находили наиболее удобным временным рубежом для развертывания операций по подчинению Индонезии, Филиппин и прочих территорий Южной Азии и Океании 1946 год: США обязались к этому сроку покинуть свои филиппинские базы.
Наряду с экономическими мотивами в пользу форсирования развязки говорили, по мнению нацистских правителей, растерянность и податливость западных держав, целиком утративших инициативу. Последние не были психологически и материально подготовлены к пробе сил с Третьим рейхом. Время превращалось в видениях Гитлера в важнейший, может быть, даже решающий фактор – либо немедленно, либо никогда. Действовать, пока риск еще кажется обозримым, а цель достижимой при нанесении внезапных концентрированных ударов по разрозненным, поникшим духом противникам. Назавтра чаша весов может качнуться в пользу соперника.
Не представляются бесспорными утверждения, будто Гитлер осенью 1938 года бесповоротно созрел для крутого виража: Германия подчинит себе Францию прежде, чем он, фюрер, отдастся призванию своей жизни – изничтожению России. Можно пространно, долго дискутировать, когда был поставлен крест на Польше как потенциальном союзнике в войне против СССР, а затем на расчетах снять «польскую проблему» посредством второго Мюнхена.
В июне 1939 года Геринг не случайно бросил в разговоре с британским послом Гендерсоном фразу: если бы Лондон подождал «хотя бы десять дней» с выдачей гарантий Польше, ситуация была бы совсем иной. Гитлер говорил о том же самом Чиано 12 августа 1939 года[115]. Схожее услышал Саймон, член британского правительства, от Гесса после не совсем благополучного приземления «заместителя фюрера» в Шотландии. По версии Гесса, поляки склонялись к принятию немецких условий и по Данцигу, и по коридору, но под влиянием Англии изменили свою позицию. Непосредственно перед войной Варшава опять собиралась уступить, но все рухнуло с заключением 25 августа англо-польского договора о взаимной помощи[116].
Оценки Гитлера, Геринга и Гесса подтверждаются французскими источниками. Накануне визита Ю. Бека в Лондон (апрель 1939 года) МИД Франции довел до сведения британской стороны «абсолютно достоверную» информацию о намерении польского министра провернуть следующую комбинацию: Варшава предъявит англичанам завышенные требования и после ожидавшегося их отклонения заявит: «У Польши были две альтернативы: склоняться к Великобритании или Германии, и теперь ясно, что она должна объединиться с Германией». Бек, судя по французской информации, мог принять как выход из положения «превращение [Польши] в вассала (возможно, главного вассала) нового Наполеона»[117].
Рассекреченные документы из английских архивов раскрывают лишь верхний слой контактов между британским и нацистским руководством в 1939 году. Часть материалов, попавших к англичанам после поражения Германии, постигла та же судьба, что и, к примеру, немецкие записи трех бесед Гитлера с лордом Бивербруком: они были уничтожены. Однако и ставших доступными документов достаточно, чтобы охарактеризовать потуги спустя годы и десятилетия придать стратегии и тактике обоих актеров, Гитлера и Чемберлена, некую по-своему понимавшуюся, но все-таки принципиальность, как желание переиначить историю, а не просто выдать желаемое за действительное.
Мюнхенский сговор, в котором воплотилась линия Чемберлена – искать «решение, приемлемое для всех, кроме России»[118], – ставил Советский Союз в исключительно сложное положение. Если консерваторы намеревались поступать так, как заявляли: «чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[119], – то Москве впору было вспомнить древнюю мудрость: своя рубашка ближе к телу. Все попытки найти взаимопонимание, условиться если не о совместных, то хотя бы о параллельных или одновременных акциях, стопорящих агрессию, ничего ощутимо полезного не принесли. Английские консерваторы держали СССР за разменную монету в сложных комбинациях, разыгрывавшихся Лондоном. Партнерских отношений с Советским Союзом страшились как черт ладана.
В политико-правовом смысле Советский Союз был отброшен в конце 1938 года к дорапалльскому положению. На случай нападения он мог рассчитывать лишь на себя. Франко-советский договор о взаимной помощи Париж положил на лед. Союзный договор с Чехословакией скончался вместе с этим государством. Отношения с Германией были полностью расстроены. Сталин исходил из того, что нацистский режим аннулировал договоренности Веймарской республики с СССР. Сплошной правовой туман окутывал советско-японские отношения, а при плохой видимости случается всякое.
Короче, в 1939 году судьба отвела Советскому Союзу играть черными, допытываться и гадать, когда грянет гром, какие театры в войне будут главными для Германии и Японии, кто из других держав и какую позицию займет после того, как умолкнут дипломаты и заговорит оружие.
Сталин был творцом или причиной большинства несчастий советского народа. Массовыми репрессиями и драконовскими мерами внутри страны он оттолкнул друзей республики Советов и наплодил массу новых противников. Диктаторская сущность сталинского режима дополнительно осложняла нахождение развязок противоречий, очищение международных отношений от идеологического балласта. Всякие попытки пригладить оценку преступных и ущербных деяний Сталина оскорбительны для его жертв и неуместны.
Но это не отменяет необходимости учитывать при анализе эволюции и кризисов 30-40-х годов другую сторону той же медали: защищая себя, свой трон, свою систему, Сталин умел демонстрировать редкостную изощренность, искусство виртуозной игры сразу на многих инструментах, целеустремленность, выдержку и хладнокровие. В этом ему помогала высочайшая степень информированности о планах и замыслах противников и потенциальных партнеров, которая обеспечивалась квалифицированной и успешной работой политической и военной разведок.
Некоторое время после Мюнхена звезды сходились как будто на том, что следующим на очереди в нацистском графике агрессий записан Советский Союз. В октябре 1938 года, однако, ведомство Риббентропа предалось изучению вариантов разыгрывания «русской карты» в германских внешнеполитических интересах. Самого министра в тот момент больше занимали плюсы разрыва отношений с СССР как приманки для вовлечения Японии в военный союз с Германией и навязывания Москве войны сразу на два фронта.
До сего времени не прояснено, кто лично инициировал поиск мысли в другом направлении – вместо разрыва, по возможности нормализация отношений с Советским Союзом: деятельный Шуленбург, германский посол в СССР, так называемая «русская фракция» в самом МИДе или кто-то со стороны, – тут чаще фигурирует имя Геринга. Без вспомоществления свыше не обошлось по меньшей мере при улаживании разногласий между МИДом и экономическими инстанциями рейха при выработке экономической оферты Москве. Промышленные фирмы, сверх головы загруженные выполнением задания фюрера по утроению производства вооружений, противились новым заказам.
Как бы то ни было, 22 декабря 1938 года в торгпредство СССР в Берлине поступило предложение – заключить правительственное соглашение, по которому советской стороне предоставлялся бы кредит в 200 миллионов марок для закупок немецкой промышленной продукции в обмен на обязательство Советского Союза погасить кредит в течение двух лет поставками сырьевых товаров.
11 января 1939 года постпред (посол) А. Мерекалов известил МИД Германии, что СССР готов вступить в соответствующие переговоры и приглашает немецких уполномоченных прибыть с этой целью в Москву. На следующий день Гитлер – во время новогоднего приема дипломатического корпуса – проявил повышенное «расположение» к советскому послу и тем подбросил пищу для спекуляций о его «серьезных» намерениях привести германо-советские отношения в порядок.
Публичный жест фюрера и кредитный зондаж пока предназначались больше Лондону, Парижу и Варшаве. Они должны были оживить «кошмары Рапалло» и сделать три столицы восприимчивей к лавинообразно нараставшим притязаниям нацистов. Именно так и истолковали британские эксперты сей эпизод, о чем свидетельствует специальное досье в архиве МИД Великобритании.
Пару недель слабо мерцавший огонек поддерживался в немецкой лампаде. Была запрошена советская виза для советника МИД Германии К. Шнурре. Он даже сел в поезд, направлявшийся в Москву, и был снят из него в пути следования, чтобы «не дразнить» поляков: Риббентроп занимался как раз их уламыванием и, если верить Гитлеру, Герингу, Гессу и Мольтке, не совсем безрезультатно. Дальше – затишье и повод сделать промежуточное замечание: инициатива «оживления» отношений с СССР принадлежала немецкой стороне и имела тогда сугубо прикладное назначение. Она должна была облегчить продвижение на совсем других направлениях и во враждебных Советскому Союзу целях.
Кочующее из книг в книги утверждение, будто советско-германский диалог открылся отчетным докладом Сталина на XVIII партийном съезде 10 марта 1939 года, вернее, двумя его тезисами, определявшими задачи в международных делах: «проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами» и «соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками»[120], – легенда. Ни в германском посольстве в Москве, ни в берлинском МИДе эти слова не привлекли особого внимания, хотя адресовались, конечно, также руководству рейха[121].
Осталась без комментариев принципиальная констатация: «Война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу действия на громадную территорию от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара; новая империалистическая война стала фактом». «Характерной чертой новой империалистической войны» являлось, на взгляд докладчика, то, что «она не стала еще всеобщей, мировой войной». Сталин вступал в противоречие со Сталиным, так как встык к этому утверждению шло другое: «На наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния». Одновременно в докладе отмечалось, что «неагрессивные демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом, и в военном отношении»[122].
Если искусственно не вырывать из контекста отдельные куски, то несложно установить, какой адрес был для СССР в тот момент предпочтительней. Может быть, поэтому или алогизмы бытия так повелели, но первыми откликнулись на намек из Москвы англичане.
18 марта 1939 года Галифакс в беседе с Майским и в тот же день британский посол Сидс на приеме у Литвинова поставили советскую сторону в известность о давлении Германии на Румынию и поинтересовались возможной позицией СССР в случае нацистского нападения на это государство[123]. Стартовали затяжные англо-советские, чуть позднее – англо-франко-советские контакты и переговоры.
Как и когда возникла легенда о нежелании СССР «таскать каштаны из огня» для Лондона и Парижа? Кому принадлежит авторство? Молотову. После подписания договора о ненападении между СССР и Германией нарком иностранных дел воспел панегирик «мудрости» и «дальновидениию» Сталина, будто бы зажегшим свет Берлину и Москве. В упоении свершившимся отказали осторожность и так необходимое не только на автостраде, но и в политике чувство дистанции. Дипломатия разродилась уродливым мутантом, но очень хотелось сделать его красавцем и сразу усыновить. Царедворец Молотов тут же произвел в посаженые отцы Сталина. До этого словоблудия на приеме в Кремле должно было истечь еще шесть долгих месяцев[124].
Германские правители повторно вытащили из колоды «русскую карту» лишь после того, как варшавская сирена переметнулась к британским приманкам. По получении от французов «абсолютно достоверной» информации о домашней заготовке Ю. Бека англичане подпалили поляку мосты: кабинет Чемберлена проявил несвойственную ему прыть и 30 марта 1939 года – еще до приезда варшавского эмиссара в Лондон – опубликовал одностороннее заявление о готовности оказать поддержку Польше, если она подвергнется нападению[125]. Неделю спустя заявление превратилось в польско-британский договор о взаимной помощи «на случай любой угрозы, прямой или косвенной, независимости одной из сторон». Сходные заверения Лондон дал затем Румынии и Греции[126].
Мотив прилива решимости Лондона – «не защита отдельных стран, которые могли оказаться под германской угрозой, а стремление предотвратить установление германского господства над континентом, в результате которого Германия стала бы настолько мощной, что могла бы угрожать нашей (британской) безопасности»[127]. Постоянный заместитель министра иностранных дел А. Кадоган признавал тридцатью годами позднее: «Конечно, в случае германской агрессии наша гарантия не могла обеспечить Польше защиту. Но он (Чемберлен) поставил себе дорожный знак. Он связал себя обязательствами, и в случае германского нападения на Польшу не могло быть больше мучительных сомнений и колебаний». Гарантии были, по выражению А. Кадогана, «ужасной игрой»[128]. И потому, что давали полякам ложную надежду, и потому, что Англия отдавала Варшаве решать, быть ли миру или войне, какой войне и когда. Поляки никаких обязательств перед Англией, по меньшей мере 30 марта, не брали.
Последнее, по-видимому, не казалось слишком важным. Декларация о поддержке Польши не была тождественной готовности воевать в поле за нее. На первом англо-французском штабном совещании в апреле 1939 года демократы условились держаться на начальной стадии войны с Германией (и Италией) «стратегии обороны». Из «наступательных» мер брались на заметку лишь такие, которые «вызывали бы дезорганизацию экономики противника, препятствуя дальнейшему ведению им войны» (блокада и т. п.)[129]. Ход мысли, родственный американскому, но при формальном объявлении войны.
Британские военные доказывали политическим руководителям, что «без немедленной и эффективной помощи со стороны России поляки смогут противостоять германскому наступлению ограниченное время… Заключение договора с Россией представляется нам лучшим средством предотвращения войны… Напротив, при срыве переговоров с русскими возможно сближение между Россией и Германией»[130]. В чемберленовской табели ценностей идеологическая чистота велась выше военных предосторожностей и выгод[131].
На смену дорожных знаков в британском политическом курсе Гитлер ответствовал приказом готовить вторжение в Польшу. 3 апреля В. Кейтель, согласно распоряжению фюрера, поставил перед командующими вооруженными силами задачу – заняться реализацией плана «Вайс» так, чтобы можно было приступить к операции в «любое время, начиная с 1 сентября 1939 года»[132]. Десять дней спустя Гитлер утвердил окончательный вариант плана, в котором, между прочим, записано:
«Политическое руководство считает своей задачей по возможности изолировать Польшу в данном случае, то есть ограничить войну боевыми действиями с Польшей.
Усиление внутреннего кризиса во Франции и вытекающая отсюда сдержанность Англии в недалеком будущем могли бы привести к созданию такого положения.
Вмешательство России, если бы она была на него способна, по всей вероятности, не помогло бы Польше, так как это означало бы ее уничтожение большевизмом.
Позиция лимитрофов будет определяться исключительно военными требованиями Германии.
Немецкая сторона не может рассчитывать на Венгрию как на безоговорочного союзника. Позиция Италии определяется осью Берлин-Рим»[133].
Несостоятельность четырех из пяти посылок, взятых за исходные, соперничает с самоуверенностью и самолюбованием. При прослеживании генезиса августовского (1939 года) расклада сил, однако, знаменательнее иное – 11 апреля Гитлер числил СССР среди своих противников.
Тем не менее именно в середине апреля германские дипломаты получили инструкцию: при первом подходящем случае основательно заняться тем, что фюрер называл «инсценировкой в германо-русских отношениях нового рапалльского этапа»[134], а статс-секретарь МИД Германии Э. фон Вайцзеккер – «ухаживанием за русскими»[135]. Примем еще раз к сведению, что Англия и Франция уже имели с Германией свои договоренности о ненападении.
5 апреля 1939 года М. Литвинов поручил послу А. Мерекалову посетить МИД Германии и потребовать, чтобы «представители германского командования в Чехословакии прекратили действия, препятствующие выполнению фирмой „Шкода“ советских заказов, выданных ей в апреле-июне 1938 года и частично уже оплаченных»[136]. Это указание конкретизировало представление М. Литвинова послу Ф. Шуленбургу от 18 марта 1939 года, которым в ответ на ноты посольства Германии от 16 и 17 марта фиксировалось непризнание Советским Союзом (в отличие от Англии, Франции и США) легальности актов, объявлявших чехословацкое государство несуществующим. Оккупация Чехии германскими войсками и последующие действия германского правительства обозначались Москвой как «произвольные, насильственные, агрессивные», как нарушающие политическую устойчивость в Средней Европе и увеличивающие тревогу среди народов[137].
А. Мерекалов был принят Э. Вайцзеккером только 17 апреля. Не из-за «малозначительности повода», который вел к нему посла (как трактуют тенденциозные историки), но по причине сложных процедур согласования с Гитлером линии поведения и необходимости, в числе прочего, вынести принципиальное решение: вступить в полемику с советской квалификацией аннексии Чехии или, намекнув на понимание утилитарных озабоченностей СССР, ввести в оборот набор идей, интересовавших Берлин. Высшее руководство санкционировало второй вариант.
Советская и немецкая записи беседы 17 апреля разнятся, и не в деталях. Советский посол не уловил и плохо отразил в телеграмме в Москву концептуальные особенности речений статс-секретаря. А. Мерекалова больше занимала информационная сторона дела[138]. Между тем центральный элемент позиции Э. Вайцзеккера состоял в установлении взаимозависимости экономического обмена и тонуса политических отношений. Статс-секретарь дал понять, что Советскому Союзу не удастся выстроить равно нормальные отношения с двумя державами – Германией и Англией кряду, тем более с учетом «ответственности» Лондона за напряженность в Европе.
5 мая К. Шнурре известил поверенного в делах Г. Астахова, что правительство Германии «положительно» решает вопрос о советских контрактах с фирмой «Шкода» на изготовление зенитных орудий и приборов управления огнем. Через двенадцать дней Шнурре сообщил Астахову, что немецкая сторона «положительно изучит возможность» оставления в силе на территории «протекторатов Богемии и Моравии» положений советско-чехословацкого торгового договора 1935 года.
20 мая В. Молотов, ставший к этому моменту наркомом иностранных дел, имел беседу с послом Ф. Шуленбургом по просьбе последнего. Посол сообщил о желании Берлина командировать в Москву К. Шнурре для «экономических переговоров». История с предыдущим командированием советника, однако, не забылась. Приписав немцам желание использовать «экономические переговоры» в каких-то играх, Молотов резко заявил, что для этих занятий Германии «следовало бы поискать в качестве партнера другую страну». По опыту ведения дел с Германией, отметил он, без создания политической базы нельзя разрешить экономических вопросов. На просьбу посла уточнить, что понимать под политической базой, нарком ответил, что «об этом надо подумать и нам, и германскому правительству»[139].
Ввиду нарочито холодной реакции на немецкий зондаж Шуленбургу было предписано проявлять «полную сдержанность», пока русские сами не подадут сигнал. Москва безмолвствовала. Следующий шаг опять исходил от Берлина.
30 мая Э. Вайцзеккер пригласил к себе Г. Астахова. МИД Германии, заявил статс-секретарь, вступил в контакт с советской стороной по распоряжению фюрера и действует под его наблюдением. Заметив, что политику и экономику разделить нельзя, Вайцзеккер затем, согласно немецкой записи, заявил: «России предоставляется в немецкой политической лавке весьма разнообразный выбор – от нормализации отношений до непримиримой вражды». В своем личном дневнике он отразил суть беседы в словах: «Германия вносит инициативные предложения и наталкивается на недоверие русских»[140].
В тот же день Шуленбург был извещен о выработанной новой тактической схеме розыгрыша «русской карты» – за исходную точку контактов выдавать советское ходатайство о предоставлении торгпредству в Праге статуса филиала торгпредства СССР в Берлине. Поскольку это ходатайство тянуло за собой ряд принципиальных моментов, в его рассмотрение включился имперский министр иностранных дел, который представил доклад фюреру: нормализация отношений возможна, но при наличии взаимной заинтересованности.
В мае-июне 1939 года на роль адвоката немецких попыток вызвать потепление в отношениях с СССР вышел министр иностранных дел Италии Г. Чиано. Первый его заход носил общий характер: граф подсыпал сомнений в искренности Лондона. «Англия будет тянуть с (англо-франко-советскими) переговорами, – внушал Чиано поверенному в делах СССР Л. Гельфанду, – и может настать момент, когда будет уже поздно и вы сами не захотите торопиться со вступлением в коалицию»[141]. 26 июня, реагируя на намек Л. Гельфанда, что за японскими провокациями на монгольской границе могут стоять Германия и Италия, Чиано с некоторой горячностью заметил: «Мы советуем японцам наступать только на английские и французские позиции. Более того, мы заявили в Берлине, что целиком поддерживаем план Шуленбурга». Граф пояснил, что Шуленбург агитирует свое правительство встать на путь решительного улучшения отношений с СССР и для этого рекомендует: 1) оказать содействие урегулированию японо-советских отношений и ликвидации пограничных конфликтов; 2) обсудить возможность предложить Москве заключить пакт о ненападении или, быть может, вместе гарантировать независимость Прибалтийских стран; 3) заключить широкое торговое соглашение[142].
Чиано почерпнул свои сведения не от Риббентропа или Гитлера, а в основном из донесений итальянского посла в СССР А. Россо. Ф. Шуленбург посвятил последнего в содержание своей беседы с В. Молотовым от 28 июня, что после доклада в Рим послужило поводом для заявления Россо при посещении В. Потемкина (4 июля): Италия считает «серьезным и искренним стремление германского правительства улучшить отношения с СССР». В свою очередь «итальянское правительство признает такое улучшение советско-германских отношений весьма желательным»[143].
28 июня Шуленбург нанес визит В. Молотову, чтобы «поделиться впечатлениями» от поездки в Берлин. Посол ссылался на такие «доказательства» доброй воли, как сдержанность немецкой прессы касательно СССР, заключение рейхом договоров о ненападении с Прибалтийскими государствами, готовность вступить в экономические переговоры с Советским Союзом. На отсутствие у Германии «злых побуждений» указывал, по Шуленбургу, тот факт, что она не аннулировала Берлинский договор о нейтралитете (заключен с СССР в 1926 году). Однако Москва, сетовал посол, не проявляет взаимности. Согласно советской записи, Шуленбург, кроме того, сказал, что «германское правительство желает не только нормализации, но и улучшения отношений с СССР» и что это заявление, которое он делает по поручению Риббентропа, «одобрено Гитлером»[144].
«План Шуленбурга» в передаче Чиано выглядел полнокровнее и в части дальневосточных событий привлекательнее, чем «путевые заметки» немецкого посла, изложенные наркому иностранных дел. Позднее итальянский информационный презент еще всплывет в ходе притирки советской и германской позиций. Пока же, как Шуленбург телеграфировал в Берлин, «бросалось в глаза недоверие» его советского собеседника, хотя в целом, по ощущению посла, Молотов держался «менее жестко», чем 20 мая.
На следующий день после беседы в НКИД Ф. Шуленбург получил указание: «сказано достаточно», впредь до поступления новых инструкций от политических бесед воздерживаться. Возникла пауза продолжительностью почти в месяц.
Паузы в политике – понятие условное. Берлин отнюдь не бездействовал ни в июле, ни раньше, ни позже. Он вел интенсивные переговоры с японцами и итальянцами о военном союзе, с англичанами о сбалансировании региональных и глобальных интересов, с поляками. Риббентроп сделал Варшаве «компромиссное» предложение: образовать германо-польский альянс для «совместного подавления Советской России» и отторжения Украины, которая подлежала полюбовному разделу между партнерами. Польские правители жались: Чемберлен и Галифакс, подбивая их к «мирному решению» проблемы Данцига и коридора, советовали вместе с тем не бросаться в объятия рейха[145].
Клубок запутаннейший: Лондон занят обменом мнениями с японцами и немцами, французами и поляками, греками и турками, американцами и русскими; Берлин перетягивает канат с англичанами, играет в кошки-мышки с поляками, ищет способы теснее привязать к себе японцев, не подчиняя, однако, свои планы стратегии Токио; Вашингтон в позе сфинкса; Москва выясняет отношения с англичанами и французами, переполнена недоверием к немецким посулам, одной ногой в войне с Японией. Как все разрешится? Это откроется в последний момент.
Именно на май-август 1939 года пришелся пик событий на реке Халхин-Гол. В кровопролитных сражениях, там развернувшихся, участвовали с обеих сторон десятки тысяч солдат при поддержке крупных сил авиации и танков[146]. Общие потери в живой силе сравнимы или превышают число убитых и раненых при завоевании нацистами Франции в 1940 году. Не случайно, что события на Халхин-Голе скрупулезно калькулировались в кратко– и среднесрочных планах агрессивных держав и их умиротворителей.
Посол Германии в Токио Э. Отт телеграфировал Э. Вайцзеккеру 7 июня 1939 года: «Вечером 5 июня послу Осиме (японский посол в Берлине) телеграфом направлена инструкция. В соответствии с ней Япония должна быть готовой к тому, чтобы автоматически вступить в любую войну, начатую Германией, при том условии, что Россия будет противником Германии»[147]. Аналогичного обязательства японцы на основе взаимности ожидали от Берлина.
Сообщение Отта подтвердил и дополнил рядом подробностей Рихард Зорге в донесении Генеральному штабу РККА 24 июня: последние японские предложения по военному пакту с Германией и Италией содержат следующие пункты:
1. В случае войны между Германией и СССР Япония автоматически включается в войну против СССР.
2. В случае войны Италии и Германии с Англией, Францией и СССР Япония также автоматически присоединяется к Германии и Италии.
3. В том случае, если Германия и Италия начнут войну только против Франции и Англии (Советский Союз не будет втянут в войну), Япония по-прежнему будет считать себя союзником Германии и Италии, но военные действия против Англии и Франции начнет в зависимости от общей обстановки. Если, однако, интересы тройственного союза потребуют этого, то Япония присоединится к войне немедленно.
«Согласно первому пункту, все японские силы будут брошены против СССР». Во втором и третьем случае Япония не выступит дальше Сингапура[148].
Доступные материалы показывают, что Берлин в это время весьма смущала формула автоматизма. Во-первых, подписание пакта, содержавшего такую формулу, могло немедленно превратить Германию в военного противника СССР, ибо от Токио зависело, как ранжировать события на Халхин-Голе: продолжать выдавать их за «инцидент», вызванный «неясностью» прохождения границы, или за «разведку боем», либо поднять ставки и союзническую помощь СССР Монголии превратить в казус белли. Во-вторых, Гитлер не был настолько высокого мнения о военном потенциале Японии, чтобы свою экспансионистскую программу (и без того авантюрную) обременять дополнительным риском – необходимостью взаимодействовать с вооруженными силами, которые в серьезных переделках себя не очень зарекомендовали.
Так или иначе, летом 1939 года японская концепция военного сотрудничества не устраивала нацистов, и они настроились на иной, чем привиделся Токио, план действий. В какой-то степени Япония даже обременяла этот план. Фюрер не хуже Шуленбурга[149] знал, что на испытательный стенд вынесено японо-германское согласие, но решил – в обход «антикоминтерновского пакта» – поставить японских «друзей» перед совершившимися фактами и, сверх того, вынудить их, адаптируясь на берлинскую стратегию, на время умерить агрессивность по отношению к СССР.
Перекрещивания дат в политике случаются, порой досадные и даже роковые. Но «соглашение Арита-Крейги» – под этим названием в международную летопись занесено совместное заявление правительств Великобритании и Японии от 24 июля 1939 года – не причислишь к хронологическим курьезам.
В разгар сражений на Халхин-Голе с более чем неясным прогнозом и в момент англо-франко-советских переговоров, имевших официальным назначением создание заслона агрессорам в Европе, Лондон фактически освящал захватническую политику Японии. Британское правительство, гласило заявление «соглашение Арита-Крейги», «полностью признает нынешнее положение в Китае, где происходят военные действия в широком масштабе, и считает, что до тех пор, пока такое положение продолжает существовать, вооруженные силы Японии в Китае имеют специальные нужды в целях обеспечения их собственной безопасности и поддержания общественного порядка в районах, находящихся под их контролем, и что они должны будут подавлять или устранять любые такие действия или причины, мешающие им или выгодные их противникам. Правительство его величества не имеет намерений поощрять любые действия или меры, препятствующие достижению японскими вооруженными силами упомянутых выше целей». Оно «разъяснит британским властям и британским подданным в Китае, что им следует воздерживаться от таких действий и мер»[150].
Странное заявление не по форме единой. Лондон брал всецело сторону Японии в ее агрессии против Китая. Или Крейги высказал какие-то оговорки, и Арита, идя на встречные подвижки, дал некие заверения? В тексте об этом ни слова. Может быть, существовало секретное приложение? Те, кому повезет, узнают об этом после 2017–2020 годов[151]. В том виде, в каком заявление известно, оно обладает лишь двумя признаками «совместности» – заголовком и подписями.
O «специальных нуждах» японских вооруженных сил в Китае, способах их «обеспечения» и «устранения причин», препятствующих названным силам в достижении своих целей, будет написано еще много книг. Здесь же надобно отметить следующее. «Полное признание нынешнего (на 1939 год) положения в Китае» было равноценно признанию также японского прочтения линий прохождения китайских внешних границ. Заявление могло пониматься так, что британская сторона перенимала японскую версию «инцидента» на Халхин-Голе, по которой не Квантунская армия вторглась в Монголию, а монгольский персонал при поддержке советских вооруженных сил незаконно отхватил часть территории Китая.
Отсутствие официальной реакции Лондона на вторжение в МНР, начавшееся нападением 11 мая 1939 года регулярных японских войск на монгольские погранзаставы в районе озера Буир-Нур (и двусмысленная позиция государственного департамента США)[152], наводило на грустные размышления. Тори приглашали Токио круче заворачивать на север. Чтобы сделать в глазах Гитлера более привлекательным вариант «дранг нах дер Советский Союз»?[153]
Июльскую паузу заполняли встречи и контакты доверенных представителей английского и германского руководства. Порядочный шум после проникновения соответствующих данных в прессу вызвали переговоры нацистского чиновника по особым поручениям К. Вольтата с советником премьер-министра Г. Вильсоном и министром внешней торговли Англии Р. Хадсоном.
Вольтату вручили документ, содержавший программу широкого сотрудничества по политическим, военным и экономическим «пунктам», одобренную, по словам Вильсона, премьером. Чемберлен предложил Вольтату даже личную встречу, от которой немецкий эмиссар уклонился ввиду отсутствия у него полномочий.
В политической области англичане предлагали совместный отказ от агрессии, как таковой, и взаимное невмешательство в дела соответственно Британского Содружества и «Великой Германии». В военной сфере Лондон интересовало установление определенных рамок при гонке вооружений на море, суше и в воздухе.
Экономическое сотрудничество могло бы включать образование обширной интернациональной колониальной зоны в Африке, открытие для Германии источников сырья, рынков сбыта промышленной продукции, урегулирование проблем международной задолженности, финансовое содействие «санированию» Германией Восточной и Юго-Восточной Европы. Хадсон обещал – при достижении согласия между Англией и Германией – предоставление последней «международного займа» до одного миллиарда фунтов стерлингов.
Конечная цель виделась в «широчайшей англо-германской договоренности по всем важным вопросам». Вильсон заявил Вольтату, что заключение задуманного Лондоном пакта о ненападении позволило бы Англии освободиться от обязательств по отношению к Польше и Румынии.
Вильсон заверил Вольтата в готовности Англии рассмотреть любые другие вопросы по желанию Германии. Определение способов обсуждения изложенной им программы Вильсон оставлял на усмотрение германского руководства, не упустив вместе с тем подчеркнуть значение режима секретности (о переговорах не должны знать лица, «враждебно относящиеся к установлению взаимопонимания») и фактора времени с учетом предстоявших осенью (14 ноября) английских парламентских выборов. Согласие Гитлера на переговоры, заметил Вильсон, будет рассматриваться как «признак восстановления доверия»[154].
С применением чуть другой лексики, но набором тех же понятий развивались контакты в мае-августе при участии шведа Вернер-Грена (владельца концернов «Электролюкс» и «Бофорс»)[155], Б. Далеруса, К. Буркхардта и других. И той и другой стороне было ясно: основа для обширной сделки налицо. Итальянцы не пересаливали, заявляя: «Никогда и никакая война не была более излишней, чем эта»[156]. Если абстрагироваться от иррациональных движущих пружин, которые могут быть могущественнее всей мудрости мирской и даже инстинктов.
Не нужно растрового микроскопа, чтобы распознать меру двоедушия официального Лондона. Не только при ведении дел с СССР, но и с французами, поляками, американцами. До соглашений, фиксирующих составные «совместной англо-германской политики», не дошло. Не из-за вялости консерваторов, группировавшихся вокруг Чемберлена. Гитлер счел, что железо разогрето недостаточно, чтобы заняться его ковкой. По меньшей мере в третий раз кряду он упустил случай сорвать банк: Галифакс в ноябре 1937 года вел дело к «генеральному урегулированию», Чемберлен в сентябре 1938 года напрашивался на «исторический союз» британского и германского рейхов, предложения Вильсона, санкционированные премьер-министром, имели летом 1939 года поддержку большинства консервативной фракции в парламенте.
Гитлер искал повода для войны – «компактной», как карманный линкор «Дойчланд», и скорой, приводящей в трепет любого противника. Войны, кончающей дома с сомнениями в «провидческом» даре и «несгибаемой» воле главы режима. 22 августа, обращаясь к военным, которых он созвал в Оберзальцберге, фюрер заявил: «Я боюсь только, что в последний момент какая-нибудь свинья предложит мне посреднический план». Это – не риторика, хотя неверно смешивать Гитлера-артиста и Гитлера – расчетливого прагматика. Где-то в конце первой декады августа – в канун англо-франко-советских военных переговоров в Москве, а затем за неделю до перехода вермахтом польской границы, после демарша Муссолини, – он заколебался.
Состав английской, отчасти и французской делегаций, способ их передвижения к месту военных переговоров с СССР на грузопассажирском морском тихоходе, специфика инструкций, данных адмиралу Драксу, выдаются чаще всего за показатели неуклюжести, порожденной неприязнью и неуважением к советскому партнеру, или за просчеты в определении приоритетов. Из поля зрения ускользают другие, решающие, взаимосвязи.
Восстановим хронологию. 18–21 июля Г. Вильсон, Р. Хадсон и видный деятель консервативной партии Дж. Болл плели кружева с К. Вольтатом. Англичане рассчитывали на скорый и положительный ответ на свои предложения. 23 июля Галифакс известил Майского, что его правительство принимает советскую идею вступить в военные переговоры, не дожидаясь окончания переговоров политических. Британская делегация будет готова отправиться в Москву «через 7-10 дней»[157]. Десять дней пролетели, от немцев никакой реакции, кроме служебного указания Вайцзеккера послу в Лондоне Г. Дирксену сообщить свое мнение «о переговорах с Вольтатом»[158].
Посол счел уместным, прежде всего, успокоить МИД Германии: в английских военных кругах отмечается «поразительный скепсис» в отношении предстоящих переговоров с представителями советских вооруженных сил. Англичан интересует главным образом возможность получить представление о действительной боевой мощи советских ВС. Этим объясняется состав британской делегации, в которой «все три господина являются фронтовыми офицерами», имеющими наметанный глаз для «суждений о боеспособности какой-либо части», но не подготовленными к ведению «переговоров специально по оперативным мероприятиям»[159].
В тот же день Дирксен направил Вайцзеккеру письмо – лестный аттестат британской программе. Отвечая на конкретный вопрос статс-секретаря, понимают ли англичане, что им придется отказаться от переговоров, особенно с Москвой, имеющих целью окружение рейха, посол докладывал, что это «ясно здешним руководящим лицам» – как в консервативной, так и в лейбористской партии[160].
Есть основания полагать, что через Тео Кордта англичане были поставлены в известность о запросе Вайцзеккера и сочли его за обнадеживающий знак. Новый тайм-аут – использование самого медленного из технически возможных способов приезда на московские переговоры с промежуточной остановкой в Ленинграде для осмотра музеев – являлся своеобразной форой британской дипломатии Берлину. И чтобы немцы не заблудились в догадках, Г. Вильсон пригласил Г. Дирксена 3 августа продолжить разговор, начатый с Вольтатом[161].
Сохранить в тайне встречи К. Вольтата с Р. Хадсоном, Г. Вильсоном и Дж. Боллом не удалось. Р. Ванситтарт, главный дипломатический советник при министре иностранных дел Англии, позаботился о том, чтобы сведения об обещанном Германии миллиардном кредите попали (23 июля) в газету «Дейли телеграф». Старания Геринга, Канариса, Вайцзеккера нейтрализовать влияние на фюрера Риббентропа от данного прокола не выиграли. Из британской программы, полученной через К. Вольтата, Гитлер почерпнул то, во что он хотел верить: в случае германо-польского конфликта Англия останется нейтральной[162], большой войны не будет. Но в порядке перестраховки несколько необычный ход он все же предпринял.
Гитлер пригласил 11 августа верховного комиссара Лиги Наций в Данциге К. Буркхардта и обратился к нему с просьбой о «доброй услуге» – помочь разъяснить Западу смысл происходящего в польско-германском противостоянии. «Все, что я предпринимаю, – подчеркнул он, – направлено против России; если Запад столь глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден сговориться с русскими, чтобы разбить Запад, и затем, после его поражения, собрав все мои силы, повернуться против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас никто, как в прошлую войну, не морил голодом»[163].
Буркхардт принял на себя эту «миротворческую» миссию. Несчастливые обстоятельства, сопутствовавшие организации визита комиссара на Оберзальцберг (выделенный ему личный самолет фюрера, закрытие данцигского аэродрома для других стартов и посадок и прочее), привели к раскрытию журналистами секрета и девальвации всей затеи.
Для чего понадобился Гитлеру Буркхардт? Почему не был задействован канал Вольтат-Вильсон или Дирксен-Вильсон, которые без растраты времени двинули бы проект вперед? Гитлеру было также известно, что Галифакс и Геринг поддерживали довольно оживленную личную связь. Им бы и взять быка за рога. Гитлер не всегда верил самому себе, не то что стопроцентно доверять своим приспешникам.
Сигнал Западу, похоже, не случайно приурочивался к дате начала тройственных военных переговоров в Москве. Не завязывайтесь излишне на Советы, и буря минует Запад. Отдайте Германии Польшу, и голова большевистского спрута будет преподнесена вам на жертвенном блюде.
«Отдайте Польшу» – не обязательно означало полный вооруженный разгром соседней страны. Гитлер отказывал Польше в праве на существование как активной или пассивной помехе для реализации цели жизни фюрера – завоевания и расчленения России. В качестве германского сателлита, обслуживающего планы восточной экспансии рейха, Польша могла бы в какой-то форме сохраниться.
К огорчению Буркхардта, ему не довелось стать primus inter – первым среди «умиротворителей», если допускать, что ему предназначалась более важная функция, чем доведение до нужных адресатов в нужный момент нужного сигнала. Нацистский правитель предпочел бы, чтобы его сигнал гулял по коридорам власти без огласки. Досадная огласка, однако, случилась.
12-13 августа Гитлер выжидал, не аукнется ли афера Буркхардта чем-либо примечательным. 14 августа запас терпения кончился. Фюрер поставил Геринга, фельдмаршала Браухича и адмирала Рёдера в известность о том, что он принял решение самое позднее через две недели атаковать Польшу.
Информация, поступавшая к советскому руководству, позволяла отделять сущность в поведении главных капиталистических стран от видимости, быть в курсе многих строго законспирированных обходных маневров и заговоров. Сотрудник внешнеполитической разведки Д. А. Быстролетов подобрал ключи к шифрам МИД Англии, Германии и Италии. Его коллега сделал читабельными для советской стороны шифртелеграммы МИД Японии. С помощью технических средств и через сеть агентов добывались данные из непосредственного окружения Чемберлена, Гитлера и прочих сильных тогдашнего мира, сведения о деятельности генеральных штабов, разведывательных и контрразведывательных служб.
Пример. Совещание у фюрера с высшим командным составом вермахта в декабре 1936 года. Нападению на Советский Союз должен предшествовать разгром Польши. Через короткое время сообщение об этом легло на стол Сталина. О решении 3 апреля 1939 года ввести в действие план «Вайс» доложено в Кремль десять дней спустя.
Утверждать, что Сталин знал все или почти все, было бы никому не нужным перебором. Еще меньше оснований говорить, что диктатор опирался на все доступные ему факты при вынесении своих решений. Зачастую поступки Сталина оказывались противоположными его же суждениям, которыми в минуты хорошего настроения он делился в узком кругу. Очевидно, этим отличаются все политические деятели, наделенные чрезмерной и бесконтрольной властью.
Итак, после того как Риббентроп, по собственному выражению, «запустил (28 июня) Сталину блоху в ухо», в советcко-германских контактах наступило затишье. Оно было прервано 24 июля приглашением Г. Астахова в МИД Германии формально в связи с приостановкой советских платежей по чехословацкому кредиту в «Банке живостенска».
Точность требует упомянуть, что за два дня до этого в Москве (без согласования с немцами) было опубликовано сообщение Наркомата внешней торговли относительно «возобновления переговоров о торговле и кредите между германской и советской сторонами»[164]. Переговоры еще были впереди, но Лондону давалось понять, что англичане не имеют монополии на расположение СССР и что на британские попытки соблазнить Германию экономически могут сыскаться контраргументы. Одновременно Берлин ставился в известность, что советское руководство снимает (или смягчает) предварительные условия (сначала создание политической базы, потом экономическое сотрудничество), вызывавшие недовольство Гитлера[165], и предлагает считать: торгово-кредитным переговорам дан ход.
К. Шнурре не счел нужным возражать против советской редакции сообщения для печати («пусть будет так, как получилось»), но просил на дальнейшее воздержаться от заявлений без их взаимного обговаривания.
Г. Астахов приглашался в МИД Германии для ознакомления с точкой зрения Риббентропа на возможные этапы нормализации отношений между двумя странами. По словам Шнурре, министр представлял себе этот процесс так: успешные торгово-кредитные переговоры – первый этап, нормализация по линии прессы, культурных связей и т. п. – второй этап, третий этап – политическое сближение. Неоднократные попытки германской стороны вступить в диалог на тему сию не находят отклика, сетовал Шнурре. В. Молотов уклоняется от конкретного обмена мнениями с Шуленбургом. Советское представительство в Берлине не отвечает на вопросы Вайцзеккера (от 30 мая), которыми «заинтересовался сам фюрер» (в действительности – заданные по указанию последнего). Если советская сторона, закончил Шнурре, еще не готова вывести обмен мнениями на уровень руководителей, то «кое-что могли бы сделать и сдвинуть вопрос с мертвой точки „люди и менее высокопоставленные“»[166].
Исполняя поручение Риббентропа, К. Шнурре пригласил Г. Астахова продолжить беседу в неофициальной обстановке. Встреча 26 июля, в которой участвовал также заместитель торгпреда Е. Бабарин, различно воспроизведена в немецкой[167] и советской записях[168]. Возьмем за базовый немецкий вариант.
Советник МИДа еще раз обосновал практичность трехэтапной схемы приведения отношений между Германией и СССР в норму. Политические отношения могли бы «продолжить то, что имелось (Берлинский договор 1926 года)», или быть реорганизованы «со взаимным учетом жизненно важных политических интересов». Однако предпосылка всему, подчеркивал Шнурре, – пересмотр советской стороной однозначно антигерманской позиции.
Г. Астахов заметил, что самое подходящее определение для политической ситуации, в которой находился СССР, – окружение. «Антикоминтерновский пакт» и политика Японии, мюнхенское соглашение, которое предоставило Германии свободу рук в Восточной Европе, включение Германией Прибалтийских государств и Финляндии, а также Румынии в сферу своих интересов расцениваются в Москве как усиление угрозы. В свете названных фактов Советский Союз не видит положительных перемен в политике Германии.
Поскольку другой реакции на новые немецкие соображения не последовало, 2 августа Г. Астахова пригласил к себе Риббентроп, чтобы заявить ему: налицо возможность переустроить отношения между двумя странами исходя из принципа невмешательства во внутренние дела друг друга и воздержания от политики, затрагивающей жизненные интересы сторон. Министр настойчиво проводил мысль, что между Балтикой и Черным морем нет проблем, которые нельзя было бы решить. «На Балтике, по словам Риббентропа, достаточно места для обеих стран, и русские интересы здесь не обязательно должны сталкиваться с немецкими. Что до Польши, то Германия наблюдает за событиями внимательно и хладнокровно, но в случае провокации расплата последует в течение недели». Министр намекнул на желательность взаимопонимания с Москвой в предвидении любого оборота. Министр заметил, что имеет «свою точку зрения на состояние советско-японских отношений» и не исключает здесь долговременного модус вивенди.
В информации об этой беседе, посланной Шуленбургу, опущены слова Риббентропа о контактах Германии с Англией и Францией. Глава гитлеровского дипломатического ведомства давал понять, что немцы в курсе советско-англо-французских переговоров и что от Берлина в известной степени зависит, куда в конце концов повернут британское и французское правительства[169].
3 августа Г. Астахова снова вызвали в МИД Германии. К. Шнурре имел задание министра «уточнить и дополнить» разговор, состоявшийся накануне. Содержание высказываний советника было доложено так:
(1) считает ли советская сторона желательным обмен мнениями по вопросу улучшения отношений и если да, то (2) может ли она конкретно назвать вопросы, которых желательно коснуться; германская сторона готова сделать это, (3) обмен мнениями желательно вести в Берлине, так как им «непосредственно интересуются Риббентроп и Гитлер»; просьба уточнить, кого советская сторона уполномочит на такой обмен мнениями, (4) поскольку «Риббентроп собирается через два-три дня выехать в свою летнюю резиденцию близ Берхтесгадена», он хотел бы до отъезда иметь ответ «хотя бы на первый пункт»[170].
O степени нетерпения, охватившего Берлин, свидетельствует предписание Ф. Шуленбургу немедленно запроситься на прием к В. Молотову и сдублировать разговор Риббентропа с Астаховым. Беседа в НКИД состоялась 3 августа и продолжалась полтора часа. Нарком, как докладывал Шуленбург, держался свободней, но не показал желания как-либо двинуться навстречу по сути дела. Он повторял, что по-прежнему отсутствуют «доказательства» доброй воли на немецкой стороне. Реагируя на призыв посла не ворошить прошлое, а подумать о нехоженых путях, В. Молотов увязал готовность сделать это по получении удовлетворяющих разъяснений по трем пунктам: «антикоминтерновский пакт», поддержка Германией агрессивных действий Японии, попытки исключить СССР из международных отношений[171].
4 августа Шуленбург телеграфировал в МИД Германии: СССР «преисполнен решимости договориться с Англией и Францией». В сообщении для Вайцзеккера от 14 августа посол уточнил, что главное для Советского Союза в данный момент – воздействие на Японию.
От большинства историографов лета 1939 года ускользал до последнего времени один немаловажный факт: разговоры на темы общего улучшения отношений между СССР и Германией велись Г. Астаховым на основе официальных публикаций о советской внешней политике и отрывочных информаций, поступавших в постпредство из Москвы. Инструкций перед встречами с Вайцзеккером, Шнурре или Риббентропом он не получал.
28 июля 1939 года В. Молотов телеграфировал Г. Астахову: «Ограничившись выслушиванием заявлений Шнурре и обещанием, что передадите их в Москву, Вы поступили правильно»[172]. На советском дипломатическом языке это означало запрещение и на будущее активно участвовать в диалоге, если из Москвы не поступит других указаний.
Пока установлено три случая пусть не слишком внятной, но все же ориентировки Москвой своего представительства по центральной на то время политической проблеме. 4 августа Астахов получил от Молотова телеграмму по поводу обращения Риббентропа: «По первому пункту мы считаем желательным продолжение обмена мнениями об улучшении отношений, о чем было мною заявлено Шуленбургу 3 августа; что касается других пунктов, то многое будет зависеть от исхода ведущихся в Берлине торгово-кредитных переговоров»[173]. Астахову не поручалось доводить это до сведения Г. Шнурре. Проведя, как сообщал поверенный в делах, «в духе… указаний от 4 августа» беседу со Шнурре[174], он вышел, строго судя, за пределы данных ему полномочий.
Между прочим, из уст К. Шнурре 4 августа впервые прозвучало понятие «секретный протокол» к кредитному соглашению, в котором фиксировалось бы «обоюдное стремление» улучшать германо-советские политические отношения. В. Молотов среагировал (это второй случай) предостерегающей инструкцией: «Считаем неподходящим при подписании торгового соглашения предложение о секретном протоколе». Мотив – «неудобно» создавать впечатление, что «договор, имеющий чисто кредитно-торговый характер… заключен в целях улучшения политических отношений. Это нелогично, и, кроме того, это означало бы неуместное и непонятное забегание вперед»[175].
Наконец, откликаясь на аналитическую записку Г. Астахова, в которой дипломат излагал свои предположения насчет интересующих немцев «объектов» возможных политических разговоров и привлекал внимание к опасности вероломства Берлина, В. Молотов отстучал еще одну лапидарную телеграмму: «Перечень объектов, указанный в Вашем письме от 8 августа, нас интересует. Разговоры о них требуют подготовки и некоторых переходных ступеней от торгово-кредитного соглашения к другим вопросам. Вести переговоры по этим вопросам предпочитаем в Москве»[176].
Г. Астахов истолковал сообщение как добро на проведение новых бесед. По своей инициативе он избрал себе в качестве партнера для разговора Г. Шнурре и время, 12 августа, чтобы известить немецкую сторону: советское правительство согласно на переговоры и местом их проведения избирает Москву[177].
Активность Г. Астахова, которую при предвзятом подходе было легко выдать за «нарушение служебной дисциплины», возможно, и явилась затем поводом для его ареста. Г. Астахова не выручили ни краткость записей бесед, ни делавшиеся им примечания, что в части улучшения отношений немецкие собеседники излагали соображения в форме «монолога» или что обмен мнениями носил «неофициальный характер». Следы этого незаурядного дипломата теряются где-то в бериевских лагерях.
Германской стороне, однако, и в голову не приходило, что на таком остром направлении, как противоборство двух диктатур, официальные лица в состоянии контактировать с кем-либо без предварительной санкции Центра. Правила, введенные в рейхе, механически переносились на советские государственные институты. За словами Г. Астахова (или его уклонением от ответов) собеседникам виделась режиссура Москвы, тогда как впору было задуматься: почему А. Мерекалова сняли с дистанции, едва начался марафон? Ведь в представительстве он один благодаря верительным грамотам имел полномочия без ссылок на поручения вещать за свою страну[178].
Сходному самообману предалось в 1940–1941 годах советское правительство. Оно принимало действия Шуленбурга, а также чиновников МИД Германии за осциллограф намерений и интересов Гитлера. Нужных коррективов не было внесено даже тогда, когда Сталин получил из независимых друг от друга и надежных источников информацию, что фюрер утвердил концепцию операции «Барбаросса». Подробней об этом ниже.
На основании доступных исследователям данных можно без оговорок констатировать, что весной и летом 1939 года СССР впустую тратил время и силы в попытках договориться с демократиями о создании общего фронта против агрессивных держав. При наличии минимума доброй воли прийти к согласию было можно, и сравнительно быстро. Но Англия, читаем мы в дневнике Г. Икеса, «лелеяла надежду, что ей удастся столкнуть Россию и Германию между собой, а самой выйти из воды сухой»[179]. Британское руководство нуждалось в поддержании видимости деловых переговоров, чтобы предотвратить сближение СССР и Германии[180].
Объявив 30 марта 1939 года о предоставлении гарантий Польше (в апреле они были оформлены как двухстороннее заявление), правительство Чемберлена до середины августа, несмотря на настояния Варшавы, под различными предлогами уклонялось от превращения деклараций в договорный союз. Если даже по отношению к полякам Англия избегала «перебрать» в обязательствах, то что следовало ожидать Советскому Союзу? Ответ на этот вопрос можно почерпнуть из некогда совершенно секретных протоколов заседаний британского кабинета той поры.
16 мая 1939 года кабинет рассматривал меморандум начальников штабов трех родов войск Англии. В нем, в частности, говорилось, что соглашение о взаимной помощи с Францией и СССР «будет представлять собой солидный фронт внушительной силы против агрессии». Незаключение такого соглашения было бы «дипломатическим поражением, влекущим серьезные военные последствия». Если бы, отвергая союз с Россией, Англия толкнула ее на договоренность с Германией, «то мы совершили бы огромную ошибку жизненной важности»[181].
На том же заседании лорд Галифакс, министр иностранных дел, определил свой подход так: политические аргументы против пакта с СССР перевешивают военные соображения в пользу такого пакта[182]. Позиция премьера Чемберлена была еще категоричней: он «скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами»[183].
Консерваторы сошлись на том, что прагматизм требует какое-то время продолжать поддерживать переговоры с Советским Союзом[184]. Лондон согласился в этом контексте на переход от обмена нотами к тройственному диалогу за круглым столом. Что касается Англии и Франции, однако, – на уровне послов. Приглашение, направленное советской стороной Галифаксу, принять личное участие в переговорах было отклонено с ремаркой Чемберлена: визит в Москву британского министра «был бы унизительным»[185].
Посол Англии У. Сидс и посланный ему в помощь из Форин офис У. Стрэнг получили задание тянуть время, избегая вместе с тем создавать впечатление, что Лондон настроен против соглашения. 4 июля кабинет, подводя промежуточные итоги, обсуждал за и против прекращения переговоров. Пришли к выводу, что дискуссии в Москве целесообразней не прерывать, но к соглашению дела не вести. «Наша главная цель в переговорах с СССР, – заявил Галифакс, – предотвратить установление Россией каких-либо связей с Германией»[186]. Возможность подобного поворота событий не исключалась. Военный министр Л. Хор-Белиша заметил в кругу своих коллег, что, «хотя это в настоящее время кажется невероятным, элементарная логика подсказывает возможность соглашения» Германии с СССР[187].
На Галифакса аргумент Хор-Белиша впечатления не произвел. На заседании кабинета 10 июля, где рассматривалась возможность, не оканчивая политических переговоров, открыть (опять-таки ради переливания из пустого в порожнее) «технические» военные переговоры, он повторил: «Начавшись, военные переговоры не будут иметь большого успеха. Переговоры будут затягиваться, и в конечном счете каждая из сторон добьется от другой обязательств общего характера. Таким образом, мы выиграем время и извлечем максимум из ситуации, которой не можем сейчас избежать»[188].
Канцлер казначейства Дж. Саймон держался еще циничней: «Нам важно обеспечить свободу рук, чтобы можно было заявить России, что мы не обязаны вступать в войну, так как мы не согласны с ее интерпретацией фактов»[189].
Если не удастся переиграть французов и перехитрить русских и придется ставить подпись под каким-то соглашением, то его текст должен быть максимально расплывчатым. На Темзе заранее для себя решили: выполнять союзнические обязательства, коль скоро понятий «союз» или «взаимная помощь» не удастся избежать, Лондон не станет. Это хуже двурушничества. Речь шла о попытке, держась на приличном расстоянии в сторонке, подставить партнера под удар. Из слов Саймона напрашивается вывод, что при наличии британской модели союзничества с СССР Лондон мог бы в случае германской агрессии против Польши даже воздержаться от объявления войны рейху. Было бы вполне достаточно, чтобы на начальном этапе повоевал один Советский Союз.
Поставим после изложенного вопрос: как должна была повести себя Москва, будучи в курсе замыслов Чемберлена и его министров? Что могла сделать советская сторона, дополнительно зная, с какими инструкциями после долгого хождения по морям прибыл на военные переговоры в Москву адмирал Дракc?
Напутствуя 2 августа адмирала, Галифакс поручил ему «тянуть с переговорами возможно дольше». «Дольше» расшифровывалось до конца сентября – начала октября[190], когда осенняя распутица (а не державы-противницы) спутает планы Гитлера. В порядке перестраховки – вдруг неопытного в политических хитросплетениях Дракса завлекут в рассмотрение сомнительных, на взгляд Лондона, тем – его направили на переговоры без всяких полномочий. Как если бы адмирал собрался на пикник, а не для координации действий на случай войны. Выданное ему на руки предписание гласило: «Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые могли бы связать нас при тех или иных обстоятельствах. Поэтому следует стремиться свести военное соглашение к самым общим формулировкам»[191].
Советская сторона располагала сведениями, что французское правительство придерживалось более конструктивной позиции. Видимо, с учетом также этого обстоятельства в Москве было решено – выложить козыри на стол и тем заблокировать пустозвонство[192].
Война стояла на пороге. 7 августа к советскому руководству поступила информация: «Развертывание немецких войск против Польши и концентрация необходимых средств будут закончены между 15 и 20 августа. Начиная с 25 августа следует считаться с началом военной акции против Польши»[193]. К англичанам аналогичный сигнал попал день или два спустя. Тем самым предупреждения, полученные Лондоном ранее от адмирала Канариса (через советника германского посольства в Лондоне Т. Кордта) и от итальянцев, обрели зловеще конкретный вид. Время для ворожбы и дипломатических хороводов истекло.
«Первые же 24 часа моего пребывания в Москве свидетельствовали, – писал Дракc, – что Советы стремятся к достижению соглашения с нами»[194]. Когда на заседании 15 августа Б. Шапошников сообщил, что СССР готов выставить против агрессора в Европе 136 дивизий, 5 тысяч тяжелых орудий, 9-10 тысяч танков и 5–5,5 тысячи самолетов[195], Драке доложил своему правительству, что в случае войны Советский Союз «не собирается придерживаться оборонительной тактики, которую нам предписывалось (ему) предлагать». Напротив, он «выражает желание принимать участие в наступательных операциях»[196].
Глава французской делегации генерал Ж. Думенк сообщал в Париж, что советские представители изложили план «весьма эффективной помощи, которую они полны решимости оказать нам»[197]. В записке МИД Франции на имя Э. Даладье отмечалось, в частности:
«Как сообщает наш посол в Москве, то, что предлагает русское правительство для осуществления обязательств политического договора, по мнению генерала Думенка, соответствует нашей безопасности и безопасности Польши… СССР предлагает нам, по мнению г-на Наджиара, вполне определенную помощь на Востоке, не предъявляя дополнительных требований на Западе, но при условии, что Польша своей отрицательной позицией не сделает невозможным создание на Востоке фронта сопротивления с участием русских сил… Предоставляя Польше гарантии, мы должны были поставить условием этих гарантий советскую поддержку, которую мы считаем необходимой»[198].
Почему же за день до этих обнадеживающих – для непосвященных – оценок адмирал Дракc в кругу своих коллег заявил: «Я думаю, наша миссия закончилась»?[199] К. Ворошилов поставил 14 августа перед партнерами «кардинальный вопрос»: смогут ли советские войска в случае нападения Германии на Польшу пройти через заранее означенные ограниченные районы (Виленский коридор на севере и Галиция на юге), чтобы «непосредственно соприкоснуться с противником»? Без положительного ответа на этот вопрос военная конвенция теряла смысл.
Правительства Англии и Франции не удосужились войти в контакт с Польшей на сей предмет до открытия московских переговоров и ни шатко ни валко прорабатывали эту тему до 17 августа, когда по предложению Дракса было условлено отложить следующую встречу трех делегаций до 21 августа. 19 августа, после трехчасового безрезультатного диспута французского генерала Ф. Мюсса и английского военного атташе с начальником генерального штаба Польши генералом Стахевичем и «компромисса», обговоренного с Ю. Беком (французы и англичане могут маневрировать в Москве так, как если бы перед поляками вообще не ставилось никакого вопроса)[200], не могло быть двух мнений: жребий брошен.
21 августа состоялось последнее пленарное заседание трех делегаций. Ввиду неясности по «кардинальному вопросу» – если быть точным, из-за полной ясности, что поляки категорически против любой договоренности, втягивающей их в сотрудничество с СССР[201], – дальнейшие переговоры становились беспредметными. К. Ворошилов предложил тайм-аут до момента, когда делегациям найдется сказать друг другу что-либо положительно новое.
Превратимся на мгновение в сверхоптимистов и примем модель: Варшава вернулась на землю и отложила до лучших времен мечты о походе на Берлин в ответ на нацистские угрозы. Как выглядело бы в реальности взаимодействие трех держав?
Советские военные предлагали выставить против агрессора, применительно к развитию ситуации, 70-100 процентов от уровня сил, вводимых в операции Англией и Францией. А если бы англичане и французы практически ничего не вводили? Вопрос. Директивы для советской делегации, одобренные еще 4 августа, исходили из того, что начиная с пятнадцатого-шестнадцатого дня мобилизации вооруженные силы договаривающихся держав должны были быть готовы к действию против главного противника. Как быть, если бы Лондон и Париж бежали от соприкосновения с противником месяц, другой, третий?[202] В свете последовавших событий вопрос куда как законный.
Крайне сомнительно, чтобы делегации Англии и Франции в любом варианте пошли на фиксирование контингентов по родам войск, а также районов и сроков введения их в действие. Допустим, они не сумели бы уклониться от подобных записей. Как, однако, они смогли бы выполнить взятые обязательства, когда к этому не готовились? Переговоры в Москве – это можно утверждать определенно – не сопровождались параллельной проработкой в штабах Англии и Франции оперативных планов, учитывавших поднимавшиеся делегациями военно-тактические и стратегические аспекты взаимодействия. В штабах исходили из того, что никаких договоренностей с СССР не будет.
«Странная война», что велась на Западе с 3 сентября 1939 года по 15 мая 1940 года, родилась не спонтанно. Она была частью заготовленной впрок стратегии на изматывание Германии и СССР. В прикидках западных военных заранее исключалась возможность «восточного» издания «странной войны» в случае германо-советского вооруженного столкновения.
Догадывались ли в Лондоне и Париже, что для Гитлера критическим моментом в его пасьянсах лета 1939 года было не заключение с СССР пакта о ненападении, а срыв договоренности трех держав о военном союзе?[203] Если Англия и Франция не договорятся с Советским Союзом, заявлял Гитлер, «я смогу разбить Польшу без опасности конфликта с Западом»[204]. Фюрер ринулся в польский поход без готовых планов операций на Западном фронте[205]. Неисправимо предвзятые или слепо наивные могут сопрягать это упущение с «инсценировкой Рапалло». Войны, в которых противоборствуют многомиллионные армии, требуют для подготовки несколько больше времени, чем куцый уик-энд.
19 августа Риббентроп передал итальянскому послу в Берлине Аттолико ответ фюрера на поступившее днем ранее послание дуче, которым германский союзник ставился в известность: Италия вести европейскую войну не в состоянии. Демарш Муссолини был предпринят не без воздействия Канариса и Вайцзеккера, питавших некоторую надежду, что «нет» Италии плану удара по Польше и тем самым фактическое обесценение оси может осадить Гитлера и снивелировать угрозу войны или хотя бы оттянуть ее развязывание.
В ответе Гитлера спрессовано его кредо:
(1) решение напасть на Польшу принято, и оно пересмотру не подлежит;
(2) польский конфликт останется локальным событием, поскольку Англия и Франция не рискнут напасть на ось;
(3) если эти державы тем не менее окажут военную поддержку Польше, то для оси вряд ли предоставится лучшая возможность, чтобы свести с ними счеты;
(4) война, даже если она разрастется, будет ввиду превосходства оси скоротечной[206].
Германо-советский обмен мнениями обрел с 15 августа осязаемые контуры. Но это пока диалог, а не переговоры. Окончательный выбор в Москве еще не сделан. Налицо неопровержимые доказательства того, что Англия и Франция не созрели для отношений, в которых учитывались бы интересы обеих сторон. Следовательно, реальный шанс на упреждение или сдерживание агрессии упущен.
Возникло уравнение со многими неизвестными: примут западные державы вызов нацистского рейха как фатальную неизбежность, считая, что они подготовлены к вооруженной схватке лучше, чем год назад, или они приведут в движении все рычаги, чтобы свершился «второй Мюнхен» опять без СССР и всецело против него?
Что выгоднее, положиться на судьбу? В считаные недели вермахт подомнет Польшу. Не займется ли фюрер походя решением так занимавшей его «балтийской проблемы»? Не использует ли он факт отказа Москвы от сделанного ей Берлином предложения заключить договор о ненападении как предлог для крупной провокации против СССР?
Или практичней, поступившись принципами и приняв за неизбежное огромные моральные потери, размежевать германские и советские интересы, как это принято в мире насилия, чтобы обеспечить себе паузу и преимущества государства, остающегося формально нейтральным?
Сталин знал или вычислял, что его нацистский пандан не закрыл на ключ дверь, через которую Германия и Англия могли бы прийти к взаимопониманию. 3 августа[207] Г. Вильсон предложил послу Дирксену новую встречу. Советник Чемберлена подтвердил, что, несмотря на досадные разглашения, все сказанное Вольтату сохраняет силу. Английская сторона ждет ответа на свои предложения и была бы глубоко разочарована, если бы Германия не продолжила того, чему положено начало. Создавшиеся из-за «нескромности Хадсона» трудности с повторным приездом Вольтата в Англию преодолимы: делегаты могли бы встретиться в Швейцарии или каком-либо другом месте.
Из слов Вильсона, докладывал Дирксен, вытекало, «что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель – соглашение с Германией». «Соглашение должно быть заключено между Германией и Англией; в случае, если бы было сочтено желательным, можно было бы, конечно, – сказал Вильсон, – привлечь Италию и Францию»[208].
Не покладая рук трудился на англо-германское согласие британский посол в Берлине Н. Гендерсон. Ему ассистировали швейцарские, шведские, американские представители[209].
Об афере Буркхардта уже говорилось. Гитлер, согласно стенограмме швейцарца, был 11 августа готов на немедленную встречу с британским деятелем «формата Галифакса». Приемлемого для себя собеседника он видел в маршале Айронсайде: наслышан о маршале хорошего, к тому же говорит по-немецки (стало быть, можно обойтись без услуг переводчика). Фюрер просил Буркхардта известить об этом Лондон[210].
Распутье, на которое нацистский предводитель к 20 августа загнал Германию, сводилось к стратегической дилемме – либо форсировать начатый весной «русский гамбит», либо придать второе дыхание «Мюнхену». Геринг, называвшийся среди кандидатов в партнеры Сталину и Молотову по переговорам, отвел этот вариант и предложил командировать в Москву Риббентропа, который лучше владел темой как один из сочинителей «инсценировки Рапалло». Себя Геринг оставлял в резерве, если надо будет сговариваться с англичанами. На Москву примеривали еще министра без портфеля X. Франка, сподвижника Гитлера по партии, но его кандидатура тут же отпала[211].
21 августа на старте в Темпельхофе стояли «Локхид-12А» британских спецслужб, который должен был доставить Геринга на тайную встречу с Чемберленом и Галифаксом в Чеккерсе, и личный «юнкерc» фюрера, выделенный Риббентропу для полета в советскую столицу. Кто первым ляжет на крыло, какой курс – на Москву или Лондон – будет взят? От этого решения зависело, каким маршрутом пойдут дальше Европа и с нею весь мир.
Глава 3 «Завтра была война»
Так назывался фильм по повести Бориса Васильева, правдиво и образно воспроизведший средствами искусства мысли и чувства простых советских людей перед потрясшей страну до основания нацистской агрессией. «Завтра была война» – эти три слова, наверное, точно передают состояние Европы в любой день после 20 августа 1939 года[212].
Вермахт занял исходные позиции, чтобы раздавить Польшу, прежде чем кто-нибудь поспеет ей на подмогу. То, что должно было бы сплотить потенциальных участников антинацистской коалиции, – нависшая над ними совместная угроза – на деле усугубило их разъединение. СССР, Англия, Франция и Польша передали потомкам опыт того, как общее сникает перед частным, жизненно важное перед, по крупному счету, ординарным. Различия в реальной уязвимости можно было смягчить, образовав союз равноправных наций, принявших равновеликие и адекватные вызовам агрессора обязательства. Но эти различия превращались в вещь в себе при назойливых попытках выменять райский сад на яблоко, да еще с червоточиной, понудить советского партнера стать прихвостнем чужих интересов.
И в XXI веке, наверное, не улягутся диспуты о том, двинул бы Гитлер войска против Польши или поостерегся рокового шага в случае возникновения англо-франко-советского альянса. Заявлениям фюрера противостоят слова отдельных дипломатов, военных, политиков, главным образом из недовольных срывом нового, расширенного издания Мюнхена или полагавших, что Гитлер изрядно переплатил Сталину за обещание не мешать разделаться с Польшей. Можно также заставить Гитлера давать показания против Гитлера, особенно если задаться целью сделать советского диктатора ядром коловращения.
Отрицать, что выпадение Советского Союза как вероятного противника Германии облегчило Гитлеру его предприятие против Польши, равнозначно тому, чтобы биться головой о стену. Облегчило и упростило. Утверждать, однако, что без договора о ненападении с СССР и секретного протокола к нему фюрер перевоплотился бы в агнца, еще большее насилие над фактами.
Как Лондон, так и Берлин в течение восьми месяцев 1939 года занимались, по сути, одним и тем же. Ни нацисты, ни консерваторы не помышляли заполучить Москву в союзники. Не допустить, чтобы СССР встал на сторону соперника, сделать его в надвигавшихся событиях наблюдателем – интересовало именно это, особенно в дебюте и миттельшпиле. Как не допустить? Наряду с совпадениями, тут проступают и разночтения.
Оба, Гитлер и Чемберлен, ставили на выигрыш часов, дней, недель. Назначая в апреле операцию против Польши «не позднее 1 сентября», Гитлер пускался вперегонки с погодой и подставлялся. Непредсказуемость, считал британский премьер, поубавит нацистскому руководителю спеси и выбьет из графика план «Вайс». Неопределенность – вот что должны были излучать из Москвы вовне тройственные переговоры. Оттянуть развязку кризиса до октября – и осенняя слякоть не хуже линии Мажино сдержит вермахт, а Лондону подарит новый шанс уладить «недоразумения» с Германией без пресса времени и по-семейному.
Гитлера британская тактика устраивала, но по иным, естественно, мотивам. Берем сверхоптимальный вариант – три державы договорились между собой и урезонили Варшаву. Гитлер, однако, остался бы при решении, сообщенном 19 августа Муссолини, атаковать Польшу, невзирая на ход и исход московских переговоров. Затягивание тройственных переговоров, игнорируя час х, было тождественно срыву координированных контрмер со стороны Англии, Франции, СССР в начальные, решающие дни войны.
Как встретили бы агрессию Англии, Франции и с ними СССР? Во всеоружии планов, отводивших на бумаге 15–16 дней для мобилизации, прежде чем их армии вступят в соприкосновение с главным противником. Не кажется ли вам, уважаемый читатель, что представители во всяком случае двух держав впали в склероз – напрочь забыли не только про 1 сентября как тайм-лимит, но даже в каком веке собирались воевать. Очень рискованно утверждать, будто нацисты не имели представления о том, как вьется военно-стратегическая мысль в штабах Англии и Франции, или что англичане, французы и советские военные, в свою очередь, ничего не ведали об особенностях оперативного планирования в вермахте.
Но если первые умело сыграли на архаичности военных поверий и школ, господствовавших у демократов и в Польше, то вторые еще долго не могли взять в толк, как Польша с миллионной армией потерпела военное поражение за 17–18 дней. В ночь с 16 на 17 сентября ее правительство покинуло территорию страны. Локальные очаги сопротивления не меняли общей картины.
Пойдем дальше. Заключение демократиями военного союза с СССР не отменило бы «странного» течения войны на Западе[213]. Есть причины полагать, что необычный ход этой войны скорее усугубился бы. В любом случае Англия и Франция не сгорели бы от желания войти в соприкосновение с «главным противником», и Третий рейх отвечал бы им взаимностью.
Логика развития поставила бы Советский Союз в совершенно другое положение. Главные силы главного противника, отмобилизованные и захваченные эйфорией легко доставшейся победы, выкатились бы на границу куда менее благоприятную для обороны СССР, чем та, с которой Пилсудский отправлялся в поход на Киев и Москву в 1921 году. И это не все. План «Вайс» предусматривал, что одновременно или вслед за Польшей вермахт возьмет под контроль Литву и Латвию «до границ старой Курляндии». 23 мая Гитлер подтвердил эту установку на «решение балтийской проблемы» при встрече с командованием германских вооруженных сил.
Если упоенный успехом польского похода фюрер собрался было в сентябре 1939 года двинуться против Франции (во всяком случае, заговорил об этом), то вряд ли отказал бы себе в удовольствии покарать Сталина за отказ подыграть «инсценировке Рапалло» и предпочтение, отданное его соперникам. Гитлер не стал бы выжидать, когда Москва созреет до военного соприкосновения с вермахтом. Назвавшись союзником Англии, Франции и Польши, Советский Союз должен был бы принять на себя все невзгоды как собственной, так и чужой неподготовленности к военной конфронтации с Третьим рейхом.
Стоит повторить, что, ввязавшись в диалог с Берлином, Советский Союз с определенного момента поставил себя в положение, чем-то напоминавшее польское: нет предложениям нормализовать отношения с Германией и обменяться обязательствами о ненападении было бы чем-то сродни акту враждебности и приглашению нацистов к нападению. Или союз с Англией и Францией, или притирка интересов с Германией. Типичнейший цугцванг. Так называемая золотая середина – гордое одиночество – не спасала СССР ни от каких опасностей.
Допустим, Гитлер, вняв чьему-либо совету или голосу инстинкта, не полез бы с ходу на рожон и сделал бы привал вблизи советской границы. Кто, однако, будучи в твердой памяти и здравом рассудке, поручился бы, что Япония не удесятерила бы усилий, чтобы перевести с бумаги на местность идею одновременного удара по Советскому Союзу с востока и запада? И не только в отместку за «унижение» на Халхин-Голе. У лондонских «умиротворителей» на этот случай тоже были припасены свои планы, скажем так, не облегчавшие СССР жизнь.
Даже с подписанием германо-советского пакта о ненападении глава «умиротворения» для тори не закрывалась. Вчитайтесь в заявление Н. Чемберлена на заседании кабинета 26 августа 1939 года: «Если Великобритания оставит г-на Гитлера в покое в его сфере (Восточная Европа), то он оставит в покое нас»[214]. Как и в ноябре 1937 года, когда лорд Галифакс тестировал Гитлера, все упиралось в цену, не в принципы.
В августе 1939 года пугало, тактический прием, резерв на крайний случай, как угодно, – германо-советское сближение обрело самоценность. Гитлер и Сталин просчитали каждый для себя, как использовать неожиданно возникшую заинтересованность одного в другом к своей пользе.
Заключение, что Англия и Франция не станут воевать за Польшу, фюрер выводил из состояния их вооруженных сил. За исключением ВМС, они имели мало общего с серьезными «предупреждениями» и «предостережениями» правительств двух держав. Боеспособность Красной армии оценивалась в Берлине еще ниже, хотя события на Халхин-Голе породили некоторые вопросы. От них профилактики ради лучше избавиться.
Сталина преследовали иные кошмары. В 1937–1938 годах по его приказу были уничтожены трое из пяти маршалов – М. Тухачевский[215], А. Егоров, В. Блюхер, 11 заместителей наркома обороны, 75 из 80 членов Высшего военного совета СССР, 14 из 16 командующих армиями. Среди убитых или репрессированных – все 8 адмиралов, 60 из 67 комкоров, 136 из 199 дивизионных и 221 из 397 бригадных командиров, около 35 тысяч офицеров рангом ниже. Это не идет в сравнение с числом генералов и старших офицеров, погибших в сражениях 1941–1945 годов. Ничего подобного не мерещилось, надо думать, пентагоновским плановикам, разрабатывавшим в недавнем прошлом операции по «обезглавливанию противника»[216].
«Победы» у озера Хасан и на Халхин-Голе были восславлены советской пропагандой примерно так же, как некоторыми политиками и публицистами сейчас возводятся в категорию «переломных событий» Второй мировой войны отдельные союзнические операции, в частности, в Северной Африке, в которых было задействовано по паре дивизий с обеих сторон. Сталин нуждался в самогипнозе, чтобы сгинули «мальчики кровавые в глазах» и чтобы в «сказку, сделанную былью», поверил внешний мир: с отсеченной головой Вооруженные силы Советского Союза грозны, как никогда.
Если, однако, взять труд ознакомиться с совершенно секретной запиской наркомата обороны СССР, в которой анализировались действия регулярных частей у того же озера Хасан, в глаза бросится полнейшая неразбериха в армии, отсутствие у офицеров элементарных навыков вождения подразделений больше роты или батальона[217]. Это неудивительно, ибо полками и дивизиями командовали вчерашние старшие лейтенанты и капитаны, сплошь и рядом без среднего школьного образования. Даже наиболее талантливых из них, сколько ни поливай, невозможно было вырастить с сегодня на завтра в Ганнибалов или Суворовых. Время ставило свои непреложные пределы.
Когда приступ безумия 1937–1938 годов чуть отпустил, основной заботой Сталина было, выставляя напоказ твердость и решительность в малом, остерегаться крупных испытаний. Этому не противоречат впечатляющие, судя по официальным данным, приготовления к вмешательству на стороне Чехословакии в кризис августа-сентября 1938 года и концепции, излагавшиеся К. Ворошиловым и Б. Шапошниковым на военных переговорах с англичанами и французами в августе 1939 года. Что проку в груде самолетов, танков, артсистем, длинном перечне номеров дивизий, когда личный состав с грехом пополам выучен рукопашному бою, и не больше того?
Сталин знал это лучше кого бы то ни было. Поэтому он искал встречи с агрессором не в поле, а за игорным столом, который в политике тем отличается от обыкновенной рулетки, что из неудачника трясут не деньги, а нечто иное. Остановить сползание к пропасти. Коль это невозможно, то прислониться к сильному. В любом варианте не оказаться между молотом и наковальней, другими словами, в войне на два фронта.
Готовился ли Советский Союз помогать Польше в одиночку, убедившись, что Варшава реальной помощи от Англии и Франции не получит? Был ли грубый и резкий отказ поляков от сотрудничества причиной или поводом для смены московских вех? По-видимому, это все-таки два разных вопроса. Вне союза, обязывающего партнеров к практическим действиям в случае агрессии против одного из них или государства, которому даны совместные гарантии союзников, риск оказаться в вооруженном конфликте с Германией и, скорее всего, одновременно в конфликте с Японией был для Сталина неприемлем. «Соглашение Арита-Крейги» было в контексте озабоченностей Сталина наихудшим аккомпанементом к последнему раунду тройственных переговоров.
Свою роль при наведении мостов от Шпрее к Москве сыграло отточенное умение нацистов играть на слабых струнах контрагентов. На Сталина, несомненно, произвела впечатление «широта» подхода Гитлера. Он не «мелочился», и, действительно, в несколько часов диктаторы обделали то, на что «традиционалистам» недостает десятилетий. Правителю восточного склада припомнить бы в недобрый час древнюю восточную мудрость: слишком хорошо – уже нехорошо. Забыл и обрек себя на нечто, вместо того чтобы посвятить себя чему-то. Из страны – синонима антифашизма Советский Союз скатился почти до заложника нацистской политики экспансии. Он изменил «утопии», ввязавшись в интриги с кликой – воплощением всех мыслимых извращений.
Сталин мог бы, наверное, возразить: не забывался он[218]. Чтобы вбить клин между Германией и Японией, он выпил бы на брудершафт с самим чертом. В начале августа 1939 года Москва, по-видимому, не исключала – как альтернативу полудоговоренностям с англичанами и французами – соглашение общего плана с Берлином[219]. Сталина устроило бы, за неимением лучшего, взаимопонимание, которое сообщало бы известную свободу маневра в условиях, когда ход и смысл событий в Европе ему не подчинялись.
Не очутиться бы один на один с агрессором, а то и с двумя агрессорами кряду, отнести как можно дальше час свидания с истиной – было тогда у главы советского режима профилирующей заботой. Если бы сыскались демократические правительства, готовые ради самих себя не пренебрегать интересами СССР, Сталин, наверное, этот шанс не упустил бы. Но воевать за других он не был готов и не мог. Поэтому не будет чрезмерным сгущением красок констатация: на московских военных переговорах слова служили сокрытию подлинных намерений. Ими замещался дефицит дел. Они были призваны произвести впечатление вовне или, если прицельно, на четвертого участника диалога, незримо присутствовавшего в зале, – на Германию.
В проигрыше оказались в конце концов все, хотя подведение итогов растянулось на годы. В несчетный раз подтвердилось: честь роняют, как правило, на собственную голову.
Как повернулось бы международное развитие, не согласись Сталин – в ответ на письмо Гитлера – с приездом в Москву Риббентропа?[220] Фюрер не позже 22 августа был извещен о приглашении Геринга на встречу с Чемберленом и Галифаксом, организацией которой, чтобы избежать огласки, занимался шеф британской разведки лично. Гитлер не отвергал идею, как таковую. Момент смущал. Англичане ввели 23 августа в игру козырную карту – предложили созвать «конференцию четырех на высшем уровне». На ней в отсутствие СССР и Польши можно было бы все уладить. Предложение, направленное по неофициальному каналу, подкреплялось посланием Чемберлена. Премьер умолял Гитлера «не совершать непоправимого».
Днем 23 августа Г. Геринг провел заседание кабинета министров. «Война с Польшей – дело решенное», – услышали собравшиеся. Но угроза мирового конфликта неактуальна и риск оправдан, поскольку поляки будут единственным противником. Операцию, уточнил Геринг, предполагается начать через три дня.
Заметим про себя: переговоры имперского министра иностранных дел в Москве еще не начинались. Самолет с Риббентропом на борту не без приключений добрался до столичного аэродрома: в районе Великих Лук он был обстрелян средствами ПВО. Повезло, не сбили, но, право, предзнаменование необнадеживавшее. Таким образом, если не перенапрягать формулу Гегеля «история есть пророчество, обращенное вспять», придется признать, что решение воевать и установление первоначальной даты нанесения удара по Польше (26 августа) принимались не после, а до встречи Риббентропа со Сталиным и Молотовым, и, естественно, до подписания договора о ненападении[221]. Неточности при воспроизведении последовательности событий здесь не вкрадываются, а намеренно вносятся и способом мультиплицирования обретают видимость фактов.
Позднее Риббентроп уверял, что, отправляясь в Москву, он не знал о решении Гитлера напасть на Польшу. Министр будто бы думал, что фюрер блефует в расчете выжать из Лондона и Варшавы максимум. Договоренности в Москве не были программой действий, а имели назначением поднять давление в котле до критических отметок. По его версии, в политическом планировании нацистская Германия превзошла все высоты. К несчастью, на пике все пошло насмарку из-за вдруг нахлынувшего головокружения.
«Мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего горизонта», – саркастически заметил блистательный Ларошфуко. Горизонта видения, понимания, интереса. А если перенестись в ситуацию 30-40-х годов, воздерживаясь мерить мысли и поступки актеров той поры сегодняшними мерками, не придавая обратную силу нормам и принципам, утвердившимся после и в результате Второй мировой войны? Может быть, откроются непознанные грани случившегося, не делающие иррациональное рациональным, но в какой-то степени объясняющие его.
Упор Гитлера после Мюнхена на насилие корреспондирует со спецификой его видения ситуации и перспектив, а также представлениями о том, что психологический настрой, доведенный до исступления, есть половина успеха. Если не фальшивить (из желания не мытьем, так катаньем закрепить за 1 сентября 1939 года репутацию рубежа между миром и войной), надо будет признать, что аншлюс Австрии, отторжение от Чехословакии Судет и, конечно, ликвидация остатков этой республики были военными операциями с использованием политической завесы. В марте и сентябре 1938 года политики выполняли функцию не повивальных бабок при рождении новой жизни, а насильников, рассекающих жизненный нерв или отнимающих саму жизнь у намеченной к захвату жертвы.
Гитлер как-то заявил, что не в его намерениях вести войны ради войн. Цель для него превыше всего. Способы и средства для ее достижения имеют подчиненное значение. Приоритет должен отдаваться тем из них, которые обещают скорый успех и накопление предпосылок для следующего, более масштабного успеха. Ничто не свидетельствует о том, что фюрер отклонился от этой генеральной установки в августе 1939 года. Навар, собранный Риббентропом в Москве[222], укрепил веру Гитлера в свой «провидческий» дар.
24-25 августа он прикидывал, что должно случиться уже после Польши, судьба которой с отпадением СССР от когорты открытых противников была предрешена. Дальнейший маршрут зависел от того, удастся или нет уломать англичан. В ответ на призыв британского премьера «не совершать непоправимого» Гитлер через посла Гендерсона предложил Англии войти в альянс с Германией на условиях:
а) возвращение Данцига и польского коридора в состав рейха;
б) германские гарантии новых польских границ;
в) достижение соглашения о бывших германских колониях;
г) отказ от изменения германских границ на Западе;
д) ограничение вооружений.
В свою очередь Германия обязалась бы защищать Британскую империю от любых посягательств.
Это был своеобразный сплав из предложений, делавшихся Берлином в октябре 1938 – январе 1939 года полякам, и соображений самих британцев, передававшихся через Г. Вильсона Гитлеру в июле-августе 1939 года. Изюминкой было чаще всего опускаемое примечание Гитлера: ничего страшного не произойдет, объяви Англии из соображений престижа «показную войну». Стоит загодя обговорить ключевые элементы будущего примирения, гроза послужит лишь очищению атмосферы.
По окончании беседы с Гендерсоном фюрер связался с Муссолини. Разговором он остался доволен и в 15.02 отдал приказ ввести план «Вайс» в действие. Нападение на Польшу должно было произойти на рассвете 26 августа. А затем все пошло через пень-колоду.
Итальянское посольство уведомило, что Италия к войне не готова. Затем французский посол, с подачи Аттолико, сделал в 17.30 представление и предупредил, что его страна выполнит обязательства перед Польшей. Около 18.00 Би-би-си передала сообщение о вступлении англо-польского союзного договора в силу.
Где заключался просчет? Замаячил конфликт с Англией и Францией, в котором польская проблема отодвигалась на второй-третий план. Италия выпадала из обоймы до того, как настоящее дело началось. Кто она – союзник или обуза? Гитлер еще не знал, что известие – Италия в войне против Польши не участвует – Рим передал в Лондон и Париж раньше, чем союзнику. Отношения с Японией в расстройстве.
Пока же В. Кейтель получил приказ немедля остановить выход сил вторжения на означенные по плану «Вайс» рубежи. Гальдер занес в дневник: «Гитлер в растерянности. Слабая надежда, что путем переговоров с Англией можно пробить требования, отклоняемые поляками».
Чемберлен больше не хозяин даже в парламентской фракции тори. Общественность повернулась против «умиротворения». Выручить могло лишь одно: антивоенные настроения оставались еще сильнее. Если бы Берлин согласился отступить от края на шаг-другой, их, возможно, удалось бы капитализировать.
Кое-какой политический жирок у Гитлера имелся. С подписанием советско-германского договора о ненападении Лондон и Париж разом потеряли интерес к контактам с СССР. Без внимания остались официальные (в частности, заявление В. Молотова П. Наджиару: «Договор о ненападении с Германией не является несовместимым с союзом о взаимной помощи между Великобританией, Францией и Советским Союзом»)[223] и официозные сигналы из Москвы, рекомендовавшие не рубить швартовы.
В глазах демократий тройственные переговоры отыграли свою партию. Чемберлену и Даладье было любопытней узнать, что думают в Берлине хотя бы о той же совместимости или несовместимости договора, подписанного Молотовым и Риббентропом, с восстановлением взаимопонимания, достигнутого годом ранее в Мюнхене. Если до 20 августа любой разговор с британскими представителями о «великой дружбе» немецкая сторона завершала требованием прекращения обхаживания Москвы, то после 23 августа сходное предварительное условие предъявлялось уже Гитлеру. Длинный конец рычага перешел в его распоряжение.
Германо-советский договор был для нацистов маневром в стратегии наведения «нового порядка»[224]. Фюрер вошел в противоречие с его буквой буквально в день подписания документа. Статьи III и IV предусматривали консультации и взаимное информирование по «вопросам, затрагивающим их общие интересы», и неучастие «в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны»[225]. Никакой деловой информации о «последней попытке» руководства рейха склонить Англию к союзу с Германией Москва, конечно, не получала[226]. Сугубо закрытые разведывательные данные, добытые, нетрудно догадаться, без помощи немецких властей, не в счет[227].
Англичане и французы не принимали Советский Союз в качестве составного элемента стабильного мира. Попутчик, партнер на базе преходящего совпадения актуальных интересов – это еще куда ни шло. Летом 1939 года Москва виделась больше как тормозной башмак, который погасит часть энергии нацистской военной машины, если Лондону и Парижу не удастся сговориться с Гитлером без СССР и против СССР.
С берлинского угла, британцы и французы действовали нелогично. Они без сопротивления уступили Испанию – район не менее важный, чем Польша, пожертвовали Австрией и Чехословакией, позволили Италии установить контроль над входом и выходом из Красного моря и тем самым над Суэцким каналом. В шаблоны блицкригового мышления плохо укладывалось, что в политике чаще всего заносит не на виражах, а на прямой, когда до финиша рукой подать.
25-26 августа Гитлер завибрировал. Хочешь не хочешь, надо искать общий знаменатель если не на сегодня, то на будущее с Чемберленом, Галифаксом, не пренебрегая контактами Геринга. Видано ли, фюрер принимает и лично инструктирует Б. Далеруса. Через него 26 августа в Лондон отправляется предложение о полнокровном союзе: англичане помогут Германии вернуть Данциг и коридор, Третий рейх, в свою очередь, не поддержит ни одну страну – «ни Италию, ни Японию или Россию» – в случае начала ими враждебных действий против Британской империи.
Приостановимся, чтобы раскрыть скобки: Г. Вильсон от имени премьера Чемберлена манил Гитлера возможностью аннулирования гарантий, выданных Англией Польше и ряду других стран Восточной Европы, рейхсканцлер ставит на кон все, что он наобещал Риму и Токио, и еще тепленький пакт с Москвой.
После полуночи 28 августа Далерус доставил в Берлин ответ англичан. Они ограничились выражением заинтересованности в нахождении «решения», без уточнения его формы или содержания, и не преминули помянуть про гарантии, выданные Польше. В других случаях Гитлер распалился бы, а тут он – сама покладистость: все британские соображения приемлемы, остается только выяснить, чему Лондон отдает предпочтение – политическому договору или союзу? Он, фюрер, за союз.
В 22.30 того же дня Гендерсон привез официальный ответ своего правительства на предложения, изложенные Гитлером послу 25 августа. Чемберлен подчеркивал, что целиком разделяет желание рейхсканцлера «сделать дружбу основой отношений между Германией и Британской империей» и готов принять его предложения «с некоторыми дополнениями в качестве темы для обсуждения». Но… Переговоры могут состояться «быстро» и «с искренним желанием достичь соглашения», если разногласия между Германией и Польшей будут улажены мирным путем[228]. Уловив нервозность нацистского диктатора, англичане решили попетлять.
Это импонировало Гитлеру меньше всего. Как политик и идеолог он пребывал в постоянном антагонизме со временем. Сейчас или никогда, все или ничего, быть первым или не быть вообще – подобной риторикой он приводил в экстаз толпу и самого себя. 28 августа фюрер слушал Гендерсона вполуха. Он хотел бы избежать ссоры с Англией – вполне возможно, действительно хотел. Если британцы вообще способны дружить, они могли бы найти друзей в немцах. Помехой согласию стала Польша? Германия устранит ее. По-иному, может быть, чем видится в Лондоне, зато быстрее и радикальнее. За несколько часов до приема британского посла Гитлер самоопределился: вторжение в Польшу 1 сентября.
Как ни парадоксально, представления о времени разошлись дальше представлений сторон о базе возможной договоренности, если в отсутствие безупречных доказательств не принимать за аксиому посылку: консерваторы решили остановить Гитлера его же оружием – войной. Для ясности заметим, что демократии имели достаточные основания сомневаться в способности Третьего рейха вынести тяготы большой и долгой войны.
Очевидно, не слишком радужные мысли и чувства владели Сталиным и Молотовым, когда им докладывались переводы телеграмм, что поступали в британское и некоторые другие посольства в Москве, или депеши советского посла из Лондона. «… Со вчерашнего дня (25 августа 1939 года), – сообщал И. Майский, – в воздухе определенно ощущаются мюнхенские настроения. Британское правительство, Рузвельт, Папа Римский, бельгийский король и другие пытаются нащупать какую-либо почву для „компромисса“ в польском вопросе. Британский посол в Берлине Гендерсон прилетел сегодня в Лондон на самолете и передал кабинету какое-то сообщение от Гитлера, содержание которого хранится в тайне. Только что закончилось заседание британского правительства, обсуждавшего сообщение, но ни к какому решению кабинет пока не пришел. Завтра утром состоится новое заседание правительства»[229].
До 31 августа ни один из вариантов не являлся для консерваторов заранее исключенным. На заседании правительства 2 августа Галифакс держался мнения, что аншлюс нацистами Данцига «не следует рассматривать в качестве казус белли»[230]. В дискуссии на упомянутом И. Майским заседании правительства 26 августа посол Гендерсон проводил мысль: «Реальная ценность нашей гарантии Польше в том, чтобы дать Польше возможность прийти к урегулированию с Германией»[231]. 27 августа Чемберлен сообщил коллегам по кабинету, что дал понять Далерусу: поляки могут согласиться на передачу Германии Данцига[232], хотя никаких консультаций на сей счет с поляками не проводилось.
Через того же Далеруса Галифакс переслал Герингу послание (26 августа), в котором, между прочим, отмечалось: «Мы будем стремиться сохранить тот самый дух, который проявил фюрер, а именно: желание найти удовлетворительное решение вопросов, вызывающих в настоящее время беспокойство»[233]. 27 августа Галифакс подтвердил в разговоре по телефону с Чиано: «Мы, конечно, не откажемся вести переговоры с Германией»[234]. Вручая 28 августа рейхсканцлеру послание Чемберлена, Гендерсон заявил: «Премьер-министр может довести до конца свою политику соглашения, если, но только если г-н Гитлер будет готов к сотрудничеству»[235]. Даже 30 августа, когда поступили данные, что Германия сосредоточила 46 дивизий для удара по Польше, Галифакс отстаивал на заседании правительства тезис, что «эта концентрация войск не является действенным аргументом против дальнейших переговоров с германским правительством»[236].
В телеграмме И. Майского называются некоторые из посредников, пытавшихся предотвратить коллапс англо-германских контактов. Президент Ф. Рузвельт, несомненно, заслуживает здесь отдельной строки.
Поверенный в делах Германии в Вашингтоне Томсен, состоявший в тесных связях с американским разведывательным сообществом, докладывал 31 июля 1939 года в Берлин, что «американцы отказались от надежды на создание трехстороннего альянса Россия-Англия-Франция»[237]. Не этим ли объясняется отстраненность американской администрации в канун и после начала военных переговоров трех держав в Москве? Рузвельт откликнулся на них «устным посланием» советским руководителям. Оно было направлено через государственный департамент 4 августа и достигло Москвы через одиннадцать дней. Это и понятно: от Вашингтона до советской столицы даже дальше, чем от Лондона.
Смысл послания[238] был незатейлив: совета давать не хотим, но нельзя не считаться с тем, что в случае войны в Европе и на Дальнем Востоке и возможной победы стран оси положение СССР и США безусловно и немедленно изменилось бы. Причем в силу географической близости Советского Союза к Германии его положение изменилось бы быстрее, чем положение Соединенных Штатов. По этой причине президент «чувствует», что «удовлетворительное соглашение против агрессии между любыми другими державами Европы оказало бы стабилизирующее действие в интересах всеобщего мира».
Неизвестно, насколько щедро Рузвельт делился своими «чувствами» с англичанами и французами, склонял ли он демократии к договоренности с СССР в «интересах всеобщего мира», причем не декларативной, а влекущей конкретные действия во имя ясно означенной цели. Молотов подтвердил в беседе со Штайнгартом, что Советский Союз именно так понимает задачу переговоров, но их успех зависит также от позиций Англии и Франции. Если бы глава американской администрации снесся с Парижем, то составил бы более полное представление об истоках трудностей и, возможно, методах их преодоления.
После вступления Германии и СССР в переговоры и подписания между ними договора о ненападении Φ. Рузвельт занялся рассылкой посланий – королю Италии (23 августа), Гитлеру (24 и 26 августа), президенту Польши (25 августа). По букве и духу они перекликались с американскими обращениями, что предшествовали мюнхенскому сговору. Прилив энергии увенчался призывом (1 сентября) к германскому руководству вести войну упорядоченным способом, щадя мирное население[239].
Непросто реконструировать ход переговоров Риббентропа со Сталиным и Молотовым 23 августа[240]. Лучше это получилось пока у Ингеборг Фляйшхауэр[241]. Но в общем перед учеными едва початый край неудобных, поныне колючих вопросов, ждущих основательного разбора. Им противопоказано «экономное мышление» с его тягой к смене знака плюс на минус или наоборот. В свете тектонических сдвигов, происшедших в мировых делах, сие и не нужно. Кого мы обманем подстановкой новой полуправды взамен прежней, кому причиним вред, накликая репродукцию ошибок? Прежде метили в идеологического противника. Теперь издержки не с кем будет делить.
В 1988 году при встрече в Варшаве с рядом видных польских профессоров автор сформулировал вопрос так: давалась ли Советскому Союзу в августе 1939 года альтернатива тому или иному согласию с Германией? Ответ коллег был однозначен: «нет». Самое позднее после бесед французского генерала Мюсса со Стахевичем, воспроизведенных с пикантными деталями в телеграммах в Париж, всякие надежды достичь соглашения на московских военных переговорах отпали.
Если так, то уместен и следующий вопрос: имелась ли альтернатива договору о ненападении? Возможно. Скажем, пролонгация Берлинского договора 1926 года. Но и отказ от насилия во взаимных отношениях сам по себе не являлся предосудительным, в том числе в обстановке, чреватой взрывом. Чистота позиции, претендовавшей тогда на эпитет «миролюбивая», выиграла бы, найди в тексте договора, подписанного 23 августа, отражение норма, освобождающая стороны от принятых обязательств в случае совершения одной из них агрессии против третьего государства. Однако имелось вдоволь прецедентов, где такая оговорка не употреблялась, и это не порождало кривотолков[242]. Ни в ту пору, ни позже.
Не самым безупречным (не только с точки зрения формальной логики) был примененный порядок: обязательства стороны вступают в силу немедленно с простановкой под договором подписей. Вместе с тем предусматривалась его ратификация по всей форме. Примеры подобного рода тоже попадаются, но неловкость устраняется чаще посредством либо устной договоренности, либо обмена нотами, которые делают излишней соответствующую пропись в тексте основного документа. Но может быть, названный алогизм вводился намеренно?
Секретные приложения (протоколы, дополнительные статьи и т. п.) к соглашениям и договорам разного профиля прочно удерживались в договорной практике государств, несмотря на шок, вызванный разглашением сокровенных державных тайн большевиками и эсерами после 1917 года. Ряд примеров назывался выше. Его легко расширить, добавив разные цвета и оттенки. Предполагалось, что и англо-франко-советское соглашение о взаимной помощи будет снабжено дополнительным, не подлежащим оглашению протоколом[243].
Следовательно, при двусмысленности, если не предосудительности в принципе тайных договоров решающей была и остается не форма, а содержание. Для нашего конкретного случая, кроме того, не являлось ни извинительным, ни смягчающим обстоятельством то, что Англия, Франция, Польша, Румыния не показывали образцов щепетильности в обращении с чужими правами и интересами или что обычное международное право 20-30-х годов в делах подобной категории не отличалось ярким красноречием.
В постановлении съезда народных депутатов СССР (декабрь 1989 года) констатировалось, что приложенный к советско-германскому договору о ненападении «секретный дополнительный протокол» как по методу его составления, так и по содержанию являлся «отходом от ленинских принципов советской внешней политики». Проведенное в нем разграничение «сфер интересов» СССР и Германии находилось с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. По совокупности признаков[244] съезд признал протокол от 23 августа 1939 года и другие секретные договоренности с Германией юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.
Боязнь попасть впросак, навлечь большее из зол именно на себя не отпускала советскую сторону ни в августе, ни в сентябре. Колебания выливались в непоследовательность, непоследовательность – в противоречия. Риббентроп предложил «обогатить» договор о ненападении понятием «дружба», раз уж полюбовно поделили «сферы интересов». Сталину и Молотову эта идея пришлась не по вкусу. Не дружба, не союз[245], не спица в одном колесе и не вторая ось в телеге, а нейтралитет – внимательный и заинтересованный, пока советские интересы уважаются. На последнем делался акцент.
Речь В. Молотова на сессии Верховного Совета СССР в связи с внесением 31 августа 1939 года законопроекта о ратификации договора с Германией заставила нацистское руководство поморщиться. «Решение о заключении договора о ненападении между СССР и Германией, – говорил Председатель СНК, – было принято после того, как военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик. Поскольку эти переговоры показали, что на заключение пакта о взаимопомощи нет основания рассчитывать, мы не могли не поставить перед собой вопроса о других возможностях обеспечить мир и устранить угрозу войны между Германией и СССР». Смысл договора от 23 августа В. Молотов подавал так: «СССР не обязан втягиваться в войну ни на стороне Англии против Германии, ни на стороне Германии против Англии». Политической основой отношений с Германией по-прежнему является договор 1926 года о нейтралитете[246].
Редко случается, чтобы достоинства одного партнера откровенно выводились из недостатков другого, а целесообразность введения в силу конкретного юридического акта обосновывалась безрезультатностью попыток прийти к оптимальному решению с кем-то еще. Неловкость, бестактность – не подвернулись более удачные выражения? Или завуалированный намек Лондону и Парижу: исправляйтесь, а там посмотрим? Но «завтра была война».
С одной стороны, можно было облегченно вздохнуть и лишний раз себя похвалить, что СССР не нырнул в омут без дна. Но даже в среднесрочной перспективе ничего утешительного новый военно-политический ландшафт не сулил. Обретенная свобода маневрирования развеялась прежде, чем удалось вкусить от ее плодов. Скоротечность развития смяла начально составленную диспозицию – не торопить события в «сфере советских интересов»[247]. Ударились в крайность – занялись форсированным обустройством, по выражению Черчилля, «восточного фронта», подбирая все, что плохо лежало, забирая все, что можно было переместить из прежних укрепрайонов.
Весьма непростым для Москвы был процесс взятия под контроль Западной Украины и Западной Белоруссии. МИД Германии напомнил 3 сентября, что советская сторона может выдвигаться в те области театра войны, которые по протоколу значатся за СССР.
В советской вооруженной поддержке Берлин нуждался как рыбка в зонтике. Гораздо важней для него было упредить болтанку в позиции СССР в момент, когда у Польши объявились пусть номинальные, если брать эффект, но все же союзники[248]. 5 сентября из Москвы последовал уклончивый ответ: «В подходящий момент возникнет необходимость в конкретных действиях», однако «такой момент еще не настал».
8 сентября Риббентроп снова подступился к этой теме, отмечая, что война перешла в завершающую фазу. Молотов передал 10 сентября через Шуленбурга, что советские войска, если и когда они выступят, будут задействованы с политической, а не с военной мотивировкой[249]. Риббентроп поручил послу высказать возражения против намеченного «антигерманского по духу обоснования акции» и предложить опубликовать совместное сообщение. Москва на совместное выступление не согласилась. 14 сентября Молотов дал понять Шуленбургу, что прежде, чем что-либо предпринимать, советское руководство хотело бы дождаться падения Варшавы.
Между тем Верховное военное командование Третьего рейха занялось прикидкой моделей «окончательного решения» польской проблемы, в том числе при сохранении Советским Союзом позиции выжидания. На совещании у В. Кейтеля 12 сентября рассматривался вариант а) передачи Литве района Вильно[250] и б) объявления Галиции и польской Украины независимыми образованиями.
Под этот вариант Канарис должен был устроить восстание в районах с преимущественно украинским населением, провоцируя восставших на уничтожение поляков и евреев. Здесь намечалось сотворить то, о чем Гейдрих докладывал нацистской верхушке 27 сентября: «В занятых нами областях польская элита выкорчевана до трех процентов». Приказ о восстании с использованием банд Мельника был отозван после вступления частей Красной армии в Западную Украину[251].
17 сентября четыре армейские группы Белорусского и три группы Украинского фронтов перешли западную государственную границу. В обоснование этой акции выдвигались утверждения: польское правительство не проявляет признаков жизни, Польское государство перестало существовать, тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей, Польша превратилась в поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может далее безучастно взирать на факты. СССР счел себя обязанным прийти на помощь украинским и белорусским братьям, чтобы обеспечить им условия для мирной жизни.
Что верно в фактологическом смысле, что притянуто за уши, что должно быть отвергнуто безоговорочно?
Польское государство не переставало существовать – юридически в любом случае. Следовательно, шатким оказывался довод о прекращении как бы автоматически действия всех советско-польских договоров. Без этой подпорки провисало, однако, центральное звено насчет правомерности отказа СССР от «нейтральности» перед лицом развертывавшейся драмы.
Как обстояло с правительством и превращением Польши в неуправляемое пространство? 6 сентября польское правительство перебралось в Люблин, оттуда 9 сентября в Кременец, 13 сентября – в Залещики, что у самой румынской границы, в ночь с 16 на 17 сентября оно ушло за рубеж, за исключением пары высокопоставленных чиновников. «Народ и армия, которая в то время еще вела последние ожесточенные бои (в разрозненных очагах сопротивления), – писал К. Типпельскирх, – были брошены на произвол судьбы». Варшава держалась до 28 сентября, крепость Модлин – до 30 сентября, защитники порта Хель сложили оружие только 2 октября[252].
Вакуум власти и контроля возник. Кому, как и когда его заполнять? Несмотря на все оговорки, на стихийные и «подсказанные» проявления симпатий к советским воинам, вступившим в западные области Украины и Белоруссии, большая часть мировой общественности относилась к СССР как к сообщнику нацистской агрессии, а для правой прессы, клерикальных кругов, эмигрантских групп он стал излюбленной мишенью.
Британскому и французскому правительствам предстояло решить, продолжать ли дальше присматриваться, куда прибьют Москву поверхностные и глубинные течения, или инструментализовать широкое возмущение общественности и объявить войну Советскому Союзу – как минимум, прервать с ним дипломатические отношения.
Секретный дополнительный протокол к англо-польскому пакту о взаимопомощи от 25 августа 1939 года[253] ограничивал британские гарантии Польше только случаем германской агрессии, поэтому некоторый простор у Лондона сохранялся. Итог изучения проблемы экспертами и обмена мнениями между Лондоном и Парижем сводился к следующему: объявление войны СССР не спасет Польшу, но может еще крепче привязать Москву к Берлину и сказаться на эффективности блокады Германии. Не исключалось, кроме того, что вооруженная конфронтация с СССР негативно отразится на английских и французских интересах на Ближнем Востоке.
Англичане ограничились заявлением 19 сентября о том, что не считают советские действия правомерными, и подтверждением ранее принятых обязательств перед Польшей. Французы потребовали от советской стороны «дополнительных разъяснений». Демократии позаботились о том, чтобы также польское правительство в эмиграции не перешло в своей воинственности по отношению к СССР определенную грань.
«Уточнение»[254] демаркационной линии между сферами германских и советских интересов, которая теперь совпадала с линией Керзона, способствовало тому, что факт участия советских войск в изменения политической карты Восточной Европы скоро померк. Правительство Чемберлена и затем правительство Черчилля тщательно избегали давать авансы, что Англия будет выступать за восстановление польской восточной границы по состоянию на сентябрь 1939 года.
Долгой, неоднозначной, для не посвященных во внутренние американские перипетии часто непредсказуемой была адаптация на развязывание большой европейской войны Соединенных Штатов. Симпатии президента на стороне демократий и Польши как жертвы насилия. Диктатуры и в нацистском, и в сталинском исполнении – с разной степенью интенсивности – осуждались. Но мировоззренческие привязанности и набор моральных заповедей, которые Ф. Рузвельт носил, как вериги, не заслоняли и не подменяли факты.
Глава администрации не скоро преодолеет недоверие и неприязнь к британским и, вероятно, французским «умиротворителям», сведшим на нет все попытки – его, Рузвельта, личные усилия тоже – перекрыть агрессорам кислород. Вопреки страхам, нагонявшимся послами, экспертами, советниками, которые предрекали становление германо-советского военного альянса антизападной нацеленности и их совместную гегемонию в Восточном полушарии[255], президент не склонялся ставить крест на Советском Союзе. Он разделял точку зрения, что прежде остального линия Лондона, к которой приспосабливался Париж, вынудила СССР искать взаимопонимания с Германией. Демократии не оставили ему другой возможности оградить свою безопасность от актуальных угроз. Но рано или поздно, полагал Рузвельт, Москва и Берлин не смогут ужиться, несовместимость интересов разведет их на противоположные полюса.
Соответственной была реакция администрации США на инициативы Буллита, Штайнгарта, других послов, агитировавших за репрессалии в отношении СССР. Показательно, что те же дипломаты, видные политические деятели, «общественные комитеты» клерикального и шовинистического профиля воздерживались в сентябре 1939 года муссировать тему разрыва дипотношений с Германией.
В критическую для будущего отношений США-СССР неделю 17–24 сентября Ф. Рузвельт и К. Хэлл определились: переход советскими войсками восточной границы Польши, установленной Рижским договором 1922 года, не следует квалифицировать как акт войны. По соображениям долговременного порядка на СССР не распространялись требования эмбарго, предусмотренные законом о нейтралитете в части продаж оружия и военных материалов. С 5 сентября запреты и ограничения применялись строго (на бумаге) к Германии и формально (подвешены заказы) к Англии и Франции.
Из доступных документов нельзя вычитать, влияла ли на акцентировку в суждениях Вашингтона, Лондона и Парижа после 23 августа одна юридическая тонкость. Обмен ратификационными грамотами, после чего обязательства сторон по договору о ненападении из урегулирований де-факто превратились в нормы де-юре, был совершен лишь 24 сентября[256]. Москва оттягивала момент цементирования позиций. Если бы не поджимало стремление скорректировать августовский секретный протокол и сдвинуть демаркационную линию на восток – к, по сути, международно признанной этнической границе расселения поляков, украинцев и белорусов, а также не намерение Сталина добиться изъятия Литвы из сферы германских интересов, ради чего и учинялся договор о границе и дружбе 28 сентября 1939 года, амортизирующая дистанция между датой ратификации (31 августа) и датой вступления документа в силу могла бы быть еще протяженней.
Когда-нибудь потомки займутся систематизацией характерных особенностей XX столетия, и, возможно, они прозовут его веком необъявленных войн. Только после 1945 года их насчитается сотни две с половиной. В своей ожесточенности и продолжительности, по огневой мощи и количеству человеческих жертв некоторые необъявленные заткнули за пояс иные классические. «Странную войну» (сентябрь 1939 – май 1940 года – безусловно.
К начальной фазе войны Англии и Франции против Третьего рейха вполне приложим знаменитый афоризм Клаузевица: война есть продолжение политики другими средствами. С существенным в данном случае уточнением: не политики вообще, а прежней политики, расстилавшей красный ковер перед японскими, итальянскими, германскими экспансионистами. Парижу и Лондону поймать бы улыбку фортуны и, не теряя ни часа, который и в год не наверстать, лишить бы Гитлера привилегии самому выбирать противников и время нанесения по ним ударов, открыть второй фронт. Ведь против Франции Германия выставила лишь заслоны[257].
Исследователям, что зациклились на подмене понятий, с необыкновенной легкостью превращая советско-германский военный фронт 1941–1945 годов в «периферийный», а германо-советское взаимное обхаживание августа 1939 года в «кузницу Вулкана», отдать бы частицу энергии на разгадку реального феномена – нежелания демократий навязывать Германии борьбу на два фронта[258].
Нельзя думать, что правительства Англии и Франции решили в 1939 году показать: сестрой платонической любви зовется платоническая вражда. Лондон имел свою концепцию второго фронта. Она переживет захват нацистами Западной, Центральной, Юго-Восточной и Северной Европы. Ее не подкосят ни смена премьеров, ни появление новых союзников и новых противников. Ибо нетленным оставался завет: у Великобритании нет ни вечных друзей, ни вечных врагов, константны только интересы Великобритании.
Сентябрь 1939 года в изобилии снабжал Москву подтверждениями худших подозрений, которые возникали в период тройственных переговоров. То, что соскребли с гарантий Англии и Франции поляки, подкарауливало Советский Союз, заключи он военный союз с демократиями. С другой стороны, демонстративное нежелание создать реальный второй фронт отдавало слегка завуалированным приглашением Германии к замирению.
Избежим упрощений и не станем утверждать, что рука протягивалась прямиком Гитлеру. На Темзе и Потомаке теплились надежды на оживление генеральской фронды фюреру, раз не кто иной, как Герман Геринг, засуетился и рискнул в узком кругу поднять голос против символа режима. Себя Геринг видел главой будущего имперского правительства, а Гитлера отодвинутым на представительский пост, лишенным серьезных властных функций. Сигналом к действию должно было быть достижение взаимопонимания с демократиями по центральным элементам будущего мира и согласие США и Англии признать и принять Геринга в качестве партнера. По некоторым данным, американцы чуть больше англичан внимали нашептываниям Геринга, достигавшим адресатов через Б. Далеруса, М. Валленберга, М. цу Гогенлоэ-Лангенбурга, Й. Хертслета, В. Дэвиса.
На чем споткнулись будущий рейхсмаршал и его доброхоты на другой стороне? Вроде бы Геринг развивал не худшие, а касательно Чехословакии в чем-то более привлекательные модели, чем Герделер, Шахт, фон Бек и большинство прочих «официальных» оппозиционеров[259]. За Герингом стояли сильные финансовые и промышленные группы, что в случае перенятия им власти могло бы облегчить новый старт.
Исторический томограф не добрался до тайников, о содержании которых можно судить по косвенным признакам, и в частности по обвинениям в адрес Ф. Рузвельта, меньше – Н. Чемберлена и Э. Даладье. Обвинений не в том, что они развязали войну, как можно подумать. Нет, их главное грехопадение в другом: они развязали не ту войну, что требовалась, а затем, вместо того чтобы покаяться и исправиться, усугубили свою вину, вступив в коалицию с СССР.
Обратимся к откровениям Гамильтона Фиша[260]. Четверть века он являлся членом конгресса США, а с 1933 по 1942 год был ведущим представителем от республиканцев в его комитете по иностранным делам. Фиш свидетель и участник многих важнейших свершений 30-40-х годов.
Г. Фиш глубоко сожалеет, что Англия выдала 31 марта 1939 года гарантии Польше и тем отошла от курса, проводившегося в предшествовавшие пять лет. «Только давление британских сторонников войны и (выделено Г. Фишем. – В. Ф.) Рузвельта вынудило его (Чемберлена) занять неуступчивую позицию по отношению к Гитлеру». И вслед констатация: «График британского маневра проявил себя как стратегическая ошибка худшего сорта и вел прямиком в войну. Чемберлен, как и Кеннеди (посол США в Лондоне), был антикоммунистом и надеялся, что Гитлер нападет на Советский Союз. Тем самым отпал бы англо-русский альянс»[261].
Если бы Гитлеру пошли навстречу в вопросе о Данциге, рассуждает Г. Фиш, «не состоялся бы этот (германо-польский) конфликт, Гитлер вернулся бы к своей первой страсти и одолевавшей его мании маршировать на Восток (выделено Г. Фишем. – В. Ф.), а не на Запад». «Рузвельту давалась возможность стать великим миротворцем. Вместо этого он избрал роль сеющего несчастья поджигателя войны. Он мог бы предотвратить развязывание Второй мировой войны и канализировать гитлеровский вермахт против Сталина и его коммунистических орд»[262].
Угол зрения более чем приметный: агрессия Германии против Польши ведет к большой европейской и мировой войне. Провоцирование же Гитлера на удар по Советскому Союзу – «миротворчество». На худой конец – «инцидент». 27 миллионов 650 тысяч погибших в войне против нацизма советских людей для Фиша, видимо, маловато. СССР не ослаб в потребной степени. Сколько его устроило бы, конгрессмен не конкретизировал даже в 1976 году, сочиняя свою книгу. Чем больше, тем лучше, прочитаем мы ниже, когда настанет момент обратиться к этой теме основательней.
Фиш помянул про навязчивую идею фюрера искать «жизненное призвание», а не одно «жизненное пространство» для рейха на Востоке[263]. Но как классифицировать текущий с его пера яд против Советского Союза? Яд собственного приготовления или заимствованный у единомышленников. При любом ослеплении антикоммунизмом недопустимо смешивать, ставить на одну доску страну и ее правителей.
Мало того, сетует Фиш, что сразу, без разброса энергии нацизма по пустякам не столкнули лбами Германию и СССР. Еще пренебрегли (в книге Фиша воспроизводятся слова посла Кеннеди) «полдюжиной возможностей», чтобы заключить «выгодный мир, который вернул бы свободу Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии и спас жизни миллионам в Западной Европе, зажегши зеленый свет нацистскому диктатору Гитлеру для схватки с коммунистическим диктатором Сталиным»[264]. «Кровь людская не водица» назвал свой роман И. Стельмах. Брал бы уроки у Фиша, поостерегся бы таких обобщений.
Призыв Гитлера, с которым он обратился 6 октября 1939 года к Англии и Франции, – заключить мир, естественно, с учетом свежих реальностей, вытекавших из поражения Польши, – рассматривается традиционно через призму отданного им три дня спустя фон Браухичу и Гальдеру распоряжения готовить план удара по Франции. Вернее, фюрер дал формальный ход своим соображениям о «быстрой наступательной операции» на Западе, которые впервые высказал в присутствии группы генералов 12 сентября и двумя неделями позднее повторил главнокомандующим родами войск. При этом не одного удобства ради опускается, что Гитлер редко отказывал себе в удовольствии поиграть одновременно на нескольких шахматных досках.
Когда Геринг, перестраховываясь, счел необходимым ввести фюрера в курс возобновившихся при посредстве Далеруса контактов с англичанами, он отнесся к этому одобрительно. 26 сентября Гитлер лично инструктировал шведа, что сообщить в Лондон[265]. При выходе Геринга на американского нефтепромышленника Дэвиса нацистский предводитель утвердил предназначавшиеся для сведения Ф. Рузвельта немецкие условия мира. Следовательно, слова от 6 октября должны были пасть на заранее унавоженную почву.
Повышало ли вовлечение фюрера привлекательность зондажей Геринга? Или вносило диссонанс в лейтмотив: достаточно нейтрализовать Гитлера, совершить наверху пару-другую перестановок, и в Германию снова можно будет верить? Конечно, так и подмывает отрубить – «нет». Не станем, однако, отнимать хлеб у будущих историков.
Употребленное только что выражение – унавозить почву – в чем-то не совсем точно, если не принижать значение того, как тяжко далось Н. Чемберлену объявление войны Германии. Палата общин заставила правительство пойти на акт, противоречивший всему настрою премьера, его ощущению ситуации.
2 сентября 1939 года Г. Вильсон по поручению своего патрона известил немецкое посольство в Лондоне открытым текстом: Германия может получить желаемое, если прекратит военные действия. «Британское правительство готово (в этом случае), – подчеркивал советник Чемберлена, – все забыть и начать переговоры»[266].
O надеждах удержать конфликт в определенных рамках говорило намерение Лондона согласовать правила войны, особенно на море и с воздуха[267]. Директива Гитлера по ведению военных действий (№ 2 от 3 сентября 1939 года) перекликалась с этим британским подходом. Она предусматривала, в частности, что «переброска значительных сил с востока на запад» может производиться только с личного разрешения фюрера. Воспрещалась неограниченная подводная война. Нападения с воздуха на английские ВМС в гаванях и в море, а также военные транспорты допускались лишь в «особых обстоятельствах». Принятие решений о налетах на британскую метрополию и бомбардировке торговых судов Гитлер резервировал за собой. Аналогичный режим вводился в отношения Франции. Здесь допускались исключительно ответные меры, причем не вызывающие противника на активность[268].
Акцент на экономические механизмы и методы, подходившие скорее для профилактики недуга, чем для его лечения, выдавал почерк Чемберлена, для которого антигерманская война должна была быть короткой и не жестокой. Последнее очень важно, ибо задача формирования – в будущем – новой Европы с Англией и Германией в качестве ее несущих столпов не отменялась. Эта линия по недоразумению лишь прервалась. Не убивать друг друга, а убеждать, что ссора не к добру[269].
В конце 1939 года, напишет В. Шелленберг, Гитлер выражал сожаление по поводу того, что «приходится вести борьбу не на жизнь, а на смерть внутри одной расы, а Восток только и ждет, когда Европа истечет кровью. Поэтому я не хочу и не должен уничтожать Англию… Пусть она останется морской и колониальной державой, но на континенте мы должны слиться и образовать одно целое. Тогда мы овладеем Европой, и Восток больше не будет представлять опасности. Это – моя цель»[270].
7 ноября 1939 года королева Нидерландов и король Бельгии предложили себя в качестве посредников для заключения мира между Германией и демократиями. Через пять дней Англия и Франция ответили отказом, а 14 ноября отклонил это посредничество Гитлер. Для чего же он искал тогда добрые услуги Вашингтона? Что означали разглагольствования Геринга при встрече с Дж. Муни из «Дженерал моторc» (19 октября 1939 года): «Если мы достигнем сегодня взаимопонимания с британцами, завтра мы выбросим русских и японцев за борт»? Ведь это парафраз слов Гитлера, сказанных Гендерсону 26 августа.
До неправдоподобности простецким выглядит объяснение: немцы пудрили мозги, подбрасывая западным адресатам то, что хотели от них слышать. Еще менее состоятельным было бы предположение, будто Гитлер «по снисходительности» терпел в своем ближайшем окружении людей, якшавшихся с иностранными правительствами, разведками, банковскими и не поймешь какими прочими кругами, догадываясь, что ему сообщают не всю правду и не только правду. Если Геринг знал, что А. Розенберг вошел в 1939 году в контакт с британскими спецслужбами (через барона Уильяма де Роппа в Швейцарии), то почему обязательно Гитлер должен был быть в неведении? Плутовство Геринга, причем не в одних финансовых делах, не было секретом и в сочетании с амбициозностью его характера приглашало многих на нацистском Олимпе к раздумьям. Всех, кроме фюрера?
Слова управляют людьми. Гитлер отточил этот инструмент, как никто. Но помимо риторики в различных регистрах были еще Дюнкерк, пересадка с «Морского льва» на «Барбароссу». Упомянем хотя бы это. В конце октября 1939 года Гитлер отмерил германо-советскому договору до скончания восемь месяцев, и Лондон, как и Вашингтон, зарегистрировал желание фюрера вновь «заняться Востоком и создать ясные условия, которые сейчас из-за требований момента пришли в беспорядок и расстройство»[271].
Или что-то значительное остается нам неизвестным? Или при анализе упускается какое-то связующее звено, без которого фрагменты плохо складываются в цельную картину?
Пока завершим другую тему. Что дало безопасности СССР и как сказалось на развитии стратегической ситуации в мире заключение советcко-германского пакта о ненападении?
Первое. 1939-й не стал годом вооруженного столкновения между СССР и Германией при сохранении за Англией, Францией и США роли крупье, от которого зависело, как тасовать, когда и чем закончить раунд. Их отношение к сторонам в конфликте было дифференцированным. Лучше всего, если бы схватка изнурила обоих противников, но Россию обязательно до такой степени, чтобы можно было с большими видами на успех, чем в 1918–1921 годах, заняться ее «реорганизацией». Для подготовки к отражению надвигавшихся на СССР смертельных угроз ничто не могло заменить время. Москва его выиграла.
Второе. По оценке ряда немецких генералов, политиков, экспертов, добившись заключением договора от 23 августа преходящих тактических выгод, Германия понесла невосполнимые стратегические потери. Генерал-полковник фон Бек писал 20 ноября 1939 года, что успех рейха в войне против Польши обесценен выдвижением СССР на запад. Советский Союз, отмечал он, не идет на поводу у Германии, а преследует собственную выгоду[272]. Фельдмаршал Вицлебен находил «сближение с Россией» ошибочным в принципе[273].
В декабре 1939 года Верховному командованию вермахта (ОКВ) был представлен меморандум Лидиха, в котором фигурировало понятие «предательство». «Вполне можно было договориться с Англией и спасти Европу от врага номер один – Советской России, но Гитлер делает нечто противоположное. Россия между тем чудовищно расширяется», – подчеркивал автор. По его понятиям, Германия и после «польского похода» могла бы получить от Англии «справедливый и великодушный мир», подтверждающий новые границы, насколько они совпадали с границами немецкого расселения, а также признание континентальной гегемонии рейха. Условие – Германия должна была употребить свою силу для поддержки оказавшейся под угрозой Финляндии и тем самым попавшей под угрозу Европы и вместе с Англией обратиться против большевистской опасности[274].
Г. Риттер, исследователь деятельности верхушечной оппозиции в Германии, констатировал, что больше, чем начало войны с Польшей, К. Герделеру и его единомышленникам досаждало «продвижение большевизма по всему фронту вплотную к нашим (германским) границам. Это воспринималось как угроза всей европейской культуре, изведение под корень прибалтийского германизма и как национальный позор»[275].
Против чего восставали фон Бек, Вицлебен, Герделер и им подобные? Отверженный претендовал на равенство. Договор 23 августа легализовал право СССР отстаивать свои «естественные» интересы, в том числе в области обороны, так же, как этим занимались другие.
Превентивные меры США в Западном полушарии выше упомянуты. А что держали на уме и под рукой англичане?
Морской министр (в последнем кабинете Чемберлена) У. Черчилль, известный демократ из демократов, рекомендовал в сентябре 1939 года, игнорируя нейтральный статус Скандинавских стран, вовлечь их в военные операции Великобритании. В записке от 16 декабря Черчилль предлагал превентивно оккупировать Норвегию и Швецию, чтобы «встретить немецких захватчиков на скандинавской земле», и, в частности, высадиться в Нарвике и Бергене, независимо от «любых ответных мер Германии». «… Какие бы формальные нарушения международного права мы ни допустили, – говорилось в записке министра членам правительства, – они, коль скоро это не сопровождается бесчеловечными актами, не лишат нас симпатий нейтральных стран. Подобные действия не окажут также сколько-нибудь неблагоприятного влияния на Соединенные Штаты, эту величайшую нейтральную державу. Мы имеем основание считать, что США подойдут к данному вопросу с максимальным желанием помочь нам. А они весьма изобретательны».
«Высшим судьей является наша совесть, – убеждал Черчилль. – Мы боремся за то, чтобы восстановить господство закона и оградить свободу малых стран. Действуя во имя устава Лиги Наций и как фактические мандатарии Лиги и всех тех идеалов, на которых она зиждется, мы имеем право – более того, долг повелевает нам – временно отбросить условные положения законов, укрепить и восстановить которые мы стремимся. Малые страны не должны связывать нам руки, когда мы боремся за их права и свободы. Нельзя допустить, чтобы в час грозной опасности буква закона встала на пути тех, кто призван его защищать и осуществлять»[276].
Права – не манна небесная. Они, как титулы и ранги, жалуются, покупаются, захватываются. Поскольку демократии отказывали СССР на переговорах в равных правах и одинаковой безопасности, он принялся утверждать их, пренебрегая (по Черчиллю) «буквой закона», явочным порядком.
Действия советской стороны, особенно в Прибалтике, выносившие передний край обороны на максимально возможное расстояние от жизненно важных центров страны, вобрали в 1939–1940 годах все пороки тогдашнего великодержавного мышления и практики. Просчет Москвы состоял в недоучете древнего табу: что позволено Юпитеру, то запрещено…
Третье. «Инсценировка Рапалло» протекала под гул боев на Халхин-Голе. Первое аутентичное известие о сдвигах в советско-германских отношениях японцы получили только вечером 21 августа (телефонный разговор Риббентропа с послом Осимой). Для руководства Японии, завязавшегося на военную солидарность рейха, это было потрясением. Оно деформировало всю «антикоминтерновскую» конструкцию. Вера Токио в стратегического союзника была подорвана неизлечимо. Правительство Хиранумы ушло в отставку. Новый кабинет занялся выработкой военно-политической платформы, в которой широкомасштабная агрессия против Советского Союза сдвигалась на неопределенное время.
Одним из последствий 23 августа – неожиданным и крайне неприятным для Берлина – стало заключение 13 апреля 1941 года японо-советского договора о нейтралитете. Гитлер и Риббентроп тщились отговорить министра иностранных дел Мацуоку от этого шага. В информации для Берлина Мацуока (один из самых больших почитателей нацизма и яростный приверженец единения с ним) утверждал, что договор «не ущемляет тройственного пакта» и имеет для Японии большое значение, ибо должен произвести «впечатление на Чан Кайши и облегчить японцам переговоры с ним». Кроме того, «договор укрепит позиции Японии по отношению к США и Англии». Токио расплачивался с немцами их же фальшивыми купюрами[277].
Четвертое. Советский Союз показал всем, что не намерен быть «объектом» в чужих комбинациях и в состоянии отстаивать свои интересы. Демократы были предупреждены, что от «способствования» германской экспансии на восток им ничего путного ждать не приходится, что СССР не станет сам себя линчевать и воспротивится, если подобной процедурой займутся другие.
Но недаром повторение слывет матерью учения, ибо преподать урок и усвоить его – отнюдь не одно и то же.
Глава 4 Тяжкий путь познания
Социальная зашоренность и имперские амбиции мешали и мешают превратить политику в науку, в ту точную дисциплину, что не терпит разных критериев в приложении к действиям одного порядка любых государств и их руководителей. Предыстория Второй мировой войны, летопись слияния разрозненных конфликтов в глобальный пожар – сертификат того, что упущенные возможности есть почти всегда добавленные осложнения и приобретенные новые опасности. И вместе с тем назидание: несказанно проще зло предотвращать, чем исправлять его.
Сосредоточься нацисты в делах не только внутренних, но еще больше внешних на искоренении «красной крамолы», у них не возникло бы непримиримых противоречий и трений с демократиями. В качестве щита и меча против «большевизма» гитлеровцы могли рассчитывать на понимание и щедрую отзывчивость по обе стороны Атлантики.
Порой до незаметности тонкой была грань, отделявшая фюрера с единоверцами от многих их критиков из национал-консервативной оппозиции. И те и другие выступали за ревизию Версаля, за «великую германскую империю» как общий дом для «всех немцев», за место под африканским, латиноамериканским, ближневосточным солнцем. О европейском и говорить нечего. Только первый отстаивал программу экспансии, не знавшей пределов, а публика, слывшая за респектабельную, рекомендовала не задирать конкурентов, не покушаться без особой нужды на основной капитал США, Англии и Франции.
Готовность Англии, Франции и США сговориться с «благоразумными» и «солидными» деятелями в Германии вытекала – и это принципиально важно – из признания притязаний немецкого империализма как некоего имманентно присущего ему права. Западные державы ставили от силы пару условий: экспансия – «да», но в районы, которые по разным причинам не были жестко сочленены со сферами влияния демократий, и желательно экспансия без крайних форм принуждения. До нападения на Польшу эти неписаные правила хорошо, худо ли – соблюдались. После польского похода нацистам давалась возможность «исправиться», продолжив без промедления агрессию на Восток. На взгляд оппонентов Гитлера, он упустил редкостный шанс. Сие куда существенней, чем полководческие ошибки, которые фюрер делал или которые ему приписывают.
Почему нельзя об этом не говорить? Прежде всего, из-за точности, если не отменяется задача установить, когда и на чем внешнеполитические пути нацистской Германии и демократий разошлись. Не формально, а по существу. Это полезно знать, если есть желание выяснить, что из опрокинутого ходом развития сохранилось как реликт в подтексте политики западных держав, в подсознании ее ведущих персонажей после того, как антигитлеровская коалиция стала фактом и из имперских немцев начали выколачивать высокомерие, это нелишне высветить, чтобы понять, как атавизмы отражались не в формулировках союзнических решений, но в практике их реализации. Политические, идейные, социальные театры разнились от театров военных. Здесь тоже были свои вторые, третьи и т. д. фронты и множество боев за линиями, прочерченными на картах и в сознании.
Нельзя пренебречь, разумеется, неравномерностью развития и разнокалиберностью позиций США и их партнеров из числа демократий, различиями в положении, неодинаковыми традициями и несхожими перспективами. Великобритания боролась за удержание империи. Ей было не до пополнения копилки, хотя У. Черчилль, может быть, не без удовольствия подобрал бы кое-какие жемчужины, выпавшие из французской, бельгийской или голландской корон. Для США Вторая мировая война – пора становления великодержавных доктрин не как мечты, но как практической политики, пора выхода из «крепости Америка» на вселенский простор. Германской геополитике с определенного момента противостоял американский глобализм как концепция или тенденция. Если Германия к тому времени уже прониклась убеждением, что безопасность на континенте обеспечивается отсутствием или подрывом позиций потенциальных противников, то в Вашингтоне начали по меньшей мере предвкушать удобства быть самыми могущественными. Настолько могущественными, чтобы американские позиции под страхом возмездия стали неприкосновенными, а американские притязания – неоспоримыми[278].
Когда глобализм вырастает в принцип, неизбежны перестановки приоритетов, смена взгляда на друзей, союзников и партнеров. Подобное обращение совершается не вдруг, выражается не обязательно в одном документе, одним деятелем и в одно время. Почти всегда это процесс затяжной, тем более что приходится вникать и в противоречивый чужой опыт.
Ф. Рузвельт всегда или почти всегда знал, чего он будет держаться непременно. Вместе с тем президент вечно колебался в определении маршрута к искомому. Важнейшее в суждениях главы администрации – война не против фашизма или японского милитаризма, не из симпатий к англичанам и французам или сочувствия к русским, а за конкретный мир, который он к августу 1941 года определил для себя как мир «четырех свобод». Несущие фермы такого мира не враз сложились в целое. В 1939 – начале 1940 года Рузвельт допускал построение международного сообщества, расчлененного на ряд обособленных центров власти. В нем нацистская Германия и милитаристская Япония заполучили бы просторные сферы владычества. В отношении Советского Союза возникали, однако, сплошные загадки: какое отводить ему место и отводить ли вообще?
Соединенные Штаты могли позволить себе неспешные размышления и приготовления. Ощущения у них органично перерастали в представления, представления обкатывались в лабиринтах ведомств и в межведомственных спорах, прежде чем становились позициями или акциями. В отличие от других государств США не ставились перед беспощадной контрастностью – победить или погибнуть, одолеть врага сегодня или сегодня же сгинуть под его улюлюканье. Короче, если для СССР, как и большинства стран, попавших под прицел агрессоров, шла борьба за выживание, то для американцев, – пока другие конфликтовали, – на первом плане стояло упрочение имевшихся международных позиций и приобретение новых.
Прослеживается несколько этапов формирования американской стратегии, накопления потенциала и формулирования различных концепций его использования, несколько периодов раскачивания политического маятника, разрастания амбиций и манеры их презентации.
В послании конгрессу 3 января 1940 года Рузвельт открыто говорил о том, что Соединенные Штаты смогут выйти на роль лидера в момент установления мира[279]. Это, согласитесь, уже следующая ступенька в сравнении с выступлением президента в Кингстоне (Канада) в 1939 году, где он называл США «важнейшим фактором всеобщего мира независимо от нашего (американского) желания»[280]. С какого-то момента акцент приходился не столько на безопасность США, сколько на их особую функцию и назначение в сообществе народов. И в голосе Вашингтона отчетливей зазвучали металлические нотки.
Анализ стратегии и тактики Соединенных Штатов по отношению к Англии под этим углом весьма поучителен также для распознания подхода Вашингтона к СССР, Китаю, Франции, к коренным проблемам Второй мировой войны в целом. Помочь ближним? Почему бы нет, если с пользой для американского интереса. Еще в Первую мировую войну за эгоцентризм, слегка припорошенный лексикой из Ветхого Завета, к США прилипло прозвище «дядя Шейлок». Однако пока и насколько допускала ситуация, Вашингтон отдавал предпочтение категории собственных удобств и отведения от себя рисков.
С завидным спокойствием за океаном калькулировали дебет-кредит от эвентуального поражения Англии. В мае 1940 года Рузвельт вел с Маккензи Кингом, премьером Канады, тайные от Черчилля переговоры на предмет спешного перебазирования британского флота в страны Содружества, пока Англия «еще» не капитулировала перед Третьим рейхом. Даже в этот чрезвычайный момент в Белом доме всерьез не дебатировался вопрос: не включиться ли США в борьбу для упреждения нежелательного поворота в войне. Позже без всякого налета трагичности воспринималась перспектива поражения СССР, в чем в 1941 году из приметных американцев не сомневался почти никто и что в 1942 году предполагали многие. Одной неопытностью, политической и стратегической наивностью такое не объяснить. Даже эмигрантский нигилизм, засевший в каждом втором истинном американце, не скажет всего.
Заметим пока следующее: в конце 1940 года интенсивность американской помощи Англии соответствовала кратко– и среднесрочным прогнозам правительственных служб США, а количество выделявшихся ей (за полную стоимость) военных материалов отмерялось из расчета на выигрыш восьми месяцев, потребных для упрочения обороны Западного полушария. Общий расклад выглядел так: Англия продержится около полугода, и после ее поражения истечет не меньше двух месяцев, прежде чем нацистская Германия сможет приступить к операциям в Новом Свете.
В меморандуме генерала Дж. Маршалла от 17 января 1941 года говорилось об «обеспечении безопасности Североамериканского континента и, вероятно, всего Западного полушария независимо от того, будут они (США) в союзе с Англией или нет». Комиссия планирования объединенного штаба употребляла совсем недипломатичный язык: «Англичане никогда не упускают из виду свои послевоенные интересы – коммерческие и военные. Мы также должны в конечном счете заботиться о своих собственных интересах». Политический резон ставился впереди военного, но в «частичном расхождении военного планирования с национальной политикой» первое постепенно обгоняло вторую[281].
Где-то с начала 1941 года станет укореняться мнение, что «безопасность Северной Атлантики и Британских островов является общим базисом американо-английской стратегии». Условно общей основой псевдоединой стратегии. «Что касается других районов, – читаем мы в документе штабного комитета США от 12 февраля 1941 года, – там англичане должны сами по возможности защищать свои интересы, как Соединенные Штаты защищают свои интересы за морями»[282].
Если США вели себя так по отношению к Англии, то трижды политической и вдобавок идеологической была мотивация решений, выносившихся в Вашингтоне накануне и после нападения Германии на СССР. И вдруг небезынтересный нюанс: в конце 1940 – начале 1941 года американцы не вняли увещеваниям Лондона, звавшим к экономической блокаде Советского Союза.
Президент рассудительнее, чем премьер, отнесся к предвестникам разрастания войны на Восток. Он вернее истолковал заключение 27 сентября 1940 года Германией, Японией и Италией тройственного пакта, совместив в стратегической проекции этот пакт и попавшие в разведывательную сеть Вашингтона данные о приготовлениях нацистов к вторжению в СССР[283]. Окончательных выводов Рузвельт не делал, но считал нелишним позаботиться о том, чтобы не возникало непреодолимых препятствий для таких выводов на будущее.
В начале 1941 года С. Вуд, торговый атташе посольства США в Берлине, добыл гитлеровскую директиву № 21 (план «Барбаросса»)[284]. Американский историк Р. Доусон полагает, что эта директива стала «корректирующим элементом» в подходе американцев к Советскому Союзу[285]. Можно пойти дальше и сказать: завладение тайной плана «Барбаросса» явилось корректирующим элементом всей американской политики и, по-видимому, способствовало принятию важнейшего закона о ленд-лизе, установлению рабочих связей между штабами вооруженных сил США и Англии, введению в Соединенных Штатах (май 1941 года) «неограниченного чрезвычайного положения».
Сути не отменяет то, что ряд шагов администрации, особенно после подписания советско-японского договора о нейтралитете, сопровождался недружественными СССР выпадами или мерами, объективно наносившими урон взаимоотношениям между двумя странами. Больше всех усердствовал здесь госдепартамент, который президент не без причин клеймил как прибежище американских «умиротворителей»[286]. На отдельных этапах возникало как бы два непараллельных курса, не замыкавшихся только на советские дела, – госдепартамента и Белого дома, К. Хэлла и Ф. Рузвельта.
Цели Рузвельта после превращения Соединенных Штатов в воюющую державу не исчерпывались нанесением поражения Германии или Японии. Они не сводились, с другой стороны, к обеспечению общей победы держав антигитлеровской коалиции. США боролись за свой прообраз мира и с некоторого времени захотели, чтобы именно вашингтонская модель стала общей для остальных, чтобы именно на нее потрудился в особенности СССР. Конечному замыслу подчинялись планы наращивания американского военного производства и строительства вооруженных сил, графики их включения, если потребуется, в операции на театрах войны.
Вплоть до объявления Берлином[287] войны Соединенным Штатам глава администрации не терял надежды, что немцы предпочтут опосредованное участие США в конфликте прямому противоборству с агрессорами, надежды, что Вашингтону удастся так долго, как он найдет нужным, воздействовать на ход и исход борьбы, держась на отдалении. Спектр выбора у американцев в таком случае был бы завидным, возможности для ускорения или замедления отдельных процессов и их регулирования – недосягаемые для сражающихся соперников.
Оказавшись против своей воли втянутыми в войну, американские генералы и адмиралы загорелись было жаждой подвигов. Им не терпелось реабилитировать себя за унизительное фиаско в Пёрл-Харборе. Технически и организационно это было проще тогда сделать в Европе. Но «большая стратегия» подчинилась еще большей политике[288].
Несложно вычислить, сколь оторванными от жизни были военно-политические воззрения США до 1 сентября 1939 года (нападения Германии на Польшу), до 10 мая 1940 года (начала наступления вермахта на Францию) и до 22 июня 1941 года. Официально Вашингтон держался нейтралитета. Благожелательного по отношению к Англии, Франции и Польше, внимательного к Германии, Италии и Японии, заостренно критического к Советскому Союзу. Лично президент Рузвельт заземлил свое восприятие советского вскоре после нападения Германии на СССР. Если с началом войны в Европе глава администрации (5 сентября 1939 года) подписал прокламацию, подтверждавшую нейтралитет, вслед за чем были заморожены английские и французские заказы в США, то в советском случае он специально 26 июня 1941 года позаботился о том, чтобы ранее подвешенные советские контракты и фонды были разблокированы и СССР был предоставлен благоприятный режим для закупок необходимых, в том числе военных материалов[289].
Зимой 1939/40 года, однако, дела обстояли по-иному. Вашингтон интересовало главным образом недопущение разрастания войны на Запад. Совпадение усилий и до некоторой степени настроя США и Англии в тот период видно невооруженным взглядом. По обе стороны Атлантики интенсивно ломали головы, как убедить правителей рейха не зариться на позиции, которые не могут быть сданы без тяжелой борьбы, и завязать их на «освоение Востока». Рейху предлагались льготные условия полюбовной сделки, и поэтому в Лондоне и Вашингтоне плохо представляли, как она может быть отвергнута. Ошибка заключалась в том, что американскую деловитость и надменный британский рационализм прилаживали к авантюризму, к не знавшему доселе равных иррациональному фанатизму.
До конца 1939 года Лондон и до мая 1940 года Вашингтон убеждали сами себя, что Гитлер не произнес последнего слова. И это вопреки сведениям, которые текли рекой через Канал и океан. Помимо «военной» (Бек, Канарис, Остер и другие), на американцев и англичан выходили представители «гражданской оппозиции» (К. Герделер, Я. Шахт, братья Кордт, Хассель, Тротт, Донани), действовавшие напрямую или через Ватикан, Швецию, Швейцарию, Испанию, Португалию, Турцию. Герделер контактировал в США с К. Хэллом, Г. Стимсоном, Г. Моргентау, Г. Гувером, крупными промышленниками. Рузвельт, по некоторым данным, поддерживал контакт со старшим сыном кронпринца Вильгельмом, которого прочили на случай антигитлеровского переворота в регенты.
Текст и подтекст практически всех демаршей немецких диссидентов довольно одноцветен: Европе и Америке ни к чему растрачивать ресурсы в семейных склоках, им надобно сплотиться в борьбе против коммунизма и России. Замирению должно предшествовать окончательное устранение скверны Версаля. Уступки, которые, возможно, потребуются со стороны Англии и Франции, с лихвой окупятся вкладом Германии в борьбу с «большевизмом». Держа шаг с нацистскими военными успехами, «оппозиционеры-патриоты» взвинчивали свои претензии.
Американцев и англичан не могли не настораживать созвучия программ противников нацизма с установками Гитлера. Различие сводилось больше к методологии – фюрер брал без спроса и без меры, его оппоненты хотели бы получить по-хорошему все, что когда-то было или могло стать немецким.
У осторожного Рузвельта, вероятно, не умещалось в сознании, как крупное государство способно ринуться во все тяжкие, ставя цели, несоразмерные его потенциям. Гитлеровская заявка на европейскую и тем паче на мировую гегемонию казалась блефом, понадобившимся Берлину, чтобы заполучить приличный кус. Присматриваясь к Герделеру и его кругу[290], глава администрации обязан был спрашивать себя: по чьим нотам поют оппозиционеры, стремившиеся превратить свержение фюрера в капитал, которого достало бы на оплату экспансионистской политики германского империализма без нацистов. Голова Гитлера не тянула на ту цену, кою за нее требовали.
В ходе поездки по Соединенным Штатам (1938 год) К. Герделер заключал, что Вашингтон не хочет серьезной ссоры с Германией. Не укрылось от Герделера и то, что американцы предпочитали иметь дело не с неведомыми величинами, а с облеченными властью правителями.
Возвратившись домой, бывший обер-бургомистр Лейпцига передал в имперскую канцелярию доклад, в котором напирал на преимущества «мирной экспансии». Вместе с англосаксами, но не против них немцы получат практически все, подчеркивал он. Сотрудник канцелярии Виземан отказался двигать доклад по инстанции, заявив: «Война – дело решенное, именно война с целью создания Германской империи; последняя должна включать, кроме Великой Германии, Польшу, Украину, Прибалтийские государства, Голландию, фламандское ядро Бельгии, Люксембург, Бургундию, Эльзас, Лотарингию и Швейцарию»[291].
Допустим, Испании и Австрии было мало, чтобы понять – «Майн кампф» не свод бредовых идей, а установка на действие. Предположим, чехословацкая драма не отозвалась в холодных, расчетливых англосаксонских сердцах. Факты, однако, показывают, что Польша также не вывела демократии из душевного равновесия.
Верно, что попытки подредактировать закон о нейтралитете Рузвельт предпринял за девять месяцев до начала большой войны в Европе: закон в первоначальном издании работал против Англии и Франции, соотношение сил смещалось в пользу Германии. В послании конгрессу 4 января 1939 года президент предложил подправить текст таким образом, чтобы его положения не распространялись на демократические страны[292]. Рузвельта не поддержали. Лишь после объявления Англией и Францией войны Германии президент смог договориться с сенаторами и конгрессменами о более эффективном «обеспечении нейтралитета» и 4 ноября 1939 года подписал закон, вводивший правило «плати наличными и сам вези». Оружие тоже.
Но вот что симптоматично: новый закон не вызвал лавины английских и французских военных заказов. Сохранилась ситуация, своеобразие которой еще 17 ноября 1939 года подметила «Нью-Йорк таймc»: «Замедленные темпы иностранных заказов на машинное оборудование составляют одну из особенностей этой войны, в известной мере подкрепляющих версию о близком мире»[293]. Не вызывает сомнений, что больше, чем оружия, консервативный Лондон жаждал в тот момент от США услуг (но именно услуг, а не дирижерства) для наведения мостов между конфликтующими сторонами, пребывавшими в состоянии войны лишь про форма.
Через деловые круги, прессу, деятелей, известных изоляционистскими настроениями, дипломатические каналы, а также с помощью немецких оппозиционеров велась прицельная обработка президента и его окружения. Официальный Вашингтон подвигали на инициативу, призванную, как не без сарказма отмечали немецкие дипломаты в США, сохранить Германию «в качестве подручного западных держав в их борьбе против России»[294]. Рузвельт медлил: с одной стороны, подмывало желание локализовать войну, с другой – замирение предполагало признание сдвигов в композиции сил, которые излишне укрепляли германский империализм. Против посредничества выступал К. Хэлл. Госсекретарь не верил в его полезность и, кроме того, опасался, что мирные зондажи снизят и без того невысокий боевой дух западных держав, их волю к сопротивлению[295].
Президент резко переложил руль с началом советско-финской войны. Отказ правительства Р. Рюти вопреки рекомендациям, в частности фельдмаршала К. Маннергейма, принять к рассмотрению сначала просьбу, затем предложения, под конец требования советской стороны о передаче в аренду, продаже либо обмене пограничных участков в непосредственной близости от Ленинграда[296] на большие по площади и природным ресурсам территории Сталин использовал как предлог для крайне непопулярной и столь же неудачной военной операции против Финляндии. Ф. Рузвельт предложил (29 ноября 1939 года) свое посредничество – сразу после аннулирования Москвой днем раньше советско-финского договора о ненападении. Заместитель наркома иностранных дел СССР В. Потемкин, который принимал 30 ноября посла Штайнгарта, выполнявшего поручение президента, ответствовал, что «нет возможности воспользоваться добрыми услугами». Зимняя война уже началась.
Ни до, ни после волна антисоветизма в Соединенных Штатах не вздымалась выше, чем в зиму 1939/40 года. Истеричность нападок на правительство СССР и государство в целом не шла даже в отдаленное сравнение с эпитетами, употреблявшимися в отношении агрессий Японии, Италии и Германии.
Администрация без привычной раскачки осуществила серию репрессалий против Советского Союза: 1 декабря авиастроительным предприятиям было предложено «добровольно» прекратить выполнение советских заказов, 2 декабря введено эмбарго на предоставление судового фрахта, 20 декабря запрещены продажа и поставки СССР, Германии и Японии чертежей, оборудования, лицензий на изготовление авиационного бензина, а также соответствующей технической информации. Фирмам, осуществлявшим техническое содействие строительству нефтеперерабатывающих предприятий, предписывалось отозвать из Советского Союза свой персонал, невзирая на условия контрактов. В январе 1940 года предполагалось запретить экспорт в СССР любых нефтепродуктов и металлолома, но, поскольку непредоставление фрахта само по себе решало задачу, к этой мере решили не прибегать.
Всерьез взвешивалась возможность разрыва дипломатических отношений. Получившее относительно широкую известность письмо Ф. Рузвельта своему другу послу США в Токио Дж. Грю: как можно «иметь дело с нынешними советскими лидерами, поскольку их представления о цивилизации и человеческом счастье тотально отличаются от наших», – лишь видимая часть айсберга. Администрация психологически настраивалась принять эстафету «умиротворения» Германии, оставшуюся без присмотра в сентябре 1939 года.
Зимой 1939/40 года Вашингтон осуществил одну из самых рискованных акций, чреватых кардинальным разворотом всей войны. У подавляющего большинства историков недостает страниц, чтобы высветить различные аспекты и грани «миссии Уэллеса», поныне пребывающие вне поля видимости. А жаль, совместными усилиями, возможно, удалось бы докопаться до хотя бы средних горизонтов, несмотря на то что материалы, касающиеся сути данного заместителю госсекретаря поручения, рассекречены с большими купюрами, если вообще открыты для исследователей.
Миссия С. Уэллеса в Европу (февраль-март 1940 года) не была «информационной». В выступлении 16 марта 1940 года по радио Рузвельт говорил о необходимости продумывания «моральных основ для мира»[297]. Р. Шервуд изображает целью путешествия С. Уэллеса выяснение «возможностей заключения справедливого и длительного мира». Р. Тагвелл полагает, что президентом руководило намерение свести на нейтральной почве Гитлера, Муссолини и Чемберлена для обсуждения условий окончания войны.
С. Уэллесу, выступавшему в качестве личного представителя главы администрации, была дана инструкция не отдавать предпочтения англичанам и не создавать впечатления, что Вашингтон и Лондон сообща обслуживают послевоенные проблемы. Для придания большего веса соображениям, помещенным в портфель заместителя госсекретаря, Вашингтон созвал в начале февраля 1940 года совещание «нейтрального» блока с приглашением Италии, Испании и ряда других государств в основном из Латинской Америки. На совещании речь шла об ограничении вооружений и создании «здоровой международной экономической системы»[298]. Согласно немецким данным, среди фигурировавших модальностей значилось четырехлетнее перемирие между воюющими сторонами вместе с параллельными экономическими переговорами, в которых участвовали бы США, Япония и Италия (и исключался СССР)[299].
Советский Союз заранее вычеркивался также из европейского маршрута С. Уэллеса. Были предусмотрены остановки в Риме (25–26 февраля), Берлине (1–3 марта), Париже (7-10 марта), Лондоне (11–14 марта) и снова в Риме (16–20 марта). Рим не случайно открывал и замыкал кольцо. Рузвельт обдумывал, не потрафит ли немецкому руководству совместный с Муссолини «миротворческий акт» – расширенное издание Мюнхена. Соответственно Италию, участницу «стального пакта», вели по разряду «нейтралов».
Н. Чемберлен проникся подозрительностью к поездке С. Уэллеса. Не желая уступать США лидерство, он через Лозанну передал бывшему рейхсканцлеру Германии Йирту сообщение для оппозиции из пяти пунктов:
1. Даются заверения в том, что британское правительство не воспользовалось бы временным кризисом, который мог бы последовать за акцией оппозиции (против Гитлера), для нанесения ущерба Германии, к примеру – проведением атаки на Западе.
2. Британское правительство выражает готовность сотрудничать с новым германским правительством, которому сможет доверять, и оказать Германии необходимую помощь.
3. Другие обещания требуют предварительного обговаривания с французским правительством. С согласия Франции были бы возможны детальней сформулированные заверения.
4. На случай участия Франции в переговорах желательно получить ориентировку о времени осуществления внутригерманского предприятия.
5. Если бы акцию немецкой оппозиции облегчило проведение со стороны западных стран диверсии, то британское правительство было бы готово в пределах возможного пойти навстречу такому пожеланию.
При передаче этого сообщения чиновники Форин офис говорили, что оно будет связывать Лондон до конца апреля 1940 года (то есть сроком намеченного Гитлером наступления на Западе, потом перенесенного на май). Заслуживающим доверия называлось правительство, члены которого намерены порвать с захватнической политикой рейха и покончить с «прусским духом», а также осуществить определенные «организационные меры», в первую очередь в отношении вермахта. Соответственно в будущем правительстве не может быть ни одного члена действовавшего правительства, в том числе Геринга[300].
Примерно то же подтвердил 22 февраля 1940 года Галифакс в ответ на изложенные фон Хасселем условия заключения мира[301]. На уровне парой ступенек ниже большинство немецких территориальных требований не отвергалось, но, блюдя условности, англичане давали понять, что в Австрии, возможно, придется устроить плебисцит. Здесь же обговаривались технические детали открытия переговоров о перемирии и мире. За оптимальное принималось посредничество папы римского Пия XII.
В ориентировке английскому послу в США лорду Лотиану Н. Чемберлен выражал уверенность, что доведенные до сведения оппозиции условия окажутся приемлемыми «для значительного числа элементов в Германии»[302]. Внешний сигнал для начала намеченных акций – отмена мер по затемнению[303].
Американцы больше полагались на сигналы из «внутренних сфер». Они еще не предали нацистскую верхушку анафеме[304]. Приезд заместителя госсекретаря США в Берлин до посещения британской столицы сам по себе достаточно красноречив, а панегирик, пропетый Герингу в изданной в 1944 году и – надо же – в Лондоне книге С. Уэллеса «Время решений», – прямо-таки повод для спекуляций.
Основными партнерами посланца президента были в рейхе Гитлер, Геринг, Гесс, Риббентроп, Вайцзеккер. Меньше всего ему удался диалог с имперским министром иностранных дел 1 марта. В двухчасовой арии Риббентропа лейтмотивом было признание за Германией права на европейское издание «доктрины Монро» (затем министр поправился – центральноевропейское). В самолюбовании он не уловил смысла сообщения, сделанного Уэллесом: США в качестве нейтральной державы, конечно, не могут вести переговоры о мире за Англию, Францию и Германию, но если бы участники войны сошлись вместе, то Соединенные Штаты включились бы в усилия для достижения «реальных ограничений и сокращений вооружений» и восстановления «экономической системы мировой торговли»[305].
Согласно немецким записям, Уэллес зондировал, какие модели посреднических услуг, по мнению Риббентропа, устроили бы Берлин[306].
Вайцзеккер от разговора по существу уклонился, заметив, что жесткие директивы запрещают ему выходить за рамки сказанного министром. Неофициальная беседа невозможна, поскольку помещение не защищено от подслушивания. Статс-секретарь посоветовал Уэллесу самое важное излагать напрямую Гитлеру, и лучше минуя Риббентропа.
Без Риббентропа не получилось, ибо фюрер пригласил его участвовать в разговоре. При разъяснении американского видения ситуации Уэллес делал ударение на то, что путь к достижению стабильного, справедливого и надежного мира не закрыт и в интересах всех, в том числе нейтральных стран, сохранить его открытым и дальше. Заместитель госсекретаря пролил дополнительный свет на подоплеку американского плана.
Формально мирные переговоры – забота воюющих сторон. Смысл подключения к переговорам США есть сведение воедино усилий во имя двух фундаментальных урегулирований, благодаря которым возник бы более безопасный и упорядоченный мир. Перемирие между странами, оказавшимися в конфликте, перекрывалось бы более широкими решениями. Достоинство последних, между прочим, состояло бы в отторжении идеологических шлаков и в ориентации на непреходящие величины. «Да» – «ограничению и сокращению вооружений», но, естественно, без ущемления принципа равноправия и при обеспечении процветания международных экономических отношений.
Не открывалась ли бы с такой базы, спрашивал Уэллес, перспектива примирения, прежде чем война примет разрушительный характер и дверь, ведущая к миру, окажется захлопнутой?[307] Из самого вопроса вытекало, что широкое урегулирование может предварять конкретные решения и поглощать их. Что осталось бы, например, от блокады Германии, если бы реализовать принципы «свободы мировой торговли»?
Гитлер, наверное, приметил, что представитель президента США не ставил предварительных условий, а нацистской политики экспансии касался вскользь, проецируя задачи на будущее. Прочный и подлинный мир труднодостижим, давал понять Уэллес, пока соседи Германий воспринимают ее как угрозу своей безопасности и независимости. В воздухе висело: рейху пристала иная роль, роль защитника европейской культуры. Истолкованием философии своего визита Уэллес делал ясным даже бетонноголовым, что Гитлеру отводилось весьма почетное место среди «некоторых государственных деятелей», способных предотвратить ужасы войны на уничтожение.
Фюрер, в свою очередь, напирал на желание жить в согласии с Англией и выражал сожаление, что его «искренние и честные предложения», переданные через посла Гендерсона (25 и 28 августа 1939 года), не нашли должного отклика в Лондоне. Он ссылался также на делавшиеся Англии и Франции оферты в части разоружения (ограничение численности сухопутных сил 200 тысячами, в другом случае – 300 тысячами человек), на которые, по его словам, Германия вообще не получила ответа. Тем не менее он, Гитлер, не теряет интереса к урегулированию и выступает за установление пределов в области вооружений, включая военно-морские, и особенно для наступательных систем оружия.
Нацистский предводитель подхватил идею оздоровления мировой торговли и «обогатил» ее требованием признания за Германией преимущественных экономических позиций в Восточной и Юго-Восточной Европе. Главное препятствие на пути к миру, по Гитлеру, – в несовместимости «целевых установок», которыми руководствуются в войне Германия, с одной стороны, и Англия и Франция – с другой. Немцы не хотят уничтожения Британской империи. Британское правительство делает ставку на поражение и расчленение Германии[308].
Внимание Уэллеса привлекала фраза собеседника: он «уверен в триумфе Германии», но, если случится по-иному, «все погибнут вместе». Но в общем фюрер старался внедрить в сознание заместителя госсекретаря для передачи Рузвельту мысль, что он, Гитлер, готов включиться в строительство лучшего мира, если англичане и французы ответят взаимностью.
К 1944 году у С. Уэллеса несколько подослабла память не только в части им услышанного, но и самим сказанного. В этом убеждаешься, штудируя немецкую запись его беседы с рейхсканцлером. Пара иллюстраций: заместитель госсекретаря живо откликнулся на тезис Гитлера о его многочисленных инициативах в области разоружения репликой – «он также считает, что отклонение великодушных предложений было настоящей трагедией для Европы и мира»; на критику англо-французских концепций разрушения Германии Уэллес заметил: «американское правительство надеется, что может быть предотвращено уничтожение не только всех, но и каждой в отдельности из ныне участвующих в конфликте стран». «На взгляд американского правительства, – заявил Уэллес, – не существует лучшей гарантии длительного и прочного мира, чем объединенный, довольный и благополучный немецкий народ».
Г. Геринг оказался самым отзывчивым из берлинских собеседников американца. Он подтвердил отказ от претензий на Эльзас и Лотарингию, готовность гарантировать целостность Британской империи и восстановить (после окончания военных действий) в каком-то виде «Чехию» и Польшу. Он не оправдывал антиеврейские погромы в рейхе. Проявленный Герингом интерес к концепции мира, возведенного на процветании мировой торговли при ограничении гонки вооружений, побудил Уэллеса ознакомить его с текстом меморандума на сей предмет. По сообщению Уэллеса, маршал выразил одобрение «каждому его слову»[309].
Возможно, и другие прореагировали бы так же, если бы им довелось тогда увидеть оригинал меморандума. Скажем, антифашисты. Но оппозиционные деятели занимали эмиссара Рузвельта постольку-поскольку. Вот Геринга американец заверял, что требования Германии будут учитываться при заключении «справедливого политического мира».
Перед отъездом из Германии С. Уэллес предупредил хозяев, что непременное слагаемое успеха его миссии – «Европа останется спокойной в ближайшие четыре-пять недель»[310]. Он установил, таким образом, примерно те же временные рамки для «компромисса», что и Чемберлен в контакте с Виртом.
Вняли ли этому его берлинские клиенты? Лишь отчасти. В этом можно удостовериться, заглянув в материалы, касающиеся приема Гитлером 4 марта 1940 года американского промышленника Муни, якобы имевшего доступ к президенту США. Возможная функция Вашингтона дефинировалась на этот раз так: Соединенные Штаты могли стать «честным маклером (модератором)» на мирных переговорах. В ответ, инсценируя покладистость, Гитлер выражал уверенность, что в прямом разговоре с Рузвельтом ему «удалось бы очень быстро прийти к соглашению», а именно на следующей основе:
1) Германия готова уважать реальность мировой державы Англии, как и реальность Франции. Она ожидает, чтобы ее тоже уважали как мировую державу;
2) если взаимное уважение установится, можно заключать мир;
3) если бы был заключен мир, то можно было бы отказаться от вооружений и высвободившиеся трудовые ресурсы направить, улучшив порядок мировой торговли, на выполнение более продуктивных задач.
И затем в материалах всплывает многозначительное примечание – рекомендация «эксперта» по имени Дикхофф: «Если какая-то американская акция вообще может что-то обещать, то акция Сэмнера Уэллеса, а не акция Муни».
При всех своих разговорах в Берлине Уэллес вел речь о «войне в Европе», не уточняя ее географических и прочих параметров. Он уловил, что Гитлер обошел молчанием проблематику отношений с СССР, в том числе при изложении взглядов на будущий «мирный порядок». Затрагивался ли в той или иной связи советско-финский конфликт?
Эта сторона дела проступает в доступных материалах более чем скудно. Включая материалы о пребывании Уэллеса в Риме, Лондоне и Париже. Можно тем не менее принять не как догадку, а очевидность, что:
а) Зимняя война была одним из доводов в попытках США склонить Англию и Францию к скорейшему улаживанию «недоразумений» с Германией;
б) параллельно с Лондоном и Парижем Вашингтон подталкивал финнов к интернационализации конфликта[311];
в) не случайно, что британский кабинет принял решение интервенировать в Финляндию (через территорию Норвегии или Швеции) в момент пребывания С. Уэллеса в Лондоне 12 марта. Судьба, однако, распорядилась так, что именно в этот день был подписан советско-финский мирный договор;
г) по окончании Зимней войны миротворческий ажиотаж за океаном резко спал. Германии заготовили индульгенцию в обмен на массированную «помощь» Финляндии. С отпадением финского элемента вся комбинация лишалась смысла[312].
Имелась еще одна весомая причина свертывания миссии С. Уэллеса – через папу Пия XII, министра иностранных дел Италии Чиано, оппозиционеров родом из Германии администрация США была извещена, что Гитлер остался при намерении нанести удар по Франции[313].
Третья причина – афронт Лондона. Британские лидеры никак не желали сдать претензии на забойную роль в Европе или делиться ею с «неотесанными» американцами, независимо от конкретики возможного урегулирования.
В начале 1940 года окружение Чемберлена, по данным Дж. А. Эллиота, снова потянуло к «гармонизации» интересов Англии и Германии. За исходное бралась посылка: экспансия отражает объективные потребности 80-миллионного германского рейха и, если не ставить целью его уничтожение, необходимо определиться, какой из вариантов экспансии мог бы устроить англичан. В дилемме «проникновение на Восток» или «проникновение на Запад» выбор соотносился не с соображениями момента и эмоциями, а подчинялся холодному расчету[314].
Сигналом к смене вех должны были стать вооруженная интервенция английского экспедиционного корпуса в Финляндию с одновременными налетами британской и французской авиации на южные районы СССР[315]. Понятно, не сигналом вовне, а доведенным до «заслуживающих доверия деятелей рейха» политическим демаршем Лондона. Кто конкретно имелся в виду? Ответ – в британских архивах.
Пока приходится принять как непреложный факт: самые крупные и технически наиболее сложные военные операции, разрабатывавшиеся штабами Великобритании и Франции в первые полгода после вступления их стран во Вторую мировую войну, нацеливались не против Германии. Не «задирать» немцев, пока теплится надежда на озарение в том же Берлине. Линия Мажино позволяла отсидку до морковкина заговенья, если не лезть противнику на глаза и соблазнять его известной в армиях всего мира притчей: солдат спит – служба идет.
Со ссылкой на уязвимость своих авиастроительных заводов Париж отвел даже такой паллиатив, как английский план минирования Рейна. Консерваторы собирались заткнуть им, как кляпом, рот критикам ничегонеделания.
Что экономили в «странной войне» с Германией: живую силу, вооружения, боеприпасы, материалы, энергию, фантазию, – демократы мобилизовали для использования в других регионах. Под упомянутое решение высадить экспедиционный корпус в Финляндии было собрано 40 тысяч военнослужащих. Для десантов с моря сыскались транспорты, средства военно-морской и авиационной поддержки. И завяжем узелок на память: погода не смущала. Одновременно готовились авианалеты французских и британских ВВС с баз в Сирии и в Ираке на бакинский промышленный район и нефтяной порт Батуми. По официальной версии, демократии намеревались таким образом запечатлеть свою решимость помочь слабому (в данном случае Финляндии) и наказать возмутителя спокойствия (СССР). Не зря сказано: желание может горы свернуть. Второй фронт – в отсутствие реального первого.
Почему Польшу не удостоили «принципиальностью»? Почему задумали продемонстрировать Берлину свои мускулы не в боях с вермахтом, а нападая на Советский Союз? Догматик Сталин бил своих, чтобы чужие боялись. Демократов с Темзы и Сены прельщала другая модель: бей чужих, чтобы свои приуныли.
Баку и Батуми выбрали объектами для бомбардировок под предлогом пресечения поставок нефти в Германию. Отправка значительных объемов советских нефтепродуктов немцам была делом будущего. Нефть в рейх текла в основном из Румынии, попадала туда через Италию, Испанию, Швейцарию, Швецию, Балканы с Ближнего Востока или – прямиком или кружным путем – из США. Никому в Англии и Франции в голову не приходило их бомбить или, как в советском случае, в порядке подготовки к налетам проводить, понятно нелегальную, аэрофотосъемку целей, подлежавших поражению.
Особую ретивость развили французы. Если Англию занимало больше десантирование в районе Нарвика – Киркенеса (с потайной мыслью, сказав прости финнам, овладеть затем Норвегией), Франция жаждала войти «как нож в масло» на Кавказ. Прекращение Зимней войны до того потрясло Э. Даладье, что он подал в отставку с поста главы правительства Франции. Его преемник П. Рейно утвердил планы рейдов против районов Баку и Батуми, «в наказание» Советского Союза за неуважение к англо-французской экономической блокаде рейха. В операции военно-воздушных и военно-морских сил вовлекалась Турция, а также Иран. Несмотря на скепсис Лондона, операция должна была со дня на день стартовать, и тут подвел Гитлер – развернул наступление на Францию.
Негативный общественный резонанс как в момент проведения, так и по окончании миссии С. Уэллеса был Рузвельту назиданием. За слухами, будто администрация ищет «мира любой ценой», по некоторым данным, стояли англичане. Н. Чемберлену президентский посланец не потрафил, У. Черчилля он принял за пропащего алкоголика. Позиция Вашингтона по экономическим вопросам показалась консерваторам вызывающей, хотя американцы приоткрыли лишь свои исходные экономические требования. 23 марта 1940 года Рузвельт публично констатировал, что шансы на установление мира в Европе ограничены[316].
Согласно «личному предположению» Р. Шервуда[317], Рузвельт в глубине души надеялся, что Англия и Франция окажутся непобедимыми на Западе, а Советский Союз будет сковывать Германию на Востоке, и тем самым возникнет тупик, который сохранится до тех пор, пока немецкий народ не сочтет для себя полезным покончить с политикой «пушки вместо масла» и восстать. И воцарится мир без того, чтобы у американцев возникла необходимость выбираться из своего воздушного замка.
Возможно, Рузвельт верил сплетням, что немцы живут впроголодь и грезят восстанием. Но не позднее чем с поражением Франции – скорым, сокрушительным, унизительным – президенту открылось, что Гитлера не остановят ни уговоры, ни подачки, ни предупреждения, что на него способны подействовать только сила более мощная, чем имелась у рейха, решимость более несгибаемая. В сознании Рузвельта забрезжила концепция, которая позднее примет вид формулы «безоговорочная капитуляция агрессоров».
В программной речи по радио, произнесенной 19 июля 1940 года, четыре месяца спустя после «миссии Уэллеса», Рузвельт отверг мир с Третьим рейхом на основе переговоров, поскольку он «будет продиктован теми же трусливыми соображениями, которые продиктовали капитуляцию в Мюнхене, то есть страхом перед силой нацистов и опасением того, что, если эта сила будет ликвидирована, Германия перестанет играть роль буферного государства между Россией и Западом»[318]. Здесь и отбой, что касается Германии, умиротворению, и размежевание с мюнхенцами из числа демократий (не исключая американских), и становление «нового курса» во внешней политике отныне не только в теории.
Эту эволюцию могли стимулировать данные о заинтересованности Гитлера в сговоре с Англией. Но если даже допустить маловероятное, что такие данные выпали из поля видимости администрации, Рузвельт и его советники должны были задуматься над загадкой Дюнкерка, связать воедино позволение британскому воинству эвакуироваться с континента и последовавшие за этим дипломатические демарши Берлина.
19 июля 1940 года Гитлер предложил англичанам выход из войны на условиях признания совершенных Германией захватов и, между строк, сплочения сил Запада в борьбе с общим противником. Последнее, во избежание недопонимания, пояснялось через Ватикан[319]. В дневнике германского морского штаба (21 июля 1940 года) упоминается «влиятельная группа» в Англии, интересовавшаяся деталями мирного урегулирования с Германией.
Угрозе вторжения на Британские острова – операции «Морской лев» – был придан внушительный вид в августе – сентябре 1940 года, после того как Черчилль, пришедший на смену Чемберлену, не откликнулся на прощупывания Гитлера. Под этот план со всей Германии и оккупированных стран было собрано (и частично приспособлено к плаванию с людьми и военной техникой на борту по тихой воде) около 4000 судов, барж, буксиров, катеров. Расчет количества транспортных средств производился из задачи высадить в первые два дня 138 тысяч человек и в последующие двенадцать дней еще 110 тысяч офицеров и солдат[320]. Но Гитлер никак не связывал себя формальным решением действительно показать флаг на британском берегу. Перенося сроки «10-дневной готовности» с августа на сентябрь, с сентября «до более поздней даты», он давал указания Редеру «сохранять угрозу вторжения, даже если самого вторжения не будет».
Последнее распоряжение фюрера касательно «Морского льва» пришлось на 24 января 1944 года с отнесением даты начала исполнения на двенадцать месяцев[321]. Все вернулось на круги своя. Генералы ворчали, стоило ли отвлекать столько сил и материальных средств на проект, задуманный как «средство политического давления», чтобы повысить восприимчивость Великобритании к предлагавшемуся ей из Берлина миру. Свою роль прикрытия подготовки к нападению на Советский Союз «Морской лев» давно отыграл.
Британским государственным деятелям, историкам, публицистам нет нужды изобретать «поворотное значение победы» на Ближнем Востоке, в Северной Африке или где бы то ни было еще, когда в их активе есть такой неоспоримый и, с точки зрения воздействия на ход мировой войны, неоценимый успех, как выигранная «воздушная битва за Англию». Это было – без натяжек и передержек – первое поражение гитлеровской военной машины, первый сбой в стратегии блицкригов, первое вынужденное отступление, смешавшее не просто графики отдельных операций. Нацистам пришлось перетасовывать стратегические приоритеты в концепции завоевания континентального и глобального превосходства.
При характеристике здесь происшедшего и совершенного не претенциозно звучит понятие «перелом». Британцы вправе, кроме того, добавить: Англия отразила атаки «Адлера»[322] в противоборстве с агрессором один на один. Офицеры, сержанты, солдаты – все, кто держал в трудную осень 1940 года на своих плечах английское небо, – исполнили свой национальный долг. Им, не дозволившим обрушить это небо на землю, выпало высечь первый верстовой знак на долгом тернистом пути к общему триумфу объединенных наций.
В великом познании, утверждают французы, много печали. Если бы рядовые защитники Великобритании военных лет ведали, как редко призывы к стойкости, героизму, самопожертвованию, адресованные им, политики обращали к самим себе, печалью дело бы не обошлось.
Во всякой войне и в каждой стране, ее ведущей, слова и цифры униформируются не меньше людей. Положение обязывает политиков мыслить на несколько темпов вперед и непрерывно пропускать через себя варианты развития, не предназначенные для видимого, переднего края. Камень преткновения, однако, не в этом. В политике, как и в искусстве, решает чувство меры. При его дефиците и тем паче отсутствии все может мгновенно превратиться в свою противоположность: гибкость – в беспринципность, сомнения – в раздвоение души, двоедушие – в предательство самого себя и дела.
Поэтому не обойтись без тщательной и многократной инвентаризации и ревизии военного наследства – клятв в верности, заверений в дружбе, обязательнейших из обязательств. Положение и должность, имя и репутация – ничто не страхует от сюрпризов, большей частью, к несчастью, во вкусе циников и отпетых пессимистов.
Объявление войны было для многих тори чем-то вроде, повторим, последнего «серьезного предупреждения» Германии. Замиряться в октябре – ноябре 1939 года, по горячим следам «польского похода», мешала взбудораженность общественного мнения. В декабре полегчало – появился новый громоотвод: СССР напал на Финляндию. А множившиеся симптомы нежелания французов воевать с «главным противником» и вовсе побуждали доверять сакраментальный вопрос – «быть или не быть» – уже не только дневникам, но и озадачивать им коллег по военному кабинету.
Где-то в канун Рождества прошла первую пробу формулировка: любые идеи (предложения) достойны изучения, поскольку они служат сохранению свободы и независимости Британской империи. Инициатором новых раундов дискуссий был Галифакс.
С оккупацией вермахтом Норвегии и Дании споры получили подпитку. После 10 мая 1940 года они велись беспрестанно с упором на качество условий, которые можно выторговать у Гитлера. Условий для Британской империи, а не для кого-то еще. Галифакс, Чемберлен, Батлер и ряд других министров отстаивали тезис: было бы глупо не принять условий, которые не угрожают свободе и независимости Великобритании. Черчилль допускал возможность определенных жертв для сохранения в неприкосновенности «существенных элементов нашей (британской) жизненной силы».
Какие элементы и что понимать под неприкосновенностью, Черчилль не уточнял. 25 мая 1940 года он озадачил кабинет неожиданным маневром: отпадение Франции как союзника не катастрофа, оно может быть компенсировано экономической и финансовой поддержкой США, при наличии такой поддержки Англия в состоянии противостоять германской агрессии.
Как, однако, поступить, если французское правительство односторонне прекратит вооруженную борьбу: рвать союз с Францией, подождать, чем кончатся ее переговоры с Германией, или самим примоститься к этим переговорам с какого-нибудь бока? Был ли Дюнкерк невидимыми нитями связан с бурными дебатами в британском кабинете, достигшими своего апогея 26–28 мая, на которых определялся дальнейший курс Англии в войне?
Вне сомнений, личный приказ Гитлера, отданный в полдень 24 мая Рундштедту: остановить войска в 24 километрах от Дюнкерка и тем позволить эвакуацию личного состава британского экспедиционного корпуса[323], – был продиктован преимущественно политическими расчетами. Попытки замкнуть это критически важное решение на оперативно-технические обстоятельства не выдерживают проверки фактами. Выпадение из войны Франции избавляло англичан от обязательств перед неудобными союзниками. Сама Англия де-факто разоружалась: ее солдаты и офицеры отплыли домой без оружия и техники. Оставалось подбить бабки, вскинув длань не для нацистского приветствия, а для почти дружеского рукопожатия через Канал.
Доведенные до сведения англичан условия прекращения состояния войны, по некоторым данным, перекликались с идеей партнерства при наведении «стабильного порядка» в Восточной Европе. Заминка в реагировании Лондона могла сойти за некое обнадеживающее предзнаменование, приглашавшее еще до подписания перемирия с Францией в Компьенском лесу заняться прикидками, как быстрей разделаться с СССР. Первоначально Гитлер примерял вариант – немедленная переброска соединений вермахта с запада к советской границе и практически с колес наступление по всему фронту. Внешний предлог – включение в состав Советского Союза трех Прибалтийских республик несовместимо с договоренностями 1939 года и является угрозой рейху. Йодль и затем другие генералы убедили фюрера в неосуществимости подобного замысла.
За несколько дней до привала войск Рундштедта у Дюнкерка Гитлер заявил в присутствии Гальдера: «Мы ищем точки соприкосновения с Англией на основе раздела мира». Вскоре после эвакуации англичан с континента Гитлер в кругу близких сотрудников заметил: «Армия – становой хребет Англии и ее империи. Если мы разобьем экспедиционный корпус, империя погибнет. Поскольку мы не хотим и не можем стать ее наследниками, мы должны оставить ей шанс. Мои генералы не поняли этого». Ожидания, что дюнкеркский аванс настроит англичан на примирительный лад, высказывали осторожный Вайцзеккер, близкий к Герингу генерал Йешоннек и другие[324].
Но похоже, премьер У. Черчилль оттачивал на Гитлере тактику, с которой предстояло затем иметь дело Сталину и реже Рузвельту: «обещать, как метко заметил еще в XVIII веке французский моралист, соразмерно расчетам и выполнять обещанное соразмерно опасениям».
Между бескомпромиссной войной и компромиссным миром перекатов не счесть. В исполнении Черчилля вражда могла приобретать почти дружественные оттенки, а дружба – весьма враждебные. Он мог раздумывать над использованием химического оружия для отражения немецких десантов на Британские острова и держать в загашнике оливковую ветвь на случай, когда Лондон вырвется из тянувшей его ко дну трясины.
Для мая-июля 1940 года, однако, верно: У. Черчилль проявил недюжинную волю, не уступив массированному давлению ни домашних пораженцев (от лорда Галифакса и герцога Виндзорского до некоторых церковников и лейбористских парламентариев), ни пестрой компании рвавшихся в советчики и «умиротворители» зарубежных деятелей типа бывшего президента США Гувера и сенатора Тафта, Дж. Ф. Даллеса и Линденберга (тогда – председатель архиреакционного комитета «Америка прежде всего»), посла Дж. Кеннеди[325], Пия XII и диктатора Франко, короля Швеции и швейцарских министров. Любителей, родственных К. Буркхардту, – легион.
Не здесь ли кроется разгадка ребуса: французские вооруженные силы, не уступавшие по численности, составу, вооружению немецким и располагавшие девятью месяцами для приведения себя в полную готовность, сломались за какие-то пару недель? Убедительней многотомных сочинений маститых военных историков и отставных военных поныне звучат слова Э. Моурера – журналиста, сотрудничавшего с шефом американской разведки У. Донованом. В записке, подготовленной по поручению основателя управления стратегических служб, Моурер писал: прежде всего, французская нация «сломалась морально»; высокопоставленные офицеры, богатые промышленники и видные политики были «настроены враждебно к Третьей республике; многие были склонны считать, что авторитарный режим типа итальянского и немецкого функционирует лучше; он спасет позиции привилегированного класса и, конечно, избавит Францию от необходимости защищать самое себя. Если суждено быть войне, то пусть это будет война против безбожных большевиков. Другими словами, под конец половина, а может быть, и большинство влиятельных французских граждан стало верить именно в то, в чем хотел их уверить Гитлер»[326].
Нечто неотдаленно похожее висело грозовой тучей над Англией. За Черчиллем стояли начальники штабов, и это давало ему перевес во внутреннем раскладе сил, хотя и лабильный. После инспекционной (не в переносном смысле) поездки У. Донована и затем трех высокопоставленных офицеров вооруженных сил США, командированных Рузвельтом в Лондон, чтобы удостовериться, насколько способна Англия продолжать войну, подтвердить или опровергнуть депеши посла Кеннеди, убеждавшего Белый дом: поражение Альбиона неотвратимо, – Вашингтон разомкнул уста. Посланцы президента в общем приняли сторону Черчилля. Это не устранило колебаний главы администрации, но все же склонило его к моральной поддержке премьера, не исключавшей помощи также поставками оружия.
Неточны утверждения, будто к сентябрю 1940 года терпение Гитлера истощилось и он списал Англию – с Черчиллем или без оного – как партнера или попутчика. К этому времени фюрер зафиксировался на агрессии против Советского Союза. Ресурсами для двух войн одномоментно он не располагал. Очередность операций предопределяла тактику кнута и пряника, минимальная задача, а именно обеспечение невмешательства и выжидание Лондона[327], пока Россию будут ставить на колени, представлялась не эфемерной. Если бы даже англичане решились на поддержку СССР, у них не было бы к середине 1941 года необходимых для этого боеготовых войск.
Вместе с тем можно доказать, что пряник до мая 1941 года показывался чаще из-под полы, как бы за спиной Гитлера или вроде бы вопреки его запретам. По принципу: запретный плод слаще.
Особо тщательно конспирировались контакты Р. Гесса с англичанами, осуществлявшиеся в 1940–1941 годах через А. Хаусхофера, сына профессора и генерала К. Хаусхофера – основоположника германской геополитики. На английской стороне на связь с ним выходили сэр Ян Гамильтон и герцог Гамильтонcкий. По крайней мере, Гесс был уверен, что переписывается лично с ними. Заместитель фюрера способствовал тому, чтобы «Морской лев» ни на какой стадии не вышел за рамки планирования. Между прочим, А. Хаусхофер рекомендовал, как более надежный канал связи, британского посла в Вашингтоне Лотиана, но Гесс настоял на варианте Хаусхофер-Гамильтон[328]. На свою голову.
Согласно досье «Черная Берта» советских специальных служб, отслеживавших «аферу Гесса», заместитель фюрера состоял в переписке не с Гамильтоном, а с Интеллидженс сервис. Гесса по всем правилам искусства разыграли и вытянули в Шотландию. За один прием решалась двуединая теорема – приструнивались британские продолжатели дела Чемберлена и не позднее раскрытия инкогнито Гесса[329] полковником Грэхемом Дональдом и его окончательной идентификации Киркпатриком Лондон знал, что в действительности держал на уме глава нацистского режима.
Раскроем досье, заглянем «Черной Берте» в глаза. 14 мая 1941 года Ким Филби оповестил Москву: Гесс «привез с собой мирные предложения». 18 мая советский разведчик доложил, что Гесс «прибыл в Англию для заключения компромиссного мира, который должен приостановить увеличивающееся истощение обеих воюющих сторон и предотвратить окончательное уничтожение Британской империи как стабилизирующей силы». Сведения из США и самой Германии подтверждали, что вояж Гесса совершался по заданию или, как минимум, по согласованию с Гитлером и в случае успеха должен был ускорить нанесение удара по Советскому Союзу.
В своем донесении от 18 мая Филби с присущей ему проницательностью отмечал: «Сейчас время мирных переговоров не наступило, но в процессе дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение компромиссного мира и будет полезным для мирной партии в Англии и для Гитлера». Пока же – 23 мая – английской разведке МИ-6 давалась директива использовать «дело Гесса» для дезинформации советского правительства[330].
А. Хаусхофер, а также Попиц, Хассель и ряд других оппозиционеров использовали каналы К. Буркхардта. 30 января 1941 года последний сообщил Хасселю, что, по поступившим к нему сведениям, британский кабинет (за исключением Идена) заинтересован в достижении мира с Германией примерно на следующих условиях: восстановление Бельгии, Голландии и в каком-то виде Польши (без провинций, некогда бывших немецкими); Дания и «Чехия» – сфера немецкого влияния; бывшие германские колонии возвращаются рейху. Мир не может быть, однако, заключен с Гитлером. Он «вне всякого доверия».
Весной 1941 года через Буркхардта на англичан осторожно вышел Гиммлер. Выяснялись шансы окончания войны с вариантом вступления на пост канцлера его, Гиммлера. Зондаж был повторен в сентябре того же года со ссылкой на то, что «в окружении Гиммлера» серьезно озабочены складывающимся положением и задумываются над выходом из него. Таким образом, плану Гесса – мир западных держав с Гитлером – вырисовывалась альтернатива – мир в отсутствие Гитлера[331].
В американских публикациях встречаются сетования на то, что британское правительство не посвятило США в тайну Гесса. Говоря о колебаниях и подчеркнутой осторожности Рузвельта, Р. Шервуд приводит президентскую телеграмму Гопкинсу: «Я не знаю, что произойдет, если к началу 1942 года Англия все еще (по смыслу правильнее – опять) будет сражаться в одиночку». Рузвельт сообщал своему другу о беспокойстве кабинета, которое может перекинуться на весь народ. Гопкинс увидел здесь намек на возможность усиления влияния английских сторонников «умиротворения».
Призывы Гесса к «разуму» могли «найти сочувствующих слушателей, в особенности в палате лордов, – продолжает Р. Шервуд. – Постоянные предложения Гесса, уверенно делавшиеся им от имени Гитлера, предусматривали заключение мира, который признавал бы и гарантировал мощь и престиж Британской империи в целом, предоставляя Германии контроль над Европейским континентом и свободу рук против „большевиков“. Гесс повторял снова и снова, что надежды на действенное вмешательство Америки иллюзорны, что Россия обречена, что положение Англии безнадежно, и потому английское правительство проявит безумие, если оно, пока еще не поздно спасти шкуру стареющего льва, не примет предложенную Гитлером дружбу»[332].
Серьезный исследователь Р. Шервуд, ста страницами выше утверждавший, будто Вашингтон ничего не ведал о посулах Гесса, приводит выдержки из «бесконечного монолога» заместителя фюрера. Был ли это монолог? Сомнительно.
Гиммлер поручил В. Шелленбергу наладить контакт между Гессом и его семьей. Англичане не возражали, и письма пошли через Красный Крест в Швейцарии[333]. Фактически до 1943–1944 годов Гесс оставался миной замедленного действия, которой Англия могла при желании воспользоваться и которую она на всякий случай долго не обезвреживала. Само за себя говорит то обстоятельство, что ни Гесс, ни англичане не просветили «аферу века» на Нюрнбергском международном трибунале, словно между ними было условлено: одному сохранят жизнь, а другому – честь.
Связи Лондона и Вашингтона с представителями нацистской верхушки, службами безопасности, Верховным командованием, оппозиционерами разных мастей поддерживались с переменной интенсивностью на протяжении всей войны. Приливы и отливы, как и само содержание обменов мнениями, зависели от положения на фронтах и оценок общих перспектив. Англичане и американцы спорадически сверяли часы, но в основном вели каждые свою линию. Британские консерваторы, которых тревожило «чрезмерное усиление» США, систематически подпитывали у верхушечной немецкой оппозиции надежду на возможность сделки с Черчиллем, если Гитлер будет устранен[334].
Возвращаясь к событиям 1939–1940 годов, следует заметить, что до поры до времени взаимный отказ Лондона и Берлина от наступательных действий составлял материальный фундамент возможного сближения позиций и притирки интересов. Суть различий в подходе Англии и Германии сводилась к следующему: первая смотрела на войну как на бизнес и уговаривала Берлин не пренебрегать британской «покладистостью», вторая, отрицая все традиции, возводила силу в абсолют. Выразив готовность удовлетворить территориальные запросы относительно умеренных из среды оппозиционеров, англичане в какой-то момент предвкушали успех. Все уперлось в «нейтрализацию» Гитлера. Даже не в политическое или иное его устранение.
Часть заграничных контактов оппозиции осуществлялась под присмотром нацистских служб и предназначалась для дезориентации противника[335]. Это не объясняет легкомысленного обращения западных держав с данными, которые передавались им сотрудниками абвера и МИД Германии, а также через Ватикан (В. Канарис, Г. Остер, Э. и Т. Кордты, Хассель, Тротт цу Зольц, О. Кип, Хефтен, Й. Мюллер, Г. Донани) и пренебрежительного отношения к самим информантам, надежность которых была проверена в малом и большом. Они заблаговременно сообщили дату и час нападений на Польшу, затем на Данию и Норвегию, Францию, Бельгию и Голландию. Твердолобость тори демонстрировала себя самым буквальным образом: сталкиваясь с сильным соперником, бежать от всякого риска; изматывать врага терпением и упорством; подставлять под удары других, держась, поскольку удается, на отдалении.
После разгрома Франции и установления Третьим рейхом контроля почти над всей Западной Европой Рузвельта осенило, что надобно не противиться агрессору, а бороться с ним. До англичан дошло, что им нацистский вызов и японскую угрозу в одиночку не одолеть, что Альбион завязан на поддержку извне. Время «разделяй и властвуй» сбилось с ритма. Оно имело для Англии смысл, когда разделяли других, а навар от власти доставался ей самой.
Новые политические познания подверглись начальной проверке во взаимоотношениях самих демократий. Сотрудничество к пользе партнеров, но не обязательно к пользе взаимной и равной. В момент пересмотра концепции нейтралитета и принятия закона о ленд-лизе по вашингтонским коридорам власти прокатилась волна шовинизма. Почему бы в обмен на помощь не заполучить колонии и владения Англии, Франции, Голландии в Новом Свете? После капитуляции французов конгресс США принял резолюцию о непризнании «перехода какого-либо географического района в Западном полушарии от одной неамериканской державы к другой неамериканской державе»[336].
Двойной стандарт вопиющий: в Восточном полушарии кроите-перекраивайте с намеком, что Австрия и Судетская область могут быть не последними поправками на политической карте, разумеется в «интересах мира». Западное полушарие, однако, не замайте. И демократический цинизм примечателен. Колонии помечены как «географические районы». Населению «районов» сулили дальнейшее бесправие.
Рузвельт выступил за «опеку» над территориями, чьи метрополии утратили дееспособность. Роль «опекунов» должны были исполнять несколько государств Нового Света, но во главе с США. Совещание МИДов американских государств (Гавана, 21–30 июля 1940 года) приняло по сему поводу конвенцию «О временном управлении европейскими колониями и владениями, расположенными на Американском континенте»[337].
К весне 1941 года были составлены планы оккупации американскими вооруженными силами Гренландии, Исландии, Азорских островов и Мартиники, проведения других военных операций. В декабре 1940 года консул США в Рейкьявике Б. Кунихольм обсуждал с исландским премьером возможность включения Исландии в сферу «доктрины Монро», что позволило бы американцам «законно» взять на себя ее оборону. К. Хэлл распорядился прервать переговоры, а 14 января 1941 года Гопкинс и Уэллес провели с санкции президента совершенно секретную встречу с исландским генконсулом в Вашингтоне Т. Торсом. Она завершилась направлением «от имени премьер-министра Исландии» просьбы отрядить на остров американский военный персонал.
В Исландию была направлена бригада морской пехоты. В дополнение к (размещенным там) английским войскам и, возможно, для их замены… «поскольку они нужны в других местах». Англичане заикнулись было насчет создания единого командования группой во главе с британским генералом. Командир американской бригады получил приказ: «Координируйте ваши действия по обороне Исландии с оборонительными действиями английских войск путем сотрудничества друг с другом»[338].
Делегации США на переговорах об аренде британских баз в обмен на 50 американских эсминцев (январь-февраль 1941 года) предписывалось ни под каким видом не соглашаться на «взаимное использование (баз) в период мира и в период войны», чего добивался Лондон. Больше того, Рузвельт потребовал удаления британских ВМС из района арендуемых баз. Принятием этих и прочих американских требований президент, по сути, обусловил одобрение конгрессом закона о ленд-лизе[339].
Столбился прецедент – никакого смешения ответственности и, главное, никакого подчинения американского военного персонала иностранному руководству. Гладко прошедшая высадка в Исландии и Гренландии падет позднее на чашу весов операции «Суперджимнаст» («Торч»), когда пробьет час выбирать, где и как США вступать в борьбу на Атлантическом театре войны. Пока же Вашингтон, получая определенные дивиденды, последовательно уклонялся от политических обязательств перед Лондоном.
С весны 1941 года стратегически важными районами в разработках американских военных значились Атлантический океан и в особенности – Исландия, Азорские острова, острова Зеленого Мыса и Дакар. Президент одобрил проведение секретных штабных переговоров с англичанами, но в основном с целью обмена информацией и сопоставления мнений. Неопределенными представлялись не только отдаленные, но даже ближайшие перспективы: все еще не исключались поражение Англии и захват Германией Британских островов.
В это время, отмечает Р. Шервуд, «американский народ был меньше, чем когда-либо, склонен вмешиваться в дела Европы. С американского угла никакой Европы больше не существовало». В число активных изоляционистов входили крупнейшие промышленники. Форд отказывался выполнять заказы для англичан. Другие, в уверенности, что война будет недолго, считали невыгодным переводить производство на военные рельсы. По ряду предприятий прокатились забастовки протеста против выпуска военной продукции. Для подавления одной из них на заводе «Норт америкэн» в Инглвиде (Калифорния) по приказу главы администрации была применена вооруженная сила[340].
Коль так, а подвергать сомнению достоверность информации и оценок Р. Шервуда или Ч. Хайэма нет оснований, значит, нацисты добились некоторых успехов в морально-психологическом воздействии на США. Рычаг для «умиротворения» заокеанской державы Гитлер ухватил за длинный конец, и, сложись «русский поход» по-иному или не выстои Англия сначала в битве за воздух, потом в сражении на море, Соединенные Штаты могли бы отдрейфовать туда, куда их хотели поставить на якорь Гувер, Тафт, Фиш, Даллес.
Следовательно, жизнь не скупилась на треволнения. Политика ублажения агрессоров полностью провалилась. Как впредь? С часу на час ожидали германской агрессии против СССР. Во что она выльется? Все беспросветней становилась ситуация на Дальнем Востоке. И здесь время упреждения худшего было бездарно растрачено.
Президент Ф. Рузвельт замкнулся, еще больше отдалился от госдепартамента, полагаясь на собственное чутье и мнение узкого круга доверенных лиц. Он упрямо держался тактики реагирования на обстоятельства. Поступай иначе, глава администрации, возможно, потерпел бы поражение в конгрессе, довел до открытого конфликта и без того натянутые отношения с деловыми кругами, утратил поддержку шаткого общественного мнения. Еще много раз Рузвельт будет выносить решения слишком поздно и бросать на чашу весов слишком мало. В процессе обучения на великую политическую и военную державу Соединенные Штаты совершат новые крупные просчеты. Инерция прошлого загасит не один благой порыв.
И все-таки 1940–1941 годы – переломная пора в военно-политических воззрениях Рузвельта и становлении новейших государственных доктрин США. Именно тогда шли высев самых разных идейно-политических культур и их первичная селекция, в том числе американского подвида «мировой ответственности», который после смерти Рузвельта утратит положительный заряд и выродится в заявку на мировую гегемонию, если даже ей для благозвучия присвоят название «лидерство».
Глава 5 Советско-американские отношения на распутье
Первая половина 1940 года прошла под знаком неуклонного ужесточения политики США в отношении Советского Союза. Заявления Молотова заискивающей перед Третьим рейхом тональности, постыдные жесты одобрения захватов Дании и Норвегии, успехов вермахта во Французской кампании должны были, независимо от мотивов, которые двигали Сталиным, вызывать возмущение и возбуждать самые фантастические подозрения. Даже и в тех случаях, когда оборонительная направленность тех или иных советских действий, в сущности, не подвергалась в администрации США сомнению.
Весной 1940 года Ф. Рузвельту причудилось установление советско-германского военного сотрудничества с целью установления совместной мировой гегемонии. Военные эксперты США «не исключали» советского удара по Аляске. Где страхи не находили зацепок в действительности и иррациональном поведении Сталина, там поспешали наводить тоску послы США в Москве (Штайнгардт), в Париже (Буллит), в Лондоне (Кеннеди), американские военные атташе.
Укоренилось мнение, что плохую услугу отношениям между двумя державами в 1939–1941 годах оказал советский полпред К. Уманский. Он, наверное, не являл собой воплощения галантности. Но все в поднебесье относительно. В отличие от Л. Штайнгардта, перенесшего в советскую столицу нравы, кои он усвоил, будучи послом в Перу, К. Уманский не считал, что интересы СССР и США несовместимы, что различия в политическом и социальном устройстве обрекают две державы на безбрежную конфронтацию. А если бы К. Уманский, представляя свою страну, не чтил принципа равноправия, ему следовало бы сменить род занятий.
Л. Штайнгардт был убежденным последователем школы, отрицавшей равенство между неравными. Он держался, если без витийств, принципа: хочешь – плати. С Советского Союза надо было драть еще и идейную шкуру.
Мелкий, но симптоматичный факт. Посольство США в Москве потребовало освободить его сотрудников от пограничных формальностей. Советские власти не согласились на подобное изъятие из общих правил. Штайнгардт внес в госдепартамент предложение (Хэлл принял его) не удовлетворять заявку на проход советского судна через Панамский канал. В порядке «взаимности».
Отсылки к «взаимности» фигурировали при каждой второй репрессалии. На протесты в связи с конфискацией готового к отправке оборудования, заказанного и оплаченного советской стороной[341], или отзывом из СССР, в нарушение контрактов, американских специалистов следовало издевательское – «можете поступить так же».
Ни один посол, наверное, не потратил столько энергии на отравление отношений со страной пребывания, как Штайнгардт. Два года нахождения в Москве в основном тем и тешился, что доказывал: пропащее это занятие – инвестировать в Советский Союз, ибо горбатого исправит лишь могила.
Ф. Рузвельт держался в это время более жесткой линии, чем его государственный секретарь или У. Черчилль. Президент инициировал большинство решений, которые расценивались в Москве как недружественные или враждебные. Он не поддался уговорам британского премьера предпринять совместный демарш перед Сталиным с целью побудить его исправить прогерманский перекос в политике СССР[342].
В середине июля 1940 года руководитель США был близок к тому, чтобы списать Советский Союз, как рекомендовали Буллит и Штайнгардт, в лагерь держав оси. Указывая на действия СССР в Литве, Латвии и Эстонии, С. Уэллес заявил 27 июля К. Уманскому, что Вашингтон не в состоянии обнаружить принципиального различия между немецкой и советской агрессивностью[343].
И вдруг… В тот же день и в той же беседе заместитель госсекретаря – по поручению президента – предложил К. Уманскому, «учитывая критический пункт, к которому пришла мировая история», заняться «расчисткой советско-американских отношений от недоразумений». До апреля 1941 года полпред и С. Уэллес провели более двадцати встреч. С. Уэллес отговорил Рузвельта от новых внешних проявлений недовольства политикой СССР, как «не дающих полезного результата в данный момент». Более того, был отменен ряд ранее введенных ограничений и запретов в области торговли, а в январе 1941 года отозвано «моральное эмбарго». Последнее весьма существенно: СССР снова переводился в разряд миролюбивых держав и потенциальных партнеров.
На фоне явного крена Москвы в сторону Берлина, перемен в Прибалтике и информации (предвзятой или фальшивой) о тонусе экономического сотрудничества между СССР и Германией предложение С. Уэллеса К. Уманскому не казалось слишком логичным. Что же случилось?
Судя по данным из недипломатических источников, Вашингтон получил во второй половине июля 1940 года информацию о намерении Гитлера развернуть под барабанный бой о будто бы предстоявшей высадке в Англии подготовку нападения на Советский Союз. Операция «Фриц»[344] стала для фюрера высшим приоритетом. При оценках американцами сроков ее проведения не снимался вариант – осень 1940 года. И тут подкарауливал очередной алогизм. Смертельная угроза надвигалась на СССР с Запада, а в центр обмена мнениями с полпредом заместитель госсекретаря выдвинул Дальний Восток.
Соглашение о демаркации советско-маньчжурской границы (9 июня 1940 года) вызвало в администрации изрядный переполох. Заключение гласило: Япония расчищает тылы на севере, чтобы ринуться на юг. США не чувствовали себя готовыми к активным действиям «на два океана». Если в Атлантике они ставили на Великобританию, то на Тихоокеанском театре реальным противовесом японскому экспансионизму мог быть только СССР. Советский Союз был к тому же единственной державой, оказывавшей помощь Китаю. Не советами и обещаниями, как Соединенные Штаты, а поставками оружия в весомых объемах и на высоком по тогдашним критериям качественном уровне.
В сентябре 1940 года Моргентау и Уэллес (в обход госсекретаря Хэлла и преодолевая колебания президента) внесли через Уманского предложение о заключении тройственного соглашения США-СССР-Китай, которым, в частности, предусматривалось: Советский Союз передает Китаю оружие, американцы кредитуют эти поставки в счет будущего импорта советских сырьевых товаров.
Не требует комментариев расчет: сырье, которое купят Соединенные Штаты, не достанется Германии. Был ли он побочным или ключевым, предвосхитил этот расчет ответ Москвы или что-то другое повлияло на подходы Сталина, неясно. Факт есть факт – ответ советской стороны был спорым и близоруким. Москва упустила, никто теперь не поручится, возможно, лучший из представлявшихся ей с сентября 1939-го по июнь 1941 года шансов вернуть своей внешней политике известный простор, без которого СССР попадал в положение ведомого в связке Москва-Берлин. В любом случае советская сторона упустила реальный шанс оптимизации отношений с Соединенными Штатами, что, по-видимому, оставило след в общем развитии дальневосточной политики Вашингтона.
Усилия англичан и американцев в поиске точек соприкосновения с Советским Союзом познали еще пару всплесков. Наиболее примечательным из них было британское предложение «пять плюс четыре»[345], переданное 22 октября С. Криппсом заместителю наркома иностранных дел А. Вышинскому. Посол Штайнгардт получил указание в необязывающей форме поддержать британский демарш. В связи с заключением тройственного (Германия, Япония, Италия) пакта американцы выражали надежду, что «миролюбивые державы» и впредь не уступят требованиям, которые «несовместимы с их национальной целостностью». Советскому Союзу намекали на возможность политического сотрудничества с США, если он воздержится от подписания «политического договора с Японией»[346].
Лондон и Вашингтон были, похоже, осведомлены насчет трений в советcко-германских отношениях осенью 1940 года, которые не сводились лишь к нарушению Германией условий торгово-кредитного соглашения. Черчилль и меньше Рузвельт допускали, что идея запасной гавани может заинтересовать Сталина, ибо она делала Москву менее уязвимой при перетягивании каната с нацистским руководством. Ноябрьский визит В. Молотова в Берлин остудил У. Черчилля. До весны 1941 года охота обращаться к русскому сюжету у него угасла.
Откликаясь отчасти на советские полуобещания не втягиваться в войну, не прислуживать Германии или Японии и обеспокоенный кризисом режима Чан Кайши в Китае, Ф. Рузвельт не обрывал контакта заместитель госсекретаря – полпред. Акции СССР на вашингтонской бирже политических ценностей даже поднялись. Соединенные Штаты не поддержали британские предложения об «ограничении» продажи Советскому Союзу стратегических материалов (под предлогом их реэкспорта в Германию), но после подписания 10 января 1941 года в Москве новых экономических соглашений с немцами тщательней присматривались к движению товаров, шедших в Германию из СССР или через советскую территорию.
Как отмечалось выше, с середины января 1941 года все сколько-нибудь важные эволюции американской политики, касающиеся Европы, соотносились с приготовлениями немцев к операции «Барбаросса». Текст закона о ленд-лизе редактировался и принимался с проекцией на возможное введение Советского Союза в круг его пользователей[347]. Закон был подписан президентом и вступил в силу 11 марта, а за десять дней до этого посол Штайнгардт получил поручение «незамедлительно» встретиться с В. Молотовым для передачи доверительного известия: в распоряжении правительства США имеются надежные данные о намерении Германии в ближайшее время напасть на Советский Союз[348]. 20 марта настораживающая информация повторена и подтверждена С. Уэллесом К. Уманскому.
9 апреля заместитель госсекретаря и полпред встретились, чтобы продолжить рассмотрение обычных своих тем. Дипломаты условились о дате следующей беседы. Но их больше не было до развязывания Германией войны против СССР.
Причин тому, очевидно, несколько. Непосредственная – подписание 13 апреля 1941 года в Москве советско-японского договора о нейтралитете. Администрация полагала любое политическое соглашение между СССР и Японией противопоказанным ситуации в Дальневосточном регионе. Стоило поосновательнее вдуматься в строй рассуждений Уэллеса в ходе дискуссий с Уманским или смысл указаний Штайнгардту (26 октября 1940 года), и не было бы двух мнений: игнорирование советской стороной этой американской озабоченности подрезало крылья всему проекту «очищения отношений».
Посол Грю, дипломат консервативной школы и Советскому Союзу никак не благоволивший, телеграфировал из Токио, что договор от 13 апреля не может приравниваться к советско-германскому пакту о ненападении, никаких двухсторонних проблем он не решает, скорее отграничивает их от взаимоотношений с третьими странами. Грю не видел в случившемся признаков пересмотра китайской политики Москвы[349].
Это мнение перекликалось с донесением Штайнгардта, который в данном случае на редкость уравновешенно отмечал: договор носит оборонительный и перестраховочный характер. В предвидении осложнений с Вашингтоном, к которым Токио подталкивает германская политика, Мацуока стремился предотвратить американо-советское сотрудничество. В свою очередь, Москва искала способа нейтрализации дальневосточного соседа на случай агрессии Германии против СССР. Посол высказывал предположение (совершенно правильное), что договор был заключен вопреки желанию Берлина или по меньшей мере без согласования с ним[350].
Рузвельт не согласился ни с двумя послами, ни с госсекретарем Хэллом, также полагавшим, что договор от 13 апреля не требует внесения изменений в позицию США. На взгляд президента, агрессивные державы наращивали усилия по окружению Нового Света, а нейтрализация СССР позволяла Токио уверенней вести курс на доминирование во всей Восточной Азии. Штаб ВМС получил приказ готовиться к операциям против военных кораблей и подводных лодок Германии западнее 25-й долготы, и вместе с тем была отменена намеченная ранее переброска части американского тихоокеанского флота в Атлантику, без чего возможности содействия проводке конвоев в Великобританию оставались весьма скромными.
Прекращение обмена мнениями С. Уэллес – К. Уманский сигнализировало возврат США к рестриктивному курсу в экономических отношениях с Советским Союзом. 11 апреля вышло распоряжение госдепартамента о невыдаче СССР лицензий на любые виды товаров, которые необходимы для оборонительных программ США или для поддержки правительств, получающих американскую помощь по закону о ленд-лизе. Мотивом для отказа в лицензиях объявлялось «подозрение», что товар может быть реэкспортирован в Германию или будет использован в Советском Союзе для развития производств, выполняющих немецкие заказы[351].
В результате оказались аннулированными все уже выданные советской стороне лицензии. До 22 июня 1941 года СССР не получил ни одного нового разрешения на закупку товаров в США. «По внешнеполитическим резонам» были задержаны, кроме того, готовые к отправке в СССР партии бензина и нефтеперерабатывающее оборудование, введен запрет на транзит через территорию Соединенных Штатов соответствующих товаров, а также на заход иностранных судов в американские порты с грузами, предназначавшимися для Советского Союза. Имелось в виду отказаться от продления американо-советского торгового соглашения на 1941/42 финансовый год.
Некоторые из репрессалий без обиняков замыкались на заключение Советским Союзом договора с Японией. Сомнительно, однако, чтобы одно нежелание Москвы стать «восточноазиатской шпагой» Вашингтона против Японии[352] вызвало в США сход лавины антисоветизма. Договор от 13 апреля скорее походил на ту последнюю соломинку, что ломает верблюду спину. Попытки Сталина любой ценой отвести от себя войну с Германией будили в Белом доме самые черные подозрения. Политики, склонные полагаться скорее на инстинкт, чем на факты, видели Россию в роли младшего партнера Германии и ее сырьевого придатка.
7 июня Вашингтон ввел строго разрешительный порядок на поездки советских дипломатов за пределы федерального округа Колумбия. Неделю спустя была взята под контроль администрации собственность европейских «континентальных государств» на всей территории США. Под этот акт попадала собственность также советских внешнеторговых организаций и их партнеров – американских юридических лиц.
Администрация энергично склоняла Лондон к конфронтации с СССР, отсоветовала ему завязывать диалог с Москвой, в пользу которого, по американским сведениям, был настроен Иден. Амплуа переменилось: если в конце 1940 – начале 1941 года к порке Советского Союза подталкивали англичане, а американцы их утихомиривали, то теперь британское правительство выступало модератором. Черчилль и его коллеги указывали на близившуюся развязку в нацистской «инсценировке Рапалло». Провоцировать в такой момент советское руководство представлялось им неразумным. Стоило задуматься над тем, что делать через неделю-другую, когда нападение Третьего рейха на СССР создаст в корне отличную ситуацию.
Вывод о вероятности войны между Германией и СССР был сделан британским объединенным разведывательным комитетом 23 мая 1941 года. Возможные последствия нацистского нападения рассматривались, как отмечает профессор Г. Городетский, исследовавший позицию Великобритании по документам кабинета министров, Форин офис и военного министерства, «исключительно через призму дестабилизации обстановки, которая могла бы повлиять на британские интересы на Среднем Востоке и в Индии». В качестве «контрмеры» против прорыва Германии на Восток предусматривалась оккупация Ирана, чтобы позволить английским ВВС «зажечь невиданный костер» в районе бакинских промыслов. Командующему британскими войсками на Среднем Востоке генералу Уэйвеллу были даны соответствующие указания[353].
В середине июня, когда агрессия Германии против СССР считалась делом почти решенным, начальникам штабов было рекомендовано не делать намеков на желательность союза с СССР, ограничиваясь терминами «общий враг» и «общая цель» – «нанесение Германии максимально большого ущерба» (А. Иден). Британский вклад определялся (17 июня) единственно как «благоприятное отношение (к России) в недалеком будущем»[354]. Задача – поощряя СССР к сопротивлению агрессору, но без отвлечения на помощь русским британских ресурсов выиграть примерно восемь недель для подготовки к отражению вторжения вермахта на Британские острова.
14 июня 1941 года Черчилль направил президенту США послание, в котором ставился вопрос о возможном «поощрении» России на сопротивление агрессору и оказании помощи ей. Оно встретило за океаном неоднозначный прием. Формально ответ Рузвельта (20 июня) укреплял британского премьера в готовности поддержать Советский Союз. Давалось даже обещание примкнуть к любому заявлению Черчилля, в котором он назовет «Россию» союзником.
Госдепартамент тем временем углубился в проработку модальностей развития с позиций державы, которая может себе позволить роскошь выжидать и наблюдать, не чувствуя себя ни перед кем обязанной, располагает привилегией сортировать окружающий мир по Критериям, ею самой определенным. Не согрешить, будучи в положении Соединенных Штатов и владея их ресурсами? Констатируем как данность: ни прежде, ни тогда, ни позже не было на земле системы, режима, правительства, способных и готовых сначала свои дела и вслед чужие мерить по совести, соотнося их с нормами морали, неодинаково выражаемыми, но неизменно присутствующими во всех мировых религиях, в большинстве позитивных политических и социальных теорий, возносимыми порой на уровень международно-правовых аксиом.
14 июня К. Хэлл поручил поверенному в делах США в Лондоне срочно посетить А. Идена, чтобы поставить его в известность о новых директивах, которые кладутся в основу дальнейших отношений с СССР:
«1) не предпринимать никаких попыток сближения с советским правительством;
2) сдержанно относиться к любым шагам, которые может предпринять советское правительство нам навстречу, до тех пор, пока советское правительство не даст удовлетворяющих нас свидетельств, что дело не ограничится маневрами с целью достижения односторонних уступок и выгод для себя;
3) отклонять любые советские предложения, рассчитанные на наши уступки в интересах „улучшения атмосферы советско-американских отношений“, и если мы захотим что-либо дать Советскому Союзу, то требовать строгой qui pro quo (взаимности);
4) не допускать отступления от принципов ради улучшения отношений;
5) в целом давать понять советскому правительству, что мы считаем задачу улучшения отношений одинаково важной как для Советского Союза, так и для Соединенных Штатов, если не более важной для Советского Союза;
6) базой наших повседневных отношений, насколько их надо поддерживать, является принцип взаимности».
В тот же день эти установки поступили в посольство США в Москве. Штайнгардт был, естественно, за «твердую политику» как наилучший способ поддержания американского престижа и возделывания почвы под перемены в будущем[355].
Англичане высказали ряд контрсоображений, которые было поручено учесть при составлении сотрудниками европейского отдела Атертоном и Гендерсоном нового варианта директивы. 21 июня 1941 года его одобрил С. Уэллес. На случай германо-советской войны дипломатическое ведомство рекомендовало придерживаться следующего:
«1) мы не должны делать Советскому Союзу никаких предложений или давать советов, исключая случаи, когда Советский Союз сам будет напрашиваться на них;
2) если какой-либо запрос относительно возможной помощи Советскому Союзу в связи с германо-советским конфликтом поступит в департамент, минуя представителя советского правительства, следует отвечать, что советское правительство пока не вступало в контакт с нами на сей счет;
3) если бы советское правительство напрямую обратилось к нам с просьбой о поддержке, мы должны были бы, насколько это возможно без ущерба для нашей помощи Великобритании и жертвам агрессии, а также не в ущерб нашим собственным усилиям и приготовлениям, ослабить ограничения на экспорт в Советский Союз, допустив даже поставки военных материалов, в которых там есть острая необходимость и без которых мы в состоянии обойтись;
4) экономическая помощь, которую мы можем предоставить Советскому Союзу в форме поставки материалов, должна осуществляться напрямую на основе взаимной выгоды и вне рамок сотрудничества с третьими странами;
5) мы должны настойчиво придерживаться линии: тот факт, что Советский Союз ведет вооруженную борьбу с Германией, не означает, что он защищает, сражается за принципы или уважает принципы в международных отношениях, кои мы поддерживаем;
6) что касается поддержки, которая может быть оказана в случае германо-советского конфликта, то мы не должны давать обещаний и избегать брать на себя какие-либо обязательства в части нашей будущей политики в отношении Советского Союза или России. Прежде всего мы не должны идти ни на какие договоренности, которые позднее могли бы вызвать впечатление, что мы действовали не лучшим образом, если в случае поражения советское правительство было бы вынуждено покинуть страну, а мы не признали бы Советского правительства в изгнании или отказались признавать советского посла в Вашингтоне представителем России»[356].
Установки едва ли не противоположные обещанию Ф. Рузвельта 27 мая 1941 года помочь всем, кто «силой оружия сопротивляется гитлеризму или его эквиваленту», не ожидая, когда «нацисты появятся на нашем (США) парадном дворе». Мастера «расширительных интерпретаций», что Госдепартамент постоянно держит на изготовке, могли ухватиться за слово «эквивалент» и придать ему свою смысловую нагрузку. Но сделать это после ответа президента на послание У. Черчилля и его подсказку Лондону назвать «Россию» союзником? Или «Россия», прежде чем «Барбаросса» начал терзать свою жертву, уже не идентифицировалась с Советским Союзом и, как можно прочитать между строк в творении Атертона-Гендерсона-Уэллеса, даже противопоставлялась последнему?
Р. Келли и Л. Гендерсон вывели особый подвид экспертов, отрицавших за СССР права и интересы, что свойственны любому государству. В госдепартаменте искусственно поддерживался климат, не терпевший уравновешенности суждений в делах, касавшихся Советского Союза. Если и когда в действиях того же Уэллеса давало себя знать нечто схожее с объективностью, подобное было чаще отсветом неких процессов вокруг президента, а не плодом собственных размышлений.
Читатель, наверное, приметил, что надвигавшийся на Востоке катаклизм чиновники госдепартамента скромненько окрестили «германо-советский конфликт». Еще надо будет взвесить: признавать ли его за европейское или мирового масштаба событие, за войну между государствами или повести как схватку идеологий? Этот момент еще проявит себя.
Во многих публикациях, обращенных к поведению держав в канун и в первый период после нападения Германии на Советский Союз, с разной степенью выпуклости присутствует мысль: 22 июня 1941 года прочертило межу, разделившую вчера и сегодня в политике Вашингтона. А. Фонтен, автор книги об истории разрядки 70-х годов, назвал свое произведение «Ложе одно, а сновидений два». Здесь же и ложе было врозь, а сновидений считать – не пересчитать. От суровых реалий не увильнешь. Однако задолго до того, как беспредметная живопись обратила в бегство классическую, власть имущие развили в искусство беспредметную политику. В ней народы, человек не есть мера всех вещей. Они – некая пристежка к государственной машине, обслуживающей эгоистический групповой интерес или чью-то страсть прослыть мессией.
Много воды утечет и почти столько же крови, прежде чем «борьба добра и зла», как в годы войны чаще всего именовалась схватка с нацизмом, станет отливаться в формулы, параграфы, статьи правовых актов. Первоначальная тяга к аллегориям, образам, параллелям шла не от красноречия. Она передавала дефицит идейной общности на стороне противников Германии, Италии и Японии. Более или менее было ясным, что должно отвергать. Как эффективно противодействовать агрессорам? С этим обстояло уже сложнее. Что касается совместной выработки и фиксирования целей в войне, дальномерной стратегии в ней, основ послевоенного устройства, то Советскому Союзу понадобилось захватить стратегическую инициативу на поле брани, прежде чем США повели диалог по существу и с Москвой и с Лондоном. Мало было битвы под Москвой. Понадобились еще Волга и Курская дуга, чтобы на Потомаке (и на Темзе) прозрели: не получится казавшееся этаким заманчивым распределение ролей: русские – за галерных гребцов, англичане – за лоцмана, американцы – за капитана.
В 30-х годах Англия и Франция не имели статуса «естественных» союзников или партнеров в глазах Соединенных Штатов, а нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония не являлись для Вашингтона априорными противниками. Мировоззренческие расхождения не считались препоной к нахождению взаимопонимания с державами оси. Реальная роль США в «умиротворении» агрессоров значительней, чем традиционно признается, к тому же Вашингтон держался курса на «компромисс» с Германией дольше, чем Лондон и Париж.
Еще выраженней утилитарно строился подход Соединенных Штатов к СССР. Если с американскими интересами это совмещалось, ничто не мешало солидаризоваться с комбинациями, ставившими Москву вне международного сообщества, и самим вызывать такие комбинации. Если ощущалась потребность, чтобы Советский Союз побатрачил на США, то удавалось убедить себя, что идеология в межгосударственных делах не сверхглавное.
Начало советско-германского военного противоборства не воспринималось в Вашингтоне как изменение природы войны. С заокеанской точки зрения война приобрела лишь другой размах и приняла «более благоприятное течение», облегчая выход США на положение самой могущественной державы, безраздельно господствующей в Новом Свете и исполняющей роль арбитра в Старом.
Даже превращение Соединенных Штатов в воюющую державу не повлекло немедленного и кардинального изменения взгляда на военные операции в Европе. Ставка на повышение удельного веса в мировых делах без перенапряжения своей экономики и общественного мнения сама по себе предполагала перекладывание тягот на других, изнурение актуальных противников и будущих соперников.
Искать какой-то единственный знаменатель, программировавший образ мышления и практику США в 1940–1941 годах, – занятие многотрудное и малоблагодарное. Навар будет совсем убогим, если применительно к политике Соединенных Штатов по отношению к СССР свести поиск к охоте за ведьмами, особенно чужестранного происхождения. Попробуем начать с малого: отчалим от пологого берега, заболоченного подозрительностью, предрассудками, неприязнью до такой степени, что поступиться прошлогодним снегом – и то было жалко.
Внешние обстоятельства поместили Советский Союз в 1941 году в одну лодку с США и Англией. Подобно человеку в беде, правительства и нации запрыгивают в спасительное суденышко налегке. Только вот балласт, который они скопили в головах, редко оставляют за бортом, и он может оказаться столь грузным и стойким, что даже все исцеляющему времени трудно с ним справляться.
Если быть точным, Вторая мировая война так и осталась в практике ее участников сводом национальных войн, сгруппированных в коалиции по признакам сравнительной близости актуальных интересов. Ни на одном этапе войны не существовало даже полнокровного англо-американского союза, общей политики этих двух держав или их единой стратегии[357]. Когда Ф. Рузвельт пропускал вперед У. Черчилля, он не перенимал суждений премьера и не идентифицировался с британскими целями[358]. Вопреки всем стараниям У. Черчилля, Англия не приобрела в глазах президента статуса «братской страны». Больше того, «первые трещины в антигитлеровском союзе, констатирует известный историограф армии США М. Мэтлофф, обнаружились между Соединенными Штатами и Англией»[359]. Это же подтверждает Р. Шервуд.
Советский Союз и входившие во вкус великодержавия США разделяла, помимо океанов и языка, еще бездна социальной и идеологической отчужденности. Предстояло пообвыкнуться, приглядеться друг к другу, скопить положительный опыт, на почве которого и мог пробудиться взаимный конструктивный интерес. Этот новый, во многом незнакомый интерес должен был потеснить прежние разочарования и обиды, убрать завалы, так часто мешавшие обеим сторонам принимать факты за факты. Ведь в политике зачастую куда больший вес имеет не событие или факт, а молва и мнение, созданные вокруг факта или события.
В 50-60-х годах за «советскую креатуру» шли – в писаниях Гелена и прочих – Борман (после отбытия Гесса в Англию второе лицо в нацистской партии), Мюллер (глава гестапо), кое-кто из генеральской мелкоты. Но тень фюрера не тревожили. На исходе XX века открыли, что все годы нахождения у власти, до 1941 года без сомнений, Гитлер имел тайного почитателя и союзника в лице Кремля. Милые бранились – только тешились. И торговля между ними «процветала», и всякое такое прочее. В 1939 году тайное стало явным, и Третий рейх мог на русских харчах и сырье приступить к своим завоеваниям.
Советской сталью, убеждают публику мистификаторы, были подкованы сапоги солдат вермахта, что чеканили шаг в Дании и Норвегии, на советском горючем нацистские танки прошлись по Люксембургу, Бельгии и Голландии, прежде чем въехали в Париж. Само собой, советским бензином были заправлены самолеты люфтваффе, бомбившие Великобританию, и дизельным топливом – подводные лодки, топившие британские суда.
Доказательства? А зачем они нужны, если «сложилось мнение». Когда в том есть потребность, возникшее мнение можно подпружинить другим родственным мнением или, для вящей убедительности, пристроить в прилагаемой к мнению таблице дополнительный «нулек», и, извольте, – из 279 тысяч тонн нефти за ту же цену нетрудно сообразить 2790 миллионов тонн[360].
До 1992 года редко у какого исследователя появлялась здесь возможность или возникало желание заглянуть не в писания собратьев по профессии, а в архивные святцы. Но после защиты Генрихом Швендеманном докторской диссертации «Экономическое сотрудничество между германским рейхом и Советским Союзом в 1939–1941 годах – альтернатива гитлеровской восточной программе?» и воспроизведения ее основного содержания в отдельной книге спекуляции и инсинуации не извинительны. С ними вроде бы пора кончать.
Автор имеет привилегию пользоваться текстом диссертации, любезно предоставленным ему д-ром Швендеманном. Эта фундаментальная работа подтверждает, что объем советско-германской торговли к 1938–1939 годам упал за пять предшествовавших лет на порядок. Импорт из СССР – о советском сырье и материалах между тем прежде всего ведется речь – составил в 1938 году 53 миллиона, в 1939 году – 30 миллионов марок. Золото и девизы, которые Москва в покрытие задолженности по торговым операциям веймарского периода (1,2 миллиарда марок) переводила в Берлин, тратились нацистами на экспорт в основном из США. Советский Союз, со своей стороны, пытался возместить выпадение немецких партнеров (в январе 1936 года Гитлер категорически запретил продажу в СССР материалов военного назначения) размещением заказов в Соединенных Штатах. Военно-морское ведомство США, однако, блокировало соответствующие советские шаги[361].
После подписания Молотовым и Риббентропом договоров о ненападении (23 августа) и о границе и дружбе (28 сентября) посольство Германии в Москве было извещено своим центром о направлении в советскую столицу делегации Риттера-Шнурре с заданием «в течение нескольких дней» согласовать программу немедленных поставок примерно на шесть месяцев. Из желания покупаться в советском сырье, нефти и зерне, а также устроить транзитный поток через СССР олова и каучука до декабря 1939 года ровным счетом ничего не вышло: ни одной тонны рейху не перепало.
С введением США 2 декабря 1939 года «морального эмбарго» против Советского Союза наметились подвижки. 18 декабря сторонами был подписан первый контракт по нефти (на 108 тысяч тонн). Немцы получили с конца декабря 1939 по январь 1940 года 22 400 тонн нефти, а в феврале 1940 года случилась заминка: Москва выдвинула каталог требований, включавший все позиции, запрещенные к продаже СССР администрацией США, и обусловила поставки товаров, интересовавших Берлин, удовлетворением этих заявок.
Сталин лично взялся вести переговоры, чтобы преодолеть заторы, ошибочно полагая, что на немецкой стороне позицию формирует Гитлер. Последний руководил, но на другой лад. 21 января 1940 года Редер записал: «Фюрер желает, чтобы чертежи кораблей класса „Бисмарк“, а также корпус корабля („Лютцов“) были переданы России возможно позднее, поскольку он рассчитывает уклониться при благоприятном развитии военной ситуации от этой сделки». С конца сентября 1939 года интерес Гитлера к «инсценировке Рапалло» быстро угасал. Он примеривался, как и когда примется бить эту отыгранную карту.
Нацистский диктатор с неохотой санкционировал продажу Советскому Союзу военных материалов и технологий, отдельных образцов оружия, промышленного оборудования и приборов. Но деваться было некуда: без этого стопорилось всякое продвижение к подписанию (11 февраля 1940 года) экономического договора. Этот договор предусматривал поставку из СССР в Германию сырья на общую сумму 420–430 миллионов марок в течение двенадцати месяцев, в том числе 934 тысяч тонн кормового зерна, 872 тысяч тонн нефтепродуктов, 500 тысяч тонн железной руды, 100 тысяч тонн хромовой руды, 5000 тонн меди, 1500 тонн никеля, 450 тонн цинка. Чтобы возможность стала товаром, Германия должна была исполнить свои обязательства перед Советским Союзом согласно спискам (№ 2–5), детально фиксировавшим номенклатуру изделий и сроки их передачи заказчику.
Ошибочно смешивать контрольные цифры, зафиксированные в договорном тексте, и товарообмен в его реальном исполнении. Проволочки с принятием советских заказов фирмами рейха вызвали очередное прекращение с 1 апреля отгрузки из СССР зерна и нефти – единственных товаров, которые не гладко, но поставлялись в Германию (на уровне 20–25 тысяч тонн в месяц) с декабря 1939 года.
Никакого доступа с советской помощью к цветным металлам и каучуку на мировом рынке Германия тоже пока не получила. Со ссылкой на позицию западных держав и Японии А. Микоян в беседе с послом Ф. Шуленбургом фактически отозвал обещания, отраженные в феврале 1940 года в специальном протоколе[362].
Такой язык в Берлине понимали. В течение апреля были подписаны контракты по советским заказам на сумму 310 миллионов марок. СССР получил к 11 мая даже 23 военных самолета и две 21-см мортиры фирмы «Крупп». Но и после этого нефтяной кран оставался перекрытым, пока 26–27 мая не нашлась развязка в ценах на советскую нефть и немецкий уголь (немецкая сторона обязалась до 11 мая 1941 года поставить 4,7 миллиона тонн коксующихся углей), а крейсер «Лютцов» не взял курс на Ленинград.
Советское решение повременить с отгрузкой нефти, возможно, имело более широкую кулису. 28 марта 1940 года англо-французский верховный союзнический военный совет принял решение высадить войска в Северной Скандинавии и заминировать норвежские прибрежные воды, чтобы отрезать Германию от шведской руды. Совет не снял с повестки дня операцию против Баку и Батуми, на чем продолжали настаивать французы. Руководство СССР, располагая документальными разведывательными данными, считалось с тем, что Франция может предпринять какую-то враждебную акцию отдельно от англичан, и весной 1940 года передислоцировало часть войск из западных военных округов на Кавказ.
Не нуждается в специальном комментировании воздействие на позицию Москвы стремительного развития событий на Западе. Поражение Франции было крайне неприятным сюрпризом. Советский Союз оставался фактически один на один с рейхом на континенте, причем с плохо прикрытыми тылами. Рассыпался весь стратегический расклад Сталина, который определил его выбор в августе 1939 года. Самое позднее с этого времени не только логика, но и разведывательные сводки заставляли советского диктатора чаще посматривать на часы: неудержимо надвигался момент истины, когда всех смертных зовут к ответу за содеянное и упущенное.
На календаре был уже июнь 1940 года. Франция капитулировала. Начались советские поставки немцам цветных металлов, но пока лишь в объемах, необходимых для изготовления заказанных СССР оружия, оборудования, приборов и т. п. Экспорт первых партий советских фосфатов, марганцевой руды, хлопка датируется тоже июнем. Тогда же приняли сколько-нибудь значительный объем транзитные перевозки из Маньчжурии, Японии, Ирана и Афганистана – главным образом сырья для производства продовольствия. До 31 августа 1940 года из Японии перевезено 2,5 тысячи тонн каучука. Потребность в натуральном каучуке для выполнения на германских предприятиях контрактов с СССР определялась немцами в 4–5 тысяч тонн[363].
Г. Швендеманн неоднократно отмечает, приводя обширные документальные и статистические данные, что ни о какой зависимости Германии вообще и ее военной экономики в особенности от советских сырьевых материалов не могло быть речи, а утверждения, будто «военные успехи рейха на Западе базировались на экономической поддержке Советского Союза, – легенда»[364].
Злая ирония состояла в другом. Если 1 сентября 1940 года вновь была полностью прекращена отгрузка нефти (потом возобновилась в урезанном наполовину объеме) и приостановлены все транзитные перевозки, а через А. Микояна заявлен ультиматум: либо Берлин будет выполнять взятые им обязательства, либо советская сторона свернет или аннулирует свои, – то с ноября-декабря 1940 года Сталин принялся «экономически умиротворять» Гитлера, рассчитывая купить таким способом хотя бы несколько недель или месяцев без войны.
Однако с захватом Дании, Голландии, Бельгии и Франции экономическая ситуация для рейха решительно переменилась. Изъятые там запасы нефтепродуктов, черных и цветных металлов и пр., перешедшие под контроль немцев предприятия делали партнерство с Советским Союзом излишним или малопривлекательным. Отпадала необходимость закупок в СССР железной руды, лома металлов, чугуна, вдвое уменьшилась потребность в хроме, сведены к минимуму запросы на фосфаты и древесину. Правда, неурожай 1940 года – немецкие крестьяне собрали на 3,5 миллиона тонн меньше зерна, чем в предшествующий год, – заставил Геринга маневрировать перед лицом ультиматума Микояна. Что до фюрера, то неурожай, усугублявшийся дефицитом квалифицированных рук в германской промышленности ввиду призыва на военную службу все новых возрастов, пустая валютная касса лишь укрепляли его в решимости действовать, чтобы стать безраздельным господином Европы. Никогда в истории, по убеждению Гитлера, немцам не открывалась лучшая возможность разом и навсегда разрубить все сдерживавшие их оковы.
Податливость Сталина была для Гитлера индикатором слабости и страха. Вывод: чем Москва дальше оттягивает роковую минуту, тем больше надлежит ее приблизить; не покупать у СССР, а взять мечом все, что потребно и хочется. Затем, чуть передохнув, можно будет заняться войной континентов.
Не всем в нацистской верхушке доводы предводителя представлялись бесспорными. Геринг, Редер, Риббентроп пытались доказывать, что война на два фронта не для Германии, что, не разделавшись с Англией, слишком опасно затевать войну с Советским Союзом. Из Сталина, утверждали они, можно выжать дополнительные уступки, даже территориальные. Гитлер не позволил совлечь себя с намеченного маршрута.
Что дало «экономическое сотрудничество» с рейхом Советскому Союзу, помимо неприятностей, которые можно с натяжками или без оговорок поставить в связь с поставками в 1941 году немцам нефти, зерна, меди, марганцевой руды и пр.[365], не прекращавшимися даже в ночь с 21 на 22 июня? С 1 января по 31 мая 1941 года СССР отгрузил в Германию 307 тысяч тонн нефтепродуктов, 654 тысячи тонн зерна, 7700 тонн меди, 68 тысяч тонн марганцевой руды, 78 тысяч тонн фосфатов, 42 тысячи тонн хлопка, 1076 килограммов платины. Три года спустя Сталин бросит в разговоре, кажется, с А. Гарриманом, послом США в Москве, фразу: «Русские – простые люди, но не надо принимать их за дураков». Советский диктатор не был ни дураком, ни простаком и не упускал взять от экономического сотрудничества с Германией в 1940–1941 годах максимум пользы.
Для полноты картины примем к сведению, что в 1940 году доля Германии во внешней торговле СССР равнялась доле США, несмотря на сокращение импорта американских товаров вследствие установленных Вашингтоном жестких ограничений. Рестриктивные меры американцев ударили особо чувствительно по закупкам военных материалов (включая алюминий и молибден) и промышленного оборудования. Отсюда объяснимый интерес к их приобретению у немцев.
С мая по декабрь 1940 года советская сторона приобрела в Германии 2380 станков (стоимость – 54 миллиона марок), военной техники и материалов на 36 миллионов марок, угля на 41 миллион марок. В первой половине 1941 года были получены дополнительные объемы алюминия (крайне нужного ввиду перехода на новое поколение самолетов), более 4000 станков, в том числе специальных, в которых остро нуждалась военная индустрия самого рейха. Выполнением советских заказов было занято более 300 фирм (не считая подрядчиков), многие из которых по соображениям секретности не ставились в известность о «Барбароссе» до 22 июня[366].
Нацистское высокомерие, уверенность, что русские «недочеловеки» не способны овладеть современными промышленными технологиями, а создание ими чего-то лучшего напрочь исключалось, зарекомендовали себя лучшим коньком, который вывел Москву к чрезвычайно ценным военно-техническим секретам рейха и позволил сверить – на стадии налаживания в СССР серийного производства, в особенности новых самолетов – представления советских конструкторов, технологов и производственников с достижениями будущего противника. Военные и технические специалисты Германии были бы, наверное, правы в презумпции, что на советской стороне недостанет времени для копирования немецких систем оружия, приобретайся они с целью воспроизведения. Однако речь шла не о заимствованиях, а о выявлении сильных и слабых мест соперника и соответственно корректировке выбиравшихся в СССР технических решений. Когда немецким специалистам весной 1941 года был показан ряд советских авиастроительных предприятий, они были неприятно поражены как размахом работ, так и постановкой инженерной и технологической сторон дела[367].
Несомненно, приобретенные знания, образцы техники, оборудование не могли капитализироваться в считаные месяцы. Чтобы от них получился прок, предстояло не сгинуть, не сломаться во все решавшем 1941 году. Постфактум можно и надо открыто признать, что не раз и не два Советский Союз откатывался на край пропасти. Гитлеру не просто мерещилась победа, он был близок к ней. В конце концов грубейшие просчеты одного диктатора уравновесились авантюризмом другого. Прежде чем заняться вплотную этой самой мрачной главой тысячелетней российской истории, надобно, пусть очень сжато, ответить на поныне дискуссионный вопрос: как и почему Советский Союз залез в петлю?
В акте передачи Наркомата обороны СССР К. Ворошиловым С. Тимошенко после войны с Финляндией разбирались не одни провалы и неудачи зимы 1939/40 года. Вскрывалось плачевное состояние оборонного дела в стране в целом, и ставился диагноз: советские вооруженные силы не были годны к ведению ни крупных наступательных, ни оборонительных операций. Отсутствовала общесоюзная система обучения и подготовки резервистов, не имелось даже настоящего их учета, что превращало в фикцию мобилизационные планы. Взаимодействие родов войск – ниже всякой критики, их материально-техническое оснащение (связь, транспортные средства и пр.) было удручающе несовершенным.
Короче, при первом же столкновении с упорным противником российское чудо-оружие «авось» отказало. Из лихой прогулки, призванной закрепить славу Халхин-Гола, получился вселенский скандал. Почти все надо было начинать заново, всех переучивать: солдат и офицеров – элементарному владению оружием и приемам ведения реального боя, старших и высших командиров – искусству вождения подчиненных и координации собственных действий с соседом, а также со средствами поддержки.
Показательно, что акт не сваливал ответственность за прискорбное положение на «врагов народа», расстрелянных или брошенных в застенки в 1937–1939 годах. Серьезность вызова уберегла также от соблазна вздуть очередную волну репрессий, хотя аресты в армии и на флоте, как и в обществе в целом, не прекращались.
Приходилось, не признавая правоты М. Тухачевского и других убиенных, возвращаться к идее крупных бронетанковых соединений и моторизованных частей. Пора было кончать с раскачкой в доводке и налаживании массового производства новой танковой техники (Т-34), истребителей МиГ, ЛаГГ, Як, штурмовиков Ил-2, бомбардировщиков Пе, артиллерийско-минометного и стрелкового вооружения. Во многих случаях новые модели оружия по своим тактико-техническим характеристикам были сравнимы с немецкими или превосходили их.
Опять и опять – все требовало своего времени. И выпуск более совершенных вооружений, и обучение овладению ими, и привитие офицерам и генералам навыков управления частями (соединениями), сформированными на новых принципах и использующими новую технику. Об инженерном оборудовании театра войны, об обустройстве переносимых на запад оборонительных рубежей (ценой демонтажа имевшихся старых) нечего и говорить. Не потому, что кому-то так хотелось. Быстрее чем к середине 1942 года первоочередные мероприятия по программе модернизации советских вооруженных сил не могли были быть выполнены, особенно при нехватке командного состава как носителя организующего начала, при дефиците профессионализма и незаскорузлого военного мышления.
События лета и осени 1941 года покажут: именно здесь, в утрате способности управления войсками на всех уровнях выше полка, в разрыве взаимодействия во всех звеньях, таилась главная беда. Еще до первого выстрела по паролю «Дортмунд», двинувшего в поход германскую военную машину, при несогласованности и в отсутствие координации действий между верховным командованием и штабами округов, а последних – с вверенными им соединениями и частями – вроде бы единая система обороны рассыпалась на нестыковавшиеся фрагменты. Очень сомнительно, чтобы интеллектуальные утраты предвоенных лет в оборонном потенциале страны, вызванные преступлениями и произволом диктатора, удалось восполнить, сохранись мирная передышка не до 1942-го, но даже до 1944 года.
Расхожей стала введенная Н. Хрущевым в оборот побасенка, будто Сталин не желал ничего знать насчет подготовки нацистской агрессии против СССР и до последней минуты игнорировал сигналы о надвигавшейся катастрофе. Стоит разобраться, что здесь верно и что, затуманивая истинную картину, способствует прорастанию фантазий, одна другой пуще.
Выше приводились сведения о невосполнимых потерях советских вооруженных сил в 1937–1939 годах в результате расправы Сталина с «заговорщиками» в Наркомате обороны, Генштабе, военных округах и последовавшей затем чистки в армии, ВВС, военно-морском флоте. Генеральный штаб – это и военная разведка, которая на каком-то этапе была почти парализована.
Огромный урон репрессии Сталина и его приспешников причинили политической разведке. К 1938 году под предлогом борьбы с «врагами народа» были ликвидированы почти все нелегальные резидентуры, контакты с ценнейшими источниками информации прерваны или утрачены. Аппарат легальных резидентур был разгромлен и сокращен в три-пять раз. Итог – в 1938 году 127 дней подряд из внешней разведки к руководству страны не поступало никаких данных.
Понадобились самоотверженные усилия избежавших кары профессионалов и весь энтузиазм причисленных к разведке новобранцев, чтобы к 1941 году восстановить работоспособную агентурную сеть в Германии, Италии, Англии, Франции, США, Китае. Но еще долго тянулся шлейф подозрительности к донесениям источников, унаследованных от «врагов народа». В разряд сомнительных или даже намеренно вводящих в заблуждение попадали агенты, добывавшие уникальную документальную информацию из зарубежных центров власти[368].
Эффективность разведывательной деятельности серьезно снижалась и принятой тогда практикой работы с поступавшими материалами. Самые важные сообщения направлялись Сталину, а также Молотову. Остальные деятели могли что-то выборочно узнавать, будь на то санкция главного. В штатах политической разведки не было аналитиков, которые систематически занимались бы обобщением всей совокупности материалов и их изучением, в частности под углом зрения достоверности. Аналитическая группа будет сформирована ближе к концу войны. Оставляло желать лучшего сотрудничество разведок различного ведомственного подчинения.
Принимая это к сведению, не станем все же закрывать глаза на то, что с июля 1940 по июнь 1941 года только по линии политической разведки поступило свыше 120 сообщений о намерении Гитлера пойти войной на Советский Союз. И самые существенные из них легли на рабочий стол Сталина. Еще весомей был банк данных военной разведки. Определенный урожай собирала служба дешифрования. С ее продукцией Сталин знакомился практически ежедневно.
При всем стремлении бежать от неприятностей диктатор не мог отгородиться от реальностей. Ряд примеров показывает, что разведывательная информация служила основанием как для заявления протестов[369], так и для других акций.
Секретные соглашения, заключенные Литвой, Латвией и Эстонией с рейхом в первой половине 1940 года, свидетельствовали, наряду с нацистской активностью в Финляндии, Румынии, Болгарии и Югославии, что линия «разделения интересов» перестает сдерживать Берлин. Прибалтийские республики обязались, в частности, направлять в Германию три четверти своего экспорта. Тщательно законспирированные контакты поддерживались между военными и специальными службами рейха и прибалтов. Введение войск вермахта в свободную портовую зону Мемеля оценивалось в свете поступивших к советскому руководству данных о поощрявшихся извне планах литовского руководства войти в открытый военно-политический сговор с Берлином.
Мы не обманемся, предположив, что повышение у Гитлера вкуса к Прибалтике побуждало Сталина усомниться в «достаточности» принятых осенью 1939 года защитных мер. Советское военное присутствие в принятом тогда виде не упреждало неожиданностей и, понятно, ограничивало интегрирование территорий трех республик в оборонную политику СССР. Эта политика исходила из вероятности, а вскоре – из неизбежности вооруженного противоборства с нацистским рейхом на рубеже 1942–1943 годов.
6 июня 1940 года советский военный атташе в Болгарии И. Дергачев доложил, что, согласно достоверным источникам, Германия после заключения перемирия с Францией «в течение ближайшего времени… совместно с Италией и Японией нападет на СССР». 9 июня военный атташе СССР сообщил из Берлина о начавшейся переброске частей вермахта с запада на восток. В последующие месяцы сведения об агрессивных замыслах нацистов против Советского Союза регулярно поступали, помимо Берлина, из Цюриха, Бухареста, Токио, германского посольства в Москве, разведотделов штабов приграничных военных округов[370].
Не требовалось прозорливости, чтобы раскрыть смысл военно-инженерных работ, стартовавших в Польше в октябре 1939 года, а с середины 1940 года разворачивавшихся в Восточной Пруссии, на территории Румынии и Словакии. Слова в донесениях могли восприниматься читателями различно. Но прокладка рокадных дорог, укрепление старых и наведение новых мостов, строительство хранилищ для армейского имущества, горючего и боеприпасов, полевых аэродромов и т. п. сводили на нет простор для разночтений.
29 декабря 1940 года советский военный атташе доложил из Берлина: «Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР». Война, говорилось в телеграмме, должна разразиться в марте 1941 года. Ровно через неделю атташе уточнил, что данные, сообщенные 29 декабря, основываются не на слухах, а на документе. Лишь время нападения источник указал неточно. Впрочем, вскоре он же и внес поправку: война должна начаться 22–25 июня.
Вне сомнений и без преувеличений каждый рабочий день Сталина открывался чтением разведывательных донесений. Поскольку самое секретное из секретного замыкалось на нем, диктатор обретал возможность заниматься оракульством, претендовать на непререкаемость суждений при обсуждениях даже в кругу избранных, когда приглашенным не возбранялось открывать рты.
Но, ведя диалог с собой наедине, он не должен был обманываться? Полноте. На самообмане и обмане замешано большинство трагедий человеческой цивилизации. История Второй мировой войны есть, не в последнюю очередь, история ханжества, дезинформации и коварства.
Проблемой Сталина был не дефицит, а изобилие информации. При нетерпимости ко всякой оппозиции, к любой полемике с освященной его именем догмой, он брал из потока сообщений на веру лишь то, во что сам желал верить. Разброс в датах, впрочем объяснимый, ибо окончательно день 22 июня был затвержден в нацистской ставке 28 апреля, наряду с другими серьезными и умозрительными доводами, позволял Сталину внушать себе самому: не все потеряно, сколько раз в прошлом удавалось выйти полусухим из воды, как-нибудь выкрутимся и теперь[371]. Конечно же он переиграет, перехитрит Гитлера, если надо, соблазнит его молочными реками и кисельными берегами или посеет в фюрере тревогу за исход агрессии и тем сделает «самое трудное решение в его жизни»[372], по сути, невозможным. Или советскому диктатору вспомнилась духовная семинария: Бог не выдаст – свинья не съест?
С конца 1940 – начала 1941 года советская разведка и контрразведка регистрировали нараставшие переброски в районы, прилегающие к СССР, германских сухопутных войск, затем ВВС и ВМС, обустройство рубежей для перехода в наступление. После 10 апреля транспортировка войск и тяжелой техники на восток через Варшаву, Братиславу и другие узлы коммуникаций осуществлялась днем и ночью уже без маскировки. Немецкие офицеры были снабжены топографическими картами приграничных регионов СССР. При штабах проводились занятия по изучению русского языка.
5 мая Главное разведуправление Генштаба Красной армии доложило Сталину, Тимошенко и другим политическим и военным руководителям сводку с данными о дислокации германских войск по периферии советских границ: их общая численность определялась в 103–107 дивизий. В Восточной Пруссии было сосредоточено 23–24 дивизии, против Западного (Белорусского) особого военного округа – 29 дивизий, Киевского округа – 31–34 дивизии, в Прикарпатской Украине – 4 дивизии, против Молдавии в Северной Добрудже – 10–11 дивизий. Ожидалось дальнейшее усиление группировки за счет, в частности, высвобождавшихся в Югославии войск[373].
Владея этими данными, Сталин выступал в тот же день на встрече в Кремле с выпускниками 16 военных академий. От лично присутствовавших на встрече офицеров (ставших с годами генералами) и генералов (сменивших военный мундир на дипломатический) автору известно следующее о речениях советского руководителя.
Сталин выступал без текста, расхаживая вдоль стола президиума, за которым сидели В. Молотов и другие деятели. Война на пороге, заявил он, Гитлер изготовился вторгнуться в Советский Союз. Нам повезло бы, если бы этим – жест руки указал в сторону наркома иностранных дел – удалось оттянуть агрессию на пару недель или месяц-другой. Но на одно везение полагаться нельзя. Поэтому офицерам по прибытии в вверенные им подразделения и части надлежит покончить с благодушием и расхлябанностью, использовать каждый час и каждую минуту для подготовки подчиненных к предстоящим испытаниям, зарядить их уверенностью в том, что задачи по обороне страны решаемы, если каждый боец и командир будет свято исполнять свой долг. Далее Сталин рассуждал об особенностях современной войны, необходимости овладения новой техникой, уже поступавшей в войска, о том, что народ дал армии и флоту оружие, ни в чем не уступающее вооружениям противника и т. д. Он убеждал присутствовавших в том, что руководство страны внимательно следит за всеми перипетиями и события не застанут его врасплох, и просил наполнить этой уверенностью личный состав армии, авиации и флота.
Это относительно достоверно воспроизведено в литературе и в протоколах допросов некоторых офицеров Красной армии, плененных нацистами в 1941 году. Не тенденциозность, а фальсификация начинается там, где Сталину приписывается идея упреждающих гитлеровскую агрессию действий. Следуя тогдашней военной доктрине, он действительно говорил о необходимости не просто отразить нападение, но, преследуя, наказать супостата. Но, ведя речь о контрударе, Сталин нигде ни прямо, ни в обход не вышел на тему превентивного удара.
Здесь можно было бы поставить точку, процитировав убийственный приговор Г. Швендеманна попыткам обелить Гитлера, выдать наибольшее из его злодеяний – войну на уничтожение и порабощение Советского Союза – за «акт самозащиты»:
«Все попытки приписать Сталину часть или даже всю вину за немецкое нападение, – будь то ссылки на наступательную советскую внешнюю политику, якобы не оставлявшую Гитлеру другого выбора, или гальванизация трудно выговариваемого тезиса о превентивной войне (летом 1941 года одному агрессору, Гитлеру, предоставлялся последний шанс упредить другого агрессора) – лишены всяких оснований. Авантюристические тезисы сомнительного советского перебежчика, доходящего до утверждений, будто Сталин планировал нанести удар по Германии 6 июля 1941 года, доводят до полного абсурда попытки умалить полную ответственность немецкой стороны за вероломное нападение на Советский Союз или вообще снять с нее такую ответственность»[374].
Но вздор сочиняется и тиражируется не ради вздора. Кому-то он как бальзам от кошмаров, что поныне портят сон. Это бы полбеды. Наибольшим спросом вариации вокруг «превентивных действий» Гитлера пользуются у закоренелого и истинно опасного реваншизма, который целит не в итоги войны, а в ее истоки. Нет, ставить точку рано. Перебежчик Резун, даже сменив псевдоним В. Суворов на А. Македонский или Н. Бонапарт, не прибавит своим писаниям убедительности. Но, скажем, В. Мазер, листая на глазах неосведомленного массового читателя частично подлинные документы, способен навести тень на плетень.
В 1948 году маршал А. Василевский извлек из своего личного сейфа и зарегистрировал в Главном оперативном управлении Генерального штаба записку, написанную от руки в единственном экземпляре для доклада Сталину. Записка не завизирована ни С. Тимошенко, ни Г. Жуковым, хотя В. Мазер и другие (с этого начинаются фальсификации) утверждают иное. В тексте было оставлено место для простановки подписей, если бы и когда изложенная в ней концепция нашла высочайшее одобрение.
Почему записка осела у А. Василевского? Очевидно, потому, что будущий маршал вместе с генералом Н. Ватутиным составлял ее. Ватутин, однако, погиб в Киеве в 1944 году от рук бандеровцев.
Когда возникла записка? У В. Мазера элегантно сказано: «до 15 мая». Это может быть и 1 мая. Или даже 1 апреля, не проглядывай на небрежно изготовленной копии слово «май». В действительности Василевский и Ватутин доверили бумаге свои мысли и тревоги после встречи Сталина с выпускниками военных академий и его категорической фразы – «война на пороге». На эту работу у двух генералов ушло 4–5 дней. Вслед за тем проект был вручен Г. Жукову, от которого попал к С. Тимошенко.
Достоверно неизвестно, как нарком обороны и начальник Генштаба доводили соображения своих подчиненных до Сталина. Зная негативную и порой гневную реакцию диктатора на разведсводки, ранее представлявшиеся проекты распоряжений по армии и флоту, которыми предлагалось привести ВС в состояние повышенной готовности, на предостережения из Лондона и Вашингтона насчет возможной германской агрессии, его указания самым обходительным образом обращаться с немецким персоналом, попадавшим в советские руки во время разведывательных рейдов против СССР, Тимошенко и Жуков могли ограничиться прощупыванием, обходным зондажем. Скорее всего, однако, дело обстояло так.
Встреча 5 мая поставила военных между двух огней. Отмалчиваться в ответ на малолестные и двусмысленные высказывания Сталина в адрес вооруженных сил в момент нависшей над страной угрозы было рискованней, чем что-то предлагать. Так или иначе, диктатор вводился в курс соображений, наработанных Генштабом под воздействием сталинских же оценок от 5 мая.
Дальнейшее автор основывает на словах лично ему знакомого генерала, беседовавшего с маршалом С. Тимошенко вскоре после войны. При очередном докладе Сталину нарком обороны и начальник Генштаба поинтересовались, не нашлось ли у него возможности взглянуть на подготовленную военными записку. В ответ раздалась тирада: оценки, сформулированные на встрече с выпускниками академий, предназначались войсковым офицерам. Они должны были отбыть в свои части, заряженные доверием к руководству страны, проникнутые ответственностью за определенную каждому задачу – поднимать бдительность и совершенствовать выучку. Из сказанного 5 мая изменений для внешней и оборонной политики не возникает. Хотите носить головы, хмуро присовокупил диктатор, не подыгрывайте провокаторам. Войны не должно быть. Следовательно, надлежит сделать все возможное и невозможное, чтобы ее в 1941 году не было.
Из этой отповеди Сталина можно заключить, что, хотя на записке нет его пометок, он, похоже, брал ее в руки и отверг как совершенно чуждую его расчетам. Проект, получивший статус документа лишь после его регистрации в 1948 году, не оказал влияния на оперативную деятельность Наркомата обороны и Генерального штаба, если не считать, что доклады того же ГРУ, предназначенные для Сталина, стали еще обтекаемей, а донесения Р. Зорге и ряда других первоклассных разведчиков с какого-то момента не показывались диктатору вообще.
Сообщение ТАСС от 14 июня: советско-германские отношения в полном ажуре, и Германия верно держится взятых на себя перед СССР обязательств, – предназначалось также военному руководству страны, а не одной общественности. Никому, кроме Сталина, не дозволялось называть черное черным.
Напрашивается вопрос: кто правильнее оценивал боеспособность и боеготовность Вооруженных сил СССР в мае 1941 года – их непосредственные начальники, склонявшиеся привести армию и флот в боевую готовность для выполнения, если удастся, также наступательных задач, или Сталин, обрекавший их на пассивное выжидание? Видимо, в такой редакции вопрос некорректен дважды или трижды.
Во-первых, планировать с колес удар по такому отлично отмобилизованному и опытному противнику, как нацистская Германия, мог либо фантазер, витающий в облаках, либо приготовишка, которому море по колено. Заподозрить С. Тимошенко, Г. Жукова, А. Василевского, H. Ватутина в прожектерстве, наивности или шапкозакидательстве, особенно после финского ледяного душа, поводов нет. В их демарше прослеживается, скорее, намерение вытянуть Сталина на объяснение, показав, что стратегии выжидания, наперед дарящей инициативу противнику, есть альтернативы.
Во-вторых, кому, как не С. Тимошенко было предметно и детально знать, что реорганизация вооруженных сил вступила как раз в критическую фазу, если эта реорганизация проводилась под его прямым началом. Отстав от одного причала, они еще не пришвартовались к другому.
В-третьих, о подходах и поступках Сталина зимой, весной и летом 1941 года неверно судить с позиций здравого смысла. Ближе к действительности оценки 1941 года на немецкой стороне. Россия «пойдет на все, чтобы избежать войны» (заместитель военного атташе в Москве Кребс), Сталин «будет делать все, чтобы избежать конфликта с Германией» (военный дневник командования ВМС). «Сталина охватывает дрожь перед приближающимися событиями» (Гитлер – Геббельсу 15 июня 1941 года). Неприятие правды жизни пронизывало сущность советского диктатора. А тут, пытаясь спастись от войны, он бежал от себя, от своей мании преследования и патологической подозрительности. Уничтожив цвет советского командного состава, Сталин не верил никому из пришедших ему на смену. Им двигал панический страх. Диктатор боялся всякой темноты, даже спал при ярко светящих лампах, а здесь сплошной мрак: что станет, если кошмар начнется? Во что бы то ни стало не допустить начала, тогда не сбудется пугающее неизвестностью продолжение.
Что хуже, не знать или, зная, действовать неадекватно? Донесения проверенных в деле и временем секретных сотрудников, между собой никак не связанных, сходились с конца мая в одном: война разразится на рассвете в воскресенье 22 июня. Нет, дезинформация. Сверхнеопровержимые данные о завершении 16 июня вывода соединений вермахта и сателлитов Германии на исходные для броска рубежи. Не убеждают. В 1940 году захватом Дании и Норвегии рейх лишил СССР свободного прохода в Северное и из Северного моря. Фактическим подчинением Болгарии и приручением Турции нацисты вешали замок на черноморских проливах. Неприятно, но не смертельно.
11 июня германское посольство получило указание жечь документы. Сталину об этом сообщено. СССР срочно покидают представители крупнейших немецких фирм, занятых советскими заказами. Это – игра на нервах.
Адмирал Н. Кузнецов 13 июня доложил Сталину, что немецкие суда покидают советские порты, и попросил разрешения отозвать советские суда из портов Германии. «Хозяин, – записал начальник секретариата Сталина А. Поскребышев, – выгнал его вон».
Нарушения советской границы самолетами германских ВВС и наземными патрулями приняли систематический характер. Регистрировать, но не реагировать – такова установка.
В последнюю неделю перед войной прекратилась отгрузка немецкими фирмами-изготовителями станков, моторов, приборов и другой готовой к транспортировке в СССР продукции. Это не причина для задержки встречных поставок в рейх советского зерна даже в ночь с 21 на 22 июня.
Имелся кто-то, кому Сталин в это время внимал? Был таковой. В докладной записке Берии от 21 июня мы читаем: Деканозов бомбардирует «дезой», сообщая, что «нападение» начнется завтра. Генерал-майор Тупиков, военный атташе, утверждает, что «три группы армий вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и Киев, ссылаясь на свою берлинскую агентуру. Он нагло требует, чтобы мы снабдили этих врунов рацией». «Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет!»
Сталин имел возможность заглядывать в секреты Черчилля и убедился, что информация об агрессивных намерениях нацистской Германии имела побочным назначением толкнуть Москву на упреждающие операции против рейха, пока тот завяз в усмирении Югославии. Если кто подсказывал советскому руководству идею превентивного удара, то его надо бы искать скорее в Лондоне, чем в советской столице.
Трудно угадать, какие химеры рождались в воображении Сталина, когда разведывательные данные о лондонских хитросплетениях получали подтверждение из уст, к примеру, британского посла С. Криппса. 12 апреля он фактически потребовал, чтобы советское правительство немедленно пришло на помощь Югославии и Греции, а 18 апреля посол вручил А. Вышинскому меморандум с угрозой: или СССР становится на сторону противников Германии, или Англия заключает с Германией мирный договор и открывает последней беспрепятственный простор для экспансии на Восток. А тут еще Гесс на Британские острова пожаловал. Утверждают, что по собственному почину. Но может быть, и пригласили. Зачем – ясно. Кто? Думай что хочешь.
США – беспросвет. Жена посла Штайнгардта распорядилась 5 мая готовить для отправки в Америку все серебро, скатерти и постельное белье. На следующий день, ссылаясь на мнение мужа, она заявила: «Немцы устроят страшный блиц… народ взбунтуется. И немцы это прекрасно понимают». 1 июня упаковкой чемоданов к спешной эвакуации занялся сам посол, а 20 июня он лично разведывал дороги, по которым в случае чего можно будет сбежать из резиденции в Москве на снятую в поселке Тарасовка дачу. Машину со Штайнгардтом остановили местные жители, принявшие посла за шпиона. Работники наружного наблюдения поспешили на выручку американскому дипломату.
Для подобных пикантностей у Сталина находилось время. Он впитывал их в себя и хранил в на редкость цепкой памяти. Штайнгардт долго не забывался ему, как и данные об активизации контактов представителей администрации с белоэмиграцией, осевшей в Штатах. Характер этих контактов подсказывал: планы отзыва дипломатического признания СССР обретают конкретные очертания, Вашингтон уже моделирует политику на случай исчезновения Советского Союза в результате военного поражения от Германии.
Куда ни кинь, все клин. И в самый последний черед возникает желание исповедоваться во зле – что сам накликал или породил.
Глава 6 «Искоренить, разграбить, колонизовать!»
22 июня 1941 года, с первыми лучами восходящего солнца[375], тысячи тонн бомб и артиллерийских снарядов обрушились на погранзаставы, казармы и позиции войск, аэродромы, узлы связи, штабы Красной армии, города и населенные пункты Советского Союза на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Подверглись минированию гавани и порты от Венспилса и Лиепаи до Таллина и Тарту на Балтике. Без объявления войны Гитлер начал свою «настоящую войну», как отмечается в монографии «Германский рейх и Вторая мировая война»[376]. Он планировал разделаться с СССР в единоборстве, полагая, что на Западе особые неприятности его не подстерегают. Фюреру виделась континентальная империя, охватывающая «русское пространство», как необходимая предпосылка «осуществления мировой политики»[377].
Это была война и в то же время не война в общепринятом смысле. Всякие условности, обычаи, конвенции в агрессии против СССР заранее отбрасывались. Эта война не была похожей на другие и по философии, и по целям. Гитлер, выступая 30 марта 1941 года перед 250 генералами, выразил свои замыслы так: «Искоренение „еврейского большевизма“, сокращение на порядок численности славянского населения, разграбление и колонизация завоеванных областей»[378].
История знает немало войн на уничтожение противника, чтобы освободить пространство для заселения пришельцами, как при подсечном земледелии выжигали лес, чтобы заполучить делянку под огород. Но все же ни одну из них, даже из XVIII–XIX–XX веков, нельзя поставить в ряд с «русским походом» нацистов. По низменности побуждений и изощренности методов, тщательности планирования античеловеческих актов, степени массового вовлечения в преступления военнослужащих и персонала других государственных и негосударственных институтов, масштабам вакханалии насилия и ее продолжительности этому «походу» не сыщется равных.
«Гитлеровская „программа“, – констатирует Ф. Фишер, – органически продолжает немецкую историю… Константой гитлеровского видения мира являлось социал-дарвинистское убеждение в том, что борьба за существование определяет не только жизнь отдельных индивидуумов, но и составляет также универсальный жизненный принцип в развитии народов»[379]. Насколько политика Гитлера вписывалась в традиции германской истории и последовательно продолжала их, решать за немцев воздержимся.
Неоспоримо другое: в том же вермахте, не говоря уже о войсках СС и отрядах СД, нашлось в избытке охочих до злодейств – самых разных и гнусных. И не перестаешь поражаться, как редко генералов вместе с подчиненными посещала элементарная мысль, что ждет их самих и их соотечественников, если война без правил и моральных ограничителей ворвется в немецкие дома. Нельзя отказать в правах кому-то другому, не отказывая в них себе. Или – после нас хоть потоп? Мы пришли ниоткуда и уйдем в никуда.
Из более или менее заметных должностных лиц против зверского обращения, например с советскими военнопленными, выступал один адмирал Канарис. Понятно, не из симпатий к СССР или к левым любых оттенков вообще. Как-никак, он принадлежал к группе офицеров, организовавших в 1918 году убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Но летом 1941 года, когда рейх был опьянен предвкушением победы, Канарис не утратил качеств трезвого аналитика: одурь минет, что дальше? К адмиралу не прислушались[380].
Затевая «русский поход», Гитлер и практически весь генералитет не сомневались в его полнейшем успехе. Никаких альтернатив краткой по времени кампании не прорабатывалось. Никаких резервов на непредвиденные обстоятельства не закладывалось. Запас горючего рассчитывался на 700–800 километров хода, боеприпасов и продовольствия (фуража) – на двадцать дней. Материально это обеспечивало операции при относительно вялом сопротивлении противника на глубину 500 километров. Недостающее предлагалось добывать в порядке «самообеспечения», что было совершенно нереально при задуманном уровне концентрации сил и технических средств на направлениях главных ударов[381].
21 танковая и 3 моторизованные дивизии были оснащены трофейными – чехословацкими и французскими – оружием и техникой, не уступавшими, заметим, в качестве немецким[382]. В пределах пары месяцев, с учетом обновления перед 22 июня ходовой части трофейных танков и грузовиков, особых сложностей в их обслуживании не предвиделось. Выжимай все для решения поставленных тактических и оперативных задач и бросай. Проблемы роились за пределами победного графика.
Всего для нападения на Советский Союз нацистским Верховным командованием было назначено 4600 тысяч человек: 3300 тысяч – в сухопутных войсках и войсках СС, 1200 тысяч – в ВВС и около 100 тысяч – в ВМФ. Вермахт выделил 155 дивизий (из наличных 208), 43 407 орудий и минометов, 3998 танков и штурмовых орудий, ВВС – 3904 самолета (из имевшихся 6413). 22 июня к границе с СССР в трех группах армий и армии «Норвегия» было подтянуто 127 дивизий вермахта. 40 дивизий и 913 самолетов (766 640 человек личного состава) выделили в распоряжение рейха или для координированных действий с ним Финляндия, Румыния, Венгрия и Италия (ее войска прибыли на фронт позднее). Самолеты для участия в войне против СССР послали Словакия (51 машину) и Хорватия (56 машин).
40,2 процента всех дивизий – 42,8 процента моторизованных и 52,9 процента танковых – поступали в распоряжение командования группы армий «Центр». Группу поддерживала большая часть люфтваффе. Относительно слабее оказался насыщенным войсками участок армии «Норвегия» (пять дивизий рейха плюс вооруженные силы Финляндии численностью 302 600 человек).
Советский Союз держал в пяти западных военных округах 177 расчетных[383] дивизий. В сухопутных войсках, ВВС, ПВО и погранвойсках НКВД насчитывалось 2780 тысяч человек. Им было придано 43 872 орудия и миномета, 10 394 танка (из них 1325 Т-34 и KB), 8154 самолета (машин новых конструкций – 1540). Кроме того, 1422 самолета значились за Северным, Балтийским и Черноморским флотами и несколькими речными флотилиями.
Противник превосходил советскую сторону в живой силе (почти на 2 миллиона человек), но статистически в танках Красная армия имела перевес в 2,6 раза, в самолетах – двойной. По тактико-техническим данным советские танки и артиллерия не уступали немецким, а Т-34 были значительно лучше. Новые модели самолетов тоже выдерживали сопоставление с самолетами агрессора. Стало быть, объяснение тяжелых поражений и неудач СССР летом и осенью 1941 года – не в нехватке у Красной Армии «танков и, отчасти, самолетов», как утверждал Сталин. У зла, с такой беспощадностью и болью проявившего себя в начале гитлеровского нашествия, имелись иные корни.
Диктатор, и прежде всего он, несет всю полноту ответственности за то, что агрессор застиг вооруженные силы в округах и страну в целом врасплох. Санкция Сталина на директиву о приведении войск приграничных округов в готовность была вырвана у него военными в 00.30 22 июня. Для ее доведения до штабов и войск требовалось по тогдашним условиям около четырех часов. В результате даже погранвойска не успели к моменту выступления противника занять рубежи обороны.
На удалении до 50 километров от границы было расквартировано лишь 42 дивизии. Большинство из них выдвинуло к приграничной полосе в лучшем случае по полку, причем без средств поддержки. 128 дивизий размещались в стационарных пунктах базирования, отстоявших до 500 километров от западной границы. Из причисленных к западным военным округам дивизий только 21 имела полный комплект, большинство остальных недосчитывали до половины штатного состава, некоторые в своем формировании не продвинулись дальше расквартирования штабов. Никудышными оказались организация ПВО и схема размещения истребительной и фронтовой авиации. Самым слабым звеном являлась связь.
Ошибочным, не учитывавшим опыт Польской, Французской и Балканской кампаний вермахта был стратегический план, принятый советским Верховным командованием. Он строился на посылке, что военные действия будут постепенно набирать обороты и главным силам достанется около двух недель на развертывание. Вероятность нанесения противником внезапного концентрированного удара фактически игнорировалась. Предполья главной полосы обороны не создавалось. Надежды возлагались на вновь строившиеся укрепрайоны (так называемая линия Молотова), но к 22 июня работы в большинстве из них не были окончены, а снятые с позиции вдоль старой границы и доставленные в расположение новых укреплений вооружения не установлены. Не обустраивались запасные полосы обороны. Неудовлетворительно решались вопросы взаимодействия, переподчинения, маневрирования войсками. Пороки, изначально присущие плану, в первую очередь в части развертывания и в управлении войсками, обусловили обвальное течение событий на фронте до декабря 1941 года. Эти пороки и просчеты на правительственном и высшем командном уровне не могли быть компенсированы ни самоотверженностью офицеров и солдат, ни количеством или качеством боевой техники.
Сравнение цифр и оперативных планов не исчерпывает ответа на вопросы: почему в первый день войны было уничтожено 1811 (из них на земле 1489) советских самолетов при 35 сбитых и около 100 поврежденных немецких, а к 30 июня – соответственно 3143 и 669 (без учета самолетов союзников рейха)? Как за первые три недели войска вермахта сумели продвинуться на северо-западном направлении на 400–500 километров, на западном – на 450–600 километров и на юго-западном – на 300–350 километров?
Солдаты, сержантский, средний командный состав вермахта и соответственно нацистских ВВС обрели закалку и опыт в трех-пяти войнах. Их отличал более высокий уровень общей, технической и специальной грамотности. Скажем, летная подготовка советских пилотов составляла 30-150 часов, а немецких – 450 часов. Сходным был разрыв в выучке водителей танков и моторизованного транспорта. Зимний призыв 1940 года в Красную армию, то есть примерно пятая часть рядового состава, не успел пройти к июню 1941 года простейших полевых занятий.
Подытоживая, можно сказать, что большой труд, вложенный в 1940 – первые месяцы 1941 года в переоснащение и реорганизацию советских вооруженных сил, огромные средства, потраченные на создание и выпуск новой техники, были обесценены и где-то дали обратный результат[384]. И добавим, не могли не дать, пока опирались на абстрактные, умозрительные доктрины и концепции, подлаженные под вкусы и прихоти диктатора. В процессе войны, по свидетельству Г. Жукова, Сталин многому научится и в стратегическом, и оперативном искусстве. Но каждый урок, что брал диктатор, оплачивался все эти годы слишком дорого – жизнями и судьбами тысяч и миллионов людей.
Первая, моментальная реакция демократий на гитлеровскую агрессию против Советского Союза весьма знаменательна и поучительна в политическом, философском и человеческом плане. Обмен мнениями, который велся по этому поводу между президентом и британским премьером, сохраняется в тайне. Ни слова на данную тему нет в сборнике «Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны», изданном в Лондоне в 1975 году. В трехтомнике, претендующем на название «полное собрание посланий», которыми обменивались президент и премьер, а также в мемуарном труде У. Черчилля «Вторая мировая война» (т. III) помещено послание премьера от 15 июня и изложение устного ответа на него президента. И это все. Лаконичен Р. Шервуд. Он процитировал несколько общих оценок Г. Гопкинса, Г. Стимсона и других, как будто не обнаружив ничего достойного воспроизведения из мыслей и суждений самого Рузвельта[385].
К. Уманский в телеграмме от 22 июня 1941 года докладывал: «Буквально вся Америка живет только вопросами германского нападения на нас». И дальше: «Рузвельт, правительственный лагерь в целом и рузвельтовское большинство в конгрессе заняли сегодня по вопросам германского нападения на нас молчаливую, выжидательную позицию. Перспектива победы немцев для него (президента) неприемлема, ибо угрожает Англии и в конечном счете планам США, перспектива же нашей „слишком“ сокрушительной победы и влияния на всю Европу его пугает с классовых позиций. Весь Рузвельт и его политика состоят сейчас из зигзагов между этими противоречиями»[386].
Обобщения доведены полпредом до степеней клише. Противоречий было куда больше, чем названо в телеграмме. Улавливалась дальняя тенденция, которая приобретет реальный вес через пару лет, но которая не выглядела актуальной летом 1941 года. В те напряженные недели мало кто в Вашингтоне всерьез задумывался о нашей «слишком» сокрушительной победе. Стратегия и тактика США выводились из другого.
Способствовать скорейшему поражению СССР или же по возможности затянуть советско-германское противоборство, измотать вермахт на наших просторах и наших костях, чтобы Германия созрела для принятия требований западных держав? Вот к чему сводилась дилемма. Разного рода прикидки формулировались с начала 1940 года специальным комитетом по проблемам внешней политики при госдепартаменте (руководитель С. Уэллес) и параллельно английским специальным комитетом по изучению вопросов мира. Комитету С. Уэллеса поручалось определить «основные принципы, которые должны лечь в фундамент приемлемого мирового порядка по окончании нынешних военных действий, с учетом в первую очередь важных интересов Соединенных Штатов»[387].
«Запасы классовой ненависти к нам в США очень велики», – подчеркивал К. Уманский[388]. Разношерстную публику от влиятельных католиков и профессиональных антикоммунистов до архиреакционеров типа бывшего президента Гувера или сенаторов Тафта и Ванденберга, а также откровенных приверженцев нацизма новая германская агрессия вдохновляла на «политическую реорганизацию континентальной Европы». Для подобных деятелей и кругов вопрос о помощи Советскому Союзу не стоял и возникать не мог. Даже трумэновская идея – поддерживать попеременно то немцев, то русских, чтобы они «убивали друг друга как можно больше», – представлялась им недостаточно ортодоксальной, допускавшей, пусть в теории, временные успехи СССР. Уиллер, Тафт, Фиш и прочие навязывали стране концепцию: победе коммунизма в любом варианте должно предпочесть победу нацизма.
«Если бы Рузвельт и Черчилль, – писал Г. Фиш, – действительно искренне собирались спасти мир от тоталитарной опасности, 22 июня 1941 года было Богом данной для этого возможностью. Англия могла бы заключить с Гитлером мир на самых благоприятных условиях. Гитлер вообще не имел никаких целей в Соединенных Штатах. Нам эти события (нападение Германии на СССР) ничем не грозили. Гитлер и Сталин измотали бы один другого. Именно это отвечало внешнеполитической концепции Болдуэна и Чемберлена. Тогдашний сенатор Трумэн, сенатор Ванденберг и многие другие с настойчивостью поддерживали эту политику, потому что она выводила Соединенные Штаты и Англию на доминирующие позиции в мире».
Впрочем, Фиш был готов пожертвовать Англией и Францией, поскольку в войне против нацизма они выступали вместе с СССР, а самое войну Германии с демократиями считал следствием стратегического просчета Парижа и Лондона, отказавших рейху в свободе действий на Востоке[389].
А что думали сподвижники и советники президента, пользовавшиеся его особым доверием? Первая реакция Г. Гопкинса: «Проводившаяся президентом политика поддержки Великобритании действительно окупила себя. Гитлер повернул влево»[390]. Г. Стимсон представил Рузвельту меморандум, отражавший реакцию на события начальника штаба армии генерала Маршалла и сотрудников отдела военного планирования:
«Первое. Вот их оценка основных факторов:
1. Германия будет капитально занята минимум месяц, а максимум, возможно, три месяца задачей разгрома России.
2. В этот период Германия должна совсем оставить или отсрочить:
а) всякие планы вторжения на Британские острова;
б) всякую попытку самой напасть на Исландию или помешать нам ее оккупировать;
в) планы нажима на Западную Африку, Дакар и Южную Америку;
г) всякую попытку обойти правый фланг англичан в Египте через Ирак, Сирию или Иран;
д) также, вероятно, планы нажима в Ливии и на Средиземном море.
Второе. Они единодушно придерживаются мнения, что эту непредвиденную и драгоценную передышку следует использовать для самых энергичных мер на Атлантическом театре военных действий. Все они считают, что такое давление с нашей стороны будет правильным методом помощи Великобритании. Оно обескуражит Германию и укрепит наши оборонительные позиции там, где имеется непосредственная угроза.
В результате того, что Германия втянулась в войну с Россией, наше беспокойство значительно ослабло, но мы должны действовать быстро и преодолеть отсталость, сопряженную с первыми шагами (по укреплению американских военных позиций), прежде чем Германия высвободит ноги из русской трясины…
Этот акт Германии почти напоминает дар Провидения. Эта последняя иллюстрация честолюбия и вероломства нацистов открывает для Вас широкие возможности выиграть битвы в Северной Атлантике и обеспечить защиту нашего полушария в Южной Атлантике, причем успех Вашего руководства гарантирован настолько же полно, насколько вообще можно гарантировать успешное выполнение любого плана»[391].
Первое и второе в анализе Стимсона явно не вяжутся. Если Германия в пределах трех месяцев одолела бы СССР, впору было паниковать, а не радоваться. Нацисты собирались захватить неразрушенными 75 процентов советских предприятий, производивших вооружения, что вместе с металлургическими комбинатами, заводами тяжелого машиностроения, шахтами практически на три четверти повысило бы индустриальный потенциал собственно Германии. Появилась бы промышленная база, достаточная, чтобы не только сломить Англию, но и бросить вызов Соединенным Штатам.
Если в позиции нелады с логикой, надо искать глубинный мотив. В данном конкретном случае подход был заужен до забвения прописных истин, до отрицания элементарных «дважды два». Едва ли по небрежности записка Стимсона обходила вопрос: можно ли и чем помочь Советскому Союзу? Если всей борьбе длиться месяц, а Москва падет через неделю, как предрекал Штайнгардт, то и суетиться ни к чему. Если на существование Советского государства отводился «максимум» квартал, то русским можно было лишь пожелать почетного поражения под одобрительные возгласы со стороны. Никакая помощь не поспевала бы даже при самом искреннем желании помочь[392]. Но и с желанием помогать в администрации обстояло крайне противоречиво.
Госдепартамент не просто занимал пассивно-пораженческую позицию. Чиновный люд этого учреждения в меру способностей саботировал установление сотрудничества с СССР. 30 июня 1941 года К. Уманский передал С. Уэллесу срочную просьбу Москвы о поставках Советскому Союзу вооружений, материалов и оборудования. Исполняющий обязанности госсекретаря обещал, что его правительство безотлагательно, по-деловому рассмотрит обращение. Через три дня полпред поинтересовался у Уэллеса ходом изучения советского обращения и получил успокоительный ответ общего свойства.
11 июля Г. Гопкинс сообщил К. Уманскому, что заявка Москвы вышла за стены госдепартамента лишь после разговора полпреда днем раньше с президентом. Ввиду этого глава администрации решил изъять вопросы помощи России из ведения «бюрократов», так же как ранее он отстранил дипломатическое ведомство от претворения в жизнь программ ленд-лиза. Гопкинс признал, что в американском правительственном аппарате много людей, у которых «политические предрассудки по отношению к СССР сильнее их лояльности при выполнении приказов главы государства и главнокомандующего вооруженными силами»[393].
Рузвельт интуитивно чувствовал фальшь, поверхностность, тенденциозность суждений Стимсона и генералитета, донесений послов и военных атташе, но твердой почвы, чтобы занять позицию, тоже не нащупывал. Он прислушивался к мнениям и рекомендациям, раздававшимся со всех сторон, но не слышал почти никого.
Как отмечалось, еще в канун германского вторжения в СССР глава администрации поощрял Черчилля солидаризоваться с борьбой советского народа, подчеркнуть совпадение интересов и целей в войне против нацизма, поставить Советский Союз в ряд союзных держав. Его слова можно было принять за обещание примкнуть к такому заявлению, превратить его в двухстороннее англо-американское.
Британский премьер на свой манер внял данному совету, а президент выпустил 22 июня С. Уэллеса квалифицировать нападение Германии на СССР как «вероломное» и поручил исполняющему обязанности госсекретаря заявить, что главный вопрос для США – срыв гитлеровского «плана всеобщего завоевания», что «любая борьба против гитлеризма» – на пользу обороне и безопасности Соединенных Штатов, что «в настоящее время гитлеровские армии являются главной опасностью для Американского континента»[394]. Сам Рузвельт впервые подал голос на пресс-конференции 24 июня, выразив готовность оказать Советскому Союзу «всю возможную помощь», то есть не преступил рамок своего заявления от 27 мая. На вопрос о распространении на эту помощь условий ленд-лиза он отвечать не стал.
Ввиду расплывчатости американских формулировок К. Уманскому 26 июня даются указания немедленно посетить Ф. Рузвельта, К. Хэлла (или, в его отсутствие, С. Уэллеса) и, «сообщив о вероломном нападении Германии на СССР, запросить, каково отношение американского правительства к этой войне и к СССР». Речь шла о сверке не часов, но принципов. Полпреду предписывалось: «Вопросов о помощи сейчас не следует ставить»[395].
Очень точное и важное уточнение – отношение «к этой войне и к СССР». Имелись веские причины заподозрить своеобычные демократии в сугубо утилитарном и конъюнктурном взгляде на Советское государство при абсолютно неприемлемых для него долговременных замыслах.
Собственно, тон задал У. Черчилль. Его известное выступление по радио вечером 22 июня 1941 года приводится, как правило, в отрывках и выдается за пример адаптации мышления к изменившимся обстоятельствам. Сложилась даже традиция противопоставлять «ясное заявление» премьера обтекаемым формулам Вашингтона. Оттенки, конечно, имелись, и немалые. Однако думается, советское руководство больше волновали тогда созвучия в нижнем регистре или в подтексте заявлений Вашингтона и Лондона.
Что сказал У. Черчилль в действительности?
В его «личном отношении к коммунизму» ничто не переменилось и после германской агрессии против Советской России. Премьер меняет свой подход к народу и стране, когда он зрит «русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен… свои дома, где их матери и жены молятся…», когда он наблюдает, как «на десятки тысяч русских деревень» надвигается «гнусная нацистская военная машина», «свирепая гуннская солдатня», когда видит «кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий».
«У нас лишь одна-единственная неизменная цель, – продолжал Черчилль. – Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут вместе с Гитлером, – наши враги… Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы…
Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество наций, без различия расы, вероисповедания или партий.
Его (Гитлера) вторжение в Россию – лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова. Он, несомненно, надеется, что все это можно будет осуществить до наступления зимы и что он сможет сокрушить Великобританию прежде, чем вмешаются флот и авиация Соединенных Штатов. Он надеется, что сможет снова повторить в большем масштабе, чем прежде, процесс уничтожения своих врагов поодиночке, благодаря которому долго преуспевал и процветал, и что затем освободит сцену для последнего акта, без которого были бы напрасны все его завоевания, а именно: для покорения своей воле и подчинения своей системе Западного полушария.
Поэтому опасность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, – это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки, уже преподанные нам столь горьким опытом. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни»[396].
Советское государство не помянуто под своим официальным названием. Только раз его назовут Советской Россией. Ни слова о правительстве СССР. Протягивается рука к России, к русскому народу, к «каждому русскому», оказавшемуся в беде не без вины своего же руководства.
Дело не в семантике, не в пренебрежении к дипломатическому этикету, не в желании премьера потрафить британской чопорной публике, безумевшей при одном упоминании социализма. Черчилль изложил свое толкование смысла и форм сотрудничества с нами, его идейных основ, возможностей и пределов. Пока Россия и ее солдаты будут спасать Британию, содействовать достижению поставленных Лондоном задач, они могут рассчитывать на помощь, «поскольку это позволят время, географические условия и наши (английские) растущие ресурсы»[397].
У. Черчилль выдаст попозже образчик человеческой испорченности и политической неблагодарности, когда напишет в своих воспоминаниях: «Отнюдь не желая хотя бы в малейшей степени оспаривать вывод, который подтвердит история, а именно: что сопротивление русских сломало хребет германских армий и роковым образом подорвало жизненную энергию германской нации, – справедливо указать на то, что более года после вступления России в войну она нам казалась обузой, а не подспорьем». Или там же: «Мы приветствовали вступление России в войну, но немедленной пользы оно нам не принесло»[398].
Советские вооруженные силы и народ неимоверными жертвами и усилиями в единоборстве перемалывали нацистское воинство. Англия была избавлена от угрозы германского вторжения и могла, не перетруждая себя, сплетать пресловутое «кольцо блокады» рейха, и это казалось «обузой»? Где же хваленые проницательность и ум Черчилля? Ум еще не мудрость, и даже мудрость ничто без внутренней честности.
Наши жестокие поражения и потери 1941–1942 годов премьер где иносказательно, а где со злорадством инвентаризировал как расплату за «равнодушие к судьбе других», за нежелание думать ни о ком, «кроме как о себе». Глава XX книги 1 третьего тома его мемуаров так и названа – «Советы и Немезида». Желание вопреки всему отстоять предвзятые тезисы сталкивает Черчилля с Черчиллем. Ведь буквально тут же он констатирует, что советские руководители «выиграли время, и, когда 22 июня 1941 года пробил час их испытаний, они оказались гораздо сильнее, чем воображал Гитлер»[399].
Опять же в опровержение самого себя Черчилль цитирует любопытный немецкий документ – соображения Э. Вайцзеккера (28 апреля 1941 года), ставящие под сомнение целесообразность «русского похода».
«Может быть, и соблазнительно нанести коммунистической системе смертельный удар, – писал Вайцзеккер, – и можно также сказать, что логика вещей требует, чтобы Евразийский континент был противопоставлен англосаксам и их сторонникам. Но единственное решающее соображение заключается в том, ускорит ли это падение Англии.
Мы должны различать две возможности:
а) Англия близка к краху. Если примем эту посылку, то, создав себе нового противника, мы лишь ободрим Англию. Россия не является потенциальным союзником англичан. Англия не может ожидать от России ничего хорошего. В России не связывают никаких надежд с отсрочкой краха Англии так же, как вместе с Россией мы не уничтожаем никаких надежд Англии;
б) если мы не верим в близкий крах Англии, тогда напрашивается мысль, что, применив силу, мы должны будем снабжать себя за счет советской территории… Я не вижу в Русском государстве какой-либо действенной оппозиции, способной заменить коммунистическую систему, войти в союз с нами и быть нам полезной. Поэтому нам, вероятно, пришлось бы считаться с сохранением сталинской системы в Восточной России и в Сибири и с возобновлением военных действий весной 1942 года. Окно в Тихий океан осталось бы закрытым.
Нападение Германии на Россию послужило бы лишь источником моральной силы для англичан. Оно было бы истолковано ими как неуверенность Германии в успехе ее борьбы против Англии. Тем самым мы не только признали бы, что война продлится еще долго, но и могли бы действительно затянуть ее, вместо того чтобы ускорить»[400].
Это написано Вайцзеккером до полета Гесса, до отчаянной попытки, если не удастся напрямую сговориться с Лондоном, обеспечить себе на Западе второе издание «странной войны», чтобы наскоро разделаться с СССР и стать, как рассчитывал Гитлер, хозяином положения на Европейском континенте. Выбор в пользу «Барбароссы» против «Морского льва» определял до известной степени временной фактор. Успеть – значило, между прочим, нейтрализовать США до того, как они наберут силу и уверуют в нее[401].
Что, однако, хотел доказать Черчилль, воспроизводя Вайцзеккера? Подкрепить ссылками на немецкого дипломата мнение, будто СССР – «исконный противник» Англии, и тем оправдать своекорыстный подход к советскому союзнику на протяжении всей войны и разрыв с Москвой после победы? Или очиститься в годы холодной войны от грехопадения, приведшего его к сотрудничеству с «большевиками»?
Трудно интерпретировать задумки таких склонных к многоходовым интригам личностей, как глава британского военного кабинета. Несомненно одно: его сокровенной мечтой было взять приз в великой войне малой британской кровью. Столь головоломная задача поддавалась решению лишь ценой чужих жизней, жертвой миллионов солдат и граждан других стран.
Британское военное и политическое руководство отводило Советскому Союзу от трех до шести недель времени на противостояние агрессору. Прямая помощь СССР заранее исключалась. Инструкция, разосланная британским командующим на различных театрах военных действий, гласила: «Сотрудничество не переходит в военный союз, равно как нет каких-либо планов посылки вооруженных сил или поставок военных материалов»[402]. Так было решено еще 18–19 июня и цветисто воспроизведено Черчиллем 22 июня. Это во-первых.
Во-вторых, когда истек срок, отведенный на заклание СССР, и несмотря на подписание с Москвой соглашения о сотрудничестве в войне против Германии, в позиции Лондона конструктивных подвижек не произошло. Дальше демонстраций политического и психологического эффекта «пожатия рук» (и то не всегда) дело не шло. После прибытия в британскую столицу советской военной миссии во главе с генералом Ф. Голиковым, имевшим полномочия координировать усилия двух держав в войне с общим противником, Форин офис дал начальникам штабов рекомендацию показывать «внешне сердечное обхождение с русскими… Для создания атмосферы дружелюбия нам следует, не жалея себя, развлекать членов миссии…». И от обменов мнениями по сути проблем уклоняться[403].
Бытующую в исторической литературе версию возникновения «большого союза» профессор Г. Городетский называет мифом, творцом которого был сам Черчилль и который подкреплялся его многотомными «многое искажающими и тенденциозными мемуарами»[404]. Согласно этим сочинениям, премьер предстает решительным сторонником приведения британской стратегии в соответствие с новыми условиями, создавшимися в результате нацистской агрессии против СССР, и координации действий с Москвой, а Сталин представляется неблагодарным партнером.
Документы из британских архивов не оставляют от этого мифа камня на камне. Британский посол в Москве С. Криппс характеризовал линию англичан в первые недели войны в следующих выражениях: «Они (члены кабинета У. Черчилля) хотят иметь от сотрудничества (с СССР) одни лишь выгоды, ничего не давая взамен»[405].
Публичные обращения адресовались русскому народу. Особенно в первые дни войны Вашингтон и Лондон тщательно избегали ассоциироваться с советским руководством и связывать себя обязательствами перед ним. Крах системы представлялся неотвратимым, и в западных столицах ломали голову: как обеспечить продолжение сопротивления России без советской власти.
Не надо вздевать руки к небу, разыгрывая благородное возмущение «ханжеством» Лондона и Вашингтона летом и осенью 1941 года. Правительства Англии и США обязаны были просчитывать от «а» до «я» и прогнозировать развитие также на случай военного поражения СССР.
Вернуться к планам 1918–1919 годов? Соблазнительно. И столь же сомнительно, чтобы рейх по доброй воле захотел делиться своей добычей.
Как будет выглядеть финальный «компромисс» с Германией, оседлавшей континентальную Европу, покажет время. Пока суд да дело, нелишне подыскать персонажей на замену Сталину и его режиму, исходя из принципа правопреемственности с тем, что имелось в России до ноября 1917 года, и надежности на вкус демократий их будущих партнеров. Первым кандидатом в верховные правители послесталинской России шел Александр Керенский – глава последнего, Временного правительства, свергнутого большевиками и эсерами. Керенский, насколько было известно Москве, не чурался обсуждения такой возможности, хотя делал попутно различные оговорки.
С участием «уважаемых российских граждан» примерялись макеты призывов к населению, рескриптов и декретов. Пробудился спрос на «специалистов», прошедших закалку сибирским климатом в войсках США, что интервентировали на потребу белым, и не слишком жаловавших красных. Внимательным образом проверялось, кто в СССР из «бывших» уцелел и к кому при необходимости могут быть выстроены родственные и прочие подходы. Брались на учет собственники, пострадавшие от национализаций и конфискаций периода Гражданской войны и демонтажа Сталиным новой экономической политики. В общем, занятие хлопотное и к тому же обоюдоострое. Любая утечка сведений была чревата неприятностями.
Антибольшевизм Гитлера и антибольшевизм демократий – что сильнее: силы отталкивания или притяжения? Антисемитизм нацистов мешал. Но какие-то тропки не заросли наглухо? Гитлер посматривал на Мадагаскар как замену будущему Освенциму, англичане не сразу решились, что лучше – Палестина или Кения. Близость не просто географическая.
Не исключено, что с исчезновением Советского Союза покров секретности и тут начнет, подобно леднику, отступать, обнажатся специальные каналы и контакты, связи политического уровня: Белый дом – Даунинг-стрит, 10, госдепартамент – Форин офис. Если в России изучается вопрос о реабилитации лидеров белогвардейского движения 1918–1922 годов, то нет резонов продолжать таить, что думали и делали в этом плане США и Англия в 1941–1942 годах.
До сих пор, наверное, сдерживали форма и тональность «теневой политики» демократий, способные дать обильный материал для дискуссий, что поколеблют и даже подточат стандартные версии полуофициальной историографии. Репутацию официальных лиц и правительств на Западе мало украсит, если подтвердится, что до сентября-октября 1941 года Вашингтон и Лондон больше занимали не организация помощи СССР, а раздумья, по какому разряду справить его отпевание. В определенном смысле официальная и теневая политика походили на несовместимые во времени и пространстве линии, значение чего не нуждается в особых комментариях.
Короче, Сталин имел достаточно резонов принять формулы «Советская Россия» и «русские», дезидеологизировать до предела отношения между СССР и западными державами. Ему было не до упреков, поджимали другие заботы. Ради дела поступались формальным протоколом. И как оказалось, навязанная советской стороне «хитрость» не пошла ей во вред.
Понятно, и до 22 июня в США действовали политики, которые трезво оценивали причины, побудившие советское руководство поставить подпись под пактом о ненападении 1939 года, осуществлять по примеру западных держав меры для укрепления своих рубежей, извлечь экономические плюсы из сотрудничества с Германией. С началом же развязанного нацистами «русского похода» и на многих других снизошло озарение: оказывается, СССР никогда «серьезно не угрожал» интересам и укладу жизни в Соединенных Штатах, вопреки стараниям реакционеров доказать обратное и трескотне правой прессы, кричавшей на всех перекрестках «Караул!».
В меморандуме, написанном для Г. Гопкинса (июль 1941 года), Дж. Дэвис (бывший посол США в Москве) подчеркивал, насколько «важно» убедить Сталина, что «он не таскает каштаны из огня для союзников, которые… будут такими же врагами в случае их победы. Извлекши урок из своих прежних ошибок, Черчилль и Иден, по-видимому, поняли это и обещали России поддержку „всеми силами“. Я не забываю о том, что в нашей стране есть значительные группы людей, ненавидящих Советы до такой степени, что они желают победы Гитлера над Россией… Попыткам Гитлера (вынудить Москву на сепаратный мир) может быть дан хороший отпор, если Сталин получит какие-то заверения в том, что, невзирая на идеологические разногласия, наше правительство бескорыстно и без предубеждения желает помочь ему разгромить Гитлера… Следовало бы сообщить непосредственно Сталину, что наша историческая политика дружелюбия к России не предана забвению»[406].
«В это время, – отмечает американский исследователь Шервуд, – Рузвельт верил в политику „поспешать медленно“. Черчилль сказал свое слово, и не могло быть сомнения, что Рузвельт поддерживает его»[407]. Сомнения оставались. И все-таки мы недооценили бы президента, если бы обрекли его в нашем повествовании на инертность. Рузвельт действовал.
11 июля 1941 года решением главы администрации ответственность за осуществление поставок в СССР была возложена на подразделение администрации, ведавшее ленд-лизом. Первые поставки оформлялись по каналам ленд-лиза, хотя и не на его условиях оплаты. Такая технология приучения общественного мнения и конгресса к возможности включения Советского Союза в число пользователей «арсеналом демократии» являлась, видимо, наилучшей. 7 ноября 1941 года Рузвельт президентской директивой объявил Стеттиниусу решение считать оборону СССР жизненно важной для обороны Соединенных Штатов и распространить на советскую сторону положения закона о ленд-лизе[408]. Рузвельт не мелочился при рассмотрении советских заявок на поставки американских материалов и оружия и обязывал подчиненных добросовестно выполнять (в конце 1941 – первой половине 1942 года) данные Москве обещания.
Тем сдержаннее и скупее, однако, держал себя глава администрации в делах политических. Он уклонялся от согласования стратегических целей и проектов послевоенного устройства с англичанами. У него начисто отсутствовало желание обсуждать подобные темы с Москвой. Президент недоверчиво отнесся к советско-английским контактам, в ходе которых по нашей инициативе рассматривалось соглашение о совместных действиях в войне против Германии (подписано 12 июля 1941 года). США потребовали от англичан заверения, что договоренность с СССР не будет содержать никаких секретных положений, неизвестных Вашингтону, а сам документ не примет форму договора[409].
Нет сведений о реакции президента на оценку, данную соглашению Черчиллем в палате общин 15 июля: «Оно является, безусловно, союзом, и русский народ теперь наш союзник»[410]. В чем-то такое толкование опережало эволюцию Рузвельта. Отправляя 13 июля Г. Гопкинса на встречу с британским премьером, он дал своему посланцу инструкцию: «Экономические или территориальные сделки – НЕТ… Никаких переговоров о войне»[411]. Представители администрации отметали любые намеки, делавшиеся по временам с британской стороны, на желательность в интересах военного сотрудничества признания западных границ СССР по состоянию на 22 июня 1941 года. Американцы будут долго держаться тут жесткой линии с целью нажима на Советский Союз в интересовавших Вашингтон областях.
В целом президент предпочитал оставлять в 1941 году страницы книги будущего неисписанными. Несколько общих дорожных знаков казались достаточными для придания движению союзников более или менее сходного маршрута. Конкретику относили на потом, когда прояснится расстановка сил и, даст Господь, США освоятся с функциями вершителей судеб цивилизации. Сие касалось не одного Советского Союза, существование которого в 1941 году ставилось под жирный знак вопроса и распад которого сам по себе вызвал бы коренной передел политической и социальной карты мира. Вашингтон не особо жаловал Англию, а Францию презирал.
Какое-то просветление государственных умов в США забрезжило после поездки в Москву Г. Гопкинса и его продолжительных бесед с советскими руководителями. На встрече со Сталиным 30 июля в центр диалога выдвинулись коренные проблемы международного сотрудничества. Глава советского правительства делал акцент на необходимости «минимума джентльменства», соблюдения святости подписанных договоров, регулирующих отношения государств, без чего мирное сосуществование невозможно. Гопкинс выделял готовность Рузвельта предоставить СССР всяческую помощь без каких-либо оговорок[412].
Самый важный, на взгляд американцев, разговор состоялся 31 июля. Сталин проанализировал положение на фронте, сопоставил сильные и слабые места борющихся сторон, дал сравнительные характеристики советской и немецкой военной технике. Согласно отчету Гопкинса, советский руководитель выразил уверенность в том, что в зимние месяцы фронт будет проходить под Москвой, Киевом и Ленинградом, вероятно, не далее чем в стах километрах от той линии, где он обозначился на тот момент. Сталин высказывал настойчивое пожелание, чтобы англичане как можно скорее послали тяжелые самолеты вместе с экипажами для удара с советских баз по румынским нефтепромыслам. В той же беседе была проявлена готовность принять на любом секторе советско-германского фронта войска США целиком под американским командованием.
Гопкинс, понятно, усомнился в том, что его администрация откликнется на приглашение направить американские войска в СССР. «Как мне известно, – заявил Гопкинс, – наше правительство и, как я полагаю, английское правительство не захотят посылать тяжелое вооружение, к примеру танки, самолеты, зенитные орудия, на русский фронт до тех пор, пока между нашими тремя правительствами не состоится совещание с целью исчерпывающего совместного изучения относительных стратегических интересов каждого фронта, а также интересов каждой из наших стран». В отчете президенту Гопкинс подчеркивал: «Я считаю чрезвычайно неразумным проводить (это) совещание, пока ее (битвы) исход неизвестен. На этом строилось мое предложение, чтобы совещание созывалось возможно позднее (не раньше 1 и не позже 15 октября). Тогда мы знали бы, будет ли существовать какой-нибудь фронт, а также где приблизительно пройдет линия фронта в предстоящие зимние месяцы»[413].
Вот оно, документальное подтверждение того, что в самый ответственный, без преувеличения – критический период Второй мировой войны СССР один сражался против совокупной мощи нацистской коалиции, мобилизовавшей потенциал и ресурсы большей части Европы, не имея реальной помощи демократий и без твердой уверенности в том, что такая помощь вообще когда-либо придет. Декларации о сочувствии и обещания расщедриться в будущем не в счет. Даже Гопкинс, этот «левый крайний», по иронической аттестации К. Хэлла, в рузвельтовской команде, находил «чрезвычайно неразумным» инвестировать по-крупному в дела союзника или партнера, пока тот не докажет, что эти капиталовложения принесут США дивиденды.
В совместном послании Сталину президент США и британский премьер 15 августа подтвердили желание выделить максимальное количество материалов, в которых СССР «нуждается больше всего». Одновременно делалось риторическое ударение на необходимость «рассмотрения политики, рассчитанной на более длительное время, ибо предстоит еще пройти большой и трудный путь до того, как будет достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными»[414].
Ясно, что перед Советским Союзом и западными державами стояли качественно различные задачи. Для СССР жизненно необходимым было остановить гитлеровские полчища и стабилизировать фронт. Наше спасение в 1941 году состояло в срыве гитлеровских планов молниеносного разгрома Красной армии, захвата неразрушенными главных промышленных центров, включая Донецкий индустриальный район, Москву и Ленинград, блокирование выхода Советскому Союзу к Баренцеву морю и на юг к Персидскому заливу.
Англичан и американцев интересовало прежде всего, как покрепче сковать силы нацистской Германии, и их в общем мало беспокоило, где пройдет фронт. Гитлеровское командование считало выход на линию Ленинград-Москва-Архангельск-Волга-Кавказ залогом военного разгрома Советского государства[415]. Британские стратеги проводили на штабных картах примерно ту же линию как восточный рубеж плана «окружения Германии», с которого собирались в дальнейшем начинать затяжной процесс удушения противника[416]. Руководствуясь только удобствами защиты своих интересов на Ближнем и Среднем Востоке, англичане были склонны без переживаний принять Главный Кавказский хребет как линию размежевания с вермахтом. Пара-другая сотен тысяч квадратных километров, попадавших под пяту врага, несколько миллионов советских людей, которые жили на этой территории, – какая важность! Англичане смотрели на все донельзя просто – как на чужое.
«Если Германия глубоко завязнет в России, – читаем мы в документе имперского Генерального штаба, подготовленном к англо-американскому совещанию в конце июля 1941 года, – то откроются благоприятные шансы для сохранения позиций на Среднем Востоке»[417]. Спалить пол-России, чтобы юнион-джек[418] реял там, откуда вместе с нефтью в Сити текли несметные, видимые и невидимые, барыши! Бивербрук заметил в письме Гопкинсу, что Черчилль шел на сознательный риск[419]. Лондон продолжал флиртовать с иллюзией, что рискует чьей-то шкурой, а свою так или иначе выпростает из дубильни.
Вашингтонские мысли вились по сходной спирали. 1 мая 1941 года президент писал премьеру Черчиллю, что «в конце концов контроль военно-морских сил над Индийским и Атлантическим океанами в свое время обеспечит победу в войне». С его точки зрения, не стоило расстраиваться из-за захвата Германией новых территорий, коль скоро на них «мало сырья для содержания там огромных оккупационных сил или для компенсации их пребывания»[420]. Нападение Германии на СССР не понудило Рузвельта пересмотреть свою точку зрения. Наивность, маниловщина, ретроградство? Нет, менталитет, от которого избавляются с болью и скрипом.
Соответственно не стыковались представления по срокам войны. Можно подождать и «год, чтобы не рисковать сломать себе зубы об укрепленный германский фронт по ту сторону Ла-Манша»[421], признавался «бывший военно-морской деятель», как не без нежности величал сам себя Черчилль. Даже одного-другого зуба было жаль.
Летом 1941 года ни экономически, ни морально Германия не была готова ни к какой другой войне, кроме молниеносной. При гипертрофированной самоуверенности и залихватской недооценке противника излишними казались оперативные и стратегические резервы. В июле 1940 года Гитлер отдал приказ о прекращении всех экспериментальных работ, результаты которых не могут быть практически использованы в военных целях в пределах ближайших восьми месяцев. Промышленность рейха лишь частично перевели на военные рельсы, а вскоре после начала «русского похода» прорабатывался вопрос об изменении производственных программ под углом зрения нужд уже следующей войны – войны против США (упор на судостроение, создание дальней бомбардировочной авиации и пр.)[422].
Зарвавшегося, ослепленного прежними триумфами врага надо было остановить во что бы то ни стало. Сорвать блицкриг, заставить вермахт залезть в окопы и познать все тяготы сражений, где на первом месте не военное ремесло, не доведенная до автоматизма дисциплина, не даже «искусство вождения войск», а моральные, духовные, человеческие факторы. Вынудить военную машину германского империализма буксовать, смешать расписание ее движения, поставив в условия более властные, чем воля фюрера, – значило тогда нанести поражение рейху именно в том варианте войны, который до агрессии против СССР неизменно приносил нацистам триумфы и с которым полностью и целиком связывались все гитлеровские расчеты на конечный успех.
Как могло получиться, что от внимания военно-политических руководителей Англии и США ускользнули, хотя навряд ли так было, признаки схода немецкой военной машины с наезженной в прежних походах колеи? В августе 1941 года Гальдер записал в своем дневнике: «То, что мы сейчас предпринимаем, является последней и в то же время сомнительной попыткой предотвратить переход к позиционной войне. Колосс Россия был недооценен нами». Гитлер заскулил: «Мы открыли дверь, не ведая, что за ней находится». Наши союзники должны были это зарегистрировать уже потому, что их собственные прогнозы течения германо-советской войны опрокидывались жизнью. Возрадоваться бы и помочь нацистам не споткнуться, а упасть.
К сожалению, приходится признать, что в разгар немецкого наступления на Москву англичане активнее готовились к диверсиям против советских военных и промышленных объектов, чтобы они не достались немцам, вместо того чтобы деятельно мешать их захвату войсками рейха[423]. Советская разведка докладывала Сталину детальную информацию о том, что скрывается за упорным нежеланием Лондона включиться в борьбу с Германией на театре, где решалась судьба войны, хотя бы в форме переключения на СССР, как рекомендовал Ллойд Джордж, премьер Великобритании в 1916–1922 годах, «американских поставок англичанам и переброски на восточный фронт возможно большего числа своих истребителей»[424].
Лорд Бивербрук, министр снабжения в правительстве Черчилля, констатировал в своем меморандуме «Помощь России» от 19 октября 1941 года: «С момента начала немецкой кампании против России наши военные руководители со всей последовательностью показали свое нерасположение к проведению каких-либо наступательных операций…
Наша стратегия до сих пор базируется на принципе затяжной войны и совершенно слепа к требованиям и возможностям момента. До сих пор не было сделано ни одной попытки принять во внимание новый фактор, внесенный русским сопротивлением»[425].
С нападением Германии на СССР мировая стратегическая ситуация радикально изменилась – для советских людей, для народов, оказавшихся под фашистской пятой. Во многом стали иными смысл и характер самой войны. Но с позиций США и Англии перемена обстановки состояла прежде всего в том, что они избавились от кошмара нацистского нашествия как чего-то фатального. Конечно, западные державы тоже добивались обезвреживания стратегии Гитлера. Обезвреживания таким способом, который отвечал долговременным целям демократий и подогнанным под них военным концепциям. Германия должна была быть поставлена на место. Правда, в 1941 году не совсем ясно какое.
Черчилль теоретически не исключал, что война с Германией может закончиться в 1942 году. Потом он отнес капитуляцию Гитлера на 1943 год. Известна оценка Г. Гопкинса начала 1942 года: «Вполне возможно, что русские разгромят немцев в следующем году»[426]. Если ближайший советник президента убеждал в том не одного генерала Маршалла, он оказал СССР медвежью услугу, ибо перспектива перевода без антракта фиаско блицкрига в молниеносное поражение Третьего рейха прельщала далеко не всех.
Исторический парадокс? Да. Соединенные Штаты сами были не готовы побеждать противника в бою. На уровень, позволявший влиять на ход войны и еще эффективнее – на послевоенное развитие, Вашингтон рассчитывал выйти к лету 1943 года. Блиц-победа, достигнутая другими, таила в себе всяческие неудобства. В 1942–1943 годах она урезала шанс вдосталь попользоваться тем, что, как изящно замечено в записке объединенного комитета стратегического планирования (21 декабря 1941 года), «только Британская империя и Соединенные Штаты располагают войсками, достаточно свободными от давления со стороны противника или угрозы такого давления, что позволяет маневрировать ими»[427].
В войне труднее всего делать выбор не из нескольких вариантов, а решаться на что-то, когда выбора, в сущности, нет, когда неумолимый ход событий предписывает образ действий. Главный стратегический замысел США в 1941 году – выжидать, не ввязываясь в серьезные военные операции в Европе. Генерал Маршалл и адмирал Старк в меморандуме президенту от 27 ноября 1941 года, за десять дней до Пёрл-Харбора, подчеркивали: «Нам надо стараться избегать поспешности с началом военных действий до тех пор, пока это совместимо с национальной политикой». Национальная политика США официально ориентировалась на то, чтобы, оставаясь «нейтральными» и предоставляя материальную помощь в первую очередь англичанам, извлекать максимум пользы[428].
Разведка и ряд штабных офицеров внушали летом 1941 года руководителям США и Англии, что при наличии воли к борьбе с агрессором ничто не заменит открытие второго сухопутного фронта в Европе, что здесь такой фронт технически легче организовать и проще снабжать, чем на любом другом ТВД, и что это «единственный возможный способ приблизить победу демократий»[429]. Что не разглядели штабисты, то подметили политики. «Легче» и «проще» не было для них решающим.
Лорд Бивербрук отмечал в уже цитировавшемся меморандуме от 18 октября 1941 года: «На сегодня имеется только одна проблема – как помочь России. Тем не менее наши начальники штабов довольствуются рассуждениями о том, что здесь ничего не может быть сделано. Они только говорят о трудностях, но не вносят никаких предложений для их преодоления. Утверждение, что мы ничего не можем сделать для России, является чепухой. Сопротивление русских дает нам новые возможности. Оно, вероятно, оголило Западную Европу от германских войск и прекратило в данный момент агрессивные действия стран оси на других театрах возможных военных действий. Оно открыло для высадки британских войск береговую линию в две тысячи миль.
Однако немцы продолжают безнаказанно перебрасывать свои дивизии на восток. Восстания в оккупированных странах рассматриваются как преждевременные и даже осуждаются, если они вспыхивают (имеется в виду развертывание национально-освободительного движения в Югославии. – В. Ф.), так как мы не готовы использовать предоставленные ими возможности…
Немцы не будут ждать, пока мы будем готовы. Было бы безрассудством с нашей стороны ждать, и мы должны нанести удар, пока еще не слишком поздно»[430].
Попробуем взглянуть в свете оценок Ллойд Джорджа, Бивербрука, Дэвиса на первое совещание военного времени Рузвельта и Черчилля у побережья Ньюфаундленда (9-12 августа 1941 года). Англичане отстаивали концепцию разгрома нацистской Германии без высадки на континент. Они утверждали, что непрерывная блокада, усиленные бомбардировки и умелая пропаганда сломят боевой дух немцев. Если вторжение и станет неизбежным, то все равно, по их британским наметкам, не потребуется большого количества наземных войск[431]. Воевать не с армией противника, а с его населением, ослабляя фронт ударами по тылу, – таков общий замысел. Это соответствовало давней установке на то, чтобы, «доводя наши (британские) усилия в войне на море до максимума… снизить наши усилия в борьбе на суше до минимума»[432].
В наметках черчиллевской стратегии ни слова о Советском Союзе, о его борьбе с Германией, о военном сотрудничестве с нами[433].
Рузвельта занимала перспектива исчезновения «передышки»[434], но занимала не настолько, чтобы делать из суровых фактов должные выводы. До ноября, когда оборону СССР сочтут жизненно важной для обороны США, было далеко. В августовских приоритетах президента Москва оставалась где-то на задворках, советская трагедия не заставляла бить в колокола. Рузвельт был человеком запрограммированным на удачу и в искусстве перестраховки соперничал со своим госсекретарем К. Хэллом. Устремленность хозяина Белого дома на успех побуждала порой выворачивать наизнанку принципы, подравнивать их под обывательский ранжир.
Жгучей вражды к Советскому Союзу в его незвездный час не испытывали. Только злорадство и «христианскую жалость». Москве не просто сочувствовали, ее еще воспитывали, показывая издали калач и требуя его заслужить. И в 1933 году «признали» СССР не таким, каким он был, а в надежде сделать удобным для Вашингтона. Теперь вроде бы представлялся случай заняться этим вплотную.
Еще один деликатный вопрос. Примерялся ли на встрече президента и премьера какой-то запасной политический план на случай советского поражения? Все, что может навести на такой вопрос, и особенно ответ на него, запечатано семью печатями. Счастливцы архивариусы! Им дано знать, в чем остальным смертным отказывают более полувека.
Издатели «Секретной переписки» пишут: «Задачей Атлантической конференции (август 1941 года), по крайней мере частично, являлась демонстрация сохранения англо-американской солидарности, направленная на предотвращение дальнейшей агрессии Германии и Японии; однако в этом отношении она совершенно не достигла цели. Немцы, продвигаясь все ближе к Ленинграду, Москве и Киеву, одновременно усилили жестокую подводную войну в Атлантическом океане, все больше угрожая „дороге жизни“ из Соединенных Штатов в Англию. На Дальнем Востоке Япония перебрасывала в Индокитай новые воинские подразделения и угрожала новым наступлением как в южной части Тихого океана, так и в Юго-Восточной Азии»[435].
Профессор Г. Ю. Шредер (университет Гисен, ФРГ) отмечал, что, «ставя Сталина перед совершившимся фактом», Рузвельт счел «уместным» выдвинуть категорическую «заявку на игнорировавший советские интересы глобальный пакc Американа». Хотя формально подписанная Рузвельтом и Черчиллем Атлантическая хартия нацеливалась в первую голову против национал-социалистической и японской экспансии, сформулированным в ней принципам могла бы быть дана (Шредер солидаризуется с А. Хильгрубером) «также явно антисоветская интерпретация»[436].
Попробуем повнимательнее прочитать Атлантическую хартию, тщательно взвешивая слова, которые в ней употреблены или необъяснимым образом опущены, последовательность этих слов в их реальной взаимосвязи с тем, что США делали или не делали перед лицом германской и японской агрессии. Не станем вдаваться в перипетии выработки хартии, которую, фактам наперекор, выдают за экспромт. Возьмем текст в том виде, как он был одобрен президентом и премьером 12 августа 1941 года. Это первое совместное англо-американское определение «некоторых общих принципов национальной политики их стран – принципов, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира»[437].
У. Черчилль видел особое достоинство хартии в том, что США, не будучи в состоянии войны с Германией, провозглашали своей целью «окончательное уничтожение нацистской тирании», выражали готовность после войны «разделить с нами (англичанами) управление миром до установления лучшего порядка»[438]. Премьера устраивало, что американцы не поднимали вопроса о предварительном согласовании «принципов» с СССР, хотя Вашингтон, как отмечалось, настаивал на такой процедуре применительно к англо-советскому соглашению от 12 июля 1941 года. Черчилль, в свою очередь, не предлагал – в качестве союзника Москвы – выразить солидарность с борьбой СССР против гитлеровского нашествия, как если бы не на Восточном фронте выносился приговор нацизму. Не назван и Китай, хотя на него с мая 1941 года распространены положения закона о ленд-лизе. О всех жертвах агрессии говорится чохом. Агрессором, если буквально, называлась не Германия, не режим, в ней господствующий, а «нацистская тирания». Достаточно свергнуть «тиранию», и откроется перспектива замирения на основе «свободного волеизъявления» заинтересованных народов?[439] Это в чем-то сродни посланию (март 1940 года) Чемберлена немецкой оппозиции и встречным предложениям, вносившимся Хасселем, Троттом и другими.
Весной-летом 1941 года США и еще больше Англия убеждали Японию удовольствоваться уже совершенными военными захватами, не переступать черты, за которой трения с американцами и англичанами перерастут в конфликт. Теперь ее предупредили: впредь только несиловая экспансия.
От гитлеровской Германии требовали сдать часть добычи. Какую? Из декларации неясно, с какого времени и какие территориальные изменения подлежали ревизии. Забыли проставить дату, так же как упустили помянуть среди милых сердцу президента и премьера свобод религию? Не верится, что случайно, ибо для Востока и для Запада держали про запас различные эталоны самоопределения, прав и самоуправления.
В Берлине умели расшифровывать как телеграммы противника, так и написанное между строк в декларациях. Там ведали, чем Вашингтон и Лондон соблазняли японцев, и считали возможным предположить, что нечто подобное держат про запас для немцев. Гитлера не воодушевляло, конечно, что плоды его агрессии германскому империализму дозволялось при некоторых условиях пожать без фюрера, что в зените всевластия от главаря режима требовали самопожертвования. Авантюрист до мозга костей сделал авантюристический вывод: если Рузвельт и Черчилль начертали силуэт оливковой ветви, то он поможет им дорисовать детали. Надо лишь поскорее расправиться с Россией, овладеть ее ресурсами, чтобы уравняться с США по сырьевому, продовольственному и промышленному потенциалу.
Кредо своего «восточного похода» нацистский главарь выразил в середине июля 1941 года в формуле: «во-первых, господствовать, во-вторых, заправлять, в-третьих, эксплуатировать». «Борьба за гегемонию в мире, – подчеркивал Гитлер, – будет решена для Европы путем захвата русского пространства. Это сделает Европу самой неприступной в мире крепостью»[440].
Было бы мало проку вырывать Ф. Рузвельта из реальной среды, в коей он вращался, или приписывать президенту ясновидение, каким он не обладал. У него был свой набор привязанностей и антипатий, привычек и суеверий. Но все перекрывали, напишет позднее Р. Шервуд, наблюдавший Рузвельта с близкого расстояния, «исключительная расчетливость и умение пользоваться этим своим качеством очень обдуманно и тонко». В другом месте Шервуд подметит, что президент был «чрезвычайно тонким и скрытным человеком, умевшим искусно уклоняться, человеком, которого нельзя было подтолкнуть или уговорить на определенные обещания, противоречившие его суждению, воле или инстинкту»[441]. Р. Шервуд упустил сказать, что Рузвельт был суверенным в своих решениях, но не в своем мировосприятии. На него нередко большее влияние оказывали не объективные посылки, а советы и подсказки ближайшего окружения. Поэтому к составу президентской команды желательно всякий раз присматриваться, и потщательней.
Это – к тому, что Атлантическая хартия не являлась сертификатом англо-американского братания. 21 августа в послании конгрессу по поводу итогов Атлантической конференции президент охарактеризовал нацистскую Германию как «главного агрессора современности» и отверг возможность компромиссного мира с нею. Такой мир, по словам Рузвельта, дал бы Германии преимущества, которыми она не преминула бы воспользоваться для установления контроля над Европой, Азией и Америкой[442].
Рузвельт неспроста заговорил о сепаратном мире. Он отвечал критикам у себя дома, выступившим с осуждением Атлантической хартии, будто бы излишне суровой в требованиях к Германии, и предупреждал «умиротворителей», оживившихся в Англии, чтобы те не вздумали интриговать за спиной США. В сентябре-октябре 1941 года даже У. Черчилль не был свободен от крена к сделке с Германией. В любом случае сепаратной по отношению к СССР.
Далеко не все политические, экономические, идейные нити, связывавшие Вашингтон, Лондон и Берлин, были к лету 1941 года обесценены и оборваны. Идея какого-то взаимопонимания висела в воздухе. Слова заместителя министра иностранных дел Англии Батлера, сказанные И. Майскому 17 октября 1939 года, не теряли настораживающего смысла.
«За прочный мир – лет на 20–25 – мы готовы были бы хорошо заплатить, – рассуждал тогда Батлер. – Мы не остановились бы даже перед значительными колониальными уступками Германии. Империя у нас большая, и не все ее части нам очень нужны. Можно было бы кое-что выкроить для немцев… Однако мы должны быть уверены, что игра стоит свеч, то есть мы должны быть гарантированы, что если сейчас мы сделаем уступки и заключим соглашение, то мир и статус-кво будут обеспечены по крайней мере для целого поколения. Иначе не имеет смысла… „Мирная оффензива“ Гитлера (6 октября 1939 года) может считаться провалившейся. Но это отнюдь не исключает того, что „мирная оффензива“ может повториться несколько позже и с гораздо большими шансами на успех. В ходе войны такие „мирные оффензивы“, вероятно, не раз будут возникать. Какая-нибудь из них увенчается успехом»[443].
Предложил бы или нет Гитлер мир США и Англии сразу после достижения своих целей в «русском походе», – сегодня вопрос риторический. Но факт остается фактом: с июня 1941-го по лето 1942 года большую активность в заигрывании с западными державами проявляли в Германии не оппозиционеры, но представители Риббентропа, действовавшего с разрешения фюрера, а также посланцы Гиммлера.
24 сентября 1941 года СССР выразил «согласие с основными принципами декларации» Рузвельта и Черчилля, предпослав своему согласию оценку положения и задач, вытекавших из войны с гитлеровской Германией, в том числе при определении послевоенного устройства мира. Советское правительство заявляло о приверженности принципам мира и добрососедства и коллективного отпора агрессии, целостности и неприкосновенности границ государств, права каждого народа по своему усмотрению устанавливать общественный строй и форму правления[444]. Этот советский акт лег тормозным башмаком на пути многих замышленных в западных столицах комбинаций с двойным и тройным дном[445].
Для характеристики позиции Вашингтона этого периода биограф генерала Маршалла избрал слово «смутная». Линии, «излишне» будоражившей Гитлера и вызывавшей его на столкновение с США, противился К. Хэлл. Закон о воинской повинности был утвержден палатой представителей – кстати, в день подписания Атлантической хартии – большинством всего в один голос. Открыто «антивоенную» позицию заняла республиканская партия. Активизировали антисоветскую обработку общественности клерикальные круги, изоляционисты, реакционеры.
Против хартии выступила «комиссия по изучению основ справедливого и длительного мира», созданная в 1940 году американскими церковниками. Ее председатель Дж. Ф. Даллес опубликовал брошюру, направленную против обещаний предоставить народам свободу. Он требовал «политической реорганизации континентальной Европы на базе какого-либо федерального содружества», включающего Германию в ее новых границах, правда Германию «дезинтегрированную». Даллес ратовал за неограниченную экспансию американского капитала, в частности в Китай и Японию[446].
Трудно пройти мимо почти текстуальных совпадений в сочинении Даллеса и в документе, составленном в мае 1941 года К. Герделером. Та же «политическая реорганизация» при сохранении за рейхом аннексированных территорий. И там и тут объединение вооруженных сил членов нового альянса, ядром которых должен был стать вермахт. Герделер отводил Германии роль лидера европейского «антибольшевистского» блока по причине центрального положения рейха, его силы и «исключительной эффективности»[447]. После войны те же идеи составят костяк доклада Г. Гувера (март 1947 года), а внедрит их в него небезызвестный пангерманист Г. Столпер.
Среди мотивов, склонявших Рузвельта к лавированию, было стремление не дать японцам лишнего повода искать из солидарности с Берлином обострения отношений с США. Борьба одновременно против Германии и Японии расценивалась военными (адмирал Старк и другие) как невыгодная. Они рекомендовали, если вооруженного конфликта не избежать, такой образ действий, который вызовет немцев на объявление войны Соединенным Штатам, а Токио позволит сохранить нейтралитет.
Президент и премьер по настоянию последнего условились на атлантической встрече предпринять демарш перед японцами, дабы удержать их от движения на юго-запад. Не исключалось, что в итоге Токио может повернуть на север. Для нивелировки риска считалось достаточным информировать СССР о переговорах с Японией, когда они начнутся, и в случае готовности Москвы содействовать стабилизации отношений западных держав с Японией имелось в виду предупредить Токио, что США не останутся «безразличными к любому конфликту в северо-западной части Тихого океана, считая Советский Союз дружественной державой»[448].
Рузвельт уклонился от реализации договоренности об этом демарше. Соответственно отпала информация для Москвы, просьба к ней о содействии и предостережение в адрес Японии. Склад мыслей тем не менее говорит сам за себя. Быть может, его надо соотнести с соображениями, которые в передаче Р. Шервуда выглядели так: «Хотя нападение Гитлера на Советский Союз до сих пор было подлинным благодеянием в войне против Германии, оно имело тенденцию уменьшить (русскую) угрозу на японском фланге в Маньчжурии и потому увеличивало опасность дальнейшего продвижения Японии в других направлениях»[449].
Стремление выждать, отгораживаясь чужими жизнями и спинами от опасностей, преобладало в поведении главы американской администрации летом-осенью 1941 года. Президентская точка зрения по спорным военным вопросам «всегда оставалась неясной», отмечали Батлер и Гуайер. «Несмотря на предостережения своих и английских начальников штабов, он, казалось, продолжал верить или надеяться, что войны (с участием США. – В. Ф.) можно избежать, если только союзникам будет вовремя оказана достаточная моральная, материальная и финансовая поддержка»[450].
Казаться могло что угодно, хотя, судя по документам, составные поведения Рузвельта были сложнее. Он не исключал ничего и не отрезал себе путей ни для наступления, ни для отступления, ни для маневрирования, пока и поскольку события шли на периферии американских интересов. Еще и еще раз отметим, что у Вашингтона был свой график движения к своему успеху. По этому графику, намеченному во второй половине 1941 года, фаза активного противоборства с Германией относилась на середину 1943 года[451]. Точнее – фаза готовности включиться в борьбу, ибо вплоть до нападения Японии на Пёрл-Харбор и объявления Германией войны Соединенным Штатам Рузвельт уповал на возможность обозревать бой со стороны. В случае поражения Красной армии военный разгром гитлеровского рейха при участии американских вооруженных сил мыслился за пределами 40-х годов. Планы военных не предрешали, кто, кроме США, составит тогда коалицию победителей.
Основные линии долговременной политики США не сцеплялись с предотвращением поражения СССР. «Поддержание действующего фронта в России» значится шестой среди задач, как они виделись в сентябре 1941 года генералу Маршаллу и адмиралу Старку. В числе стратегических целей мы обнаружим «сохранение Британской империи», но ни слова о важности сохранения Советского Союза в качестве самостоятельного государства.
СССР – лишь фигура на шахматной доске возле американского ферзя и британского короля.
Достоянием гласности стало очень немного документов, излагающих американские национальные цели в контексте Второй мировой войны и в связи с войной. Особенно документов, написанных не ради благосклонного отклика общественности или союзников, а строго для внутреннего потребления. Потому повышенного внимания – здесь Р. Шервуд прав – заслуживает «Мнение объединенного комитета относительно общей производственной программы Соединенных Штатов», подготовленное по поручению президента. Презрим то обстоятельство, что пружиной, приведшей штабы в плавный ход, явились не планы конкретных военных операций, а необходимость взвесить в свете развертывавшихся событий резервы промышленности и выдать ей заказы[452]. Из доложенного Рузвельту в сентябре 1941 года «Мнения»[453] можно узнать:
«Основные национальные цели Соединенных Штатов, касающиеся области военной политики, могут быть охарактеризованы следующим образом: „сохранение территориальной, экономической и идеологической целостности Соединенных Штатов и остальной части Западного полушария; предотвращение распада Британской империи; предотвращение дальнейшего расширения сферы господства Японии; создание в конечном счете в Европе и Азии равновесия сил, которое вернее всего обеспечит политическую стабильность в этих районах и будущую безопасность Соединенных Штатов и, насколько это возможно, создание режимов, благоприятствующих установлению экономической свободы и гражданских свобод… Эти национальные цели, – говорится далее, – могут быть полностью достигнуты только в результате военных побед, одержанных за пределами нашего (Западного) полушария либо вооруженными силами Соединенных Штатов, либо вооруженными силами дружественных держав, либо и теми и другими“».
Авторы «Мнения» выдвигают аргументы против заключения Вашингтоном мира с Германией – в случае покорения нацизмом всей Европы – и по сути против компромисса с режимом, который может заменить Гитлера, поскольку «нет никакой уверенности в том, что такой режим согласится на приемлемые для Соединенных Штатов мирные условия». Маршалл и Старк высказались также против «половинчатого мира между Германией и ее нынешними активными военными противниками». Это говорилось с позиций страны, не участвовавшей в войне, и в созвучии с посланием Рузвельта конгрессу 21 августа 1941 года.
Сентябрьский (1941 года) меморандум Маршалла и Старка – один из первых документов, в котором выдвигается задача полного военного разгрома не просто нацистского режима, а германского государства и его институтов. Здесь пока не употреблены слова «безоговорочная капитуляция», но их смысл присутствует. Понятие «равновесие сил» в Европе и Азии выдвинуто, хотя его содержание не раскрыто. Британская империя должна сохраниться (против чего, кстати, не возражали и нацистские руководители), остальное – покажет развитие. Предсказания – занятие ненадежное.
«Основной стратегический метод», который рекомендовали военные руководители «на ближайшее будущее», сводился к «материальной поддержке нынешних военных операций против Германии и усилению таким путем активного участия Соединенных Штатов в войне», а также к «сковыванию Японии в ожидании дальнейшего развития событий». Слова «активное участие США в войне» не должны путать. «Самым эффективным наступательным методом против Германии и Японии» назывались – экономическая блокада, санкции по финансовой линии и дипломатическим каналам, помощь нейтральным странам, дружественным США и Англии и другим государствам, ведущим борьбу с агрессорами, накопление сил, необходимых для решительного наступления на Германию[454]. СССР – среди «других государств». Это лишний раз показывает, что отсутствие в Атлантической хартии всякого упоминания Советского Союза не упущение, а позиция.
Имелись ли в тот период иные суждения о стратегии и тактике США? Имелись. Армейская разведка и группа планирования Пентагона летом 1941 года вносили предложения об открытии второго сухопутного фронта в Европе, используя момент, когда основная часть боеспособных войск Германии скована в России. Судя по переписке Рузвельта, Маршалла и Макартура, к весне 1942 года начали взвешиваться варианты практического взаимодействия с СССР. Среди них упоминалась возможность отправки американских боевых частей на Восточный фронт. Однако «было признано нецелесообразным, – сообщают М. Метлофф и Э. Снелл, – оказывать Советскому Союзу достаточную непосредственную помощь»[455]. Остановились на организации «в будущем» второго фронта без уточнений – где, когда и как. Тем временем должны были быть продолжены поставки в СССР военных материалов.
В сентябрьском меморандуме Маршалла и Старка признавалось, что поражение России повлекло бы повышение способности Германии к ведению войны в Новом Свете и наращивание активности Токио по сколачиванию «восточноазиатской сферы сопроцветания». Считалось, что свержение нацистского режима в ближайшем будущем маловероятно, и выражалось сомнение в том, что Германия и ее европейские сателлиты могут быть разгромлены одними европейскими державами. Не исключалось, что Япония закрепится на захваченных территориях «настолько прочно, что США и их союзники не смогут найти достаточные силы для продолжения войны против нее».
«Наряду с Россией, основу военного могущества союзных держав составляют военно-морские и военно-воздушные силы. Военно-морские и военно-воздушные силы могут гарантировать от поражения в войнах, а путем ослабления сил противника могут во многом способствовать победе. Однако сами по себе ВМС и ВВС, – отмечалось в документе, – редко или никогда не приносят победу в крупных войнах. Следует считать почти неизменным правилом, что только сухопутные армии могут окончательно выиграть войну». Однако «нечего рассчитывать, что Соединенные Штаты и их союзники предпримут в ближайшем будущем длительное и успешное наступление против собственно Германии».
«Материальная помощь дружественным державам… должна сообразовываться с потребностями Соединенных Штатов». Сами же эти потребности определялись так:
«а) Защита Западного полушария от проникновения в него европейской или азиатской политической или военной мощи является основой военной стратегии Соединенных Штатов;
б) безопасность Соединенного Королевства есть существенно необходимое условие для ведения в Восточном полушарии военных операций против Германии и Японии. Его безопасность исключительно важна также для обороны Западного полушария;
в) безопасность морских коммуникаций союзных держав во всем мире является существенно необходимой для их дальнейших военных усилий;
г) экономическая блокада является в настоящее время, по-видимому, самым эффективным наступательным методом против Германии и Японии;
д) сохранение англичанами в своих руках контроля над Красным морем, Ираком и Ираном необходимо для сохранения возможностей проведения решающих наземных операций против Германии;
е) поддержание действующего фронта в России». Фронта, и ничего другого, поскольку «одна лишь Россия обладает соответствующими людскими резервами, находящимися достаточно близко от центра германской военной мощи». Поддержание посредством содействия вооружению «русских сил».
Далее идут – предотвращение проникновения держав оси в Северо-Западную Африку и на Азорские острова; сохранение в руках США и союзных держав Филиппин, Малайи, Голландской Индии, Австралии, Бирмы и Китая; «сохранение Восточной Сибири в руках России» (это «совершенно необходимо, если хотят остановить Японию»).
Численность вооруженных сил, формируемых самими США или поддерживаемых ими, должна определяться, на взгляд Маршалла и Старка, по завету «и волки сыты, и овцы целы». «Хотя Соединенные Штаты, – подчеркивали они, – будут нести бремя военных усилий длительный период, величина этого бремени должна быть такой, чтобы можно было поддерживать моральное состояние населения и его волю к борьбе».
Как Рузвельт воспринял «Мнение» начальников штабов – неизвестно. Два года спустя (10 августа 1943 года) он заметит: «Крайне неразумно вести военно-стратегическое планирование в расчете на выигрыш в политической игре»[456]. В 1941 году президент санкционировал планы доведения численности армии к июлю 1943 года до 8 795 658 человек в составе около 215 дивизий, в том числе 61 бронетанковой. Около 2 миллионов человек подлежало призыву в воздушные силы. Считалось, что за океан будет переброшено до 5 миллионов военнослужащих, для чего понадобится единовременно максимум 2500 судов[457].
В планировании на два года вперед, когда неясно, что ждет через неделю, и еще не сделан собственный выбор, нечто, согласитесь, от лукавого. В меморандуме от 25 марта 1942 года генерал Д. Эйзенхауэр, в то время начальник оперативного управления штаба армии, давал волю своему раздражению: «Крайне важно договориться о том, что является нашей главной целью, ибо только в этом случае наши действия будут координированными и решительными». Как видим, даже принятие Соединенными Штатами на себя обязанностей воюющей стороны не слишком переменило общую картину. А в 1941 году, до формального вступления в войну, Вашингтон полагал себя вольным стрелком, присягнувшим единственно собственным интересам и не отчитывавшимся ни перед кем, кроме Всевышнего.
Соответственно и вопрос о втором фронте изучался Соединенными Штатами в 1941 году по большей части абстрактно-теоретически. На намеки советского руководства о желательности участия американских вооруженных сил в борьбе на решающем – Восточном – фронте для нанесения Германии скорейшего поражения Вашингтон не откликался. Официальную постановку Сталиным вопроса о втором фронте в послании Черчиллю (18 июля 1941 года) перед англо-американской встречей у берегов Ньюфаундленда[458] Рузвельт считал не относящейся к себе. Тема второго фронта прошла незамеченной на Атлантической конференции. Ее выносили за скобки в переписке президента и премьера. По крайней мере, в том, что опубликовано за 1941 год, нет заметных следов обмена суждениями по второму фронту, как нет и упоминания о других моделях военного сотрудничества, предлагавшихся советской стороной и губившихся на корню или заматывавшихся Лондоном с присущим ему профессионализмом.
Излюбленными отговорками англичан против высадки на побережье Франции в 1941 году и в последующий период были «сильные укрепления» немцев и недостаток транспортных средств для десантирования, а затем надежного снабжения крупного контингента войск. Хотя это не соответствовало действительности, допустим, что англичане верили в свои отговорки. Верили, но, будучи лояльными союзниками, задумывались над тем, где в другом месте они могут с наибольшей пользой для общего дела приложить ратный труд.
Напрягать фантазию им не было нужды. В послании У. Черчиллю, поступившем в Лондон 15 сентября 1941 года, И. Сталин писал: «Если создание второго фронта на Западе в данный момент, по мнению английского правительства, представляется невозможным, то, может быть, можно было бы найти другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага? Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25–30 дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь. Мне кажется, что такая помощь была бы серьезным ударом по гитлеровской агрессии»[459].
Британский премьер отверг это предложение как «абсурд» и «сущую бессмыслицу». В своем ответе он высказался за то, чтобы взвесить возможность «успешного выступления в Норвегии», а также привлечения на сторону союзных держав Турции. Не «абсурдом» ему представлялся также вариант замены советских дивизий на севере Ирана двумя английскими. Как Черчилль писал послу С. Криппсу, «этим (советским) дивизиям следует защищать свою собственную страну»[460]. И попутно британские интересы. Но сражаться с главными силами немцев – нет, от этого англичан увольте.
«Норвежское направление» выставлялось Черчиллем как громоотвод, к тому же неисправный, ибо к этому времени идея высадки в районе Киркенеса, которая была у Лондона на языке в первые дни после нападения Германии на СССР, уже отпала. Британским военным представлялось затруднительным создать нужный перевес сил, одолеть сложности снабжения, справиться с плохой погодой зимой и «хорошо оборудованной обороной» объектов, которые стоили бы атаки. Они находили более перспективным удар на Петсамо (Печенга), «но тогда вся эта операция становилась бы чисто русским мероприятием, в котором нам (англичанам) была бы отведена лишь незначительная роль поддерживающих сил». Изучалась целесообразность англо-шведской операции с ударом в направлении на Тронхейм, однако шведы, сперва не отвергавшие такой возможности, утратили к делу интерес, как только Берлин в октябре 1941 года ослабил давление на Стокгольм[461].
Петсамо и Северная Норвегия еще не однажды будут фигурировать в советско-английских переговорах. И так же, как в 1941 году, все будет кончаться пустыми хлопотами, потому что трудности внешние и внутренние, объективные и субъективные, коих на войне всегда в избытке, перебарываются лишь при наличии должной общности интересов, подлинного доверия и искренности между союзниками по духу, а не по формальной букве.
Что означали бы совместные с СССР боевые операции значительного масштаба? Конец уверткам – посылать материалы и оружие на театр военных действий или не посылать. Конец взгляду на советского солдата как на «живую силу» – приглаженная разновидность термина «пушечное мясо». Почти гарантия того, что козней против союзника не будет. От подобных гарантий Лондон и Вашингтон воздерживались в отношениях между собой. С какой стати выдавать их СССР, связывать свою судьбу или хотя бы престиж со страной, которую в мыслях своих почти обрекли на погибель? Помогать Советскому Союзу исключительно и пока это помощь самим себе, причем наименее обременительная и наиболее эффективная. И не больше. «Никто, – отмечают Дж. Батлер и Дж. Гуайер, – не хотел терять ценные военные материалы в хаосе рушившегося русского фронта, тогда как эти материалы могли быть тут же использованы в любом другом месте»[462].
«Жизненные и постоянные интересы» США связаны с исходом боев на советско-германском фронте, заявил А. Гарриман при открытии 29 сентября 1941 года Московской конференции трех держав[463]. Послание президента, переданное Сталину 20 сентября, было дружественным по форме и скромным по политическому весу. Глава советского правительства знал, почему ставил перед Бивербруком вопрос о заключении с Англией настоящего союзного договора, охватывавшего не только военный, но и послевоенный период, зачем предлагал закончить конференцию подписанием соглашения о тройственном сотрудничестве и отчего квалифицировал позицию Вашингтона как содержавшую «много неясного». «С одной стороны, – заметил советский руководитель, – она, Америка, поддерживает воюющую Англию, а с другой стороны, поддерживает дипломатические отношения с Германией»[464]. Поддержка Англии и отсутствие практической помощи Советскому Союзу. За весь 1941 год СССР получил чуть больше двух процентов от общего объема американских поставок периода войны[465].
Московская встреча завершилась утверждением протокола о снабжении Советского Союза на период с октября 1941 года до конца июня 1942 года из производственных центров Англии и США и о содействии в доставке выделявшихся материалов в СССР. Все документы, принимавшиеся от имени трех, за исключением коммюнике, выдержаны в сугубо экономическом ключе.
Достоверно зная по докладам разведки о позиции англичан, Сталин не делал ударения на важности открытия второго фронта. На встрече 28 сентября он выразил заинтересованность в посылке английских войск на Украину и отвел реплику Бивербрука насчет гипотетической возможности переброски английских частей из Ирана на Кавказ или еще дальше от линии фронта – на восточное побережье Каспия. («На Кавказе нет войны, а на Украине есть»[466].) При всей пользе для перевода в деловую плоскость материально-технического сотрудничества трех держав встреча не улучшила их политического взаимопонимания.
Ввиду явного стремления англичан подменить трескучей фразеологией рассмотрение кардинальных проблем союзничества Сталин обратился 8 ноября 1941 года к британскому премьеру со следующим посланием: «Я согласен с Вами, что нужно внести ясность, которой сейчас не существует во взаимоотношениях между СССР и Великобританией. Эта неясность есть следствие двух обстоятельств: первое – не существует определенной договоренности между нашими странами о целях войны и планах организации дела мира после войны; второе – не существует договора между СССР и Великобританией о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Пока не будет договоренности по этим двум главным вопросам, не только не будет ясностей в англо-советских взаимоотношениях, но, если говорить совершенно откровенно, не будет обеспечено и взаимное доверие»[467]. После паузы, которая длилась до 22 ноября и демонстрировала недовольство Лондона тоном послания, Черчилль ответил предложением направить в Москву А. Идена для политических бесед. Предложение было принято.
Помимо послания, Черчилля не воодушевило также выступление Сталина 6 ноября, в котором «одной из причин неудач Красной армии» было названо отсутствие «второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск». «Обстановка теперь такова, что наша страна ведет освободительную войну одна, без чьей-либо помощи, против соединенных сил немцев, финнов, румын, итальянцев, венгров… Нет сомнения, что отсутствие второго фронта в Европе значительно облегчает положение немецкой армии»[468]. Срок приноравливания Лондона, как и Вашингтона, к ситуации, созданной войной СССР с фашизмом, истекал. Разногласия, в частности уклонение англичан от объявления войны сателлитам Гитлера, были вынесены наружу.
До приезда А. Идена в СССР немцы потерпят поражение под Москвой, а Япония нападет на США и Англию, Германия и Италия объявят войну Соединенным Штатам. Декабрь в силу всемирно-исторической значимости обоих событий может быть обоснованно поименован как «переломный в войне».
Декабрьское 1941 года поражение Германии на Восточном фронте знаменовало необратимый крах всей доктрины, с которой германский империализм начинал мировую (а не европейскую) войну и с успешным претворением которой в сериал эскалирующих агрессий связывались все его расчеты. Непременной предпосылкой конечной победы был разгром противников поодиночке. Помимо дипломатических и пропагандистско-психологических мер, это обеспечивалось внезапностью, массированностью и беспощадностью действий с тем, чтобы поставленные задачи решались прежде, чем потенциальный союзник жертвы агрессии мог прийти ей на помощь. Нацистский рейх не имел запасного варианта войны на выигрыш.
Завоевание СССР должно было перевести количественное наращивание мощи германского империализма в иное качественное состояние. Рейх обретал бы независимость от источников сырья, энергии и продовольствия, расположенных вне сферы его господства, и тем самым сводил на нет результативность экономической блокады, на которую уповали Англия и США. В технико-экономическом и научном отношении правители Германии надеялись догнать и превзойти англосаксов, вместе взятых, если даже британская метрополия по каким-то причинам осталась бы вне орбиты Берлина.
В отличие от многих, если не большинства своих генералов и адмиралов, нацистский предводитель глубже и основательней вникал в экономические аспекты войны. Лично от него исходили директивы, ориентировавшие вермахт на овладение промышленными районами и захват ключевых предприятий, по возможности в полной сохранности и с обслуживающим оборудование персоналом, а также указания по немедленному освоению шахт, рудников, установлению контроля над продовольственными ресурсами оккупируемых стран. Если генералов удовлетворяло достижение успеха соразмерными средствами в рамках конкретной кампании, то Гитлер всякий раз увязывал готовившиеся военные проекты со своими планами установления регионального, континентального и глобального господства. Он не намеревался вложить меч в ножны до того, как достигнет намеченного рубежа-максимума (подчинение обоих полушарий) или рубежа-минимума (безраздельное господство во всей Европе, Африке и на Ближнем и Среднем Востоке). Или Германия добьется этого, или она обречена исчезнуть! Фраза демагога сделалась принципом веры самодержца и религией целой страны.
Без ремилитаризации Рейнской области не было бы Испании, без Испании – аншлюса Австрии, без Австрии – захвата Чехословакии, без Чехословакии – нападения на Польшу, затем на Данию и Норвегию, на Бельгию, Голландию, Люксембург и Францию, на Югославию и Грецию и, наконец, на Советский Союз. До агрессии против Польши и особенно до Мюнхена гитлеровскую Германию можно было осадить на любом этапе. После капитуляции Франции германский империализм могла остановить только сила и поставить на место лишь военный разгром.
Дело упиралось в вопрос, и не второстепенный: кто воздвигнет неодолимый предел германской экспансии и как? Ответ на первую часть – самую тяжелую, наиболее кровопролитную – дали сражения 1941 года на Восточном фронте, протянувшемся от Баренцева моря до Черного.
Битва под Москвой, кончившаяся поражением главных сил агрессора, подвела промежуточный итог подвигу советского народа и его вооруженных сил, начавшемуся на рассвете 22 июня. В сражениях на подступах к своей столице СССР решил жизненно важную для себя проблему, от которой зависело его дальнейшее существование как государства, системы и национального сообщества, проблему жизненно важную для цивилизации.
Московская победа подвела промежуточный итог всей мировой войне. Советский Союз перечеркнул доселе победоносную нацистскую доктрину блицкригов. Гитлер не ошибся в своих оценках сроков развертывания боевых возможностей США («не ранее 1943 года»). Он начисто просчитался в оценках жизне– и обороноспособности СССР.
До обезвреживания германского империализма и его военных инструментов было, однако, далеко: слишком запущенной оказалась болезнь, слишком велика стала база, на которую опирался гитлеровский рейх, слишком крепко взнуздал нацизм немцев. Но отныне – после Московской битвы – вермахту предстояло вести совершенно новую для себя войну, воевать по неудобным для него правилам, переучиваться на ходу, забывать пору легких побед и безнаказанности.
Как уже подчеркивалось, при согласованных действиях держав антигитлеровской коалиции и максимальном для всех напряжении усилий можно было развить провал блицкрига в сравнительно скорое тотальное поражение нацистской Германии. Реально можно было, если бы все союзные державы сосредоточились на главном и не разбрасывались на побочные задачи.
Вот некоторые свидетельства того, в каком тупиковом положении пребывал вермахт в начале 1942 года, когда продвижение частей Красной армии, израсходовавших в тяжелейших боях наступательный потенциал, застопорилось. Совершая нападение на СССР, которое Гитлер объявил «величайшей битвой всемирной истории», вермахт располагал 5694 танками и самоходными орудиями (из них на операцию «Барбаросса» было выделено 3990). Среднемесячное производство танков составляло в среднем 250 машин (против 900, как того требовало от промышленности нацистское руководство). К концу декабря 1941 года немцы потеряли 3730 танков и САУ, в январе 1942 года эта цифра подскочила до 4240 танков и САУ. Генерал-полковник Рейнхардт, командовавший 3-й танковой группой, приравнивал силу своих восьми дивизий к семи ротам. 30 марта 1942 года ставке было доложено, что в шестнадцати танковых дивизиях, находившихся на Восточном фронте, оставалось в наличии 140 боеспособных танков. Потери самолетов равнялись на конец января 1942 года 6900 машинам. Промышленность не успевала компенсировать выбывшие из строя самолеты[469].
Министр вооружений и боеприпасов Тодт доложил 29 ноября 1941 года фюреру, что добиться окончания войны в пользу Германии можно только политическим путем[470]. В военно-экономическом отношении Германия была обречена. Генерал Йодль в 1945 году на допросе показал, что Гитлер «раньше любого другого человека на свете чувствовал и знал: война проиграна»; «после катастрофы, разразившейся зимой 1941/42 года, он отдавал себе отчет в том, что… с этого кульминационного момента, начавшегося в 1942 году, победы быть не может»[471].
Тогда-то, в условиях глубокого кризиса, поразившего германскую военную машину и ее нацистское руководство, два десятка свежих английских или американских дивизий, доставленных в СССР и поддержанных авиацией, даже без второго фронта были способны, взаимодействуя с Красной армией, развить стратегический успех. Но западные державы не смогли или не захотели сделать этого. Вернее – не хотели и не могли. США не оправились от Пёрл-Харбора и краха концепции «воевать не воюя». Помыслы Англии приковывали Ближний, Средний и Дальний Восток, а также послевоенные планы. Россия не сдавалась – вот и прелестно.
Вернемся к словам Тодта – окончание войны в пользу Германии возможно только политическим путем. Тем путем, каким рейх приобрел Австрию, Чехословакию, Данциг и вполне мог приобрести Польшу, Прибалтийские государства? Тодт и другие, кто лелеял мечту о почетном замирении, – а их было немало в нацистской верхушке, в деловых кругах, среди военных – смотрели потерянному шансу вслед. Поражение Германии в молниеносной войне вырывало жало у «антибольшевистского крестового похода», который выплеснул на поверхность Гитлера и взрастил его режим. Потерпела крушение политическая философия, которую по обыкновению отождествляют с мюнхенским предательством, не выводя из тени тот факт, что Мюнхен являлся лишь видимой частью происходившего.
Нацистской Германии невольно пришлось искать эрзац-стратегию, в спешке перестраиваться на новую, практически безнадежную войну. После зимы 1941/42 года расчеты на будущее связывались не с выигрышем в войне вообще, но с успехом на том или ином ее театре и даже не в течение сезона, но в каждом отдельном сражении. В молниеносной войне, правильнее – системе таких войн, раскрываются в первую очередь мобильность, организованность, дисциплинированность общества и нации, слаженность функционирования всех звеньев, из коих складывается мощь страны. В затяжной войне, где чередуются наступление и оборона, подъемы и спады, вперед выходят духовные потенции и идейная закалка народа и общества, их способность обрести второе и третье дыхание, учиться на собственных ошибках и достижениях противника, поставить во имя цели, понятной и ценимой большинством, все силы и ресурсы без остатка.
За первые пять-шесть месяцев Отечественной войны СССР потерял армию, не уступавшую по численности той, которую летом 1941 года бросил против него нацизм. Огромные территории попали под власть захватчиков. Были потеряны важнейшие промышленные мощности и главное – люди, от которых зависела оборона[472]. Сложно ответить на вопрос, кто другой смог бы пройти через подобное горнило не согнувшись. Но подвиг этот отнял слишком много сил. Оставшихся недоставало, чтобы инициативу, вырванную из рук гитлеровцев в конце 1941 года, Советский Союз мог один, без союзников разом превратить в разгром не дивизий и армий, а вермахта в целом и преступного режима, которому он служил[473].
Но США и Великобритания еще долго не будут испытывать вкуса к партнерству с Москвой. Самыми убедительными аргументами для них, как оказалось, были не доводы разума, не апелляция к союзному долгу, не примеры самоотверженности на советской стороне, вызывавшие восхищение за рубежом, но прежде всего политические, военные, социально-экономические факторы, которые создавались победами Красной армии.
Если до вступления Соединенных Штатов в войну их стремление заглянуть в стратегические оценки и замыслы СССР и Англии, не раскрывая собственных карт, можно было объяснить нестандартным статусом полусоюзника-полунейтрала, то в декабре 1941 года Япония, Германия и Италия лишили Вашингтон привилегии, которая казалась верхом мудрости не одному Г. Гуверу. Соединенным Штатам, заявлял бывший президент 29 июня 1941 года, «нецелесообразно спешить со вступлением в войну, а выгоднее подождать ее окончания, когда другие нации будут достаточно истощены, чтобы уступить военной, экономической и моральной мощи США»[474].
Думается, все еще слабо прояснено, какое место в американской политике выжидания занимал японский вопрос. Он имел разные проекции. Внутренние – наличие нескольких противоречивых линий в самой администрации Рузвельта (президентская, госдеповская, военведомская). Внешние – сопряженные с развитием политики Токио и отношениями Японии с рядом третьих стран.
Не обнаружилось пока веских свидетельств тому, чтобы американцы оказывали на Японию какое-либо существенное давление с целью удержать ее от присоединения к нацистской агрессии против СССР. Между тем в Вашингтоне знали, какую активность развивали здесь гитлеровцы и какие страсти кипели в самом токийском руководстве. Возможностей для предостережений до и после 22 июня у администрации имелось в избытке. Посол Номура и Хэлл встречались в 1941 году сорок раз. Девять раз принимал японского посла президент.
Министр иностранных дел Мацуока «чрезвычайно настойчиво» ратовал за войну против Советского Союза вместе с Германией, и до 2 июля 1941 года Япония могла в любой момент включиться в «русский поход». Мацуоке оппонировали моряки. Они исходили из того, что: а) Япония не может воевать, не овладев источниками сырья, которые расположены на юге; б) нападение на СССР автоматически вовлечет Японию в войну против США и заставит вести борьбу на два фронта. Армия колебалась. Она обусловливала поворот на север достижением немцами решающего успеха на Восточном фронте.
На поведении правительства и японских военных сказывалось отсутствие согласованности стратегий Берлина и Токио. Гитлер посвятил японского посла в Берлине Осиму в план «Барбаросса» только 3–4 июня 1941 года. В день нацистского нападения на СССР японское руководство приняло решение об ускорении «южной экспансии».
Японцы не делали поспешных выводов из начальных тяжелых неудач Красной армии. В противовес молодым офицерам Квантунской армии, жаждавшим реванша, большинство находило длительную войну с СССР чрезмерно рискованной. Пока Советское государство не потерпело «решающего поражения» от Германии, предпочтение отдавали достижению перелома в «китайском инциденте»[475].
На имперском совещании 2 июля 1941 года взяли верх противники распыления сил. Перед лицом «совершенно новой ситуации, возникшей вследствие начавшейся между Германией и Советским Союзом войны», были одобрены «три принципа национальной политики»:
1) Япония пока не должна вступать в войну против Советского Союза;
2) Япония не должна, однако, отдаляться от Германии;
3) Япония должна установить контроль над всем районом Индокитая.
Того, назначенный на пост министра иностранных дел после удаления Мацуоки из кабинета, констатировал: «Германия и Италия добьются завоевания континента и будут в состоянии достичь своих первоначальных целей, но, вероятно, они не смогут поставить под контроль всю ситуацию, так что война окажется затяжной, и нельзя ожидать сотрудничества обеих наций с Японией»[476].
Решения 2 июля стали водоразделом во взаимоотношениях Японии также с США. С этого момента «проект договоренности» о «дальневосточном варианте „доктрины Монро“», переданный японцами администрации через министра почт Уолкера, терял смысл[477]. Немецкий профессор П. Херде (Вюрцбургский университет) полагает, что японо-американские переговоры споткнулись на доктринерстве К. Хэлла. Госсекретарь США проповедовал после захвата японцами (начиная с 19 июля 1941 года) военных баз в Южном Индокитае политическую твердость и силу в отношении Токио[478].
Действительно, 24 июля Вашингтон заморозил японскую собственность в США (с 25 июля) и ввел эмбарго на нефть (с 1 августа), то есть прибегнул к самому острому из имевшихся в его распоряжении невоенных средств. Вместе с тем японцев завлекали радужными возможностями, в случае отказа от «дальнейшей военной экспансии», урегулирования возникших проблем к взаимной выгоде.
«Неделимая безопасность» в определенной степени приравнивалась Рузвельтом к «неделимому мировому рынку»[479]. Японцы урезали свободу морей и создавали замкнутый район азиатского «сопроцветания», и это в условиях, когда Германия подчинила себе Европу. С утратой рядом государств своей политической независимости США было свыкнуться легче, чем с потерей доступа на их рынки.
Надежды Рузвельта на мирный исход могли оживиться после поступивших из Токио предложений о «компромиссе» в условиях вывода японских войск из Индокитая, окончания при американском посредничестве войны в Китае, обеспечения «нейтралитета» Филиппин, совместной разработки источников сырья в Голландской Индии, отмены американского торгового эмбарго. С 7 августа на протяжении почти двух месяцев премьер Коноэ добивался личной встречи с Рузвельтом в Гонолулу или на Аляске. Посол США в Токио Грю настойчиво рекомендовал президенту поддержать премьера, олицетворявшего «либеральный» элемент в японском руководстве. Противоположную позицию занял Хэлл. На его взгляд, японцы еще недостаточно поддались. Рузвельт принял сторону госсекретаря, которого подкреплял военный министр Стимсон. Как сложились бы события тех лет, дойди дело до встречи президент-премьер? Простор для спекуляций. Известно, однако, что личного контакта Рузвельта с Коноэ опасались и не хотели Берлин и Лондон.
Имперское совещание 7 сентября 1941 года, рассматривавшее план действий в связи с американским эмбарго, прошло под девизом: капитуляция или война. 16 октября Коноэ передал премьерский пост главе партии войны Тодзио. Имперское совещание 5 ноября высказалось за агрессию против США, если до 12.00 1 декабря 1941 года японо-американские переговоры не дадут удовлетворительных результатов. Окончательная точка была проставлена 1 декабря: в 16 часов 10 минут Хирохито подписал акт о состоянии войны с Соединенными Штатами[480].
Если реконструировать ход мыслей Рузвельта, особенно после введения нефтяного эмбарго, каким он был? Японское могущество зиждилось на ВМС. Без нефти флот уподоблялся рыбе, вытащенной из воды. Если агрессору обрезались пути экспансии на юг, то сам собой напрашивался вопрос: не вынудит ли это его искать отдушину на другом направлении? Такой вопрос возникал.
Прорабатывалось несколько возможностей. Отступление Японии обнажит ее слабости, вызовет внутренние пертурбации, разовьется в кризис системы. Тогда свертывание одной агрессии не обязательно спровоцирует другую. Но поспешного бегства японцев с захваченных ими территорий и позиций не ожидалось. За более вероятный шел вариант, что Токио разыграет Индокитай как козырь и затем, ухватившись за намек: никаких «дальнейших завоеваний», – займется наращиванием давления на советских границах.
Косвенно это подтверждают поступавшие от американцев в 1941 году неоднократные «предостережения» о намерении Японии атаковать СССР. Настораживая, приглашали Москву упредить повторение случившегося на Западе, в любом случае – сохранять в готовности весь контингент советских войск на Дальнем Востоке.
Можно попытаться проникнуть в суть, задавая себе сакраментальный вопрос: было ли США выгодно вступление СССР в войну против Японии в 1941 году, снимала ли японско-советская война у Вашингтона головную боль? 15 октября 1941 года Рузвельт писал Черчиллю: «Я думаю, что они (японцы) направляются на север, ввиду этого Вам и мне обеспечена двухмесячная передышка на Дальнем Востоке»[481]. 16 октября адмирал Старк ориентировал командующего тихоокеанским флотом X. Киммелла, что «наиболее вероятна война между Японией и Россией»[482].
Похоже, принятие Вашингтоном капитальных решений по Германии оттягивалось осенью 1941 года из-за непредсказуемости как событий на советско-германском фронте, так и реакции японцев на призывы из Берлина поторопиться с ударом по Советскому Приморью. С американского угла зрения, Япония поступала нелогично и иррационально, бросая вызов стране экономически более могущественной, с нетронутыми ресурсами, располагавшей мощным флотом, вместо того чтобы вцепиться в звено, которое уже подвергалось в тот момент наибольшим нагрузкам на разрыв.
По оценке американского профессора Г. Уайнберга, даже после Пёрл-Харбора президент не исключал, что дело обойдется без войны с немцами, войны в полном и прямом смысле слова[483]. Согласно данным радиоразведки, Германия в начале ноября 1941 года избегала столкновений с американцами, несмотря на участие ВМС США в морских операциях на стороне Англии. Возможно, Рузвельта не вдохновлял союз с государствами, из которых одно, как представлялось, дышало на ладан, а другое состояло на американском кормлении.
Именно Япония и Германия подвигнули Рузвельта на декларирование (и то не сразу) очевидных истин: США не могут помышлять о будущем, замыкаясь в себе или в Западном полушарии, они должны стать полнокровными участниками международного сообщества. То есть на заявление вслух того, что президент 21 января 1941 года написал послу Грю: «Проблемы, стоящие перед нами, столь огромны и так взаимопереплетены, что любая попытка их обрисовать заставляет думать об отношениях пяти континентов и семи морей… Я полагаю, фундаментально важно осознать, что сражения в Европе, в Африке и в Азии являются составными одного единого мирового конфликта»[484].
Но даже когда с глаз спадает пелена и мир предстает в реальном измерении, выводы, которые делаются, не обязательно бывают однозначными. В правящих кругах США кончались одни споры, чтобы уступить место другим, в том числе и тем, что переживут Вторую мировую войну и перейдут в наши дни.
Из поля зрения на время как-то ускользнула военная и гражданская оппозиция в Германии. Чем занималась она в 1941 году? К. Герделер пописывал «патриотические» проекты превращения военных успехов нацистов в приемлемый для германской элиты и западных демократий мир. В его записке «Цель» (99 страниц), подготовленной в начале 1941 года, ставились общие вопросы будущего социального и государственного устройства Германии: корпоративное общество, подчиненное сильной власти, надзирающей за стабильностью и традициями[485]. 30 мая 1941 года, вдогонку Гессу, Герделер переправил в Англию выдержанный в этом духе «мирный план». Реакция из Лондона разочаровала: идея «мира по взаимопониманию» не проходила.
Заключение между СССР и Великобританией соглашения от 12 июля 1941 года, воспрещавшего сепаратные переговоры с противником, Герделер и его круг приняли как тяжкий удар. Впрочем, не слишком оглушающий, как оказалось. После нападения гитлеровского рейха на СССР англичане перевели на этаж ниже контакты с оппозиционерами. Британскому генконсулу в Цюрихе «только» в августе 1941 года было разрешено «принимать сообщения», касавшиеся деятельности противников нацистского режима[486]. Эта инструкция не замыкалась на Швейцарии. Что касается американцев, то их службы вообще не ведали ограничений на поддержание связей с представителями Германии вплоть до объявления немцами войны США.
При значительном размахе контактов и их разношерстности неудивительно, что кое-какие сведения перепадали прессе, становились достоянием парламентариев, доходили до других адресатов. Упреждая разоблачения, Черчилль счел нужным продекларировать 10 ноября 1941 года в палате общин, что его правительство никогда не вступит в переговоры ни с Гитлером, ни с нацистским правительством. 19 ноября англичане передали НКИД СССР памятную записку, в которой говорилось о намерении Германии созвать европейскую конференцию с тем, чтобы при поддержке своих союзников и «нейтралов» обратиться к народам с призывом «к всеобщему миру». Английская сторона квалифицировала этот маневр Берлина как уловку в расчете на выигрыш времени[487].
Факт связей с немцами легализовывался, и возможные упреки заранее отводились. Рузвельт поддержал премьера в его «решимости» не иметь дел с Гитлером. А связи между тем не прерывались. Еще на ступеньку понизили их уровень. Ввели промежуточные шлюзы. Больше делалось оговорок и выказывалось чопорности даже при приеме именитых оппозиционеров и тех, кто выдавал себя за таковых или кого использовали Гиммлер и прочие рейхсфюреры под флагом «оппозиции». Не стоит уже говорить о вполне «нормальных» контактах с деятелями типа Петена, Салазара, Пия XII, испанских и турецких министров, а также эмиссаров спецслужб.
Только все это было, наверное, лишнее, когда перед англичанами лежали предложения Гитлера, доставленные Гессом: заключить мир, чтобы совместно идти против СССР или хотя бы условиться, что Лондон не будет мешать Берлину, как пояснил заместитель фюрера Киркпатрику 9 июня 1941 года, «предъявить России определенные требования, которые должны быть удовлетворены путем переговоров либо в результате войны»[488]. Об этом Черчилль ни тогда, ни позже ничего советской стороне не сообщал и в своих мемуарах упустил поведать.
Миссия Гесса не была ни импульсивной, ни «личной» затеей психически неуравновешенного человека. После первого неудачного старта 10 января 1941 года, прерванного из-за метеоусловий, и до наделавшего шума полета 10 мая заместитель фюрера имел случай обсудить не только с Гитлером «свой» план прекращения «кровопролития». Через Буркхардта вентилировалась модель восстановления мира при условии, что рейх ограничится «прежними германскими владениями». Мотив ограничения программы ревизии статуса 1937 года возвращением рейху территорий, отошедших после Первой мировой войны к Польше, аншлюсом Австрии и Судет прозвучал в беседе Гесса с С. Уэллесом еще в марте 1940 года. Подробности этого разговора скрываются тщательнейшим образом. Впечатление таково, что встреча с американцем зафиксировала Гесса на идее, что ему назначено быть парламентарием между Берлином и Лондоном. Что обещал немцам британский посол в Мадриде Самуэль Хор, замешанный в этой афере, также не раскрыто.
Когда пыль от приземления Гесса в Шотландии осела, Гитлер осенью 1941 года проявил интерес к плану А. Хаузхофера, на которого в мае он для отвода глаз обрушил десницу. Хаузхофер внушал фюреру, что ни одна из сторон не в состоянии взять верх, в войне наступил пат. Выход – в договоренности с Западом. Мир, по словам Хаузхофера, закреплял бы господство рейха в Центральной и Восточной Европе (Польша, Чехословакия, Эстония, Литва, Сербия, Хорватия) и возвращал Германии ее колонии, а Англия взамен получала бы гарантии неприкосновенности своей империи. Представления Хаузхофера, числившегося в «диссидентах», совпадали с тем, что отстаивали Шахт, Хассель, Тротт, Бонхеффер, и были, кстати, «умеренней» требований Герделера[489].
О контактах западных держав с Германией в 1941 году выполнен ряд доброкачественных исследований. Они дают дополнительный повод задать вопросы, которые не назовешь второстепенными.
В 1937–1940 годах Лондон и Париж систематически получали информацию об основных операциях, готовившихся гитлеровцами с применением вооруженных сил или угрозой их применения. Начиная с ремилитаризации Рейнской области и аншлюса Австрии до ударов по Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Франции крупных пробелов в осведомленности Лондона в любом случае не возникало. Данные шли непосредственно от высокопоставленных чинов немецкой военной разведки и дублировались сотрудниками германского МИДа. Целевая направленность раскрытия сокровенных тайн рейха – обнажить перед западными державами, включая США, подлинные намерения нацистов, сильные и слабые стороны намеченных акций, чтобы уготовить Гитлеру суровую отповедь[490].
Что стряслось, почему обмелел, измельчал поток, когда Гитлер решил повернуть военную машину против СССР? Британские спецслужбы, согласно сообщению Дж. Соммервила на симпозиуме в Штутгарте, перехватили кодовое название «Барбаросса» только 8 мая 1941 года[491].
Где были Остер и другие «ненавистники» нацизма из аппарата Канариса? Почему Браухич, визируя пересланный в Лондон герделеровский «план мира», не обмолвился, что через три недели откроется главный акт Второй мировой войны? Чем руководствовался сам Канарис, который не убоялся в сентябре 1940 года выдать Франко гитлеровский план втягивания Испании в войну против Англии и приспособления Пиренейского полуострова для проведения операций в Северной Африке и тем сорвал этот план, но утаил информацию о готовившемся «русском походе»?
На основании документов, в том числе недавно введенных в оборот, можно определенно констатировать, что если при подготовке оперативных планов, направленных против западных держав, Браухич, Гальдер, Томас и прочие высокопоставленные военные чины тянули канитель, то в разработке планов агрессии против СССР они бежали впереди своего фюрера. Гальдер и его окружение подзадоривали Гитлера в его авантюризме. Кое-какие сомнения слышались со стороны Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Йодля и Варлимонта, а также морского командования. Больше тактического свойства, но все же сомнения. Главные официальные оппозиционеры в большинстве симпатизировали идее войны с СССР[492].
Оппозиция вспомнит о «буржуазной морали» и «цивилизации» ближе к октябрю-ноябрю 1941 года, когда от блицкрига остались раскаты грома и в повестку дня во весь рост встало образование антигитлеровской коалиции. С этого времени оппоненты заведут долгоиграющую пластинку о «невыгодности» для Запада доводить войну до разгрома германского империалистического государства и его вооруженных сил.
Авторы из ФРГ тщательно обходят такого рода неудобные углы. Риттер рассуждает о «полной тьме», наступившей с нападением на СССР. Хассель и Попиц дебатируют, не упущено ли было время для переворота, поскольку Германия не могла «более добиться приемлемого мира»[493]. Когда все летело в тартарары, тем больше возникало причин, даже с позиций архиконсерваторов, вставить палки в колеса «Барбароссе», не верно ли? Если бы до самого предрассветного часа 22 июня не угасала надежда на успех Гесса и сопутствовавших этой афере менее шумных акций. К тому же прежде нацисты зарились на «своих», теперь же сводили счеты с «главным врагом» – Советами.
По данным Соммервила, в середине мая 1941 года британские криптологи подобрали ключ к шифру немецких железных дорог и узнали много ценного о перемещении войск, а также о подготовке вагонов для транспортировки будущих военнопленных. 7 июня служба перехвата и дешифровки прочитала полный текст боевого приказа нацистским ВВС. На основании именно этого материала А. Иден провел 10 июня известную беседу с И. Майским, – рейх, предупреждали Сталина, изготовился напасть на Советский Союз. 12 июня была расшифрована телеграмма посла Осимы, докладывавшего в Токио содержание беседы с Гитлером. Телеграмма подтверждала: война – дело обозримого времени. Последовал новый предупреждающий сигнал в Москву[494]. Соммервил склонен подавать события в рекламно-детективном стиле, без того, чтобы сбалансировать свою версию с данными, заставляющими посмотреть на дело несколько шире.
До начала мая 1941 года британский комитет начальников штабов (КНШ) не считал нападение Германии на СССР делом решенным. Еще в двадцатых числах мая английская разведка придерживалась мнения, что Германия может извлечь больше выгод из экономических переговоров с Советским Союзом, чем из войны против него. Разведка пересмотрела свои оценки лишь 12 июня. В представленном ею докладе говорилось: «Получены новые данные о том, что Гитлер принял решение напасть на Советский Союз. Военные действия весьма вероятны, хотя определить дату их начала пока трудно. Мы полагаем, что развязка наступит, видимо, во второй половине июня»[495].
Война – занятие нешуточное. И когда в апреле Лондон хитрил, подбивая Советский Союз стать запевалой в схватке с Германией, он не мог не отдавать себе отчет в том, что сие неуместное лукавство в другой раз поставит вне доверия самую задушевную искренность. Это не обеление произвольной трактовки Сталиным данных о надвигавшемся гитлеровском нашествии, но желание не потерять в уравнении неизвестное.
Задним числом почти все и почти всегда ясно и бесспорно. Можно сказать и доказать, по меньшей мере самим себе, что западные державы и СССР были обречены совместно воевать против Гитлера, что Соединенные Штаты привели к конфликту с Германией и Японией не чьи-то промахи или волевые решения, а непримиримые противоречия. Как доказать и то, что послевоенный разлад Запада с Советским Союзом был почти неотвратимым.
В ту бурную пору, однако, многое выглядело иначе. Теоретические прикидки и мудрствования были не в цене. Надо всем – актуальная, обжигающая необходимость. Нередко перевешивал не совокупный, устоявшийся опыт, а непосредственные, неостывшие впечатления, отношения доверия или недоверия, симпатии и антипатии между конкретными деятелями, не только интеллект, но и чутье тех, кому было уготовано принимать необратимые решения, их способность без шор на глазах смотреть на необычное и непривычное, каким было едва ли не все во Второй мировой войне.
Конец 1941 года ознаменовал качественный перелом. В одной войне – молниеносной – рейх потерпел поражение[496]. Начиналась следующая – затяжная и изнурительная война. Кто будет в ней действительным, а не номинальным противником Германии, кроме Советского Союза? Насколько сплоченной будет антигитлеровская коалиция, сколь эффективный механизм военного сотрудничества она создаст, смогут ли СССР и США изыскать тот общий знаменатель, который позволит сочленить их интересы, отражающие различную природу систем?
С этими и множеством других вопросов мир вступил в 1942 год. С вопросами и надеждой получить на них ответы. И снова – в который раз – Советскому Союзу предстояло убедиться, что в отношениях между государствами слова и дела имеют собственные орбиты, зачастую вовсе несхожие.
Глава 7 Проблемы коалиционного сотрудничества и организации второго фронта в 1942 году
Объективный – он не может не быть критическим – анализ процесса становления планов и открытия второго фронта изображается рядом историков как некое запоздалое сведение счетов между бывшими союзниками. «Вопреки советским утверждениям, оспаривающим это, – читаем мы у П. Бётгера, – как Великобритания, так и Соединенные Штаты Америки постоянно держались своего обязательства поддерживать Советский Союз всеми имевшимися в их распоряжении средствами»[497].
Его бы устами да мед пить. Никто не выиграет от смешения двух позиций и разных стратегий, которые определяли подходы Лондона и Вашингтона к проблеме союзничества с СССР и ко второму фронту как части этой проблемы, к архитектуре послевоенного мира. Представления об общем поучительном былом обеднеют и проиграют, если сложный переплет вокруг второго фронта сместится во времени и будет превращен в сомнительную находку холодной войны. Наконец, мы не сделаем комплимента Черчиллю, его правительству или британским военным, если закроем глаза на факты, чтобы не оказаться вынужденными выразить к ним свое отношение. Правильнее попробовать перенестись в положение тогдашней Англии и объяснить, не обязательно соглашаясь, мотивы поведения ее политиков.
От обвинений после наказания навар невелик. В конечном счете каждое правительство любого государства, если оно независимо, преследует собственные цели. Коль скоро, однако, на основании фактов и под их гнетом о явлении или образе действий сложится не восторженное суждение, это не причина обходить правду молчанием. В данном случае это не повод запечатывать уста, в частности, американским документам периода войны, которые по остроте оценок касательно линии Черчилля оставляют в тени большинство ученых трудов, когда-либо изданных в СССР.
Для ясности повторим, что лишь злой умысел может перелицовывать неверие демократий в способность Советского Союза устоять перед гитлеровским нашествием в желание сознательно подыграть поражению Советского или, точнее, Российского государства. Приписывать подобное желание правительству Черчилля, как и администрации Рузвельта, было бы грешно. Англичане и близкие им по настрою американцы полагали достаточным, если бы Россия вышла из войны не советской и с урезанными возможностями влиять на политический климат в Европе и Азии. О других континентах не стоит и говорить.
22 июня 1941 года Черчилль, клеймя нацистское нападение на СССР, аккуратно подбирал слова, адресованные Москве, но главную мысль передал внятно: пока Россия с Англией, в британских интересах ей помогать в меру возможностей. Как и насколько, премьер не счел целесообразным конкретизировать. В сентябре он напишет в Москву послу Криппсу, который критиковал Лондон за пассивное выжидание и требовал высадки британских войск на севере Франции или в другом месте, чтобы заставить нацистов снять часть дивизий с Восточного фронта, что разделяет чувства посла, наблюдающего «агонию России», но «ни симпатии, ни эмоции не должны затмевать фактов, с которыми нам приходится иметь дело»[498].
О каких фактах вел речь премьер? Политики и советники вокруг Черчилля были почти единодушны: Советский Союз ждет участь Франции. Г. Никольсон занес в свой дневник: 80 процентов экспертов в военном министерстве исходят из того, что «Россия будет в нокауте через 10 дней»[499]. Начальник Генерального штаба Дж. Дилл отводил Советскому Союзу на все про все семь недель, главнокомандующий британскими силами на Среднем Востоке А. Уавелл – «несколько недель», посол С. Криппс – «четыре недели». Моральная, политическая и символическая военная поддержка была продемонстрирована, но не больше. Высаживать крупные контингенты британских войск, перебрасывать в район операций основных соединений вермахта самолеты и другую технику считалось слишком рискованным. Второго Дюнкерка не ждали.
У Черчилля грудились в голове самые разные идеи, но все так или иначе связанные с укреплением, пока Советский Союз сопротивляется, имперской периферии Британии. Чтобы высвободить для этого дополнительные силы, премьер не остановился перед приглашением американцев высадиться в Северной Ирландии (операция «Магнет»). И в этом же обращении к Рузвельту он ставил президента в известность, что в ближайшие шесть месяцев англичане не смогут послать никаких сил в помощь России, и дал понять, что здесь не надо давить на британскую сторону.
Взглянем неполемично на ситуацию, в какой пребывала Англия во второй половине 1941 года. Соединенные Штаты держат Британию на плаву, «арсенал демократии» – не метафора, он работает. Но самое большее, что англичане одни, без США как военного союзника, в состоянии сделать, – это обороняться. Для наступательных операций не скоплено ни сил, позволяющих взять верх не уменьем, так числом, ни веры в себя. Нового поражения Англия и ее империя не переживут. Избежать этого крушения важнее, чем предотвратить поражение СССР. Поэтому не должно присягать задаче срыва «Барбароссы» во что бы то ни стало.
Англии нельзя становиться заложницей исхода битв на Восточном фронте. Правильнее держаться на дистанции и думать категориями пост-«Барбароссы», может быть и болезненными для Москвы.
Уступая настояниям советской стороны, У. Черчилль дал в конце концов добро на подписание (12 июля 1941 года) соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии. Статья 2 фиксировала обязательство, что «в продолжение этой войны они (стороны) не будут ни вести переговоры, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия»[500]. Точки над «i» проставлены – борьба до конца. И до победного тоже?
Но в сентябре-ноябре горизонт заволокло туманом. Сталин усомнился в наличии подобающей искренности во взаимных отношениях и потребовал договорного оформления обязательств о взаимопомощи и достижения согласия о целях войны и о планах организации мира после нее. Советское правительство располагало документами, из которых напрашивалось заключение: активизировались не только немецкие зондажи под сурдинку замирения, но и повысился интерес Лондона к нам.
В начале сентября премьер заявил военному кабинету: «Возможность сепаратного мира не может быть полностью исключена». Перед этим он направил письмо Г. Гопкинсу, которое в Белом доме было понято как намек на сползание к сепаратному урегулированию с рейхом. Затем то же самое Черчилль преподнес Рузвельту[501].
Президент Швейцарии Э. Уеттер и министр иностранных дел конфедерации М. Пиле-Гола, президент Турции И. Инёню и статс-секретарь турецкого МИДа Н. Менеменджиоглу, Ватикан, правительство Виши во главе с Петеном, К. Буркхардт в качестве президента Красного Креста пытались перещеголять один другого в стремлении помочь Черчиллю «опомниться». Не совсем, как видно, безрезультатно.
Накануне приезда Идена в Москву (15 декабря) дало себя знать желание Черчилля подразжижить обязательство, записанное в июльском (1941 года) соглашении, не заключать с Германией сепаратного мира или перемирия. Премьер аргументировал так: «Мы сделали публичное заявление о том, что не будем вести переговоры с Гитлером или нацистским режимом, но… мы пошли бы слишком далеко, если бы заявили, что не будем вести переговоров с Германией, взятой под контроль ее армией. Невозможно предсказать, какое по форме правительство может оказаться в Германии тогда, когда ее сопротивление будет ослаблено и она захочет вести переговоры»[502].
Премьер подправит свою тактическую линию под впечатлением поражения, понесенного вермахтом в Московской битве (по количеству задействованных в ней с обеих сторон войск и боевой техники она уступала лишь сражению на Курской дуге), и рекомендаций собственного военного кабинета, который принял сторону Идена, высказавшегося после декабрьских переговоров со Сталиным за более деловое сотрудничество с Советским Союзом и лучший учет его интересов. Это не означало, что Черчилль свернет или пересмотрит свои стратегические установки.
Нет, не случайный эпизод – телеграмма Черчилля Идену от 10 декабря 1941 года: Ливийская пустыня – «это наш второй фронт»[503]. Потом в ранг второго фронта он возведет операцию «Торч»[504], еще позже – взятие Сицилии и т. д. В закрытых дискуссиях и переписке премьер осенью 1941 года начал пробрасывать мысль о 1943 годе, «не раньше», как возможном сроке высадки в Северной Франции, а с 1942 года второй фронт в различных редакциях будет прилаживаться им лишь к 1944 году.
Объективные сложности, затруднявшие организацию несимволического второго фронта в 1941 году[505], накладывались на субъективное неприятие «преждевременного» вхождения в клинч с главным противником. В изменившейся обстановке 1942 года, когда тяготы второго фронта, наряду с Англией, принимали бы на себя и США, а Германия утрачивала привилегию свободного маневрирования большими массами войск, субъективный элемент выдвинулся на авансцену.
Попробуем, отдалив детали, разобраться, как отразилось на политических и стратегических концепциях, а также военном строительстве Соединенных Штатов то обстоятельство, что война перестала быть для них чужой. Преобразилась ли и в чем «программа победы», начерно скомпилированная летом-осенью 1941 года? Как расставлялись акценты, что подверглось пересмотру в национальных целях и способах их достижения? Мечта Черчилля иметь США на стороне Англии не в качестве наблюдателя и надзирателя, а партнера и союзника сбылась. Во что это вылилось в практике отношений американцев с англичанами и англичан с американцами, принесла перемена только плюсы или потянула за собой также минусы?
Отметим как факт: президент внутренне не изготовился сделать СССР предпочтительным партнером. Без установления между Вашингтоном и Лондоном элементарного взаимопонимания, гармонизации их стратегии на Европейском театре военных действий и согласовывания пусть самых генеральных подходов к проблемам послевоенного устройства трудно было ждать делового и действенного советско-американского сотрудничества. Между тем процесс союзнической притирки английских и американских взаимоотношений, их увязки с ближайшими и отдаленными задачами, перевода на язык политики и военных решений происходивших глубоких сдвигов в соотношении сил оказался продолжительным и болезненным. Это рикошетом било опять-таки по Советскому Союзу.
Количество падающих на 1942 год невыполненных обещаний, примеров неверности союзническому долгу, небрежения к насущным интересам СССР было, видимо, рекордным за всю недолгую историю антигитлеровской коалиции. США и Англия продолжали смотреть свысока на другие официально союзные страны. Начальник американского морского штаба Кинг на совещании в Касабланке (январь 1943 года) выразился так: «Наша основная политика должна заключаться в том, чтобы обеспечить людские ресурсы России и Китая необходимым снаряжением, дабы они могли драться». Для Черчилля речь шла в 1942 году «о заполнении разрыва во времени, которое должно было истечь прежде, чем массы английских и американских войск могли войти в соприкосновение с немцами в Европе в 1943 году»[506].
Премьер усердно заполнял также пробелы, которые были свойственны в 1941–1943 годах организации военно-штабной работы в США или вытекали из авторитарного стиля правления американского президента. Стратегия и тактика складывались в основном по британским нотам и не соразмерялись со стратегическими замыслами Берлина в отношении СССР. «Вплоть до осени 1943 года, – писал М. Мэтлофф, – не было предпринято буквально ничего, чтобы непосредственно координировать западную стратегию и планы с планами Советского Союза». И дальше: «С самого начала войны критическим моментом для Советского Союза было открытие второго фронта на Западе. Поэтому вполне понятно, что затянувшееся решение этого вопроса усиливало подозрительность Советского Союза к западным державам. И как правильно признавало военное министерство США, до решения англо-американским руководством этого вопроса нечего было и ожидать от Советского Союза улучшения отношений»[507].
Постоянные увертки, а затем и вероломство в деле открытия второго фронта конечно же обременяли отношения между державами антигитлеровской коалиции. Иначе и не могло быть. «Используя отсутствие второго фронта, немцы с апреля по ноябрь 1942 года ежемесячно вводили против Красной армии в среднем по десять свежих дивизий. Кроме того, они направляли на Восточный фронт по 250 тысяч человек в месяц маршевого пополнения. К 19 ноября 1942 года, когда советские войска перешли под Сталинградом в контрнаступление, гитлеровская Германия сосредоточила против СССР наибольшее – 278 соединений – количество сил за всю войну»[508].
Во время визита в Москву А. Идена (декабрь 1941 года) И. Сталин поставил два вопроса: а) цели войны и устройство мира после войны; б) взаимная военная помощь в борьбе против Гитлера в Европе. «Что касается первого, дипломатического (?) вопроса, то наше правительство, – заметят Дж. Батлер и Дж. Гуайер, – будучи весьма осторожным, пока ограничивалось лишь общими фразами». По военному сотрудничеству британский министр имел инструкцию предложить переброску на южный участок советско-германского фронта десяти эскадрилий (правда, после окончания операции в Ливии и при условии, что немцы не будут угрожать Турции), но в дороге его догнало указание премьера: «Вы ни в коем случае, повторяю – ни в коем случае, не должны предлагать русским даже 10 эскадрилий». И в общем ничего не обещать определенного, в том числе по поставкам: Япония напала на США и азиатские владения Англии.
Советская сторона пригласила заместителя начальника имперского Генштаба А. Ная, сопровождавшего Идена, обсудить план нанесения удара в январе-феврале 1942 года по Петсамо с последующим развитием наступления на Киркенес силами трех дивизий, 130 истребителей, 70 бомбардировщиков и кораблей поддержки. СССР был готов выделить для операции сухопутные войска, половину самолетов и часть транспортных судов, за Англией – остальные самолеты и ВМС.
Дж. Балтер и Дж. Гуайер напишут: «Это предложение никак нельзя было счесть неприемлемым… Отказываться от этого плана было не в наших интересах». Тем более что Петсамо – это треть никеля, который получала военная промышленность Германии, и Гитлер считал удержание района рудников более важным, чем захват Мурманска. Но Иден беспокоился совсем о другом: как бы «до нашего возвращения в Лондон русским не был дан какой-то неблагоприятный ответ» на их предложение, которое «они рассматривают как нечто вполне реальное, и заявили, что будут считать наше согласие равноценным выполнению нашего военного соглашения»[509].
У Черчилля к этому времени созрел свой «план войны», которым он вскоре одарил президента США. Стратегический триптих открывался запиской «Атлантический фронт» (16 декабря 1941 года). Первый ее пункт передает квинтэссенцию соображений премьера:
«В настоящий момент фактом первостепенной важности в ходе войны является провал планов Гитлера и его потери в России. Мы не можем сказать, насколько велика эта катастрофа для германской армии и нацистского режима. Этот режим держался до сих пор благодаря своим успехам, достававшимся ему без труда, дешевой ценой. Теперь же, вместо предполагавшейся легкой и быстрой победы, ему предстоит в течение всей зимы выдерживать кровопролитные бои, которые потребуют огромного количества вооружения и горючего.
Ни Великобритании, ни Соединенным Штатам не придется играть какую-либо роль в этом деле, за исключением того, что мы должны обеспечить точную и своевременную отправку обещанных нами материалов. Только таким путем мы сможем сохранить наше влияние на Сталина и включить мощные усилия русских в общий ход войны»[510]. В «общий» – означает в данном контексте тот, который задуман в Лондоне и к которому Черчилль настойчиво старался подсоединить Соединенные Штаты.
Почему ни Англии, ни США не придется ничего предпринимать, кроме как снимать сливки? Потому что Германия, связанная по рукам и ногам в России, не в состоянии развертывать агрессию против новых стран и по новым направлениям, а британские войска смогут, по мнению премьера, овладеть инициативой в Средиземноморье. Накопление американских войск на Британских островах и в Северной Ирландии рассматривалось в ракурсе «удержания Германии от попытки вторжения». Часть войск, базирующихся в Англии, могла быть задействована с целью «оккупации Великобританией и Соединенными Штатами всех французских владений в Северной и Западной Африке и установления контроля над этими территориями, а также установления контроля Великобритании над всем североафриканским побережьем от Туниса до Египта»[511].
Вторая часть документа (20 декабря 1941 года) касается Тихоокеанского театра военных действий. Черчилль купировал при публикации разделы, в которых речь идет «о приобретении воздушных баз», «о вмешательстве России» (по смыслу в войну с Японией), но как будто по недосмотру сохранил упоминание о 1943–1944 годах как времени настоящего развертывания бомбардировочных операций против Германии, хотя «нужды иного порядка заставят нас (США и Англию) столкнуться с некоторой затяжкой в выполнении наших планов»[512].
Третья часть (18 декабря 1941 года) названа автором «Кампания 1942 года». Если операции, намеченные в первых двух частях, будут успешно осуществлены в 1943 году, то в следующем году: а) США и Англия возвратят себе превосходство на Тихом океане; б) «Британские острова останутся невредимыми и лучше подготовятся к отражению вторжения, чем когда-либо»; в) «все побережье Западной и Северной Африки от Дакара до Суэцкого канала и весь Левант до турецкой границы окажутся в руках Англии и Америки».
«Все это не будет означать, что война уже закончена. Войну нельзя закончить тем, что мы прогоним Японию обратно к ее собственным границам и нанесем поражение ее войскам, находящимся на территории других стран. Война может закончиться лишь в результате разгрома германских войск в Европе или внутреннего краха в Германии, вызванного неблагоприятным для немцев ходом войны, экономическими лишениями и наступательными операциями союзной бомбардировочной авиации. Поскольку мощь Соединенных Штатов, Великобритании и России увеличивается – это немцы начинают ощущать на себе, – такой внутренний крах всегда возможен, но нам не следует рассчитывать только на него».
«Поэтому мы должны готовиться к освобождению захваченных немцами стран Западной и Южной Европы путем высадки в удобных для этого пунктах – последовательно или одновременно – английских и американских войск, способных помочь порабощенным народам организовать восстание. Собственными силами они никогда не смогут поднять восстание…» Среди «пунктов» высадки назывались «Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, французское побережье Ла-Манша и французское Атлантическое побережье, а также Италия и, возможно, Балканы». В завершение в диссонансе с частью II – оптимистический прогноз насчет выигрыша войны в конце 1943 года или в 1944 году, если «в Германии до этого не произойдет крах»[513].
Насколько можно установить, это первый документально отраженный случай раздачи обещаний открыть второй фронт для «вдохновляющей пропаганды». Через полгода Черчилль прибегнет к приглянувшемуся ему приему на переговорах с В. Молотовым и потом примется водить за нос американских партнеров.
Свои соображения премьер опробовал на британских начальниках штабов. Последние сделали вид, что не заметили уловок своего руководителя. Поддакивая, они следующим образом определили «„три фазы войны“: 1) замыкание кольца; 2) освобождение народов; 3) конечное наступление на германскую цитадель»[514]. «Замыкание кольца» по линии, проходящей «приблизительно через Архангельск, Черное море, Анатолию, северное побережье Средиземного моря и западное побережье Европы». «Главная цель, – убеждали затем начальники имперских штабов своих американских коллег, – будет состоять в укреплении этого кольца и заполнении в нем брешей путем поддержания русского фронта, помощи вооружением Турции, увеличения наших сил на Ближнем Востоке и овладения всем североафриканским побережьем».
Американские военные смотрели на фазы и географию войны иначе. С их точки зрения, Дальний Восток, Африка, Ближний Восток, Пиренейский полуостров и Скандинавия являлись «вспомогательными» театрами. Главным театром военных действий для них была Северо-Западная Европа, где предстояло «всерьез схватиться с сухопутными силами противника»[515].
Оперативное управление штаба армий подтвердило эту оценку во время встречи Рузвельта с Черчиллем (конференция «Аркадия», конец декабря 1941 – январь 1942 года). Оно высказалось за «сосредоточение главных сил в Западной Европе» и за наступление «во взаимодействии с возможно более сильным русским наступлением на Восточном фронте и второстепенными наступательными действиями повсюду, где удастся». Американские офицеры не видели других районов, куда можно было бы перебрасывать войска, необходимые для действий такого размаха, и снабжать их должным образом. Военные брали в расчет, что, эффективно и своевременно поддержав Советский Союз в Европе, они создадут предпосылки для вступления СССР в войну против Японии на стороне США. Пока же наилучшей советской помощью в войне с Японией было, по их мнению, наступление Красной армии на Германию[516].
В записке объединенного комитета стратегического планирования, врученной президенту 21 декабря 1941 года, «общей стратегической целью» назывался «разгром Германии и ее союзников» и рекомендовалось, «укрепляя стратегическую оборону, проводить наступательные действия местного значения в наиболее подходящих для этого районах». В завершение имелось в виду провести всеобщее наступление (1) против Германии и ее европейских союзников; (2) против Японии.
O координации действий с СССР речи уже нет. Упоминается только снабжение «России, Китая и Великобритании оружием и боевым снаряжением, насколько это будет возможно»[517].
Еще один документ был доложен Рузвельту службой Донована. Разведка подчеркивала «военные и политические преимущества оккупации Северо-Западной Африки». Заметим, что Донован выступал против открытия второго фронта также в 1942 и 1943 годах по мотивам, которые потребуют ниже особого разбора.
На совещании в Белом доме 21 декабря с участием Г. Гопкинса, Г. Стимсона, Ф. Нокса, начальников штабов и главкомов ВМС и ВВС позиция США была приближена к английской в части операций в Европе. Второго фронта совещание не касалось. Когда же на встрече с Черчиллем дело дошло до темы «второй фронт», то ее обсуждение не вышло за обсуждение возможностей символической демонстрации флага на континенте в 1942 году, если «русский фронт окажется в серьезной опасности»[518].
Премьер и президент согласились в том, что «Германия – главная в фашистском блоке» и соразмерно «атлантический и европейский районы – решающие театры войны». Этот вывод напрашивался с учетом потенциальных возможностей противников в промышленной и научной областях. Считалось, что немцы скорее, чем японцы, в состоянии создать качественно новые системы оружия. Ядерное оружие – судя по всему, именно оно оказалось в поле зрения – проникало в ткань политики. Не исключалось, что за годы бездействия союзников на Европейском театре военных действий Германия сумела в такой степени развить свой потенциал, что «ее разгром окажется более трудным, чем ранее предполагалось, а может быть, и совершенно невозможным»[519]. Курс на затягивание войны сталкивался, таким образом, с объективными пределами. О том, что время может стать союзником СССР, еще не задумывались.
«Если Германии будет нанесено поражение, крах Италии и разгром Японии не заставят себя ждать». Следовательно, «кардинальный принцип американо-английской стратегии должен состоять в том, что от выполнения операций против Германии может отвлекаться лишь минимум сил, необходимый для обеспечения жизненных интересов на других театрах войны»[520].
«Кардинальный принцип», как скоро можно будет удостовериться, остался голой теорией. Это предрешалось вмонтированной в документы конференции оговоркой: «Маловероятно, чтобы в 1942 году оказалось возможным наступление большого размаха против Германии, кроме наступления на русском фронте». Свою функцию западные державы сводили к стратегическим бомбардировкам, помощи наступлению русских, блокаде рейха, поддержанию повстанческого духа в оккупированных странах и организации подрывных движений. Отмечалось, что только в «1943 году возникнет возможность определения путей возвращения на континент или через Средиземное море, или из Турции на Балканы, или посредством вторжения в Западную Европу. Такие операции явятся прологом к решающему наступлению на самое Германию, и программа победы должна быть составлена таким образом, чтобы обеспечить средства для их проведения»[521].
Черчилль умудрился внедрить в совместный текст почти все свои задумки. Он будет целеустремленно пробивать их до конца 1944 года. Судя по «Аркадии», у исследователей есть повод утверждать, что в тот период президент плоховато ориентировался в большой политике, и Черчиллю не составляло труда обводить его. Хотя более достоверным представляется мнение: в Рузвельте говорила сила инерции. Прошел, по его понятиям и складу натуры, слишком малый срок с момента крещения Соединенных Штатов в воюющую державу, чтобы брать на себя инициативу и с нею ответственность[522].
Отсутствие четких решений относительно второго фронта устраивало президента, ибо позволяло приглядываться, приноравливаться, нагуливать мышцы, пока сражения в Европе развертывались без США и зимой 1941/42 года пошли, с его точки зрения, обнадеживающей. Как провести американский корабль между Сциллой и Харибдой – здесь свою лоцию Рузвельт еще не обозначил. Подобную ситуацию имел в виду генерал Джероу, подчеркивавший 5 августа 1941 года в качестве начальника оперативного управления штаба армии: «Сначала мы должны разработать стратегический план разгрома наших потенциальных противников, а потом уже определить главные военные соединения – воздушные, морские, сухопутные, необходимые для выполнения стратегической операции». Нельзя победить, предупреждал генерал, «простым повышением выпуска промышленной продукции»[523].
Из практических плодов конференции самыми весомыми были «образование великой коалиции союзников» и выработка Декларации Объединенных Наций. Само понятие «Объединенные Нации» принадлежит Рузвельту. По предложению Гопкинса, СССР был выделен (вместе с Китаем) из общего строя стран, подравненных в британском проекте по алфавиту, и назван сразу после США и Англии, чтобы «подчеркнуть разницу между теми, кто активно ведет войну в собственных странах, и теми, кто захвачен державами оси». Вместе с тем американцы решительно высказались против упоминания в Декларации Свободной Франции.
Определенное значение имело принятие США и Англией принципа единства командования, в соответствии с которым учреждался Объединенный совет начальников штабов (ОСНШ) с подчиненными ему Объединенным штабом по стратегическому планированию и Объединенным секретариатом. Советского представителя в ОСНШ не приглашали. По Черчиллю, «не было нужды или возможности увязывать работу наших штабов с ними (русскими). Достаточно, чтобы нам были известны общие масштабы и последовательность их операций и чтобы они получали аналогичную информацию о наших действиях»[524].
Это Черчилль написал после войны, когда ему впору было несколько поостыть. Но в чем он мог еще признаться: что хотел вести свою войну, регистрируя советские неудачи и дозируя успехи СССР? Так это и без саморазоблачения нетрудно разглядеть.
Глухие, округлые формулировки в военно-политических документах особенно плохи тем, что прячут разногласия и разночтения за фасадом псевдогармонии. Англо-американские примечательны также тем, что на сходном языке выражаются совсем несхожие идеи, за которыми различные цели и интересы.
Видимо, несправедливо упрекать американских и отчасти английских военных в грехах, ими не содеянных, а принятых по команде свыше. Штабные разработки, оценки авторитетных генералов, отталкивающихся от реальных обстоятельств и конкретных фактов, небезынтересны как антитеза суждениям, шедшим от политических доктрин. Хотя и здесь имелась своя специфика, так как американские военные подразделялись на генералов и адмиралов – политиков (Маршалл или Леги) и генералов – военных (Эйзенхауэр, Джероу, Самервелл и другие).
После Сталинграда вкус к политиканству среди военных покрепчал. Подчас они забегали вперед президента и его советников. М. Мэтлофф подметит в этом тенденцию дальнейшего сглаживания «и без того малозаметного различия между внешней и военной политикой» США. «Президент, – отмечает историк, – был вынужден принимать активное участие в решении чисто военных вопросов, а руководители армии все более убеждались, что при решении военных вопросов они не могут не учитывать международных и политических факторов»[525].
Таким образом, М. Мэтлофф примиряет разнобой собственных наблюдений, ибо ему же принадлежит утверждение, что «основные политические решения президента в разгар войны, связанные с важнейшими операциями, были приняты без участия военного командования. По этой причине они, разумеется, не могут быть и точно датированы или подтверждены соответствующими документами, подобно тому, как это делается с решениями военного командования». А подводя итог событиям 1943 года, Мэтлофф констатировал, что «расчеты политических лидеров могут опрокинуть любую стратегию, какой бы надежной она ни представлялась»[526].
Вполне закономерно и не без знания дискуссий, которые велись внутри западных держав и в их кругу, В. Молотов в беседе с Ф. Рузвельтом 20 мая 1942 года подчеркнул, что вопрос о втором фронте – это вопрос больше всего политический, и он должен быть решен не военными, а государственными деятелями[527]. На следующий день нарком обратил внимание на риск, сопряженный с тем, что гитлеровская Германия в состоянии беспрепятственно бросать против СССР ресурсы почти всей Европы. Если бы немцам удалось овладеть продовольствием и сырьем Украины и нефтепромыслами Кавказа, война стала бы еще более тяжелой и затяжной.
Выразив уверенность в способности советского народа продержаться и выделив мысль о том, что военная неудача Красной армии в 1942 году не стала бы конечной точкой в войне, Молотов, как говорится в американской записи беседы, потребовал прямого ответа на прямой вопрос: готовы ли западные державы предпринять действия, могущие отвлечь с Восточного фронта 40 немецких дивизий? Если ответ будет отрицательным, «Советский Союз будет продолжать борьбу в одиночестве, делая все, что в его силах, и никто не вправе ожидать от него чего-то большего»[528].
До самой встречи Рузвельта с Молотовым политики и военные в американском руководстве спорили по концепции второго фронта. Военная сторона дела прорабатывалась в управлении планирования штаба армии. С 16 февраля 1942 года его начальником стал генерал Д. Эйзенхауэр – приверженец массированного наступления сначала воздушных и затем наземных сил на Европу. Он считал недопустимым «разбрасывать наши (американские) ресурсы по всему земному шару и, что еще хуже, непроизводительно тратить время»[529]. Эйзенхауэр нашел немало единомышленников среди видных военачальников, также полагавших, что побережье Франции может быть успешно атаковано и что это необходимо сделать.
В выводах, к которым приходили Д. Эйзенхауэр, Дж. Макнэрни (заместитель начальника штаба армии), Т. Хэнди (управление планирования) и другие, по существу не было ничего нового. Сходные суждения уже высказывались представителями США во время англо-американских штабных переговоров. Они получили отражение в стратегических планах, составлявшихся американцами до вступления в войну.
28 февраля 1942 года Д. Эйзенхауэр представил Дж. Маршаллу доклад управления планирования с рекомендацией «четко разграничить операции, осуществление которых на различных театрах войны необходимо для окончательного разгрома держав оси, от операций, осуществление которых всего лишь желательно, поскольку они будут способствовать разгрому врага». То есть размежевать военную и политическую стратегию. К первой категории были отнесены три задачи:
«а) поддерживать Соединенное Королевство и, следовательно, обеспечивать безопасность морских коммуникаций в Северной Атлантике;
б) сохранить в войне Россию в качестве активного противника Германии;
в) удерживать в районе Индия – Средний Восток позиции, которые дадут возможность не допустить фактического соединения сил двух наших основных военных противников и удержать в войне Китай».
Раскрывая смысл пункта «б», авторы доклада указывали на необходимость «немедленных и конкретных действий», во-первых, путем «прямой помощи по ленд-лизу» и, во-вторых, путем «скорейшего начала операций, которые отвлекут с русского фронта значительное количество наземных войск и воздушных сил германской армии». Возникала неотложная необходимость в составлении вместе с англичанами «плана военных действий в Северо-Западной Европе». «План, – подчеркивал Эйзенхауэр, – должен быть разработан немедленно и во всех деталях. Масштабы действий должны быть достаточно широкими, чтобы с середины мая мы могли сковывать все большее количество германской авиации, а к концу лета – все большее количество германских наземных войск»[530].
Выбор северо-запада Европы для вторжения обусловливался тем, что сосредоточение на Британских островах сил и средств для наступления через Ла-Манш обеспечивало одновременно оборону Англии и защиту коммуникаций в Северной Атлантике. При этом достигалась значительная экономия в тоннаже в сравнении с потребностями, которые возникали бы в случае доставки войск и снаряжения в другие места за пределами северо-восточной части Атлантики.
В ходе параллельного рассмотрения американским комитетом начальников штабов (КНШ) и объединенным англо-американским КНШ перспективных стратегических планов в центре дискуссий оказались действия на Тихом океане. Отмечалось, что сложившаяся в Европе военная обстановка «диктует необходимость экономии сил на других театрах военных действий ради сосредоточения сил против основного врага» (Германии). Этот момент особо выделялся в отдельном докладе меньшинства членов американской комиссии стратегического планирования[531].
Офицеры оперативного управления настоятельно советовали начальникам штабов США «безотлагательно определить дальнейший курс действий и с максимальной энергией обеспечить его выполнение». Операторы не смогли прийти к общему мнению о предпочтительном стратегическом плане и 14 марта 1942 года представили комитету начальников штабов на выбор три варианта: а) защита стратегических позиций на Тихоокеанском театре с отвлечением части сил, которые могут быть использованы против Германии; б) пока Россия остается еще достаточно мощным союзником, сосредоточить основную массу наших войск для энергичного наступления, начиная его из Англии, с целью окончательного разгрома Германии, мирясь с перспективой потери юго-западной части Тихого океана; в) направить в южную часть Тихого океана пополнения, минимально необходимые на этом театре для обороны. Одновременно приступить к накоплению в Англии сил для наступления в ближайшее по возможности время. В таком случае большую часть сил для операций в 1942 году должны будут предоставить англичане. КНШ США остановился 16 марта на третьем варианте[532].
Черчилль был осведомлен насчет разноголосицы среди американских военных и искусно разыгрывал одни фракции против других, в зародыше подавляя любые позывы к открытию второго фронта в 1942 году. 4 марта он осуществил тонко продуманный ход – обратился к президенту с просьбой направить по одной американской дивизии в Новую Зеландию и Австралию с тем, чтобы доминионы, в свою очередь, не отзывали свои контингенты со Среднего Востока и, таким образом, был «сэкономлен тоннаж»[533]. Премьер создавал видимость занятия для американцев и потрафлял их стремлению расширить свои позиции в южной части Тихого океана.
Британский лидер не ошибся: президент заглотал приманку. Он даже предложил выделить третью дивизию, если австралийцы и новозеландцы оставят больше своих войск на Среднем Востоке. В телеграмме Черчиллю 7 марта Рузвельт выдвинул несколько условий проведения в жизнь предложенной рокировки – ввиду отвлечения значительного количества транспортных средств:
а) операцию «Джимнаст»[534] (высадка в Северной Африке) нельзя будет осуществлять;
б) переброска американских войск на Британские острова будет ограничена в зависимости от числа остающихся в наличии судов;
в) нельзя будет проводить прямые переброски в Исландию;
г) будут сняты суда, занятые транспортировкой материалов по ленд-лизу в Китай и на Ближний и Средний Восток;
д) «вклад Америки в воздушные наступательные операции против Германии в 1942 году несколько уменьшится, и значительно сократится любое материальное участие Америки в наземных операциях на Европейском континенте в 1942 году»[535].
В телеграмме, датированной 9 марта, Рузвельт потребовал «упрощения структуры», а именно: передачи США «всей ответственности за операции в районе Тихого океана». Верховное командование за Соединенными Штатами, местное оперативное – соответственно за австралийцами, новозеландцами и голландцами (когда район Голландской Индии будет освобожден от японцев). «За район, простирающийся от Сингапура до Индии, Индийского океана, Персидского залива, Красного моря, Ливии и Средиземноморья включительно, будет непосредственно отвечать Англия». «Деятельность в третьем районе, предусматривающая обеспечение обороны в водах Северной и Южной Атлантики, будет включать разработку конкретных планов создания нового фронта на Европейском континенте. За это будут отвечать одновременно Англия и Соединенные Штаты»[536].
17 марта Черчилль в (опубликованной с купюрами) обширной телеграмме одобрил в принципе «волшебный проект» Рузвельта, как назвал американские предложения английский историк[537]. «Я был вполне доволен», – написал премьер в своих мемуарах годы спустя. Его особенно возрадовало предоставление американцами для перевозки «пары дивизий» из Англии вокруг мыса Доброй Надежды судов, предназначавшихся ранее для транспортировки военнослужащих США на Британские острова в расчете на их использование в операциях на Европейском континенте в 1942 году. Черчилль не пришел в восторг от вашингтонской схемы разделения «районов ответственности», но ограничился высказыванием пожелания о координации действий военно-морского командования на Тихом океане и командования на Ближнем Востоке.
Мартовская (1942 года) переписка премьера и президента предопределила в основных чертах направление действий Англии и США в Европе до конца 1943 года, а в Азии до 1945 года включительно. Лондон и Вашингтон поделили между собой сферы влияния, причем в американскую, что имеет не последнее значение, попали два британских доминиона. Удача в такой степени захватила воображение Рузвельта, что в телеграмме Черчиллю 10 марта 1942 года он затронул крайне болезненную для британских тори тему создания в Индии «временного правительства доминиона» из «представителей различных каст, профессий, религий и географических районов»[538]. Затронул и встретил в Лондоне ледяной прием.
Личный опыт подсказывал главе администрации США: победить в войне бывает проще, чем выиграть мир. Не случайно поэтому, что проблематика будущего устройства международного сообщества влекла его едва ли не сильнее, чем иные актуальные события.
Президент пространно высказался на сей предмет в беседе с В. Молотовым 1 июня 1942 года. Согласно американской записи, Рузвельт заметил, что «во всем мире имеется много островов и колониальных владений, которые для нашей собственной безопасности надо забрать у слабых стран», и предложил, чтобы Сталин рассмотрел вопрос о создании какой-то формы международной опеки над такими островами и владениями. Острова, мандат над которыми после Первой мировой войны достался Японии, «невелики, но их не следовало бы передавать какой-либо одной стране… Они не должны принадлежать также ни англичанам, ни французам. Пожалуй, такую процедуру следовало бы применить и к островам, находящимся сейчас у англичан. Совершенно очевидно, что эти острова не должны принадлежать никакой одной нации, а экономика их, в сущности, повсюду одна и та же. Самый легкий и практичный способ решить проблему этих островов на долгое время – передать их под опеку международного комитета из 3–5 членов». Опеку лет на двадцать, по мнению Рузвельта, следовало установить над Индокитаем, Сиамом, Малайей, Голландской Индией.
В советской протокольной записи есть уточнения и разночтения: опека «трех-четырех великих держав-победителей» для «экономического развития и административного управления». Авторство идеи создания системы опеки над странами, «не способными иметь собственное самоуправление», президент уступал Чан Кайши. Срок опеки, судя по нашей записи, предполагался разный – от примерно 20 лет для Явы до не менее 150 лет для Борнео.
«Три-четыре великие державы» – это явно без Франции, которую Вашингтон предполагал ощипать по многим статьям. Ссылка на Чан Кайши означает, что США уже проговаривали этот вопрос с гоминьдановцами и посулили им, насколько позволяют судить документы, больше, чем президент поведал наркому. Но главное – Рузвельт достаточно прозрачно дал понять, что не собирается воевать за сохранение колониальных империй, во всяком случае как замкнутых экономических образований. Он не делал исключения для Англии.
Спрашивается, с чего бы главу Соединенных Штатов, умевшего скрывать мысли, потянуло на откровенность в разговоре с В. Молотовым, и не просто на откровенность, но и на обращение к Сталину с деликатным предложением? Тем более что Рузвельт расходился с Рузвельтом. «Решительно возражая против гарантирования советских границ по состоянию на 22 июня 1941 года», в пользу чего Черчилль высказался в телеграмме президенту в марте 1942 года[539], глава администрации, предрекая исход войны, инициировал серьезные территориальные и политические перемены применительно к другим странам и их владениям. Формальные отсылки к Атлантической хартии мало что меняли.
Если бы советской стороне своевременно стали известны все детали обсуждений объединенного «комитета планирования» или полное содержание мартовской переписки Черчилля-Рузвельта, программировавшей фактический отказ от планов открытия второго фронта в 1942 году и одновременно уполовинивание поставок материалов и военной техники Советскому Союзу, то, вероятно, Москва взяла бы другой тон в переговорах с США и Англией по всему комплексу военного сотрудничества. Трудно подавить впечатление, что в междустрочья переписки президента с премьером были слабо посвящены и американские военные (плановики и операторы). Те же, кто владел информацией, не разделяли позиции президента[540] и продолжали попытки дать слово проблемам, которые ставила жизнь, а не химерам, что творила политика.
Военные ориентировались на данные разведки о мобилизации Германией крупных сил в расчете на выигрыш войны против СССР в 1942 году. «Поражение Красной армии, – по оценке американских штабных специалистов, – лишило бы Великобританию и США почти всякой надежды на победу на северо-западе Европы». Западные державы при таком развитии обрекались бы на ведение ограниченных операций, которые «будут лишь сдерживать врага на занятых им позициях, но не приведут к подрыву и уменьшению его фактической потенциальной мощи». Английские военные не оспаривали эти выводы и не могли оспорить, систематически читая (с середины 1940 года) оперативные приказы германского главнокомандования[541].
Британский комитет начальников штабов рассмотрел 10 марта доклад своего планирующего органа. «Помимо поставок предметов снабжения, мы не оказываем никакой помощи Советскому Союзу… Нашим величайшим вкладом в дело разгрома Германии было бы создание серьезного отвлекающего фактора на Западе, способного сорвать планы немецкого командования и вынудить его перебросить часть сил с советско-германского фронта на Запад. Нехватка транспортных средств исключает возможность осуществления такого плана где-либо за исключением района Ла-Манша». Операции присваивалось название «Следжхэммер». На ее подготовку отводилось время до середины мая 1942 года[542].
Симптоматично совпадение реакции Дж. Маршалла и А. Брука на выкладки специалистов. Начальник штаба армии США не говорил «нет» вторжению на континент, по крайней мере силами англичан и при условии, что те с этим согласятся. А. Брук попытался загубить идею руками трех британских командующих, которым в случае одобрения плана и пришлось бы руководить операцией. К его огорчению, командующие признали, что высадка вполне осуществима, если удастся преодолеть трудности материально-технического обеспечения десанта и если не будет увеличиваться число немецких дивизий во Франции, Бельгии и Голландии[543]. При отсутствии желания решать любая оговорка сходит за спасательный круг. Командующим дали поручение поскромнее – «помочь русским», организовав воздушное наступление на Западе с задачей выведения из строя возможно большей части немецкой авиации сразу после начала весеннего наступления немецких войск в России. Почему после, а не до начала?
В телеграмме Черчиллю 9 марта Рузвельт отметил, что выделение в отдельный театр военных действий Атлантического района подразумевало бы «разработку определенных планов создания нового фронта на Европейском континенте» и что его, президента, «все больше и больше привлекает идея создания такого фронта летом 1942 года, но, конечно, ограниченного действиями авиации и рейдовыми операциями»[544]. Тем нивелировался слишком уж откровенный тон президентской телеграммы от 7 марта. Видно, сказалось настроение военных и советников склада Гопкинса.
Известна памятная записка Г. Гопкинса, датируемая 14 марта. Оформляла ли записка состоявшийся ранее разговор с президентом, или советник по собственному почину старался закрепить шефа на определенной позиции – неясно. «Вряд ли может быть что-нибудь важнее создания этим летом какого-то фронта против Германии, – нажимал Гопкинс. – Вы должны тщательно обсудить этот вопрос с Маршаллом в первую очередь и с Черчиллем – во вторую. Думаю, что времени терять не следует, ибо, если мы собираемся что-либо предпринять, необходимо немедленно разработать планы»[545]. 18 марта Рузвельт сообщил премьеру, что он предполагает через несколько дней ознакомить его с «более определенным планом совместного наступления в самой Европе»[546].
План высадки между Кале и Гавром был составлен оперативным управлением военного министерства США[547]. В документе, получившем название «меморандум Эйзенхауэра от 25 марта», акцентировалась необходимость внести ясность в вопрос, «на каком театре военных действий должно развернуться первое крупное наступление Соединенных Штатов». Без этого нельзя планировать военное производство, обучать армию и развертывать ее. Повторив прежние доводы, Эйзенхауэр заключал: «Главной целью нашего первого большого наступления должна быть Германия, которую нужно атаковать на Западе».
В пользу этого говорило:
а) поскольку безопасность коммуникаций с Англией необходимо обеспечивать в любом случае, операции в Западной Европе не потребуют дальнейшего распыления оборонительных воздушных и морских сил;
б) используя кратчайший морской путь, США могли бы обеспечивать при наименьшем тоннаже большую армию;
в) своевременное сосредоточение авиации и наземных войск в Великобритании явилось бы достаточной угрозой для Германии и помешало бы ей использовать все силы против СССР;
г) наступление через Ла-Манш давало бы возможность самым коротким наземным путем приблизиться к промышленным центрам Германии;
д) в Англии уже имелись аэродромы, с которых союзники могли проводить операции с целью завоевания господства в воздухе, необходимого для высадки десанта;
е) можно было бы использовать значительную часть английских войск, не ослабляя обороны страны;
ж) наконец, этот план был бы попыткой нападения на Германию, когда ее вооруженные силы вели бои на нескольких фронтах.
Эйзенхауэр доказывал, что можно согласовать сроки производства военных материалов и боевой подготовки, обеспечить «поддержку подавляющих сил авиации», накопить достаточные силы, найти нужное количество судов и десантных барж. Однако «если этот план не будет принят как конечная цель всех наших усилий, то надо немедленно повернуться спиной к Восточной Атлантике и как можно скорее направить все наши силы против Японии!»[548].
Маршалл знакомился с меморандумом Эйзенхауэра, зная, что его основная мысль разделяется Рузвельтом. На совещании в Белом доме 25 марта, в котором участвовали Стимсон, Нокс, Арнольд и Гопкинс, начальник штаба армии привел, по свидетельству военного министра, «весьма убедительные аргументы» в пользу скорейшего наступления через Ла-Манш. Стимсону и Маршаллу было поручено срочно подготовить развернутые предложения. Рузвельт одобрил предложение Гопкинса провести согласование плана с англичанами на правительственном уровне.
1 апреля «схематический план вторжения» был доложен Маршаллом и Стимсоном президенту, который с ним согласился. В документе, известном как «меморандум Маршалла», выделяется мысль, что Северо-Западная Европа – «единственное место, где в ближайшем будущем союзные государства смогут подготовить и осуществить мощное наступление. В любом другом месте сосредоточение необходимых сил шло бы значительно медленнее из-за большой протяженности морских коммуникаций. Кроме того, в других районах противник лучше защищен естественными препятствиями и выдвинутыми далеко вперед и хорошо организованными очагами обороны. Потребовалось бы значительное время для того, чтобы преодолеть эти препятствия и добиться успеха в наступлении.
Это единственный район, где союзники смогут завоевать над территорией врага господство в воздухе, столь необходимое для большого наступления…
Это также единственное место, где основная масса английских сухопутных войск может принять участие совместно с американскими в крупном наступлении. Невозможно в связи с нехваткой морского транспорта перебросить большую массу английских войск в какой-либо отдаленный район, к тому же для защиты самих Британских островов потребуется большая часть английских дивизий.
Соединенные Штаты могут сосредоточить и использовать крупные массы войск в Западной Европе успешнее, чем на каком-либо другом театре, благодаря тому, что морские пути туда короче, и благодаря наличию в Англии сети аэродромов.
Основная масса вооруженных сил США, Соединенного Королевства и России может быть одновременно использована только против Германии, чего нельзя сделать против Японии. Успешное наступление на этом театре явится максимальной поддержкой русскому фронту»[549].
Меморандумы Эйзенхауэра и Маршалла показывают, что (а) в советских аргументах в пользу организации второго фронта в 1942 году не было ничего надуманного, замкнутого только на потребности СССР; (б) проведение широкого наступления против Германии с запада диктовалось логикой войны, а не одной ситуацией на Восточном фронте; (в) интенсивность военных действий на советско-германском фронте и обустроенность Британских островов как базы развертывания позволяли решать боевые задачи вторжения с высокой степенью надежности; (г) организация наступления с Британских островов обеспечивала также оптимальное решение на перспективу проблемы обороны Англии даже в случае серьезного ухудшения для СССР положения дел в войне с Германией; (д) вооруженные силы США без промежуточных ступеней включались бы в борьбу с главным противником, еще не приступившим к тотальной мобилизации ресурсов.
В американских документах, что нетрудно заметить, давали себя знать отзвуки деляческого подхода к союзническому долгу. Фронт на Западе мыслился как вспомогательный, как способ повышения давления на Германию, а не как путь к эффективному разделению усилий с Красной армией в рамках коалиционной войны. Размах операций подчинялся шедшему своим чередом развертыванию в США военного производства. Он не завязывался на конкретную цель – радикально урезать возможности нацистской Германии маневрировать войсками, создать мощные группировки для нанесения стратегических ударов попеременно как на Востоке, так и на Западе.
Ссылка в «меморандуме Маршалла» на настоятельную необходимость определиться с направлением главного удара, чтобы должным образом организовать «военное производство, специальное строительство, обучение войск, их переброску и распределение», не меняет дела. Главный удар, в представлении американских военных, должен был проводиться силами 48 дивизий и 5800 самолетов (30 американских и 18 британских дивизий, соответственно 3250 и 2550 боевых самолетов, всего на стороне США около 1 миллиона человек). На практике (резервы, эшелонирование и прочее) это означало бы, что на континенте было бы задействовано единовременно около 25–30 дивизий наземных войск, что для Германии создало бы определенные неудобства, но не неприемлемую угрозу.
Еще важнее, что проект Маршалла, в отличие от «меморандума Эйзенхауэра», намечал вторжение не на лето-осень 1942 года, а после 1 апреля 1943 года и при оговорках, что СССР будет продолжать сковывать основную массу германских вооруженных сил и что общая численность войск государств оси (Германии, Японии, Италии и их сателлитов) останется приблизительно на уровне апреля 1942 года. Если первое условие могло с натяжками рассматриваться как деловое, то второе заранее легализовало отсрочки, переделки оперативных планов США, отзыв принимавшихся на себя обязательств, так как являлось сугубо умозрительным, оторванным от почвы.
«Меморандум Маршалла» допускал «досрочное» наступление в 1942 году с целью захвата ограниченного плацдарма между Гавром и Булонью и закрепления на нем. Но едва ли сами авторы вкладывали в это «допущение» практический смысл. Ничто не позволяло думать, что немцы дадут союзникам воевать со всеми удобствами. Успех вторжения мог прийти лишь в случае ввода в действие не «максимально», как намечалось, 5 дивизий и 700 боевых самолетов, но сил, превосходящих противника, и никак иначе.
«Достаточная» операция проецировалась на два случая: а) если положение на Восточном фронте станет настолько тяжелым для СССР, что только англо-американское наступление на Западе сможет предупредить его полный развал, и б) если оборона Германии в Западной Европе будет сильно подорвана. Планирование одной и той же операции, исходя из полярно противоположных посылок, может рассматриваться как показатель невысокого уровня тогдашнего американского военного мышления, хотя софизмы, наполнявшие военные планы хаосом, были большей частью политического происхождения.
Эйзенхауэр и ряд других военных требовали честности. Они настаивали на координированных с Красной армией операциях именно в 1942 году. Маршалл был против «драматизации» ситуации. Формально поддакивая посылкам Эйзенхауэра и его группы, Маршалл фактически удерживал США на линии, принятой до их вступления в войну.
По иронии судьбы план накапливания сил и средств США в Англии для высадки на континент через Ла-Манш получил кодовое название «Болеро». Маршалл и другие позаботились о партитуре долгого танца вокруг да около, в паре с Лондоном и соло, столь затяжного и с такими деформировавшими даже американский замысел искажениями, что под конец вывели из себя президента.
Из переговоров Г. Гопкинса и Дж. Маршалла с британскими начальниками штабов и военным кабинетом (Лондон, апрель 1942 года) выделим несколько характерных моментов. Представители США настаивали на необходимости «твердо держаться общей стратегической концепции, определявшей, что нашим главным врагом является Германия… распыление наших объединенных сил… должно быть прекращено или, по крайней мере, сведено к минимуму, в соответствии с задачей сосредоточения войск для наступления на Европейском ТВД, ограничиваясь обороной на всех других театрах»[550]. А. Брук рассуждал о Европе, а дело вел к тому, как он запишет в своем дневнике, чтобы «обеспечить поддержку со стороны американцев в операциях в Индийском океане и на Ближнем Востоке»[551]. «Как это ни парадоксально, – отмечают Дж. Батлер и Дж. Гуайер, – но американцы вопреки общественному мнению в их стране настаивали на разгроме Германии в первую очередь, тогда как англичане подчеркивали важность победы в войне с Японией»[552]. Брук не считал, что на Советском Союзе свет клином сошелся, и не намеревался класть советский фактор в основу военных планов западных держав.
Черчилль был против операций типа «Следжхэммер» в 1942 году, но вслух об этом не говорил, чтобы не отталкивать США в вопросах, интересовавших англичан. В ответ на тезис Г. Гопкинса – «если решение провести операцию форсирования Ла-Манша принято, его нельзя пересматривать, так как США будут связывать свои главные усилия в войне с этой операцией», – премьер заверил, что «английское правительство и английский народ полностью и безоговорочно будут содействовать успеху этого великого предприятия»[553]. Приведенные слова послужили Г. Гопкинсу основанием доложить президенту, что британская сторона «согласилась» с американским предложением. Аналогичное донесение Маршалл направил Г. Стимсону.
В послании Рузвельту от 17 апреля 1942 года Черчилль писал: «Мы полностью согласны с Вашей концепцией концентрации сил против главного врага и искренне принимаем Ваш план с одной существенной оговоркой»: весьма важно воспрепятствовать соединению немцев с японцами, для чего придется выделить силы и средства, достаточные, чтобы «остановить японское продвижение» (почему японское, а не немецкое, премьер не пояснил). Помимо «существенной», телеграмма содержала ряд других оговорок. Перво-наперво, премьер принимал к сведению высказывание Маршалла о том, что президент не расположен торопиться (в 1942 году) с предприятием, чреватым «серьезным риском» и «ужасными последствиями», и фиксировал 1943 год как период активных действий.
«Исходя из этого, мы приступаем к выполнению плана и приготовлениям, – фарисействовал Черчилль. – Вообще говоря, наш согласованный план – это крещендо активности на Европейском континенте, начиная с возрастающего воздушного наступления днем и ночью и все более частых и крупных по масштабу налетов и рейдов, в которых примут участие войска Соединенных Штатов». Запутывая своего адресата, премьер бросил фразу вроде бы полуриторическую: «Поскольку все побережье Европы от мыса Нордкап до Байонны открыто для нас, мы должны ухитриться ввести врага в заблуждение относительно масштаба, времени, метода и направления наших ударов»[554]. Он приглашал Вашингтон к раздумью: а почему, собственно, десантировать во Франции?
Да, Черчилль фарисействовал. Подлинное суждение о замысле Рузвельта он отразил позднее в мемуарах: «Я был рад, что события сделали невозможным подобный безумный акт (высадку в 1942 году на континент). Человечество не может обеспечить прогресс без идеализма, но нельзя считать высшей или самой благородной его формой идеализм за счет других людей и не учитывающий последствий в виде разорения и гибели для миллионов простых семей»[555].
К СССР это, разумеется, не относилось, ибо советские люди были для британского тори лишь материалом для «заполнения брешей», через которые опасность грозила его империи. Не менее ханжеским являлось и включенное в текст послания от 17 апреля предложение о том, чтобы президент «попросил Сталина немедленно прислать двух специальных представителей для встречи с Вами (Рузвельтом) по поводу Ваших (а не совместных) планов».
Несколько странно, что в Вашингтоне не раскусили уловок Черчилля. Д. Эйзенхауэр так подытоживал результаты совещаний Г. Гопкинса и Дж. Маршалла в Лондоне: «Наконец, после месяцев борьбы… мы все пришли к единой концепции войны! Если мы сможем договориться об основных целях и объектах действий, то наши усилия будут направлены в одну сторону, и нам не придется бродить в потемках»[556].
Поверил Лондону или сделал вид, что поверил, и Рузвельт. В своем ответном послании глава администрации выразил «восхищение соглашением, достигнутым между Вами (Черчиллем), Вашими военными советниками и Маршаллом и Гопкинсом». Телеграмму премьера Рузвельт интерпретировал как «подтверждение» достигнутой договоренности. Предусмотренное ею «мероприятие», писал президент, «вполне возможно, станет средством, с помощью которого будет достигнуто его (Гитлера) падение. Меня весьма ободряет такая перспектива… Хотя у нас много общих трудностей, я откровенно скажу, что сейчас мое настроение в отношении войны лучше, чем в любое другое время за последние два года». В послании также сообщалось о предстоявшем приезде в Вашингтон для переговоров – по смыслу о втором фронте – В. Молотова и одного из советских генералов[557].
Не сошла ли на столицу США куриная слепота, и там ненароком запамятовали, что по британской терминологии «одобрение в принципе» ни в чем не связывает и ни к чему не обязывает? Руководители Соединенных Штатов гнали от себя допущение, что Черчилль принимает их за простофиль. На веру бралось пустословие премьера, коим тот украсил свою телеграмму в Белый дом 1 апреля 1942 года: «Теперь все зависит от колоссальной русско-немецкой битвы. Кажется, крупное немецкое наступление не начнется до середины мая или даже до начала июня. Мы делаем все возможное, чтобы помочь, а также ослабить удар. Мы должны будем вести бой за каждый конвой, идущий в Мурманск. Сталин доволен нашими поставками. Они должны возрасти на 50% после июня, но будет трудно сделать это ввиду новых боевых действий, а также из-за нехватки кораблей. Только погода сдерживает наши непрерывные интенсивные бомбардировки Германии». И т. п.[558] Внешне все благородно и добродетельно, а в действительности – низкий обман.
Как напишет биограф А. Брука, начальник британского штаба и его коллеги не «связали» себя планами вторжения в Европу через Ла-Манш в 1942 году или даже в 1943 году, а просто согласились с желательностью произвести высадку, если – и только если и когда – условия позволили бы гарантировать ее успех[559]. Участник событий тех дней британский генерал X. Исмей вспоминал: «Наши американские друзья отправлялись домой удовлетворенными под ошибочным впечатлением, что мы приняли на себя обязательства (по операции вторжения через Ла-Манш)… Ибо, когда после весьма тщательного изучения вопроса мы вынуждены были сказать, что, безусловно, возражаем против этого предприятия, они сочли, что мы нарушили данное слово»[560].
Между тем мобилизационные планы и программы военного производства и оснащения войск начали в США подстраиваться под план «Болеро». В частности, было решено полностью снабдить оружием и техникой проходившие в Штатах обучение американские войска, с тем чтобы прямо с мест формирования отправлять их на театр военных действий. Англичане, в свою очередь, сообщили в Вашингтон данные по развертыванию британских вооруженных сил на 1942 год без намека на уклонение от «обговоренных» планов. 10 июня Дж. Маршалл оформил приказом создание Европейского театра военных действий (Финляндия, Норвегия, Швеция, Британские острова и Исландия, Испания, Италия, Франция, Балканы и Германия) и назначил его командующим Д. Эйзенхауэра. Но к моменту прибытия группы Эйзенхауэра в Лондон (24 июня) планы вторжения на континент превратились в призрак.
В апреле-мае 1942 года перед Рузвельтом как верховным главнокомандующим был поставлен вопрос об уточнении распределения американских сил и средств между Атлантикой и Тихим океаном. При рассмотрении заявок президент не дал образцов строгой последовательности, что побудило Дж. Маршалла предостеречь его: «Если осуществление плана „Болеро“ не будет нашей главной задачей, я рекомендовал бы отказаться от него» и «официально известить англичан, что соглашение, недавно принятое в Лондоне, должно быть аннулировано».
Рузвельт среагировал поначалу уклончиво: выразил «полное согласие» как с Маршаллом, так и с Кингом, отстаивавшим целесообразность большей активности на Тихоокеанском театре военных действий. И в тот же день, 6 мая 1942 года, разослал Гопкинсу, Стимсону, Ноксу, членам комитета начальников штабов памятную записку с изложением своих взглядов на стратегию.
Курс на открытие нового Атлантического театра требовал, отмечал глава администрации, «очень высоких темпов подготовки боевых операций». Несмотря на «возражения со стороны американского и английского морского командования против начала военных действий на Европейском театре еще в 1942 году», он считал «это необходимым». Президент обосновал важность открытия «регулярных военных действий по ту стороны Атлантики в 1942 году» потребностью «отвлечь немецкие ВВС и сухопутные войска с русского фронта», где советские армии «уничтожают больше живой силы и техники армий государств оси, чем все 25 союзных стран, вместе взятые». «Обстановка требует начать военные действия не в 1943 году, а в 1942 году», – заключал Рузвельт. В недавнем меморандуме союзников говорилось, что по вопросу о втором фронте достигнуто соглашение открыть таковой при наличии снаряжения и вооружения. Союзники далее заявили, что, если России будет угрожать серьезная опасность, возможно, придется создать второй фронт даже в случае, если совместную операцию англичан и американцев придется назвать «операцией отчаяния». «Если мы решим, что крупное наступление должно быть только в Европе, то быстрота действий приобретает первостепенное значение»[561].
«Если мы решим…» – ключевая фраза. Обстоятельства не просто возникают и регистрируются, но и при наличии желания и воли преодолеваются. Из президентского меморандума оставались неясными масштабы операций и их конкретное содержание. Выбор был большим – «налеты диверсионно-десантного характера» с отходом в пределах двадцати четырех часов; «супердиверсионные операции» силами до пятидесяти тысяч человек, ограниченные двумя-семью днями; «создание постоянного фронта», обеспеченного вооруженными силами, достаточными для того, чтобы противостоять попыткам противника сбросить их в море. В осуществимость последнего варианта Рузвельт не верил. Он не напирал на план «Болеро». Его больше интересовало, как показать американский флаг «по ту сторону Атлантики». Где – вопрос второстепенный.
Момент истины настал в ходе визита В. Молотова в Лондон и Вашингтон. По прибытии в британскую столицу советский представитель поставил в центр обсуждения проблему открытия второго фронта, и он имел все основания поступать так в свете личного послания Рузвельта Сталину, переданного 11 апреля 1942 года через постпредство СССР в США, а также последовавшего за ним обмена мнениями с главой правительства США.
В послании говорилось о желательности обсудить в ближайшее время «предложение, связанное с использованием наших (американских) вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на Вашем (советском) Западном фронте». Президент ставил советскую сторону в известность о том, что Гопкинс делегирован в Лондон для проработки данного предложения[562].
Свои соображения Рузвельт конкретизировал в беседе с М. Литвиновым 14 апреля. Согласно докладу полпреда, президент поручил «указать англичанам», что «второй фронт является абсолютно необходимым», и выразил заинтересованность в том, чтобы мы (советская сторона) «помогли ему и укрепили его» ввиду колебаний англичан. 21 апреля Рузвельт намекнул Литвинову на неуспех миссии Гопкинса и Маршалла. По его словам, англичане хотели бы отложить второй фронт на 1943 год.
Президент предложил, чтобы В. Молотов начал свою миссию с Вашингтона и смог затем выступать в Лондоне также от имени американцев[563].
По каким причинам приглашение Рузвельта начать в США переговоры о втором фронте не было принято, автору неизвестно. Какую-то роль могла сыграть дезинформация, коей умело и систематически занимался Черчилль. За отсутствием подвижек в вопросе о признании незыблемости западной границы СССР, в объяснении перебоев с отправкой военных грузов в Мурманск и прочего всегда в трактовке премьера маячила тень американцев. Пример – послание Черчилля Сталину 9 марта 1942 года[564]. Так или иначе, до Тегерана у советского руководства установился с англичанами более плотный контакт, чем с официальным Вашингтоном. Принятый для поездки Молотова компромиссный вариант – предварительное обсуждение проблемы второго фронта с Черчиллем, потом переговоры с президентом и завершающие беседы опять в Лондоне – явно не был оптимальным.
Британский премьер не оспаривал проведенную советским представителем связь между стратегией нацистов и отсутствием угроз рейху с Запада. Он заявил в ответ, что Англия и США исполнены решимости осуществить вторжение на континент в кратчайший возможный срок и максимально крупными силами. Техническая сторона высадки, однако, еще требует проработки. И как бы между прочим заметил, что в предвидении такой операции он еще в августе 1941 года предложил Рузвельту развернуть строительство десантно-высадочных судов и средств, но (в подтексте – из-за близорукости США) их строилось слишком мало. Плохо подготовленное вторжение, обреченное на провал, не упускал добавлять Черчилль, не принесло бы пользы ни России, ни общему делу союзников[565].
Как сознавался Черчилль в мемуарах, его подлинные суждения коренным образом расходились с тем, что он сообщал в апреле-мае 1942 года Рузвельту. Следовательно, и В. Молотову он говорил не то, что думал, ибо сказанное наркому не отличалось от сказанного президенту.
«Планируя гигантское мероприятие 1943 года, – записал Черчилль после войны, – мы не могли отложить в сторону все остальные обязанности. Нашим первым обязательством перед империей была защита Индии от японского вторжения, которое, казалось, уже угрожало ей. К тому же задача была решающим образом связана со всей войной… Точно так же нельзя было допустить, чтобы немцы и японцы подали друг другу руку в Индии или на Среднем Востоке: это было бы неизмеримой катастрофой для дела союзников. Я признавал ее по значению почти равносильной отступлению России за Урал или даже заключению ею сепаратного мира с Германией. В то время я не считал вероятным ни то ни другое. Я верил (? – В. Ф.) в силу русских армий и русской нации, защищавших свою родную землю. Однако наша индийская империя со всей ее славой могла оказаться легкой добычей…
Попытка создать плацдарм в Шербуре представлялась мне более трудной и менее привлекательной идеей, не столь полезной с точки зрения ближайшего будущего и менее плодотворной в конечном счете. Целесообразней было запустить когти нашей правой лапы во французскую Северную Африку, рвануть левой лапой по Нордкапу и подождать год, не рискуя сломать свои зубы об укрепленный германский фронт по ту сторону Ла-Манша.
Таковы были мои взгляды в то время, и я никогда в них не раскаивался… Но мне приходилось использовать влияние и дипломатию, чтобы добиться согласованных и гармоничных действий с нашим дорогим союзником (США), без помощи которого мир могла ожидать только гибель. Поэтому на нашем совещании 14 апреля (с Гопкинсом и Маршаллом) я не затронул ни одной из этих альтернатив»[566].
Вот так – полезный обман лучше бесполезной истины, даже когда обман для благозвучия поименуют «влиянием» и «дипломатией». Но Черчилль шел дальше. По его словам, он никогда не намеревался допустить, чтобы «Юпитер» (операция на севере Норвегии) стал поперек дороги «Торчу» (операция в Африке). Если нельзя проводить их параллельно, то пальма первенства должна была принадлежать африканскому варианту.
В интересах исторической правды остается уточнить, насколько британское руководство верило в бое– и жизнеспособность СССР. Черчилль заявлял Молотову, что судьба Англии «сопряжена с сопротивлением Красной армии», хотя из дальнейших рассуждений вытекало, что «без активной английской помощи Индия могла быть завоевана в течение нескольких месяцев. Порабощение Гитлером Советской России было бы гораздо более затяжной и более дорогостоящей для него задачей»[567]. Что же считал он «невероятным» – просто поражение или быстрое поражение? Скорее второе. Как видно из заметок А. Брука, англичане отправлялись от наихудшего. В 1942 году они закладывали в свои стратегические уравнения вероятность разгрома СССР в войне, вследствие чего планы вторжения на континент в 1942 и 1943 годах получались «чреватыми серьезнейшими опасностями»[568].
Лейтмотив Черчилля, в оценке Шервуда, – не рисковать жизнями англичан. Премьер старался уберечь Великобританию от жертв, поразивших ее в 1914–1918 годах и, как считалось, обусловивших угасание империи. Он выступал против «огромных армий, забрасывавших одна другую несметной массой снарядов». Общий подход премьера был сродни принципу генерала Макартура – «бейте их (противников) там, где их нет!». Блокада и затяжная война на измор Германии, пока долготерпение британцев не будет вознаграждено победой, хотя бы чужой.
Но кто-то должен был создавать огромные армии, чтобы бить агрессоров там, где их было в избытке, бить так, чтобы Германия не могла, если бы даже очень захотела, уйти в круговую оборону. Сие Лондон не тревожило. Без всяких этических переживаний «грубую работу» он переуступал другим. Черчилль и его единомышленники допускали в 1942–1943 годах лишь один вариант высадки на континенте – для принятия капитуляции Германии.
27 мая 1942 года Молотов прилетел в США. Ему вдогонку британский телеграф отстучал ориентировку для Рузвельта о советско-английских дискуссиях по второму фронту. Премьер давал понять, что каждая сторона осталась при своем мнении, причем англичане «ни в каком отношении не затрагивали этого вопроса слишком глубоко». Черчилль сообщал о данном им штабам поручении изучить вариант высадки на севере Норвегии и заканчивал послание словами: «Мы никогда не должны позволить себе забывать о „Джимнасте“. Все другие приготовления будут полезны при необходимости для достижения этой цели»[569]. Р. Шервуд считает данное послание первым официальным предупреждением, что Англия не поддержит организации в 1942 году второго фронта[570].
Рузвельт, судя по всему, решил набраться собственных впечатлений, прежде чем делать выводы. И видно, не случайно глава администрации начал первую из четырех продолжительных встреч с Молотовым с сопоставления представлений Вашингтона и Москвы о механизме обеспечения будущего устойчивого мира. Важно было удостовериться в совместимости долговременных интересов сторон.
Рузвельт выступал за международное сообщество, освобожденное от гонки вооружений, и дал понять, что рассчитывает здесь на взаимопонимание с СССР, чтобы понудить Черчилля принять соответствующее предложение. В американской записи беседы приведены слова Рузвельта о том, что «мировое хозяйство не оздоровится, если все страны – большие и малые – будут вынуждены нести на себе бремя вооружений».
Отвечая на уточняющие вопросы Молотова, президент сказал, что Франция исключается из числа договаривающихся сторон. Участие Китая не до конца ясно. На взгляд американского руководителя, количество государств, выделяющих свои формирования в международные полицейские силы, должно быть минимальным ради их эффективности. В течение первых десяти-двадцати лет поддержание мира должно обеспечиваться силой, пока необходимость мира не будет осознана и все страны не присоединятся к требованию четырех держав о поддержании мира[571].
Две встречи были посвящены проблемам войны с Германией. Президент подавал себя в качестве активного приверженца открытия второго фронта, подталкивающего военных на преодоление возникающих трудностей. Полномасштабное вторжение из Англии на побережье Франции может быть подготовлено к 1943 году, прогнозировал глава администрации. Он, Рузвельт, однако, убеждает военных пойти на риск и высадиться в 1942 году во Франции силами 6-10 дивизий даже ценой потери 100–120 тысяч человек.
В. Молотов подчеркнул значение крупной операции союзников, которая вынудила бы немцев снять с советско-германского фронта 40 первоклассных германских дивизий. Если бы это произошло, то разгром Гитлера был бы завершен в 1942 году или, по крайней мере, судьба его была предрешена, подчеркивал советский представитель[572].
Предваряя третью беседу (30 мая), Гопкинс порекомендовал Молотову не жалеть драматических красок в описании советско-германского противоборства, чтобы американские генералы перестали «считать положение Советского Союза на фронте прочным» и разглядели «острую необходимость во втором фронте»[573]. Похоже, Гопкинс действовал с ведома Рузвельта.
Во встрече 30 мая участвовали Маршалл и Кинг. Обращаясь к ним, президент заявил, что в Лондоне Молотов не получил определенного ответа касательно второго фронта, а задача советского представителя – добиться определенности. Мы полагаем, продолжал Рузвельт, что имеются основания для открытия второго фронта в 1942 году. Причины – неблагоприятное положение на советско-германском фронте, возможность отступления советских армий, чреватого ухудшением общего положения союзников. Цель – предпринять операции, чтобы оттянуть с Восточного фронта 40 дивизий, и сделать это в 1942 году.
В. Молотов делал ударение на разницу между вторым фронтом в 1942 году или в 1943 году. Если бы США и Англия смогли оттянуть с Восточного фронта хотя бы 40 германских дивизий, то обстановка в корне изменилась бы к пользе союзников. В отсутствие второго фронта в 1942 году возможно дальнейшее смещение сил в пользу Гитлера[574].
31 мая Рузвельт телеграфировал Черчиллю, что с учетом складывающейся ситуации «я более, чем когда-либо, хочу, чтобы в контексте операции „Болеро“ были предприняты определенные действия уже в 1942 году». Без высадки на континент, писал президент, «нельзя разбить немецкие ВВС или фактически вести воздушную войну в такой мере, чтобы оттянуть их с русского фронта». Он особо выделял заинтересованность в том, чтобы Молотов «увез с собой некоторые реальные результаты своей миссии и дал сейчас Сталину благоприятный отчет». Рузвельт известил премьера, что «объединенный штаб работает над предложением об увеличении числа судов для использования в операции „Болеро“ путем сокращения значительной части материалов для отправки в Россию, кроме военного снаряжения, которое может быть использовано в этом году»[575].
На встрече с В. Молотовым 1 мая президент связал открытие второго фронта в 1942 году с мобилизацией большого количества фрахта. Сославшись на расчеты начальников штабов, Рузвельт предложил сократить с 4400 тысяч до 2 миллионов тонн количество грузов, которые подлежали поставке из США в СССР, с тем чтобы высвобожденные суда перебрасывали американские войска, танки и самолеты в Англию для ускорения организации второго фронта[576].
Нарком, согласно американской записи, спросил, «по-видимому с нарочитой иронией, что произошло бы, если бы Советский Союз урезал свои заявки, а в итоге не было никакого второго фронта?»[577]. Рузвельт заверил, что «американское правительство стремится и надеется на создание второго фронта в 1942 году» и что «в этом направлении как в Англии, так и в США ведется большая подготовительная работа». По словам президента, «одним из способов ускорения организации второго фронта было бы сокращение поставок из США в СССР в целях высвобождения дополнительного тоннажа для переброски американских войск и вооружений в Англию»[578].
Специальный помощник президента просил Молотова понять, что Рузвельт не мог дать «определенного ответа в том смысле, что второй фронт обязательно будет в 1942 году, не посоветовавшись с англичанами». Генерал Маршалл и он, Гопкинс, однако, уверены, что второй фронт будет создан в 1942 году. В результате переговоров В. Молотова в Вашингтоне «шансы на успешное разрешение задачи второго фронта в 1942 году поднялись, по словам Гопкинса, далеко за 50%». Он утверждал, что «президент имеет свою собственную сложившуюся концепцию стратегии нынешней войны, и никто не в состоянии изменить эту концепцию». Рузвельт «стремится в Германию» и «принял твердое решение начать с разгрома Германии»[579].
В опубликованном 12 июня 1942 года советско-американском коммюнике говорилось: «При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году. Кроме того, были подвергнуты обсуждению мероприятия по увеличению и ускорению поставок Советскому Союзу самолетов, танков и других видов вооружения из США. Далее обсуждались основные проблемы сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в деле обеспечения мира и безопасности для свободолюбивых народов после войны. Обе стороны с удовлетворением констатировали единство взглядов во всех этих вопросах»[580].
При согласовании в американских инстанциях совместного сообщения о визите В. Молотова в Вашингтон Маршалл настаивал на исключении упоминания 1942 года как даты открытия второго фронта. Президент с этим не согласился. Ссылка на «август» была опущена Гопкинсом при окончательной редакции телеграммы президента премьеру Черчиллю[581].
Приведенные детали доказывают несостоятельность и недобросовестность утверждений некоторых историков, будто заверения, дававшиеся советскому представителю на вашингтонских переговорах насчет организации второго фронта в 1942 году, «имели целью лишь обнадежить советское правительство»[582]. Возможно, что президент шел навстречу советским настояниям не без сомнений. Он нуждался в успехе, в демонстрации возможностей американских вооруженных сил и эффективности руководства ими, а вторжение через Ла-Манш было сопряжено с риском – необстрелянные войска США и Англии столкнулись бы на континенте с прошедшими Восточный фронт соединениями вермахта.
Разгадка сползания Рузвельта с позиции, которую он излагал Молотову, наверное, проще: глава администрации не созрел для выбора между (условно) просоветской и пробританской стратегиями войны. Ставка на то, что в случае высадки в 1942 году англичане выделят основную массу наземных сил, обрекала Вашингтон на приспособление к своеволию Лондона. Американцы не были готовы к вторжению во Францию с Британских островов без англичан. При неудаче президент подставил бы бока атакам всех противников и почти неизбежно навлек поражение на свою партию на промежуточных выборах в конгресс 1942 года.
Доступные материалы не позволяют заключить, что в переговорах с Молотовым Рузвельт лукавил. Ничто не свидетельствует также о том, что его рассуждения о послевоенном устройстве являлись пустозвонством. Гопкинс не преувеличивал, у президента имелась своя концепция войны. В теории он знал, что лучше и что хуже. К сожалению, глава администрации скверно представлял себе сложность переложения теории в практику, особенно когда принятое решение приходилось продвигать вместе с другими.
В отличие от Рузвельта, искавшего действия в компании с Англией и СССР, Черчилль твердо определил для себя – никакой высадки в Северо-Западной Европе с британским участием в 1942 году не будет, какие бы невзгоды ни угрожали Советскому Союзу[583]. Он не был себе врагом и при всем своем внешне бурном темпераменте не терял холодной рассудительности, не искал способа причинить СССР лишнее зло зла ради. Разгромив Советский Союз, немцы охомутали бы Великобританию, не считаясь с потерями и не стесняясь в средствах. Гитлера не остановила бы погода, нехватка транспортных средств и несовершенство снабжения. Вермахт уже научился в «русском походе» довольствоваться скудным.
По документам судя, Черчиллю очень хотелось довести СССР до такой кондиции, когда он был бы вынужден, дабы не выпрашивать пощаду у Германии, встать перед США и Англией на колени и принять от них помощь на любых условиях. Следы этих расчетов заметны даже в «памятной записке», подсунутой премьером В. Молотову в качестве нагрузки к советско-английскому коммюнике, обнародованному 11 мая и повторявшему формулу, которая прежде была согласована с американцами, о «полной договоренности в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». «Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда наступит время, – говорилось в записке. – Следовательно, мы не можем дать обещания в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся претворить свои планы в жизнь»[584].
Весь строй рассуждения показывает, что лимитировала не техника, хотя на нее ссылались как на «основной ограничивающий фактор». Настоящего подсчета потребных транспортных средств вообще не производилось. Цифры (7000 единиц плавающих средств) брались с потолка. Метод намеренного завышения потребностей в десантной технике для срыва договоренностей применялся англичанами неоднократно. Например, в 1943 году они запросили 8000 судов под операцию «Оверлорд». При предметном раскладе штабы, как известно, остановились на 4504 единицах десантных судов для переброски на континент личного состава и снаряжения в количествах многократно превышавших масштабы вторжения, о котором велись разговоры в 1942 году. На деле же в 1944 году понадобилось меньше 4,5 тысячи судов и барок.
«Здравое и разумное» – вот в чем была закавыка. Здесь пролегала межа между политикой Запада и Востока. О Западе, а не об Англии приходится говорить потому, что «записке» придали вид общего американо-английского документа. Факт опубликования советско-английского коммюнике на день раньше соответствующего советско-американского внес двусмысленность и в заверения, полученные Молотовым в Вашингтоне, выставил, наверное незаслуженно, в невыгодном свете Рузвельта и его окружение.
Черчилль не долго играл в прятки. 19 июня он прибыл в США с готовым проектом обмена «Болеро» – «Следжхэммер» на «Джимнаст». Премьер не выжидал, хотя бы для приличия, развития событий на советско-германском фронте и доклада штабов о результатах проводившегося ими изучения плюсов и минусов вариантов высадки во Франции. Доклад военных и обстановка на Восточном фронте, скорее всего, легли бы на чашу «Болеро», могли бы подтолкнуть США к параллельным действиям с СССР, оттеснить Англию на место, отвечающее ее вкладу в борьбу. Случись такое, все хитросплетения британской имперской политики пропали бы втуне. Премьер решил застолбить свою стратегию, которую до тех пор излагал иносказательно.
Черчилль приподнял «Джимнаст» в телеграмме президенту 28 мая. Если Рузвельт не сразу осознал, куда клонит Лондон, сие разъяснил ему Маунтбэттен, специально командированный в Вашингтон. Адмирал информировал руководителей США (это происходило под занавес финальных встреч Молотова в Лондоне), что британское правительство не сочувствует форсированию Ла-Манша в 1942 году. Формально все по тем же пресловутым «техническим» мотивам. Слабый контрдовод президента – не сдвинуть ли сроки операции на позднюю осень, а тем временем скопить десантные средства и сосредоточить в Англии больше американских войск – был парирован ссылками на ожидавшуюся «неблагоприятную погоду».
Рузвельт верно ухватил, что англичане метят дальше операции «Следжхэммер». Но если рассориться с Лондоном, легко оказаться в случае крушения СССР один на один с Германией и Японией. В разговоре с Маунтбэттеном президент сам завел речь о перенацеливании шести американских дивизий, выделенных для отправки на Британские острова, во французскую Северную Африку или на Средний Восток.
Американские штабы получили задание суммировать для главнокомандующего расчеты по плану «Джимнаст». Профессиональный долг побудил военных доложить, что, вопреки оптимистическим политическим прогнозам, операции «Джимнаст» или «Суперджимнаст» будут сложными в проведении. Маршалл и Стимсон находили высадку в Северной Африке несвоевременной и плохой заменой для плана «Болеро». Такого же мнения держался Объединенный комитет начальников штабов США[585]. Складывалось нелепое положение: политики навязывали военным курс действий, противоречивший правилам арифметики, и утверждали, будто ими движут интересы борьбы с «главным противником».
По прибытии в США Черчилль передал президенту записку (датирована 20 июня 1942 года), прокладывавшую пути отхода от принятых перед СССР обязательств и готовившую почву для выдвижения в дальнейшем набора новых предварительных условий создания второго фронта. «Мы должны, – писал премьер, – продолжать подготовку к осуществлению „Болеро“, если возможно, в 1942 году, но наверняка в 1943 году[586]. Все это и делается сейчас. Ведется подготовка к высадке шести или восьми дивизий на побережье Северной Франции в начале сентября. Однако английское правительство не одобряет операцию, которая наверняка привела бы к катастрофе, ибо это не поможет России, в каком бы тяжелом положении она ни находилась, скомпрометирует и сильно задержит основную операцию в 1943 году, подвергнет мести нацистов французское население. Мы твердо придерживаемся точки зрения, что в этом году не должно быть существенной высадки во Франции, если только мы не намерены там оставаться… Ни один ответственный английский орган пока не смог составить план на сентябрь 1942 года, который имел бы какой-либо шанс на успех, если только немцы не будут совершенно деморализованы, вероятность чего отсутствует…
Однако в случае, когда невозможно составить план, в котором какой-либо ответственный орган был бы вполне уверен, и если вследствие этого невозможны никакие бои существенного масштаба во Франции в сентябре 1942 года, то что другое мы предпримем? Можем ли мы себе позволить бездействовать на Атлантическом театре весь 1942 год? Не должны ли мы подготовить в общих рамках „Болеро“ какую-либо другую операцию, чтобы добиться выгодных позиций, а также прямо или косвенно снять некоторое бремя с России? В этом свете и на этом фоне надо изучить операцию во французской Северо-Западной Африке»[587].
Г. Стимсон заметил, что Черчилль поднял вопрос о «Джимнасте», хорошо зная о тайной склонности президента к этой операции[588]. Британская концепция окружения Германии и взятия ее измором искала и находила обоснование в самой себе, писала в свой актив каждый риск и любую нерешительность Вашингтона. В аргументах, подбрасывавшихся премьером и его эмиссарами против форсирования Ла-Манша, Рузвельт видел оправдание собственным колебаниям.
20 июня 1942 года Гопкинс передал Маршаллу и Кингу указание президента – исходя из предположения, что в августе вооруженные силы Германии создадут серьезную угрозу Ленинграду и Москве, прорвут Южный фронт, угрожая Кавказу, подготовиться к обсуждению в Белом доме следующих вопросов:
«(а) в каком пункте или пунктах американские сухопутные войска могут до 15 сентября 1942 года запланировать и осуществить такой удар по германским войскам или в районах, контролируемых ими, который вынудит немцев перебрасывать свои силы с русского фронта;
(б) в какой степени английские вооруженные силы, находящиеся в этом или другом районах, смогут содействовать достижению поставленной задачи»[589].
Впервые допускается возможность принятия на себя Соединенными Штатами Америки в военном выступлении главной ответственности. Англичанам отводится роль ассистента, и даже не в одном с американцами месте и не обязательно в боевых действиях. С другой стороны, остается дискуссионным вопрос, где наносить удар, если вообще наносить: Европа, Африка и даже Средний Восток (не зря упомянут Кавказ) – диспозиция необъятная.
Военное министерство и штаб армии рекомендовали держаться ранее принятых решений, предусматривавших совместную англо-американскую десантную операцию через Ла-Манш. США могли выделить для нее четыре пехотных и одну танковую дивизию, а также значительные силы воздушной поддержки. Эвентуальный вклад Англии – «без особого риска для безопасности Соединенного Королевства» – оценивался минимум в пять дивизий и большую часть британских ВВС. Военные возражали против британского требования о гарантиях успеха операции как идущего вразрез с первоначальным соглашением. Далее обращалось внимание на то, что возможность организовать мощную авиационную поддержку и прикрытие «компенсирует нехватку других средств». Третий довод сводился к тому, что воздушное наступление на континенте и крупные рейды через Ла-Манш окажут большую помощь России, чем наступление в любом другом месте. По поводу плана «Джимнаст» было сказано: «Основной недостаток этого плана заключается в том, что даже его успешное выполнение не побудит немцев перебросить с русского фронта ни одного немецкого солдата, танка или самолета»[590].
Американские военные специалисты не питали иллюзий: решение в пользу «Джимнаста» означало бы отказ от вторжения на континент также весной 1943 года. Еще категоричнее звучал меморандум начальника штаба армии президенту. В нем указывалось на то, что англичане возвращаются к изначальной концепции, все подчинявшей задаче «сохранения целостности Британской империи», и давался совет действовать сообразно «разумному риску и трезвым стратегическим расчетам»[591].
Американские военачальники подумывали даже о предъявлении англичанам ультиматума: или активные совместные действия против немцев, или основная масса сухопутных сил США будет послана против Японии. Рузвельт отверг эту «мистификацию».
Вашингтонская встреча президента и премьера завершилась принятием совместного заявления, «отличавшегося, по выражению Р. Шервуда, бессодержательностью». О втором фронте ни слова. Отмечалось лишь, что «предстоящие операции… отвлекут силы немцев от нападения на Россию» и что «общее положение больше благоприятствует победе»[592].
Формально планы «Болеро» и «Следжхэммер» не отменялись. Их положили в долгий ящик. Маршалл, Исмэй и другие генералы хлопотали вокруг формулировок, которые могли примирить внешнее с сущим, создать видимость согласия по делу, какое-то время, приличествующее неписаной традиции, держать идею форсирования проливов Ла-Манш и Па-де-Кале в поле видимости. А Черчилль уже жил другими заботами. Он придумывал способы, как отказаться еще от «Юпитера», которым сбивал с толку своих критиков в Лондоне и Вашингтоне. Точнее, снять его после того, как пожонглирует мнимыми преимуществами «Юпитера» в Москве.
Обнародованное заявление по итогам встречи в Вашингтоне и секретная запись, сделанная генералом Немеем, не были, однако, столь уже стерильными. Они отражали сдвиг в сторону британских взглядов на войну или, как скажут издатели «Секретной переписки», замаскированную победу английской позиции[593]. Это бы полбеды. Хуже другое. Элементарное сравнение текстов сообщений по итогам визитов В. Молотова в Лондон и Вашингтон с англо-американским заявлением подводило нацистское руководство к твердому выводу: в 1942 году никакого второго фронта в Европе не будет и ничто не мешает дальше перебрасывать максимум боеспособных соединений на Восточный фронт.
Заявление Рузвельта и Черчилля подтверждало ориентировки немецкой агентуры, располагавшей источниками информации, в частности в окружении премьера. Вместо единения действий с СССР и союзнической поддержки ему – западные державы сбавляли нажим на Германию. Вместо наращивания помощи Восточному фронту поставками вооружений – США и Англия под разговоры о втором фронте, который создавать не намеревались, сначала вдвое урезали эти поставки, а потом на месяцы полностью прекратили их. (Предлог – разгром конвоя PQ-17, учиненный немцами при бездействии английских кораблей прикрытия[594].).
В Берлине лишний раз убедились: антигитлеровская коалиция полна противоречий, никакой единой стратегии у нее нет, отсутствует простейшая координация усилий. Гитлер не только мог, он должен был предаться размышлениям: если противники не сплотились в самые трудные для них дни и месяцы, то, видно, неспроста, – значит, не все потеряно для рейха. Отсутствие второго фронта в условиях перехода от молниеносной к затяжной войне являлось фактически еще одним приглашением руководству (в широком смысле) Германии спросить себя, что предпочесть: поражение в сражениях в основном с силами Красной армии или почетный мир с Западом, ради чего придется пожертвовать Гитлером, его партией и кое-чем из их наследства?
В материалах не просматривается признаков того, чтобы США взвешивали возможность восстановления объемов военных поставок в СССР, урезанных под обещания «ускорить организацию второго фронта», – восстановления после того, как планы высадки на континент отпали. Об этом, очевидно, не могло быть и речи:
Рузвельт не любил неприятных объяснений и «Джимнаст» требовал втрое больше транспортных средств, чем «Следжхэммер».
Возвратившись из Штатов, Черчилль занялся тем, чтобы отнять последний порыв ветра из парусов второго фронта. 8 июля он написал Рузвельту: «Ни один английский генерал, адмирал или маршал авиации не может рекомендовать „Следжхэммер“ в качестве осуществимой в 1942 году операции». Удержание позиций в случае высадки, пугал премьер, поглотит столько сил, что «сильно урежется возможность организовать крупную операцию в 1943 году». «И я уверен, что „Джимнаст“, – ворковал автор послания, – гораздо более надежный шанс для эффективного облегчения действий на русском фронте в 1942 году. Это всегда соответствовало Вашим намерениям. Фактически это Ваша доминирующая идея. Это – настоящий второй фронт в 1942 году. Это – самый безопасный и в высшей степени полезный удар, который может быть нанесен этой осенью»[595].
В тот же день в Белый дом поступили из Лондона еще две телеграммы, создававшие впечатление, будто Черчилль не устает думать о «Болеро». Он даже предлагал назначить Маршалла командующим операцией. И, не переводя духу, добавлял: «Я надеюсь, г-н президент, Вы обеспечите, чтобы назначение американского командующего „Болеро“ 1943 года не нанесло ущерба операциям, имеющим непосредственное значение, таким, как „Джимнаст“»[596].
Черчилль снова показал, сколь полно он информирован о спорах вокруг второго фронта в самом Вашингтоне. Ему было известно, к примеру, что оперативное управление военного министерства США намеревалось 8 июля запросить инструкции о «досрочных операциях в Европе в 1942 году», ибо решения должны быть приняты не позднее 1 августа. Упреждая, премьер напоминал Рузвельту, что английская точка зрения устоялась и должна быть принята к сведению, безразлично, нравится это американцам или нет.
В послании фельдмаршалу Дж. Диллу, британскому военному представителю в Вашингтоне, Черчилль 8 июля 1942 года сообщал о решении военного кабинета отказаться от операции «Следжхэммер». «Естественно, – писал премьер, – мы пока не говорим русским о невозможности провести операцию „Следжхэммер“». Неверность слову не была для Лондона чем-то необычным, и, пока правда сама не выходила наружу, он строил невинную мину.
14 июля 1942 года «бывший военный моряк» подбросил президенту еще пару фальшаков: «Мне очень хочется, чтобы Вы знали, каково мое мнение в настоящее время. Я не нашел никого, кто считал бы возможной операцию „Следжхэммер“. Мне хотелось бы, чтобы Вы осуществили „Джимнаст“ как можно скорее, а мы согласованно с русскими попытались осуществить „Юпитер“. Тем временем должны проводиться полным ходом все подготовительные меры для осуществления „Раундапа“[597] в 1943 году, сковывая этим максимальные силы врага по ту сторону Ла-Манша. Все это кажется мне ясным как день»[598].
Черчилля насторожили какие-то вести из-за океана. За два дня до своего обращения к Рузвельту он писал Диллу: «Если президент примет решение против „Джимнаста“, то вопрос будет исчерпан. Эта операция может быть выполнена только под американским флагом. Эту возможность надо будет окончательно отбросить. Обе страны тогда ничего не предпримут в 1942 году, и все будет сконцентрировано на „Раундапе“ в 1943 году». Диллу поручалось возражать против переключения усилий США на Тихий океан и настраивать американцев на то, что за «Джимнастом» следующей на очереди должна стать Италия[599].
Черчиллевская демагогия и бульдожья хватка раздражали не одно американское военное командование и министров, но подчас и президента. В беседе с Гопкинсом 15 июля Рузвельт заявил: «Прежде всего, меня не удовлетворяет позиция английского кабинета… Хотя нам и приходится с большой неохотой отказываться от операции „Следжхэммер“ в 1942 году, я все же думаю, что нам нужно энергично действовать, чтобы предпринять ее в 1943 году. В послании из Англии я не вижу ничего, что бы указывало на хотя бы слабое желание провести операцию в 1943 году. Меня несколько смущает эта готовность отказаться (от „Следжхэммера“. – В. Ф.) в 1942 году. Не откажутся ли они также и в 1943 году?» Далее Рузвельт рассуждал о том, что ждать до 1943 года нельзя, что Тихий океан не лучший выход, что у «Джимнаста» есть «большие преимущества» – эта операция была бы «чисто американским предприятием»[600].
Нахрап Лондона и предвзятость суждений будили подозрения, а предложение провести «Джимнаст» под американским стягом подкупало президента. Шанс без помех и нервотрепки взять в свои руки крупное и с виду не слишком трудное дело манил.
Известное беспокойство Черчиллю доставляла позиция американских военачальников. На совещании комитета начальников штабов 10 июля Маршалл твердо возразил против плана «Джимнаст» как «дорогостоящей и малополезной операции». Он предложил переключиться на Тихоокеанский театр. По его словам, после отпадения «Болеро» действия на Тихом океане явились бы «наиболее эффективным средством помощи России». Кинг усомнился в намерениях англичан, которые «никогда искренне не одобряли операцию на Европейском континенте». Он вместе с Маршаллом подписал меморандум на имя президента, в котором, в частности, говорилось:
«По нашему мнению, реализация плана „Джимнаст“ (если эта операция будет признана целесообразной) определенно исключает операции „Болеро“ и „Следжхэммер“ в 1942 году и, несомненно, ограничит (если не сделает невозможным) операции „Болеро“ и „Следжхэммер“ весной 1943 года. Мы уверены в том, что план „Джимнаст“ не только не даст решительных результатов, но и истощит наши ресурсы. Если мы возьмемся за операцию „Джимнаст“, то ни на одном театре мы не сможем сосредоточить достаточно сил и средств для решающих действий против врага, и, следовательно, несомненно, поставим под удар наши морские позиции на Тихом океане… Исключив всякую возможность проведения операции „Следжхэммер“ в 1942 году, мы не только не выполним наших обязательств перед Россией; любая другая операция, несомненно, отразится на нашей готовности к осуществлению плана „Раундап“ в 1943 году. Если Европейский ТВД отпадет, то все внимание надо сосредоточить на Тихоокеанском театре»[601].
Ввиду подчеркнутого неодобрения военными придуманной политиками операции в Северной Африке Рузвельт запросил соображения штабов по планам ведения войны на Тихом океане. В докладе комитета начальников штабов привлекает внимание допущение возможностей участия вооруженных сил США в военных действиях на территории Китая и Сибири (в случае войны Японии с СССР). Предусматривалось резкое (в четыре-пять раз) сокращение американских контингентов, предназначавшихся для размещения в Англии. Военачальники признавали, что переориентация на Тихий океан неблагоприятно отразилась бы на Восточном фронте, но последствия втягивания США во второстепенные операции типа «Джимнаст» были бы, на их взгляд, еще хуже.
Сочтя, что американский ВМФ недостаточно окреп, и усомнившись в экономической оправданности предложений КНШ, президент уклонился от конкретного разбора тихоокеанского варианта. Без англичан высаживаться в Европе он не собирался. 14–15 июля Рузвельт принял волевое решение в пользу «Джимнаста». Он командировал в Лондон Гопкинса, Маршалла и Кинга для определения в «духе согласия» с британским союзником планов на остаток 1942 года и предварительных планов на 1943 год.
Проект директивы от 15 июля (в редакции военного министерства), однако, исключал операции в Северной Африке. Полемика с главой администрации продолжалась, пока Маршалл не получил от Рузвельта другую директиву. Она предусматривала:
1) отказ от операции «Следжхэммер» в 1942 году;
2) отсрочку на ближайшие три месяца подготовительных) мероприятий по плану «Болеро»;
3) все самолеты, намеченные к отправке из США в Англию, переадресовать: большую часть – на Средний Восток и в Египет, меньшую – в северо-западную часть Тихого океана;
4) направить в Англию (не форсируя) 5 дивизий;
5) направить безотлагательно 5 дивизий на Средний Восток;
6) закончить подготовку плана «Болеро» к октябрю, чтобы планы «Болеро» – «Раундап» были готовы в апреле 1943 года;
7) продолжать оказывать помощь России, но через Басру.
Одновременно президент снабдил Гопкинса, Маршалла и Кинга пространным инструктивным письмом, которое разрешало его представителям попытаться, «не прибегая к ультиматуму», убедить Черчилля в необходимости высадки на Европейском континенте в 1942 году. Если, однако, премьер будет стоять на своем, то не откладывать решение по запасному варианту действий. «Если план „Следжхэммер“ окончательно и бесповоротно будет снят с повестки дня, я хочу, – предписывал Рузвельт, – чтобы вы проанализировали международную обстановку и определили другой театр военных действий, где американские войска могли бы воевать в 1942 году». Он прямо не называл «Джимнаст», но подчеркивал «исключительную важность того, чтобы американские сухопутные войска приняли участие в военных действиях в 1942 году»[602].
Рекомендация военных сообразовывать решения с обстановкой на Восточном фронте отклонялась. «Исходя из своего взгляда на международное положение в настоящее время, я, – писал президент, – считаю:
а) если Россия сдержит крупные германские силы, брошенные против нее, операция „Раундап“ станет возможной. Поэтому нужно немедленно изучить планы подготовки „Раундап“ в 1943 году и начать подготовку;
б) если Россия потерпит крах и это высвободит германские воздушные и сухопутные силы, операцию „Раундап“, возможно, не удастся осуществить в 1943 году»[603].
Ни здесь, ни в других документах не ставится задача – дойти до пределов возможного, но предотвратить поражение советского союзника в войне в соответствии с соглашением с СССР, пять недель назад – 11 июня – подписанным американским правительством. В преамбуле соглашения фиксировалось, что «оборона Союза Советских Социалистических Республик против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов Америки». В инструкции своим эмиссарам глава администрации бесстрастно прикидывает последствия «если-если», как будто на Восточном фронте не решалась судьба войны, а также, между прочим, личная судьба Рузвельта как президента, политика, «морального лидера» Запада.
Р. Шервуд сообщает более полную и точную, чем М. Мэтлофф и Э. Снелл, редакцию пунктов 8 и 10 президентской инструкции Маршаллу и Гопкинсу:
«8. Средний Восток следует удерживать по возможности прочно, независимо от того, потерпит Россия крах или нет…
Вы определите, какими наилучшими способами можно удержать Средний Восток. Эти способы, несомненно, включают одну из следующих мер или обе из них:
а) отправку воздушных и сухопутных сил к Персидскому заливу, в Сирию и Египет;
б) новую операцию в Марокко и Алжире, рассчитанную на удар в тыл Роммеля».
«10. Соблаговолите запомнить три основных принципа: быстрота в принятии решений о планах, единство планов, наступление в сочетании с обороной, но не одна оборона. Это связано с ближайшей целью, заключающейся в том, что американские сухопутные войска должны сражаться против немцев в 1942 году»[604].
На достижение взаимопонимания с англичанами отводилась одна неделя. И постоянный рефрен: американские солдаты должны вступить в бой в 1942 году. Отчасти это дань настроениям общественного мнения США и еще на три четверти способ подтолкнуть американских начальников штабов сделать, наконец, то, что с нетерпением ждал от них глава администрации, – предложить вторжение в Северную Африку.
Но Маршалл, которого подкрепляли Старк, Эйзенхауэр и Спаатс, заартачился. Первые три дня совещания с англичанами (20–22 июля) он отстаивал план «Следжхэммер»[605]. 22 июля после встречи с Черчиллем американские делегаты доложили президенту: переговоры в тупике.
Из Вашингтона без промедления последовало указание добиваться согласия по одному из пяти вариантов операций (назывались по убывающей степени важности):
1. Совместная англо-американская операция во французской Северной Африке (Алжир, или Марокко, или оба района).
2. Сугубо американская операция во французском Марокко (план «Джимнаст»).
3. Совместная англо-американская операция в Северной Норвегии (план «Юпитер»).
4. Усиление Египта.
5. Усиление Ирана[606].
На встрече 24 июля с английскими начальниками штабов Маршалл и Кинг высказались за то, чтобы: (а) продолжать подготовку операции «Раундап» и форсировать Ла-Манш крупными силами к 1 июля 1943 года; (б) продолжать готовить операцию «Следжхэммер» в той мере, в какой это не затруднит подготовку войск к операции «Раундап», и с учетом отказа от ранее запланированной на 1942 год высадки; (в) провести в 1942 году совместную операцию на северном и северо-западном побережье Африки таким образом, чтобы не исключать операции по форсированию Ла-Манша в рамках плана «Болеро».
Маршалл полагал, что «Джимнаст» помешает успешному осуществлению плана «Раундап» в 1943 году, и предложил перейти на Европейском театре военных действий к обороне. Окончательное решение насчет стратегии в Европе, по мнению Маршалла, следовало отложить до 15 сентября, когда, как ожидалось, прояснится ситуация на Восточном фронте. Если выявятся признаки полного прекращения или серьезного ослабления сопротивления русских и успешное проведение «Раундап» станет невозможным, тогда в кратчайший срок, не позднее 1 декабря, начать операцию «Джимнаст»[607].
В мировой войне, где все театры военных действий взаимоувязаны, словно сообщающиеся сосуды, почти каждое серьезное событие влечет цепную реакцию. Отказ от открытия второго фронта в Европе в 1942 году и фактическое вычеркивание его из графика приоритетных задач на 1943 год объективно позволяло нацистскому командованию и в условиях позиционной войны продолжать использовать преимущества главной компоненты блицкригов – концентрировать на выбранном им направлении практически все наличные силы для поочередного разгрома противников.
Примем версию: по британским меркам открытие второго фронта в 1942 году представлялось «невозможным» и политически «неправильным»[608] или, как им вторили американские приверженцы демократии, «с военной точки зрения нецелесообразным». Допустим, националистические, идеологические, классовые шоры до предела сужали спектр выбора. Но все же, даже не собираясь оттягивать на себя немецкие дивизии с Восточного фронта, можно было бы прикинуть, как посодействовать Советскому Союзу в создании более мощного заслона против подготавливающегося вермахтом летнего наступления? Не об урезании военных поставок Красной армии, понятно, вести речь, не об утаивании англичанами от советского союзника по мотивам «охраны британских государственных секретов» информации о приготовлениях и графиках операций германского командования на Восточном фронте.
Япония дислоцировала на границе с СССР до 30 дивизий. Советская сторона была вынуждена сохранять в противовес им войска, по численности не уступавшие контингентам англичан, что держали оборону Альбиона в ожидании немецкого вторжения на Британские острова. В данном контексте перенесение американцами центра тяжести военных операций на Тихий океан могло бы быть выгоднее СССР, чем затягивавшееся затишье в Западной Европе.
Не тут-то было. В секретном докладе руководителя Управления стратегических служб США[609] указывалось на возможность японского нападения на Советский Союз «до конца лета» и рекомендовалось обождать этого разворота событий, прежде чем решать вопрос об оказании военной помощи Москве. В донесении советской разведки, поступившем 13 июля 1942 года, говорилось: «Наступательные операции (на Тихоокеанском ТВД) не будут проводиться до тех пор, пока Япония не вступит в войну против СССР. То же самое относится и к проведению наступательных операций в Бирме». «Все военные приготовления американцев и англичан в тихоокеанском бассейне, – читаем мы дальше, – основаны на их предположении, что Япония нападет на Советский Союз, оттянет свои войска из бассейна Тихого океана и этим создаст более благоприятную обстановку для союзников. У американцев и англичан имеется полная уверенность, что японцы нападут на СССР этим летом или в крайнем случае осенью. На этом предположении базируются все стратегические планы американцев и англичан на Дальнем Востоке»[610].
«Все» – не означает ли это, что, кладя под сукно предложения комитета начальников штабов о переориентации стратегии с Атлантики на Тихий океан, Рузвельт сообразовывался не с одними экономическими выкладками, не просто бежал от призрака Пёрл-Харбора? Вместо «жертвенной высадки» на севере Франции в помощь России, на уме держали новые жертвы со стороны России на потребу демократиям?
Вот так. Под Сталинградом война достигла распутья не только для Японии и Турции, изготовившихся напасть на СССР, но и для Соединенных Штатов. Вашингтон внутренне настраивался оставить нас собственному року и приступить к новой политической и военной калькуляции уже без Восточного фронта. Ныне можно констатировать, что почти никто из имевших реальный вес деятелей за океаном не верил в августе-сентябре 1942 года, что Советский Союз сумеет подняться на еще одну Московскую битву. Спорили в основном о том, насколько значительными будут нацистские успехи и обретет ли Гитлер возможность перебросить часть сил с Восточного фронта на другие направления.
Положение английских переговорщиков облегчалось тем, что Рузвельт выступал заодно с ними. 23 июля президент известил Черчилля об отказе от крупных операций на Европейском континенте в 1942 году и пообещал убедить американский комитет начальников штабов в необходимости вторжения в Северную Африку[611].
Последний арьергардный бой Маршалл и Гопкинс дали 24 июля. Пытаясь спасти «Раундап» в 1943 году, они настояли на продолжении приготовлений к нему[612]. Эта позиция отразилась в совместном докладе, представленном участниками переговоров британскому кабинету. Доклад подвергся критике за отсутствие четкого указания, какой операции – «Торчу» или «Раундапу» – отдается предпочтение, и за глухой намек на возможность отказа от «Торча», если СССР все же выстоит.
Черчилль дожал американских военных руками Рузвельта. С его подачи президент приказал своим штабам приступить к планированию высадки в Северной Африке с таким расчетом, чтобы начать ее не позднее 30 октября 1942 года. Генерал Макнэрни сообщил Маршаллу, что главнокомандующий принял свое решение, не вдаваясь в рассмотрение соображений начальников штабов, а также без заслушивания мнений Стимсона, Леги и Арнольда. Президентская директива CCD-94 фактически снимала задачу открытия второго фронта и в 1943 году.
Предвосхищая демарши военных, Рузвельт 30 июля известил их о том, что он рассматривает операцию «Торч» как основную в настоящее время, и мобилизация сил и средств для ее проведения должна осуществляться в первую очередь. Президент предложил немедленно известить о своей позиции Черчилля и просить его присоединиться к ней. «В соответствии с этой директивой окончательное решение должно быть принято к 15 сентября»[613].
Президентскому решению предшествовал обмен посланиями с Черчиллем, который заслуживает посвящения ему нескольких строк. Премьер в телеграмме 27 июля высказал удовлетворение тем, что Маршалла и Кинга обязали следовать курсом на «Торч». Теперь, писал британский лидер, «все зависит от скрытности и скорости и от наличия правильного графика политических и военных акций… Скрытность может быть обеспечена лишь с помощью хитрости. С этой целью я запускаю „Юпитер“, и мы должны также обрабатывать „Следжхэммер“ с предельной энергией. Это прикроет все передвижения в Соединенном Королевстве. Когда ваши войска двинутся для выполнения операции „Торч“, то все, кроме секретных кругов, должны будут считать, что они следуют в Суэц или Басру…».
Далее очередная фантазия или дезинформация о желании премьера разместить «20, 30 или даже 40 эскадрилий на русском южном фланге и тем самым помочь русским удерживать барьер, образуемый Каспийским морем, Кавказскими горами и Турцией, подтвердившей нейтралитет. Представляется также необходимым предложить Сталину что-либо солидное. Однако, что бы ни произошло, ничто не должно помешать операции „Торч“ или ослабить Окинлека (командующий английскими войсками, противостоявшими группировке Роммеля) до того, как он одержит победу»[614].
Ответ Рузвельта, посланный в тот же день, знаменателен двумя положениями: президент заявил, что он, «конечно, очень доволен результатами», достигнутыми при участии «трех мушкетеров» (Гопкинса, Маршалла и Кинга). «Я не могу не ощущать, – замечал автор, – что прошлая неделя явилась поворотным пунктом во всей войне и что теперь мы плечом к плечу идем нашим путем». Глава администрации поддержал мысль о «крайней важности» скрытности и быстроты и выразил надежду, что «октябрьская дата может быть передвинута на более раннее время»[615]. Таким образом, его сообщение начальникам штабов от 30 июля являлось всего лишь постскриптумом к тремя днями ранее ушедшему в Лондон «добро» курсу, который Черчилль навязывал главе администрации США с 1941 года. Причем Маршалл и другие не сразу узнали всю правду.
Слова президента о «поворотном пункте в войне» корреспондировали с оценкой командованием сухопутных сил США директивы CCD-94 как «коренного изменения в ранее принятой общей стратегии войны»[616]. Эйзенхауэр назвал день, когда Рузвельт принял решение о высадке в Северной Африке, «самым мрачным днем в истории».
Разумеется, если можно говорить о «поворотном пункте», то не в войне вообще, а в войне, которую вели Англия и США. Касательно западных держав перемены были глубокими и долговременными. Они способствовали тому, что мировая война приобрела еще более кровопролитный, разрушительный и затяжной характер. Агрессорам жаловали два года на продолжение разбоя. И что не обойти молчанием, на заклание обрекались новые миллионы и миллионы людей. Решение, издевавшееся над здравым смыслом, вовлекло Вашингтон в фарватер британской политики, выдержанной в колониальных и имперских традициях начала века, среди которых понятия чести и верности, разборчивости в партнерах и средствах пребывали на задворках.
Заявлять, что Англия и США шли на прямую и циничную измену союзным обязательствам перед СССР, было бы перебором. С другой стороны, чрезмерно щадящим руководителей Лондона и Вашингтона являлось бы суждение, что они просто из равнодушия к бедам других отворачивались от проблем советского союзника. Западные державы не приняли никаких практических мер, чтобы вынудить Гитлера снять с Восточного фронта пусть самую малую толику войск. Напротив, они ожидали и из этого исходили, что Советский Союз притянет к себе и свяжет еще больше, чем раньше, дивизий вермахта и «люфтваффе», дабы «Торч» прошел гладко[617].
После лондонских переговоров и, особенно, обмена посланиями между Черчиллем и Рузвельтом «стало совершенно ясно, – констатируют Дж. Батлер и Дж. Гуайер, – что с невозможностью проведения операции „Раундап“ в 1943 году все согласились обдуманно». 1 августа 1942 года Дилл телеграфировал, что, на взгляд американского руководства, решение об операции «Торч» исключает возможность проведения операции «Раундап». Британский премьер дал указание английским представителям «оспаривать» эту «американскую точку зрения». Выставляя Вашингтон в качестве силы, срывающей организацию второго фронта в 1943 году, он напускал вид, что не понимает, о чем речь, когда Эйзенхауэр, что называется, тыкал его носом в факты[618].
Нелояльность по отношению к советскому союзнику этаблировалась как норма. Произнести это вслух было затруднительно. Откровения изредка доверялись лишь совершенно секретным бумагам. В телеграмме Рузвельту 22 сентября Черчилль писал: «На совещании (с английскими начальниками штабов) у меня создалось впечатление, что операция „Раундап“ не только откладывается или приходит в столкновение с операцией „Торч“, но что ее следует рассматривать как определенно снятую с плана на 1943 год. Это будет второй огромный удар для Сталина». Под первым ударом понималось готовившееся сообщение о прекращении посылки северных конвоев до конца года.
Выложить карты на стол «было бы очень опасно», и «поэтому, – интимничал премьер, – я хочу начать штабные переговоры об операции „Юпитер“ и обо всех необходимых резервах…». «Резюмирую, – заканчивал Черчилль свою телеграмму, – моей постоянной заботой остается Россия, и я не знаю, как мы можем примирить это с нашей совестью, с нашим намерением не посылать больше конвоев PQ до 1943 года, с отсутствием предложений о совместных планах для операции „Юпитер“ и признаков весеннего, летнего или даже осеннего наступления в Европе». Премьер просил у Рузвельта совета, в какой упаковке преподнести неприятности Сталину, и поддержать Лондон в рискованной игре «по возможности твердо и быстро»[619].
Перед этим должно было еще состояться тягостное объяснение с советским руководством по поводу второго фронта в 1942 году. Решили воспользоваться поступившим 31 июля от Сталина приглашением Черчилля и Брука (в ответ на намек премьера) прибыть в СССР «для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР достигла особой силы»[620]. Сама инициатива Черчилля и сценарий его поведения в Москве были предварительно обговорены с Рузвельтом.
В телеграмме от 29 июля 1942 года премьер сообщал президенту: «Я не намерен пускаться в дискуссию, но Сталин, несомненно, рассчитывает получить от нас некоторый отчет относительно наших недавних переговоров о втором фронте. В зависимости от того, как Вы на это посмотрите, я предлагаю указать Сталину на объясняющую нашу позицию памятную записку, которая была вручена здесь Молотову непосредственно перед его отбытием в Москву и которую я показывал Вам, и заявить, что она до сих пор выражает нашу общую позицию. – В. Ф.), но что мы согласились с Вами на некую акцию, хотя в нынешней стадии нельзя сказать ничего определенного о времени и месте»[621].
Черчилль подбивал Рузвельта на очередной обман Москвы. «Хитрость», о которой премьер писал 27 июля, разрасталась в акцию, где СССР отводилась роль подсадной утки. Зло, уже совершенное, грозило расцвести чертополохом и нанести непоправимый урон едва проклюнувшимся всходам доверия.
В ответе, датированном тем же днем, президент советовал действовать «осторожно». «Ни от кого, чья страна подверглась нападению, – писал Рузвельт, – нельзя ожидать, чтобы он подходил к войне со всемирной точки зрения. Я считаю, что мы должны попытаться поставить себя на его место». Из последующих рассуждений главы администрации не видно, чтобы он справился с задачей перевоплощения. «Я полагаю, – продолжал Рузвельт, – что в первую очередь ему (Сталину) следует весьма четко сообщить, что мы (без СССР. – В. Ф.) определили курс действий на 1942 год. Не уведомляя его о точном характере наших предполагаемых операций, думаю, следует недвусмысленно сказать ему, что они будут проводиться в жизнь»[622]. Осуществляться независимо от развития обстановки на Восточном фронте, ибо была замыслена келейная операция, связанная с политическими и иными расчетами, которые лежали в стороне от актуальных задач войны с Германией.
Президент не заблуждался, предполагая, что стратегические планы США и Англии не воодушевят советское руководство. По просьбе Черчилля и не без внутренних колебаний он уполномочил Гарримана присоединиться к неблагодарной и неблагородной миссии премьера, совершавшейся в «критический момент»[623]. На всякий случай Рузвельт (еще 22 июля) сообщил Литвинову, что высадку во Франции срывает Черчилль, и намекнул на возможность ограниченной операции в Северной Африке «для нападения на Роммеля с тыла». Беседуя с Литвиновым 30 июля, президент просил передать Сталину, что второй фронт будет, но уклонился от ответа на неудобный вопрос посла – в каком году[624].
Переговоры с Черчиллем и Гарриманом начались в день их прибытия в Москву 12 августа. Имеется возможность реконструировать и проанализировать их ход по советским протокольным записям, телеграммам премьера и докладам президенту его личного представителя, а также послевоенным воспоминаниям Черчилля[625].
Помыслы собеседников Сталина были устремлены на то, чтобы выдать порок за добродетель. Мрачную атмосферу выразительнее передал Гарриман, который счел уместным предупредить Рузвельта, что софизмы премьера по поводу «Следжхэммера» и «Раундапа» не произвели впечатления на советскую сторону. Сталин, докладывал американец, «закончил эту фазу обсуждения, заявив резко, но с достоинством, что, будучи не согласен с нашими доводами, он не может принудить нас действовать».
Напряжение несколько спало, когда Черчилль перевел разговор на тему «беспощадных бомбардировок Германии». Ряд его высказываний вызвал у Сталина положительный отклик. После этого премьер счел почву возделанной для сообщения об операции «Торч».
Версии Гарримана и Черчилля о тональности и частично содержании обмена мнениями по «Торчу» разнятся. Премьер в информации президенту (послана 13 августа) выпячивал совпадающие моменты и некую, по словам британца, внутреннюю склонность советского лидера принять «Торч» на замену высадки через Ла-Манш. Гарримана больше занимали сомнения Сталина. Американец, кстати, не преминул воспроизвести черчиллевский аргумент насчет единой сути: бить ли крокодила «в мягкое предбрюшье (то есть в Средиземное море) или в морду (Северная Франция)». Гарриман уловил, что премьер прощупывал возможность итало-балканской версии второго фронта.
Поскольку «Торч» становился неизбежным, Сталин, согласно докладу Гарримана, высказался за ускорение начала операции. Черчилль заверил, что высадка в Северной Африке произойдет «самое позднее 1 октября».
Насколько тоньше ощущал атмосферу Гарриман, показала беседа в Кремле 13 августа, в ходе которой Сталин вручил свою памятную записку о втором фронте. Черчилль воспринял этот документ и весь разговор крайне нервозно:
а) срыв организации второго фронта связывался лично с его позицией;
б) Англию обвиняли в систематическом вероломстве;
в) отказами от ранее принятых решений Англия вносит элементы дезорганизации в планы советского командования и создает дополнительные трудности для Красной армии;
г) из-за позиции Англии останутся невостребованными максимально благоприятные возможности для создания второго фронта, которые есть в 1942 году, но неизвестно, будут ли они в наличии в 1943 году.
Записка не претендовала на то, чтобы переубедить Черчилля. Руководство СССР сочло необходимым зафиксировать свои оценки не только для истории, но и как предостережение против коварства в межсоюзнических отношениях на будущее.
Приводившиеся выше документы из американских и английских источников начисто опровергают домыслы и маневры, которыми пробавлялся Черчилль в Кремле. Подчас премьер фальшивил без всякой видимой нужды и в своей страсти к интриге терял осторожность. Зачем ему нужно было лгать, что «Торч» начнется 1 октября? Нигде в документах июля-сентября не фигурирует 1 октября, названное Черчиллем для красного словца и не исправленное ни тогда, ни позже. В телеграмме Черчиллю 30 августа 1942 года Рузвельт вел речь о 30 октября и выражал надежду, что дату операции удастся приблизить (называлось 14 октября). На совещании 22 сентября в Лондоне с участием премьера высадку отложили до 8 ноября, хотя президент настаивал на дате до 3 ноября – дня выборов в США.
22 сентября премьер писал президенту, что операцию «Раундап» следует рассматривать как «определенно снятую с плана на 1943 год» и что это явится еще одним «огромным ударом для Сталина», а 14 августа он же говорил и писал в Москве о 1943 годе как времени «настоящих действий» против Германии. Черчилль не мог не отдавать себе отчет в том, чем чреват обман, следующий за обманом. Или он был убежден, что в 1943 году Советский Союз будет говорить сникшим голосом?
14 августа премьер передал Сталину контрзаписку, в которой выдавал «Следжхэммер» и «разговоры относительно англо-американского вторжения во Францию в этом году» за прием для введения врага в заблуждение, дабы заставить его держать крупные силы на французском побережье Ла-Манша. Он грозился вынести разногласия наружу и сообщить народу «убийственный аргумент» против «Следжхэммера». Публичная дискуссия, лез на рожон Черчилль, «значительно обескуражила бы русские армии, которые были обнадежены по этому поводу, и противник смог бы свободно дальше оттягивать силы с Запада». «Самым разумным методом, – заявлял премьер, – было бы использовать „Следжхэммер“ в качестве прикрытия для „Торча“ и провозгласить „Торч“, когда он начнется, вторым фронтом. Это то, что мы намереваемся сделать». И вообще, утверждалось в контрзаписке, Англия и США никаких обещаний насчет второго фронта не давали, а при тех оговорках, какими обставлялись переговоры с Молотовым по этому вопросу, у советского высшего командования не имелось оснований перестраивать свои планы[626].
Подобным настырным языком Черчилль отбивался от неприятных ему истин. В телеграмме Рузвельту 16 августа он признавался: «В целом я определенно удовлетворен своей поездкой в Москву. Я убежден в том, что разочаровывающие сведения, которые я привез с собой, мог передать только я лично, не вызвав действительно серьезного расхождения. Эта поездка была моим долгом. Ныне им известно самое худшее, и, выразив свой протест, они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это несмотря на то, что сейчас они переживают самое тревожное и тяжелое время». Об осадке, который оставлял Черчилль Сталину на прощание, говорит следующий пассаж из той же телеграммы: «Любое утешительное или ободряющее послание, которое Вы сочли бы возможным направить Сталину, было бы полезным»[627].
Ф. Рузвельт направил 19 августа в Москву послание со словами признательности и уважения. «В Соединенных Штатах хорошо понимают тот факт, – писал президент, – что Советский Союз несет основную тяжесть борьбы и самые большие потери на протяжении 1942 года, и я могу сообщить, что мы весьма восхищены великолепным сопротивлением, которое продемонстрировала Ваша страна. Мы придем к Вам на помощь по возможности скорее и по возможности большими силами, как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы верите мне, когда я сообщаю Вам об этом». Для убедительности шеф Белого дома к несбыточным посулам Черчилля прибавил свои собственные – увеличить уже в текущем (августе) месяце помощь Советскому Союзу[628].
Достаточно сравнить это президентское обещание с директивой Объединенного комитета начальников штабов № 100/1 от 14 августа 1942 года об очередности перевозок. Директива предоставляла «Торчу» преимущество перед всеми другими операциями в Атлантике. План «Болеро» отодвигался на четвертое место. Поставки в СССР предусматривались только через Басру. «Если возникнет необходимость отправлять военные материалы в Россию северным маршрутом, – говорилось в документе, – то рекомендуется делать это в последнюю очередь»[629].
30 августа в послании Черчиллю Рузвельт подчеркивал особую заинтересованность в обеспечении «Торча» по самым щедрым нормам и необходимость проведения высадки одновременно в трех местах. «Я считаю, что с этой целью мы должны пересмотреть наши силы и средства и содрать все до костей, – писал президент, – чтобы сделать возможной третью высадку. Мы можем на это время задержать русский конвой и другие торговые суда. Конечно, очень важно, чтобы все суда, предназначенные для двух высадок войск Эйзенхауэра, оставались нетронутыми. Следовательно, восточная высадка должна быть произведена с кораблей, которые в настоящее время не заняты в операции „Торч“»[630].
Британский премьер предложил Рузвельту отменить назначенный к отправке снаряжения Советскому Союзу конвой PQ-19, сорок кораблей которого уже были загружены. По его словам, альтернативой была бы «отсрочка даты начала операции „Торч“ на три недели». Он высказался за извещение Сталина о том, что до января 1943 года северных конвоев вообще не будет, упирал на важность единства Англии и США в этот «трудный момент в англо-американо-советских отношениях». «Мы дали торжественное обещание снабжать Россию, – отмечал Черчилль, – и могут быть самые серьезные последствия, если мы не исполним его»[631]. Президент «самым решительным образом» возразил против информирования Сталина о том, что «конвой не будет послан». Мотивировка этой сомнительной позиции издателями «Секретной переписки» опущена. Вместо нее к процитированной фразе прилеплен нелепый конец: «Оба наши послания должны быть составлены в таких выражениях, чтобы произвести на него (Сталина) приятное впечатление»[632].
Американские и британские умельцы придумали «выход» из положения – посылать в Мурманск и Архангельск не конвои, а «суда, плавающие автономно». Об этом решении Черчилль известил Сталина. В тот же день послал в Москву свою аккомпанирующую телеграмму Рузвельт. Владея точными данными о подноготной посланий из Лондона и Вашингтона, Сталин сухо ответил премьеру: «Получил Ваше послание от 9 октября. Благодарю Вас». Такого же ответа был удостоен президент[633].
Не иначе обстояло с операцией «Юпитер». Из телеграммы Черчилля Рузвельту от 22 сентября 1942 года и замечаний премьера 16 октября по поводу докладной записки канадского главнокомандующего генерала Макнотона следует, что «Юпитер» был для Лондона методом «поддержания контакта с Россией». В «Юпитере» его влек шанс заморозить «Раундап» до 1944 года[634]. После беседы с Черчиллем 9 ноября 1942 года посол США в Лондоне Вайнант докладывал об утрате англичанами интереса к форсированию Ла-Манша. Высадка в Северной Франции признавалась стоящей только в том случае, если она станет последним смертельным ударом по врагу, который уже подкошен ударами, наносимыми в другом месте.
Разглагольствования Черчилля в августовских (1942 года) беседах в Кремле насчет «размещения англо-американских ВВС на южном фланге русских армий для защиты Каспийского моря и Кавказских гор и вообще участия в сражениях на этом театре военных действий» реального значения для советской стороны не имели. Они обставлялись частоколом предварительных условий («сначала мы должны выиграть битву в Египте», прояснить «планы президента относительно американского вклада» и т. п.). Сам Черчилль поименовал свое балагурство «моральным эффектом товарищества».
Согласно оценкам экспертов штаба армии, доложенным по запросу Белого дома, ВВС союзников не могли быть задействованы на Кавказе ранее 20 января 1943 года и их использование по метеоусловиям в этом районе было бы ограниченным до апреля. Эксперты увязывали возможность внешне положительного отношения США к идее Черчилля с дальнейшим урезанием объема поставок в СССР по ленд-лизу через Персидский залив и выдвигали, кроме того, генеральную оговорку – «если потребности на других фронтах в американской авиации не окажутся более острыми»[635].
Рузвельт не согласился со скепсисом военных и попытался поставить вопрос о посылке союзных самолетов в район Кавказа на практические рельсы. Его беспокоило охлаждение отношений с СССР, и жест солидарности был бы очень кстати. Президент склонялся отойти от своей стандартной установки и включить американские экипажи в состав советских частей. 16 декабря он телеграфировал Сталину, что США могли бы принять принцип «общего русского командования»[636]. Сталин (18 декабря) поблагодарил Рузвельта за «готовность помогать нам», но ввиду изменения обстановки на фронте, продолжал советский руководитель, потребность «в присылке в Закавказье» англо-американских эскадрилий с летным составом отпала[637].
«Закавказье» помянуто неспроста, ибо на передний край, как показал обмен мнениями, англичане и американцы не рвались. Кроме того, имелись веские причины заподозрить, что интересы реального боевого сотрудничества в данной области не обязательно были профилирующими. Сходные проекты всплывали уже не раз. Советская сторона в ответ называла конкретные аэродромы для проведения разовых или регулярных операций самолетами союзников, но, когда бил час делать дело, желание сотрудничать на западной стороне иссякало[638].
Несколько раньше – в конце сентября – глава администрации в порядке профилактики командировал в Москву У. Уилки. Личный представитель президента услышал от Сталина: «Программа обещаний или обязательств по поставке предметов вооружения, которую приняла на себя Америка, не выполняется. По югу через Персидский залив эта программа выполняется за последние два месяца на 40–50%, по северу – на 15–20% (включая потери от потопленных судов)… Англия перехватывает некоторые поставки США, предназначенные для СССР». Сталин подчеркнул, что у союзников имеются пути для разгрома Германии, однако их надо использовать. Реагируя на соответствующее сообщение Уилки, советский лидер ответил, что мало верит в поражение Германии в результате внутреннего взрыва. Такой взрыв возможен лишь вследствие серьезного военного поражения, то есть удара извне[639].
Черчилля и Рузвельта задевала реакция Советского Союза на факты заведомого обмана и двурушничества. Но когда же советская сторона обратилась к американской и английской общественности по поводу проблемы второго фронта, официальный Вашингтон и Лондон на время утратили самообладание.
Примем к сведению, сами американцы, особенно из военных, порой приходили в отчаяние и бешенство из-за бесцеремонных попыток Лондона валять дурака. К примеру, военный министр Г. Стимсон предостерегал президента против черчиллевской «самой необузданной разновидности дебоша, сбивающего с толку»[640]. Офицеры штаба армии, доведенные до крайности, рекомендовали Маршаллу сдать Ближний Восток, чтобы заставить англичан собрать войска на Британских островах и развернуть эффективные наступательные операции против цитадели противника на Европейском континенте[641].
Реагируя на британские увертки и нарушение Лондоном обязательств также перед американцами, военное министерство США издало в ноябре 1942 года директиву, ограничивавшую поставки по ленд-лизу в Англию. Любое строительство сверх того, что нужно для войск численностью свыше 427 тысяч человек, должно было, согласно этой директиве, производиться силами и средствами самих англичан. Мотив для введения ограничений – сокращение масштабов накапливания сил на территории Соединенного Королевства, предусматривавшихся планом «Болеро».
У. Черчилль заерзал. «И не столько с точки зрения ленд-лиза, – писал он 24 ноября президенту, – сколько по соображениям стратегического порядка». Премьер не преминул сделать вид, что английские приготовления к «Раундапу» «ведутся широким фронтом в соответствии с планом операции „Болеро“». По его словам, «никогда не предполагалось, что мы не должны открыть второй фронт в 1943 году или в 1944 году». Черчилль уверял, что на него «произвели сильное впечатление доводы Маршала» в пользу операции «Раундап» как единственного способа «бросить главные силы во Францию и в Нидерланды» и задействовать «основную воздушную мощь английской метрополии и оперирующие за границей ВВС Соединенных Штатов».
Под самый конец намек на то, что беспокоит Лондон в «соображениях стратегического порядка». «Даже в 1943 году, – заметил премьер, – может появиться шанс. Если армии Сталина в своем наступлении дойдут до Ростова-на-Дону, а такова его цель, то, возможно, южные немецкие армии будут первоклассным образом разгромлены. Наши операции на Средиземном море, которые будут проведены вслед за операцией „Торч“, могут вывести из войны Италию. Среди немцев может начаться широкая деморализация, и мы должны быть готовы воспользоваться любой представившейся возможностью»[642].
Под воздействием событий, разворачивавшихся в районе Сталинграда, появилась опаска: как бы не проморгать победу в Европе. Черчилль заприметил надвигавшийся тектонический сдвиг позже Рузвельта. Президент 27 октября писал ему: «Я совершенно определенно считаю, что русские продержатся эту зиму и что мы должны энергично приступить к выполнению наших планов как по поставкам им, так и по созданию авиационного соединения, которое будет сражаться вместе с ними. Я хочу, чтобы мы были в состоянии сообщить г-ну Сталину, что мы выполняем наши обязательства на сто процентов»[643]. Вроде корм в коня, и целесообразно выполнять договоренности.
Отвечая на телеграмму премьера от 24 ноября, Рузвельт отметил: США не намерены отказываться от операции «Раундап». «В настоящее время, я полагаю, – писал президент, – мы должны настолько быстро, насколько позволяют наши теперешние активные операции, наращивать ударные силы в Соединенном Королевстве, чтобы сразу же их использовать в случае краха Германии или же использовать позже значительно более крупные силы, если Германия убережет себя и перейдет к обороне».
Глава администрации отвел попытки Черчилля приписать США авторство в «Торче» и ответственность за убогое исполнение плана: инициатива операции в Северной Африке, которая с самого начала пошла не по расчетной траектории[644], всецело принадлежала Англии. Прямо не откликаясь на подброшенную Черчиллем мысль о том, что продолжением «Торча» должна стать итальянская кампания, президент довольно твердо заявил, что, пока военные действия в Северной Африке не завершатся, США не будут ввязываться в другие крупные операции. Он поднял вопрос о созыве – после изгнания немцев из Туниса и принятия мер против угроз со стороны Испании – совещания представителей Великобритании, России и Соединенных Штатов по вопросам военной стратегии[645].
2 декабря президент уточнил, что ведет речь о встрече со Сталиным. Одной из задач встречи должно быть «соглашение о предварительной процедуре, применимой в случае краха Германии». Он выразил пожелание устроить совещание «примерно 15 января или вскоре после этой даты» без предварительных переговоров между Англией и США, чтобы не создавать «у Сталина впечатления, что мы все решаем между собой до встречи с ним». Черчилль ставился в известность, что Рузвельт уже направил в Москву послание, «убеждая его (Сталина) встретиться с Вами и со мною»[646].
Советский руководитель не принял идеи, вносившейся Рузвельтом – с апреля 1942 года – во второй раз. Президент полагал, что он и Сталин смогли бы легче понять один другого в отсутствие британского премьера. Не последовало согласия Москвы и на сделанное затем предложение устроить встречу в Северной Африке примерно 1 марта.
Что было тому причиной? Недовольство Сталина вихляниями США в вопросе о втором фронте?[647] Высказывается также предположение, что он не хотел в диалоге с Рузвельтом выглядеть просителем[648], и, фактически девальвируя триумф на Волге, выжидал, когда инициатива в войне с Германией окончательно перейдет в его руки. Есть и совсем простое объяснение: Сталин панически боялся пользоваться самолетом, а в любой из называвшихся географических пунктов по сухопутью было не добраться. В любом случае нечто специфически личное мешало ему ответить «да», когда в руки просилась возможность без посредников сверить часы, придать союзничеству новое качество, обозначить вехи послевоенного сотрудничества.
Как бы то ни было, независимо от побуждений, шанс на сближение с США и вступление в 1943 год со стратегическими договоренностями, которые убыстрили бы военный разгром Германии уже потому, что сузили бы простор для маневров Черчилля, советская сторона упустила.
В конце 1942 года англо-американские отношения отнюдь не находились на подъеме. Операция «Торч» не сблизила две державы. Различия в понимании общей стратегии войны и ее конечных целей проступали все отчетливей. Вполне правдоподобно допущение: не возобладай в советской реакции на предложения Рузвельта привходящие начала, была бы ослаблена зависимость событий на мировой арене от человеческих слабостей в верхних этажах власти великой тройки, выпуклее дало бы себя знать накопление мощи на базисе. В конце 1942 – начале 1943 года Рузвельт пребывал во вполне приличной физической форме, и, если бы он и Сталин пришли тогда к договоренностям тегеранского масштаба, у президента США имелся бы в распоряжении лишний год на личное наблюдение за их исполнением.
Отказ советского лидера от встречи вне СССР – да и какого-либо пункта в России он тоже не называл – зажег зеленый свет двухстороннему англо-американскому совещанию «под Алжиром или Касабланкой». Движение по наезженной колее имело свои удобства. Отпадал предметный и, стало быть, небеспроблемный разговор по второму фронту. «Сумеют ли русские удержать фронт – в этом главное. От решения этого главного вопроса зависят наши планы на остающийся период 1942 года», – заявили англичане на первом совместном заседании штабов в Вашингтоне (июнь 1942 года). СССР внес нужную определенность в стратегическую композицию 1943 года без встреч на высшем уровне. Эта ясность влекла за собой новые трудные вопросы.
Подведем некоторые итоги. Имелись ли объективные условия для организации в 1942 году второго фронта? Операция «Торч» поглотила вдвое, если не втрое больше транспортно-десантных средств, чем требовалось для форсирования Ла-Манша. Высадку во Франции было бы несравнимо легче обеспечить прикрытием и поддержкой с воздуха. Не выдерживал критики аргумент Черчилля, которым он больше всего морочил голову Рузвельту: Ла-Манш превратится в реку крови из-за ожидаемого мощного сопротивления немцев и недостатка резервов у союзников для создания решающего перевеса.
Согласно месячным сводкам верховной ставки вермахта (ОКВ), в январе 1942 года во Франции, Бельгии и Голландии было расквартировано 33 немецкие дивизии, в том числе две танковые, а в июне – 24 пехотные дивизии. За исключением одной авиаполевой дивизии, ни одна из остальных не считалась полностью боеспособной. Гитлер 9 июля 1942 года издал приказ об укреплении обороны: «Наши успехи могут поставить англичан перед выбором: либо провести крупную десантную операцию с целью открытия второго фронта, либо допустить полный разгром России. Поэтому весьма вероятно, что противник вскоре предпримет высадку десантов в районах, находящихся в ведении главнокомандующего войсками на Западе». Наиболее уязвимыми считались побережье Ла-Манша между Дьепом и Гавром, Нормандия, полуостров Бретань и южные районы Голландии.
После налета союзников на Сен-Назер (лето 1942 года) немцы перебросили на запад «единственную первоклассную часть вермахта» – моторизованный полк «Герман Геринг». В июле к нему добавилась моторизованная дивизия СС и одна мотобригада. Короче, все боеготовое и боеспособное нацистское войско во Франции и Голландии состояло из двух дивизий, одной бригады и одного танкового полка. Никакого отвлечения авиации с Восточного фронта для обороны Атлантического побережья тоже не произошло. Все это было известно Черчиллю из первоисточника, так как англичане читали почти без изъятий кодированные сообщения и приказы германского Верховного командования.
Как в Берлине смотрели на значение второго фронта? В директиве Гитлера от 23 марта 1942 года отмечалось, что даже десант с ограниченными целями на западном побережье существенно повлиял бы на выполнение немецких планов, поскольку сковал бы значительные силы сухопутных войск и авиации и, таким образом, не позволил использовать их в решающем месте. В докладе немецкой военной разведки от 5 мая 1942 года указывалось, что западные державы располагают достаточными силами для высадки в Норвегии, Франции или в другом районе. Вместе с тем выражалось сомнение в том, что, с учетом переброски войск США и Англии на [Ближний и Средний] восток, они соберут достаточный тоннаж[649]. С затягиванием открытия второго фронта правители Германии, по К. Типпельскирху, связывали расчет «на решительную победу над Советским Союзом до того, как Соединенные Штаты смогут принять участие в военных действиях в Европе»[650].
Обстановка приглашала правительственный Вашингтон не к показной, а подлинной активности, к превращению деклараций в конкретные действия. По ряду видимых и невидимых, внешних и внутренних причин Соединенные Штаты со скрипом свыкались с обязанностями воюющей страны. К 1943 году они больше преуспели по части амбиций. Заявку на «ведущую роль в любой коалиции» американцы предъявляли еще на августовской (1941) конференции Рузвельта с Черчиллем, в момент, когда Вашингтон числился нейтралом. «Ведущая роль» не приравнивалась к непосредственному и весомому участию в разгроме агрессоров. Считалось, что даже при символическом вкладе США могут претендовать на решающий голос в сборе урожая победы и организации послевоенного мира.
Случайно или не случайно вступление США в войну против Германии и Италии не повлекло за собой чистку госаппарата и вооруженных сил от профашистски настроенных и скомпрометированных тесными связями с нацистами и их сообщниками деятелей. Рузвельт не только терпел в администрации людей, известных ФБР и другим компетентным учреждениям своими контактами с врагом, но не препятствовал выдвижению их на новые посты, важные для перевода страны на военные рельсы.
Разоблачительные публикации Дж. Мартина[651], Ч. Хайэма и других авторов дают самое общее представление о сокрытой во мраке деятельности теневых правителей США – монополий. Непоследовательность Рузвельта, половинчатость его решений, перекладывание деликатных дел на плечи своих министров, советников, начальников штабов в какой-то степени предопределялись стремлением не допустить перегрева котла внутреннего, шли от поиска консенсуса с основными группировками, олицетворявшими финансовую и промышленную власть в стране.
Президент и в мыслях не держал в чем-то ущемлять большой бизнес. Его трения с монополиями были производными от того, что Рузвельт связывал относительную стабильность существующей в США системы и ее внешнюю безопасность с лечением наиболее вопиющих социальных язв американского общества.
Нацизм вызывал у президента-либерала неприязнь своим репрессивным характером, неразборчивостью методов для достижения поставленных целей. По одной этой причине, однако, он не встал бы на путь вооруженной борьбы с Германией. Более существенной представлялась Рузвельту перспектива установления Третьим рейхом господства над всем Восточным полушарием и, как результат, выпадения важнейших рынков, а также закрытие США доступа к источникам сырья. Больше того, с учетом военного потенциала «Великой Германии» Соединенные Штаты попали бы в ущербное состояние.
Понимая, что нацистскому рейху и США не ужиться даже на разных берегах океана, Рузвельт нацеливался на создание десятимиллионной американской армии, опирающейся на мощную военную промышленность, для решающей схватки с немцами на случай поражения Англии и СССР. Могли ли США в одиночку справиться с Германией после 1943 года? Есть вопрос. Эксперты высчитали, что успех в «русском походе» принес бы нацистам ресурсы для формирования примерно 400 дивизий к тому моменту, когда Соединенные Штаты развернули бы свои 200[652].
Президент наставлял штабы вести планирование с верой в счастливую звезду и с надеждой на сохранение Англии и Британской империи как активных противников Германии. После нацистского нападения на СССР им была добавлена еще одна посылка: Красная армия на какой-то срок свяжет вермахт, чтобы США могли осуществлять военные приготовления более организованно и целеустремленно.
Расчеты окончательных потребностей армии для «Программы победы» сообразно ожидавшимся «стратегическим операциям» и «главным военным единицам», которые для них понадобятся, стали производиться военным министерством с сентября 1941 года. В 1942 году планирующие органы комитета начальников штабов ориентировались на наращивание численности армии до 10 572 000 человек, а количества дивизий – до 334. Всего же для покрытия также потребностей флота, корпуса морской пехоты и береговой обороны предполагалось мобилизовать 13 миллионов человек. Презумпцией было: СССР не выдержит напряжения борьбы с Германией (и не исключалось – с Японией), и, следовательно, западным державам не избежать крупных наземных операций.
При ближайшем ознакомлении с материей обнаруживается, что в сентябре 1942 года Рузвельт ввел новый, пониженный лимит численности армии и авиации – 8 208 000 человек. Военно-промышленные программы были скорректированы в сторону замедления темпов и сокращения абсолютных объемов производства, особенно вооружений для сухопутных сил. С некоторым запозданием – в январе 1943 года – оперативное управление военного министерства пересмотрело армейскую структуру и порядок использования людских ресурсов. Сухопутные войска сводились в 100 дивизий. Две трети из них предназначались для Европейского театра военных действий, остальные – для Тихоокеанского или выделялись в резерв. Совершенно очевидно, что 66 дивизий США не смогли бы выполнить боевых задач по разгрому противника, если бы немцы высвободили с Восточного фронта пусть четверть своих сил или хотя бы те самые 40 дивизий, о которых шла речь в переговорах В. Молотова с Рузвельтом летом 1942 года.
1 июля 1943 года план развертывания вооруженных сил США подвергся еще одному усечению. Отныне военное строительство должно было вестись из расчета 83 армейских дивизий и общей численности 7,7 миллиона человек. Сокращалось количество бронетанковых и моторизованных соединений. Считалось, что новая структура сохранится до конца войны. Увеличение вооруженных сил США после 1942 года шло в основном за счет развития авиации, раздувания аппарата управления и вспомогательных служб. Задания по формированию боевых сухопутных соединений были в основном выполнены в августе 1943 года[653].
Приведенные даты и числа, если их систематизировать и соотнести с конкретными событиями той поры, весьма красноречивы. Первое серьезное сужение базиса военных усилий США имело место в разгар немецкого наступления на Сталинград, в момент кульминации военного могущества Германии, когда не только американские штабы, но и советские руководители рассматривали ситуацию как непредсказуемо критическую.
Что же толкнуло президента осенью 1942 года на свертывание «Программы победы», помимо неблагоприятных показателей опросов общественного мнения накануне промежуточных выборов в конгресс, неразберихи и несогласованности в деятельности различных вашингтонских инстанций, ведавших выдачей заказов, распределением военных материалов, обучением военного персонала? Чем обосновывался относительный спад военно-экономической активности в США, когда жизнь как будто требовала обратного? Случайно ли, что примерно в то же самое время в американских и английских кругах отмечался очередной всплеск сомнений насчет целесообразности поставлять СССР оружие и материалы? Ответов на этот круг вопросов – прямых и исчерпывающих – нет. Косвенные свидетельства наводят на противоречивые мысли.
Пока ограничимся констатацией: год спустя после Московской битвы Советский Союз приготовил неожиданность под Сталинградом. И рейху, и западным державам. Последние в конце октября вздохнули с облегчением: передышка продолжается, «русские продержатся эту зиму», и «Торч» не будет слишком рискованным мероприятием. А с декабря 1942 – января 1943 года у Вашингтона и Лондона появилась новая забота: как бы Сталинград не зажег неконтролируемую цепную реакцию.
После уныния, охватившего антигитлеровскую оппозицию во второй половине 1941 года – начале 1942 года, она опять обивала пороги Лондона и Вашингтона. Священники Шенфельд и Бонхеффер (последний по поручению Канариса) включили свои связи с британским клиром. Соответственно епископ Чичерский (Дж. Белл) вышел на А. Идена с идеями прекращения войны против Германии после отстранения от власти Гитлера. Министр в письме Беллу от 17 июля 1942 года указал на «деликатные (а не принципиальные) обстоятельства», мешающие позитивно откликнуться на зондажи. 8 августа 1942 года Иден добавил, что оппозиция пока представила «мало доказательств своего существования», и потому ей нельзя обещать большего, чем предоставление Германии после войны «места в будущей Европе»; чем дольше, однако, немецкий народ будет терпеть нацистский режим, тем больше ответственности ляжет на него за преступления, которые режим совершает от его имени. Белл передал немецкие соображения также Дж. Вайнанту. Посол США обещал информировать о них госдепартамент[654].
Тогда же опять дал о себе знать фон Тротт, который от имени «кружка Крайзау» (Мольтке, Йорк фон Вартенбург, Шуленбург и другие) переправил в Лондон С. Криппсу меморандум с призывом действовать ради спасения «буржуазной цивилизации». Стержневая мысль – прекращение войны на Западе на почетных условиях при продолжении ее на Востоке, чтобы «защититься» против СССР и «анархистских процессов». Криппс ознакомил с этим меморандумом Черчилля, который нашел его, как свидетельствует пометка на полях, «ободряющим». В беседе с Беллом Криппс рекомендовал вдохновить автора на дальнейшие действия, но «на базе Германии, потерпевшей поражение»[655]. Осторожность англичан в контактах с оппозиционерами Г. Риттер объясняет опасениями, что сведения о них попадут к Советскому Союзу и в сочетании с затягиванием открытия второго фронта будут истолкованы как измена[656].
В ноябре 1942 года состоялась встреча Герделера с генералами Ольбрихтом и Тресковом для обсуждения положения на Восточном фронте. Некоторое время оппозиционеры ставили на то, что вопреки приказу Гитлера Паулюс станет пробиваться из окружения и тем приведет в движение весь фронт. 24 ноября Бека посетил офицер из штаба 6-й армии. Он взывал к государственному перевороту, чтобы спасти окруженных. Бек, в свою очередь, обратился к Манштайну, но последний занял уклончивую или, скорее, отрицательную позицию.
В конце 1942 года – новые совещания военных. Ольбрихт заверил, что в течение восьми недель он может подготовить резервную армию к захвату Берлина, Кёльна, Мюнхена и Вены. При ведущей роли Трескова был разработан план «нейтрализации» Гитлера в момент посещения им штаб-квартиры в районе Смоленска. План отпал из-за малодушия фельдмаршала Клюге, на которого возлагалось руководство акцией. Тогда Тресков с помощью Шлабрендорфа заложил бомбу в самолет Гитлера (13 марта 1943 года). Не сработал взрыватель. Сорвалось покушение на нацистского главаря и 21 марта.
В оппозиционной среде в это время возникли новые разногласия насчет общей линии. «Сталинград, – писал социал-демократ Хенк, участник встречи в Обердорфе на Рождество 1942 года, рекомендовавшей отложить покушение на главу рейха, – явился с военной точки зрения первым смертельным ударом для армии Гитлера. Русские были на подъеме… Союзники еще не пришли к каким-либо окончательным соглашениям относительно будущего Европы. До тех пор пока англосаксы не стали континентальной силой, не следовало принимать никаких решений насчет Европы. В военной обстановке конца 1942 года свержение Гитлера было бы равнозначно продвижению Востока, Европа оказалась бы не подготовленной к внезапному миру, – на эту часть земного шара обрушились бы чудовищные неразрешенные проблемы. Это означало: о покушении на Гитлера можно говорить только после удавшегося вторжения американцев и англичан»[657].
Получается, что и в начале 1943 года в восприятии оппозиционеров отсутствовали условия для прекращения кровопролития. Хенк, Мирендорф, Хаубах выражались прямо. Другие выбирали округлые формулировки, но в общем имели в виду примерно то же самое. После Сталинграда концепции антинацистской оппозиции в Германии и англо-американские планы второго фронта своеобразно сплетались в тугой узел.
Западные державы поддерживали контакты с Канарисом, Остером и другими военными. По-прежнему исправно функционировала связь через Ватикан, Швецию, Швейцарию, Турцию, Испанию, Португалию, Латинскую Америку. Курьеры регулярно сновали между рядом крупнейших корпораций и банков США, а также Англии и ведущими банками и концернами Германии. Замелькавший с конца 1942 года в посланиях премьера и президента тезис о назревании внутри Германии кризиса определенно навевался обещаниями верхушечной оппозиции.
В ноябре 1942 года для координации действий спецслужб США в Европе в Берн прибыл А. Даллес. Ему вменялась задача, «используя связи с Канарисом и „черной капеллой“, информировать (Вашингтон) о развитии дел в основных центрах германской власти и в столицах немецких союзников»[658]. Даллес был наделен широкими полномочиями и почти неограниченными финансовыми ресурсами, не обязательно правительственного происхождения, и без раскачки включился в подготовку сепаратного мира с Германией. Этот вопрос стоял в центре его контактов, в частности с князем Гогенлоэ (конец 1942 года), поддерживавшихся без формальной санкции Белого дома.
Заметим, что советское руководство с нараставшим раздражением и недоверием регистрировало махинации и козни вашингтонской элиты и особенно официального Лондона. В телеграмме Сталина Майскому от 19 октября 1942 года мы читаем: «У нас всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны. Без такого предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по вопросу о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются, несмотря на рост производства в Англии, по вопросу о Гессе, которого Черчилль, по-видимому, держит про запас, наконец, по вопросу о систематической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, которую провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выполнил ни на йоту, несмотря на то что он, безусловно, мог это выполнить»[659].
Не может быть двух мнений, от США зависело пресечь происки Лондона, заставить премьера уважать союзническую мораль. До этого, однако, главе администрации надо было разобраться в себе и определиться самому. Всерьез и надолго.
Глава 8 Год 1943-й. Каждый выбирает свой курс
Переход Красной армии в наступление под Сталинградом (19 ноября) и высадка американо-английских войск в Северной Африке (8 ноября) начались, по сути, параллельно. Планировались они и осуществлялись без всякой оперативной увязки. И все же взаимосвязь существовала – связь политическая.
Состоялся ли бы «Торч», разворачивайся события на Волге по гитлеровскому сценарию? Американские военные не исключали варианта высадки в Северной Африке как реакции на выпадение СССР из войны и первого акта перегруппировки сил в расчете на долгую конфронтацию демократий с державами оси и Японией. Представления политиков, однако, не обязательно стыковались с образом мыслей генералов. Госсекретарь К. Хэлл оставил в мемуарах в назидание потомкам следующую запись: «Мы всегда должны помнить, что своей героической борьбой против Германии русские, очевидно, спасли союзников от сепаратного мира. Такой мир унизил бы союзников и открыл двери для следующей Тридцатилетней войны»[660]. К. Хэлл не упоминает Сталинград, но имеет в виду прежде всего его.
Как нежданная витальность Советского Союза отразилась на представлениях западных держав о смысле и целях войны? Что должно следовать за «Торчем»? Какой еще сюрприз преподнесет СССР, который в одиночку вырвал у врага стратегическую инициативу и тем решил коренную проблему второго этапа противоборства с гитлеровской Германией? Советский союзник навязывал отныне свою логику по всему каталогу вопросов, что приводили в недоумение верхние эшелоны власти в Вашингтоне и Лондоне.
«Завершение грандиозной русской победы в Сталинграде, – напишет Р. Шервуд, – изменило всю картину войны и перспективы ближайшего будущего. В результате одной битвы, которая по времени и невероятному количеству потерь была фактически равна отдельной крупной войне, Россия стала в ряды великих мировых держав, на что она давно имела право по характеру и численности своего населения. Рузвельт понял, что должен взглянуть теперь в более далекое будущее, чем военная кампания 1943 года, и заняться рассмотрением вопросов послевоенного мира»[661].
М. Мэтлофф и Э. Снелл выразились более сдержанно и утилитарно: «С переходом стратегической инициативы на Европейском театре в руки союзников и увеличением ресурсов, находившихся в их распоряжении, начался новый этап стратегического планирования»[662]. Можно было думать о нескольких последовательных или параллельных операциях. Выбор, который делался, и сопровождавшие его дискуссии позволяют судить о политическом и концептуальном настрое президента США и премьера Англии, а также их окружения.
В послании Рузвельту от 18 ноября 1942 года Черчилль называл в качестве «важнейшей задачи»: (а) захват Северной Африки и открытие Средиземного моря для морских военных перевозок и (б) использование баз на африканском побережье «для нанесения удара в самое чувствительное место держав оси… в ближайшее время». Таковым местом премьеру представлялись Сардиния и Сицилия, а также Балканы, для чего нужно было склонить Турцию к вступлению в войну против держав оси. Премьер с готовностью откликался на мысль президента – поручить начальникам штабов «сделать обзор наших возможностей, включая продвижение наших войск на Сардинию, Сицилию, Италию, Грецию и другие балканские районы, а также включая возможность поддержки со стороны Турции в наступлении на фланг Германии через Черное море»[663].
В мемуарах Черчилль опускает свои итало-балканские варианты от 18 ноября. «В опровержение многочисленных домыслов в Америке» (об использовании операции «Торч» для срыва второго фронта) и «многих послевоенных утверждений Советов» он ссылается лишь на свои критические замечания от 9 и 18 ноября по докладам британских начальников штабов. Военным было поставлено на вид пренебрежение интересами «Раундапа». Премьер рассуждал о важности «сковывания крупных сил противника в Северной Франции, Бельгии и Голландии путем постоянной подготовки к вторжению и решительного наступления на Италию или, еще лучше, Южную Францию, наряду с другими операциями, не требующими большого количества судов». Надо что-то делать, читаем мы в «замечаниях», ибо «трудно предположить, что русские не среагируют на наше бездействие, подобное нынешнему, в течение всего 1943 года, тогда как Гитлер нанесет им третий удар».
Далее Черчилль обращал внимание на то, что обещанного Москве «великого наступления на континент» не получается. Возникал ужасный разрыв между тем, что начальники штабов в середине 1942 года находили «разумным для кампании 1943 года, и тем, что, по их словам, мы теперь можем предпринять в этой кампании». Если предварительные расчеты подтвердятся, они «выставят в смешном свете наши замыслы на это лето, равно как и замыслы американцев». Часть ответственности за сложившийся «комбинированный тупик» премьер возлагал на Маршалла[664].
Поручение президента и премьера штабам представить свои предложения оживило старые споры. На заседании в Белом доме 10 декабря 1942 года Маршалл выступил против новых операций в зоне Средиземного моря как из-за трудностей их материально-технического обеспечения, так и в силу общей нерациональности «барахтанья» на этом театре. Он предлагал быстро завершить североафриканскую кампанию и заняться накапливанием сил в Англии со среднемесячным темпом переброски на Британские острова по 8500 американских военнослужащих. Начальник штаба не исключал экстренной высадки на полуострове Котантен или в районе Булони в марте-апреле 1943 года, если появятся признаки ослабления Германии или если немецкие войска вступят на территорию Испании. Штаб армии отверг экстремистские установки Арнольда, обещавшего победу силами одной авиации.
Рузвельт счел за лучшее не принимать, по крайней мере до марта 1943 года, стратегических решений, наращивая между тем группировки и в Англии, и в Северной Африке. Планы новых операций в Средиземноморье были подвешены.
Военачальники не заблуждались насчет того, куда клонил президент, и начали действовать по схеме – дальнейшее «отвлечение сил и средств» в зону Средиземного моря оправдывает отвлечение сил и средств в зону Тихого океана. Всякий раз, когда англичане предлагали увеличить американские силы в Средиземноморье, комитет начальников штабов рекомендовал расширить масштабы операций на Тихом океане.
26 декабря 1942 года комитет начальников штабов США направил английским коллегам изложение своих взглядов на будущее. Американцы предложили руководствоваться следующей установкой: «Большей частью сил перейти в ближайшее время в наступление на Западноевропейском театре и в Атлантике», а на других театрах вести «оборонительные действия» остающимися силами. Объектом основного удара должна была быть Германия, а не ее сателлиты.
Казуистский ответ Лондона поступил 2 января 1943 года. Соглашаясь с «большей частью» американских соображений, британские начальники штабов называли центральной задачей года выведение из войны Италии. Для высадки в Северной Франции можно было бы, по прикидкам англичан, изготовить к августу не более 13 британских и 12 американских дивизий, а самое операцию осуществить «при наличии благоприятных предпосылок». Маршалл расценил ответ как свидетельство упорного нежелания Великобритании открывать фронт на территории Франции.
Американские военачальники настаивали на принятии политического решения, а президент снова и снова занимал их изучением компромиссных вариантов. В одном принципиальном вопросе, однако, Рузвельт выказал твердость. Мэтлофф и Снелл подают это как «наиболее яркий пример отсутствия взаимопонимания между президентом и начальниками штабов»[665]. Свой тезис авторы ничем не подкрепляют и вряд ли смогли бы обосновать. Речь идет о намерении главы администрации, сообщенном 7 января начальникам штабов, выдвинуть требования безоговорочной капитуляции агрессоров.
И в ходе войны, и после ее окончания разгорелись бурные дебаты вокруг правомерности, политической и психологической обоснованности требования безоговорочной капитуляции, его генезиса и мотивов. Правая, консервативная Америка совместно с западноевропейской реакцией обвиняла президента во всех смертных грехах, нападала с таким остервенением, что Рузвельт стал оправдываться.
Факты показывают, однако, что это требование не было ни экспромтом, ни обмолвкой, ни эмоциональным откликом на «дрязги» во французском стане, ни окриком в ответ на нескончаемые увертки британских «друзей».
Напомним, еще в 1940 году президент публично выразил опасение, что «мир на основе переговоров будет продиктован теми же трусливыми соображениями», которые обусловили Мюнхен. В канун 1941 года глава администрации предостерегал против мира с нацистами, который может быть куплен «только ценой своей полной капитуляции», ибо подобный «мир вовсе не будет миром». Он признал тогда ошибочность вильсоновской концепции «мира без победы». В «день труда», 1 сентября 1941 года, президент призывал не предаваться иллюзии и не думать, что Гитлер блокирован и остановлен, а «еще энергичнее стремиться к его разгрому, навсегда покончить со всеми разговорами или мыслями о мире, основанном на компромиссе с самим злом».
6 января 1942 года в послании конгрессу Рузвельт подчеркивал, что «мир слишком мал, чтобы предоставить достаточное жизненное пространство Гитлеру и Богу», и потребовал «тотальной победы»[666]. Формула безоговорочной капитуляции была апробирована в госдепартаменте в мае 1942 года. В директиве, которую Рузвельт дал Гопкинсу, Маршаллу и Кингу 16 июня 1942 года перед их отлетом в Лондон, в подпункте «а» пункта 3 было записано: «Общей целью Объединенных Наций должен быть разгром держав оси. Никаких компромиссов по этому вопросу быть не может»[667].
Реестр доказательств того, что мысль о необходимости военного разгрома германского империализма, причем полного и завершенного, отдающего Германию на милость победителей, прочно укоренилась в сознании Рузвельта еще до вступления Соединенных Штатов в войну, весьма обширен. Нельзя, правда, сказать, что у американского лидера не было колебаний и тут. Были. Охотников сбить президента с пути бескомпромиссной борьбы с Германией имелось предостаточно в политических, деловых, военных, клерикальных кругах – собственных и заграничных.
Р. Шервуд поддержал легенду, будто прообразом, ходячим воплощением идеи безоговорочной капитуляции являлся генерал Грант, нанесший решающее поражение генералу конфедератов Ли[668]. Позвольте в этом усомниться. У Рузвельта были более близкие примеры.
В процессе выработки условий перемирия с Германией в октябре 1918 года маршал Фош выдвинул требования, которые Бальфур, министр иностранных дел в кабинете Ллойд Джорджа, охарактеризовал как равноценные безоговорочной капитуляции. Американский командующий на Европейском театре генерал Першинг солидаризовался с Фошем. Он стоял за продолжение войны до полной победы на поле боя, с тем чтобы союзники принудили Германию к безоговорочной капитуляции, а на случай перемирия выдвигал условия, дающие тот же результат[669]. В качестве сотрудника администрации Вильсона, предлагавшего свои проекты обеспечения глобальных позиций США, Рузвельт, надо полагать, был в курсе этих дискуссий.
Сложнее ответить на вопрос, почему требование безоговорочной капитуляции было официально выдвинуто именно в январе 1943 года, кому, помимо Германии, Японии и Италии и их сателлитов, оно еще адресовалось. Ясно, что побочные адреса имелись. Англия занимала среди них не последнее место. Обструкция второго фронта, нескончаемые попытки Лондона подчинить течение мировой войны потребностям своей имперской политики, кое-какая секретная информация давали главе администрации в избытке пищу для раздумий самых разных.
Внутри США не стихала борьба между сторонниками и противниками сотрудничества с Советским Союзом. «Изоляционисты», которым сотрудничество с СССР было что красная тряпка быку, едва не лишили Рузвельта парламентского большинства на выборах 1942 года. Президент, возможно, потому так и добивался введения американских сухопутных сил в дело на Атлантическом театре обязательно в 1942 году, ставя временной момент выше стратегического резона, что хотел отрезать пути для отступления.
Симптоматичен обмен мнениями, состоявшийся между послом США в Мадриде К. Хейсом и немецкими эмиссарами в Испании. По словам посла, имелось лишь две возможности: либо открытие второго фронта, либо мирные переговоры, причем сам Хейс симпатизировал второму варианту. Нечто созвучное исходило от представителя Англии в Берне К. Нортона. Посланник Германии в швейцарской столице О. Кёхер 27 июля 1942 года доложил в центр оценку своего британского коллеги в следующих словах: американцы проявляют готовность к сопротивлению, пока СССР «держится в безнадежной для него борьбе», «но когда однажды Россия рухнет, тогда вы увидите, что на другой стороне Атлантики сразу же заговорят о мире»[670].
Не последнюю роль в выборе Рузвельта сыграло то обстоятельство, что Вашингтон не видел убедительной демократической, в американской интерпретации, альтернативы нацизму и великодержавному шовинизму в самой Германии. Без лишних слов понятно, что позиция так называемой «просоветской» фракции в антинацистском лагере меньше всего слыла за выход из положения. Лучше, находили некоторые советники президента, – «нацистские генералы» без Гитлера. Характерно, что даже в послевоенных аналитических документах разведки США продолжала присутствовать мысль – только тотальное крушение могло заставить немцев «обновить свое политическое мышление», тогда как успех «20 июля 1944 года (день покушения на Гитлера. – В. Ф.) вызвал бы в оптимальном варианте незначительные поправки немецкого образа политического мышления, придал бы ему цивилизованный и более приемлемый вид»[671].
Не обнадеживало, когда «соображения» Герделера, Шахта, Канариса и Вайцзеккера почти повторяли зондажи эмиссаров Гиммлера и если разнились, то не обязательно в лучшую сторону. Не могло не сбивать с толку то обстоятельство, что содержательная часть платформы оппозиции вращалась в кругу понятий, перекликавшихся с территориальными программами Гитлера. Деятели, претендовавшие на право выступить от имени «настоящей» Германии, предлагали США мир на условиях признания «исправления несправедливостей» Версаля и сохранения за германским империализмом функции главного противовеса «большевизму»[672].
Чтобы утвердиться в военных концепциях, сконцентрировать силы США на главном, президент должен был сначала сам нащупать четкую политическую платформу и закрепиться на ней, сформулировать для себя идейное и политическое кредо, которому предназначалось стать стержнем практических акций. Тот факт, что Рузвельт созрел для самоопределения именно в конце 1942 – начале 1943 года, нельзя отстыковать от перемен на Восточном фронте и размежевать с неясными для президента намерениями Сталина. Не решил ли советский диктатор в одиночку конзумировать плоды своих успехов, не поэтому ли он не принял протянутую Вашингтоном руку?
С учетом позиции Черчилля президент не заблуждался: шансов на открытие второго фронта в 1943 году никаких. Американский руководитель мог представить себе реакцию Москвы на очередное вероломство демократий, особенно если Гитлер соберет силы для еще одного крупного наступления на Восточном фронте. А если государство не исключает для себя сделок с противником «в зависимости от обстоятельств», оно, как правило, переносит свою мораль на партнеров.
Лондон и Вашингтон не однажды прикидывали в 1941 году, затем летом-осенью 1942 года, не станет ли советское руководство в отсутствие взаимодействия с западными державами искать модус вивенди с Германией? С июня по октябрь 1941 года о спасении через видимость замирения с агрессором советский диктатор должен был думать. По некоторым данным, в первые недели нацистского нашествия Сталин взвешивал возможность расширенного издания Брестского договора 1918 года. Он как будто поручил Берии вступить в контакт на сей предмет с послом Шуленбургом (посол и персонал посольства Германии к этому времени еще не покинули территории СССР) и продублировать зондаж по специальным каналам. Кое-какие следы этого есть, доказательств пока не обнаружено. Поражение вермахта зимой 1941/42 года поменяло Сталина и Гитлера местами. Теперь Берлину надлежало искать способ оформления нового баланса.
А что делать после Сталинграда? На Темзе и Потомаке были не на шутку обеспокоены, как бы немцы не ударились в панику, не выразили готовность сникнуть перед Советским Союзом. Хуже всего, с точки зрения Запада, если бы вермахт сдался на милость Красной армии.
Январским (1943 года) заявлением Рузвельт давал понять и СССР, что не согласится априори на условия восстановления мира, предварительно не проговоренные с Вашингтоном и не одобренные им, что прекращение состояния войны между Германией и любым государством – участником антигитлеровской коалиции без санкции США не будет иметь для них юридической силы.
Позднее президент даже раздвинет свою претензию на особый статус. Сплошь и рядом прибегая к двухсторонним сделкам с Англией, Канадой, Австралией, Китаем, Бельгией, – об их содержании советскую сторону чаще всего не ставили в известность, – глава администрации предупреждал Лондон и других, что не признает результатов их переговоров, особенно с СССР, выходящих за пределы сугубо двухсторонних отношений[673].
Текст, зачитанный Ф. Рузвельтом на пресс-конференции в Касабланке 24 января 1943 года, гласил:
«Президент и премьер-министр после исчерпывающего обсуждения военного положения в мире более, чем когда-либо, убеждены, что мир во всем мире может наступить только в результате полного уничтожения германской и японской военной мощи. Таким образом, цель этой войны можно выразить простой формулой: безоговорочная капитуляция Германии, Японии и Италии. Их безоговорочная капитуляция будет означать надлежащую гарантию мира во всем мире для многих поколений. Безоговорочная капитуляция означает не уничтожение немецкого, японского или итальянского населения, а уничтожение философской концепции в Германии, Японии и Италии, основанной на завоевании и подчинении других народов».
При выработке этой формулы Черчилль попытался было опустить упоминание Италии. Британский военный кабинет, на изучение которого он передал проект заявления, рекомендовал не настаивать на поправке с учетом возможного негативного ее влияния на Балканские страны, Турцию и самих итальянцев[674].
Заявление о безоговорочной капитуляции было важнейшим актом Рузвельта. По реальному значению его можно поставить в один ряд с ленд-лизом. Устанавливались, наконец, рамки, в которых следовало вести планирование, обеспечение и осуществление американских военных операций. Появилась платформа, которой прежде недоставало для сближения взглядов и соединения действий основных участников антигитлеровской коалиции. Пока больше в теории. Минет около года, прежде чем западные державы созреют хотя бы для частичной координации своих шагов с усилиями Советского Союза.
М. Мэтлофф говорит о заявлении как самом существенном результате конференции в Касабланке, «оказавшем так или иначе глубокое воздействие на последующий ход войны». Еще в 1942 году, утверждает он, Рузвельт исходил из «традиционных оборонительных целей США, требовавших прежде всего обеспечения безопасности Атлантического и Тихого океанов», что отразилось в предписаниях «закрепиться на рубеже Австралия – Гавайи, удерживать Китай в войне, обеспечивать морские перевозки в Англию и вторжение в Северную Африку». «Других отчетливо намеченных задач, – по оценке исследователя, – Соединенные Штаты (тогда) не имели. Можно полагать, что по выполнении этих задач президент хотел сразу же созвать мирную конференцию, на которой он, ничем не связанный, стал бы добиваться более широких целей США, избегая ошибок президента Вильсона». «В дебатах с союзниками главным козырем американского военного руководства была бы свежая, гибкая военная мощь Соединенных Штатов, их накопленные, но неиспользованные боевые силы»[675].
Сам Рузвельт выделял значение того факта, что в Касабланке обсуждались «впервые в истории глобальные события в целом». Политики пересилили себя в суждениях, «союзники», как признает М. Мэтлофф, «получили возможность менять стратегию и выбирать по своему усмотрению время и место для нанесения ударов по противнику»[676]. Но поиск военных решений в русле прежних представлений и опробованных полумер не стопорился.
Объединенный комитет начальников штабов заседал в Касабланке 15 раз. Трижды начальники штабов встречались с президентом и премьером. Договорились о следующем:
1) борьба с подлодками противника в Атлантике приобретает первостепенное значение;
2) накапливаются американские силы в Англии;
3) усиливаются бомбардировки Германии;
4) продолжаются попытки убедить Турцию вступить в войну на стороне союзников;
5) учреждается объединенный штаб по планированию операции через Ла-Манш;
6) по завершении операций в Тунисе производится высадка с Сицилии, чтобы несколько ослабить немецкий нажим на СССР.
Нет нужды чернить позицию США, преуменьшать сложности, с которыми сталкивались американцы, приноравливаясь субъективно и объективно к суровой изнанке войны. Вести борьбу так, как выпало сражаться Советскому Союзу, они не умели, не хотели и не могли. Слишком многое было им чуждо в психологии европейцев, и русской в особенности. Но что нельзя принять безмолвно, так это неистребимую склонность перекладывать трудности на других, легкость в обращении с данным словом, нарушение принимавшихся обязательств подчас по инерции и к своей же невыгоде.
Пример с морскими перевозками весьма нагляден. С середины 1943 года США и Англия взяли ситуацию на морях под контроль. Эффективность противолодочной обороны возросла. Адмирал Леги писал Д. Нельсону: «Не видно, чтобы морские перевозки могли как-то лимитировать наши возможности в 1943 году». А что происходило? Англичане отказывались предоставлять свои суда для перевозок по плану «Болеро». До минимума с начала 1943 года была урезана доставка военных грузов в СССР (за январь-август – 240 тысяч тонн, что не шло ни в какое сравнение с объемами перевозок из США в Англию – 11,7 миллиона тонн в течение 1943 года).
В первой половине 1943 года американцы отправили на четыре основных театра войны 496 844 человека против 527 200 запланированных в Касабланке. Распределение по театрам военных действий выглядело так: для операции «Хаски» (высадка в Сицилии) и военных действий в Северной Африке перевезено 292 385 человек против 184 000 по плану; в южную часть юго-западного района Тихого океана – 121 580 человек против 79 200 по плану; в рамках «Болеро» – 65 830 против плановых 250 000. В мае общее количество американских сухопутных войск, размещенных на Британских островах и в Северной Ирландии, держалось на уровне 59 000 человек, или одной трети от численности в ноябре 1942 года, перед началом операции «Торч». Застой в развертывании авиационных сил США в Англии (58 000 человек в ноябре 1942 года и 66 000 в мае 1943 года). В совокупности это заранее делало невозможным форсирование Ла-Манша в 1943 году. В свете приведенных данных выглядит притянутым за волосы замечание М. Мэтлоффа – не самого конъюнктурного из американских историков: «Большую стратегию лимитировали не войска, а перевозки»[677].
Ограничители восседали в лондонских и вашингтонских кабинетах. Линия на истощение как Германии, так и СССР не прерывалась. В правительстве Черчилля за тесную координацию действий с СССР и открытие второго фронта выступали только Иден, Бивербрук и Крэнкборн (министр по делам колоний и лидер палаты лордов). Вниманию тех, кому российский взгляд на ситуацию военных лет кажется тенденциозным, можно предложить данные министра иностранных дел Турции, сообщенные им по секрету послу Японии в Анкаре в феврале 1943 года. На конференции в Адене, отмечал турок, Черчилль делал акцент на «неизбежность краха Германии и необходимость принятия мер к тому, чтобы воспрепятствовать большевизации Европы». Как воспрепятствовать? Необходимо, вещал Черчилль, создать центральноевропейский блок (Польша, Чехословакия, Венгрия) – в качестве кордона против расширения влияния Советов, вооружить Турцию, отводя ей роль британского аванпоста. А пока, между делом, доносил в Токио японец, продолжать натравливать другие страны на борьбу между собой до полного истощения «друг друга»[678].
Безоговорочная капитуляция как цель – «да», и кто-то должен был преподнести эту капитуляцию Вашингтону в дар. Положение не меняется оттого, что в стратегии превращения «окружения» Германии в новый вид окружения Советского Союза американцы тогда были подпевалами. Не меняется хотя бы потому, что и политические, и военные деятели США знали, какие игры велись вокруг второго фронта и почему.
Маршалл и его коллеги десятки раз докладывали президенту сомнения в отношении «Торча», «Хаски» и прочих «шедевров» британской военной мысли. Аргументы комитета начальников штабов США в пользу ударов непосредственно по Германии и против «булавочных уколов на периферии» перекликались с доводами, что вносила в диалог советская сторона. «В начале 1943 года, – пишет М. Мэтлофф, – когда стратегия союзников (имеются в виду Соединенные Штаты и Англия) в войне с Германией еще не была четко определена, американское военное руководство начало опасаться, что война затянется и что вследствие этого в Европе создастся безвыходное положение». Война на истощение и периферийные действия влекли «серьезное увеличение армии, которую должны были выставить Соединенные Штаты»[679]. Американцы заподозрили Лондон в стремлении истощить также США или брать от союзника непомерно много, заставляя обслуживать британскую политику.
До наступления на Германию Вашингтону предстояло развернуть наступление на Англию, твердо показать Черчиллю, что ему позволено, а что заказано. Могли ли США понудить Лондон заняться делом? В 1943 году – безусловно, но не торопились. Трясина засасывала. Постепенно и американские военные настроились на выжидание. Как заявлял генерал Эмбик, если он, этот год, и не приведет советско-германский конфликт к окончательному исходу, то во всяком случае покажет, в каком направлении конфликт будет развиваться. Вопреки здравому смыслу и собственному признанию, что неверно и вредно полагаться лишь на использование «благоприятных случаев», Соединенные Штаты легли в дрейф. Сугубо потребительский взгляд на советского союзника был общим недругом демократий.
Со второй половины 1942-го и Англия и США зафиксировались на установке, увязли, свыклись с дурно попахивавшим настроем, как угодно, – никакого второго фронта ради отвлечения немецких сил с Восточного фронта в помощь Советскому Союзу не будет. Вторжение во Францию впало в зависимость от «ослабления» Германии, его логика выводилась из снижения боеспособности вермахта до такой степени, чтобы англо-американскому экспедиционному корпусу оставалось войти на континент для марш-парада. Вся основная работа по доведению гитлеровской военной машины до нужных западным державам кондиций возлагалась на СССР.
Фейерверка из «Торча» не получилось. «Факел» не горел, а тлел. Он не стимулировал готовности США к крупным операциям в Западной Европе. Около 40 000 немецких солдат, с которыми американские и британские войска столкнулись при десантировании в Северной Африке, мигом смахнули с них браваду. Союзники решили воевать не умением, но подавляющим материально-техническим превосходством, для чего опять-таки требовались время, «подходящая погода», организация снабжения частей и соединений по курортным нормам. Нацистское командование, в свою очередь, укрепилось во мнении, что США и Англия для форсирования Ла-Манша не созрели и что Германия может без опаски дальше перебрасывать свои войска на Восток.
Один вывод, который делался американскими штабами из Североафриканской кампании, был объективно полезен для общего дела антигитлеровской коалиции. США познали, что они не все могут, больше чем на единственную крупную наземную операцию за раз американцев не хватит. С этого момента Соединенные Штаты предметней представляли себе, какое колоссальное бремя нес СССР и насколько велики его потенции. Последнее вызывало, понятно, не только восхищение.
Допустим, Рузвельт не справился с внутренней раздвоенностью. После «Торча» он выводил лозунг «осторожность» еще более крупным шрифтом и из представлявшихся в начале 1943 года на Европейском театре военных действий возможностей санкционировал предприятия, под успех которых давалось двойное, а еще лучше – десятикратное поручительство. Но зачем президент занимался дезинформацией Советского Союза?
В совместном послании от 26 января 1943 года о результатах конференции в Касабланке Рузвельт и британский премьер уверяли Сталина, что они готовятся предпринять в первые девять месяцев года такие операции, которые «вместе с мощным советским наступлением могут наверное заставить Германию встать на колени в 1943 году». Далее выражалось убеждение, что «правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы сосредоточить свои силы на задаче поражения Германии с целью одержания скорой и решающей победы на Европейском театре». «Наше основное желание состоит в том, – писали демократы, – чтобы отвлечь германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию максимальный поток снабжения».
Первоочередным намерением провозглашалось очищение Северной Африки от сил держав оси. Затем «по возможности в ближайшее время» намечались «широкие комбинированные операции сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море», концентрация американских войск в пределах Соединенного Королевства, которые совместно с британскими вооруженными силами «подготовятся к тому, чтобы снова вступить на континент Европа, как только это будет осуществимо», «удвоение» к середине лета бомбардировочного наступления из Англии против Германии[680].
Достоверно зная цену расстилавшимся перед ним англо-американским цветастым декларациям, Сталин 30 января 1943 года дал понять, что он сыт обещаниями. «Понимая принятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, – говорилось в ответном послании Председателя Совнаркома, – я был бы Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и намечаемых сроках их осуществления»[681].
9 февраля Черчилль прислал англо-американские «разъяснения», из коих вытекало, что (а) очищение Туниса от противника планируется на апрель, «если не раньше»; (б) «в июле или раньше» будет совершена высадка в Сицилии и за ней должна последовать операция в восточной части Средиземноморья, которая потребует 300–400 тысяч человек; (в) приготовления к форсированию Ла-Манша будут осуществляться с расчетом на начало операции в августе-сентябре. «Сроки этого наступления (через Ла-Манш) должны, конечно, зависеть от состояния оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это время немцы по ту сторону Канала», – оговаривался премьер, повторяя уловку с июньской (1942 года) памятной запиской[682]. 1943 год не назывался годом поражения Германии. Об «отвлечении германских сил с русского фронта» речи не велось, никакого интереса к советским намерениям не проявлялось, потому что отсутствовало желание координировать свои действия (или бездействие) с «мощными усилиями русских».
Советская сторона сочла уместным высказать разочарование уже не намеком, как 30 января, а открытым текстом. В послании 16 февраля Сталин подчеркнул стратегическую необходимость организации второго фронта на Западе весной или в начале лета, чтобы не дать врагу оправиться. Действия в Тунисе расценивались как неудовлетворительные. Вследствие пассивного их проведения немцам дозволялось беспрепятственно перебрасывать на Восточный фронт войска из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии. Избранный западными державами план расценивался как ошибочный[683].
Неприятную переписку с Москвой Рузвельт охотно уступил вести дальше Черчиллю. И на сей раз премьер не уклонился от выпавшего жребия, но призвал президента «держаться вместе». Против «держаться вместе» глава администрации не возражал, но предоставлять Лондону право выступать от имени США колебался[684]. Это, пожалуй, один из ранних документально зафиксированных случаев, когда президент заметил англичанам: дымовая завеса по отношению к Советскому Союзу – вместе, а денежки – врозь.
Сталин тем не менее расценил послание из Лондона как общую с американцами точку зрения и направил на него ответ также Рузвельту. Поэтому стоит остановиться на соображениях Черчилля, выхолащивавших обещания западных держав, что давались в 1942 году, а также 26 января.
Премьер вел речь о намерении высадиться в Сицилии и, в зависимости от результатов операции «Хаски», а также «наличия необходимого числа боевых кораблей и десантных средств», двинуться на захват «Крита и/или Додеканеса» и вторгнуться в Грецию. Об операции в Италии молчок. Медлительность в Северной Африке оправдывалась «силой противника, предстоящим сезоном дождей, уже наступившей распутицей», растянутостью и плохим состоянием коммуникаций.
Упреждая критику, Черчилль замечал, что «масштабы этих операций (в Северной Африке) невелики по сравнению с громадными операциями на Восточном фронте». Премьер не оспаривал советские данные о перебросках (после начала «Торча») немецких войск на Восток из Франции, Люксембурга, Бельгии и Голландии, но пытался снивелировать их значение ссылками на то, что частично этим дивизиям прибыли на смену в «основном дивизии из России и Германии». По сути, признавалась справедливость слов Сталина о том, что, «вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта, получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои войска против русских» (27 дивизий, в том числе 5 танковых)[685].
Главный сюрприз премьер приберег на конец. Прокладка – тезис о том, что в интересах обеспечения операций в Северной Африке, на Тихом океане и в Индии и доставки материалов в Россию «программа импорта в Соединенное Королевство была сокращена до предела и мы расходовали и расходуем наши резервы». Потом в сослагательном наклонении предположение: «Было бы невозможно обеспечить тоннаж для своевременной переброски обратно каких-либо сил, находящихся теперь в Северной Африке, к началу операции через Канал в этом году». Мажорный аккорд: «Однако мы делаем все, что в наших силах, чтобы сконцентрировать в Соединенном Королевстве крупные американские сухопутные и военно-воздушные силы». И занавес из двух но: форсирование Ла-Манша состоится, если «враг достаточно ослабеет» и если появится гарантия успеха. «Преждевременное наступление с недостаточными силами привело бы лишь к кровопролитной неудаче и большому торжеству противника»[686].
16 марта 1943 года глава советского правительства «счел своим долгом заявить, что главным вопросом является ускорение открытия второго фронта во Франции». Операция в Сицилии – не замена второму фронту. Откладывание наступления в Африке позволило немцам перебросить на Восточный фронт к середине марта в общей сложности 36 дивизий, в том числе 6 танковых. Ввиду проводимого Гитлером «нового крупного мероприятия по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против СССР» указывалось на важность удара с Запада весной или в начале лета, как и было обещано еще в 1942 году. Неопределенность ответа западных держав по вопросу об открытии второго фронта во Франции вызывает, подчеркивал Сталин, «тревогу»[687].
Что могли возразить Рузвельт и Черчилль на это, даже не ведая, насколько детально их советский партнер был осведомлен не только о консистенции чернил, которыми те пробавлялись? По делу – ничего. Наступила пауза, если не считать послания, по выражению президента, с «безусловно плохой новостью» – о прекращении до сентября поставок северным маршрутом под предлогом сосредоточения немецкого линейного флота в Нарвике. Опять вышла наружу некая закономерность: накануне и в момент наиболее крупноформатных операций Германии на Восточном фронте шли резко на убыль объемы военных грузов, направлявшихся США и Англией в СССР, в особенности по самому эффективному маршруту на Мурманск и Архангельск.
Познав тактику Лондона и Вашингтона, немцам было достаточно показать в Баренцевом море вымпелы своих боевых кораблей, чтобы приводить в расстройство систему союзных коммуникаций и тем затруднять советскому командованию приготовления к оборонительным и наступательным операциям. Рузвельт и Черчилль спекулировали на том, что поставки по ленд-лизу, важность которых для СССР ни один серьезный российский исследователь не ставит под сомнение, носили как бы добровольный, факультативный со стороны западных держав характер. Они заслуживали одной признательности и заранее были застрахованы от критики, ибо дареному коню в зубы не смотрят. Китайцам говорилось это вслух. Москве же писалось между строк, но всегда внятно.
На исходе марта, стало быть, прояснилось, что западные державы не устраивает завершение войны с Германией в 1943 году. Становилось очевидней, что свои планы Вашингтон и Лондон сопрягали не столько с задачами военного разгрома Германии, сколько с вероятными последствиями происходившего для общей ситуации в Европе и в мире после войны. Тогда же на президентском[688] и премьерском уровне начали примеряться модели раздела Германии – временного, как способа обеспечения ее «упорядоченной» оккупации, и постоянного, как элемента послевоенного устройства.
А что делать, если Германия капитулирует в отсутствие англо-американских войск на континенте? Эта тема затрагивалась в ходе визита Идена в Вашингтон в марте 1943 года. Позицию Рузвельта передает следующая запись Гопкинса: «Президент заявил, что после разгрома Германии он не согласится ни на какое перемирие путем переговоров; что мы должны настаивать на полной капитуляции без каких-либо обязательств в отношении того, что мы должны и чего не должны делать после заключения перемирия. Президент выразил сомнение, что мирный договор следует подписывать вскоре после разгрома Германии и Японии». Рузвельт проводил мысль о том, что «великие державы» – США, СССР и Англия – должны взять на себя руководство послевоенным миром. Франция, Польша и другие «малые» государства подлежали разоружению. Великие должны были решать вопрос об их границах и владениях, а для некоторых – и о суверенности. Потрафляя США, Иден высказывался за переход под американскую эгиду японских островов в Тихом океане, за размещение вооруженных сил США, в частности, на Тайване и в Дакаре[689].
С начала 1943 года СССР фигурировал в качестве одной из трех великих держав во всех президентских прикидках моделей послевоенного устройства. Рузвельт не отказывался от мысли организовать двухстороннюю встречу со Сталиным. Передавая 5 мая М. Литвинову послание советскому руководителю, президент подтвердил желание без дипломатии («встреча умов») обсудить все проблемы в отсутствие Черчилля, представителей госдепартамента и военных. Он выражал готовность вылететь для этой цели на Чукотку. Для обговора деталей американской инициативы в Москву был направлен Дж. Дэвис[690].
Ничего путного из этого не получилось: решения состоявшейся следом англо-американской конференции (Вашингтон, 12–25 мая 1943 года) советская сторона восприняла как нетерпимое вероломство. Предварительное согласие Сталина на встречу с президентом повисло в воздухе. Из Вашингтона и Лондона были отозваны советские послы. Отношения СССР с США, а также с Англией опустились до низшей за всю войну точки.
Что же стряслось на третьей вашингтонской конференции? Американцы готовились к ней тщательней, чем к любой другой до тех пор. По оперативным соображениям и из-за нежелания будить в Москве подозрения насчет планов демократий касательно Дарданелл и Турции в целом, в отношении Балкан и т. п. президент настроился отклонить британские прожекты в Восточном Средиземноморье. Главная задача конференции, как было условлено на совещании Рузвельта с членами комитета начальников штабов 8 мая 1943 года, – «вырвать у англичан обязательство возможно скорее завершить подготовку к вторжению в Европу через Ла-Манш и начать эту операцию весной 1944 года». М. Мэтлоффу не совсем «ясно», что побудило президента добиваться «одного из наиболее важных решений за всю войну»[691]. Из поля зрения историка ненароком выпали Восточный фронт и – шире – советский фактор. Ему нравится писать, что остальное было важнее.
Исходная позиция Рузвельта на самой конференции: второй фронт в 1943 году организовать не удастся; если проводить «Следжхэммер» или «Раундап» в 1944 году, то их подготовкой надо заняться немедленно. Точка зрения Черчилля: после «Хаски» очередная задача и одновременно «большой трофей» – вывод Италии из войны. Немцам пришлось бы, демагогически рассуждал премьер, снимать свои войска с Восточного фронта, чтобы заменить итальянцев на Балканах, или сдать Балканы; Турция вступила бы в войну против Германии; союзники, опираясь на базы и порты Италии, могли бы развернуть военные действия на Балканах и в Южной Европе. Подготовка к весне 1944 года форсирования Канала, если Германия не падет тем временем, являлась, по словам премьера, невыполнимой задачей.
Американские военные выступали против десантирования в Италии, за вывод последней из войны с помощью авиации. Маршалл обращал внимание на неоправданный оптимизм Лондона применительно к операциям на Средиземном море и нарочитый пессимизм в отношении операций через Ла-Манш.
В конечном счете Черчилль был вынужден принять «в принципе» установку на нанесение завершающего удара по Германии через Ла-Манш, а не из района Средиземноморья. Операция получила название «Раундхамер» (позднее переименована в «Оверлорд»). Вместе с тем, уступая британскому премьеру, Рузвельт изъявил готовность взвесить также возможности наступления на Германию через Болгарию, Румынию и Турцию. В отношении Италии – компромисс. Задача нейтрализации поставлена, но уточнение практических путей ее решения отложено до завершения сицилийской операции (новое кодовое название – «Эскимос»)[692].
4 июня в Москву поступила телеграмма Рузвельта с извещением: западные державы определили для себя, что будут оказывать СССР авиационную поддержку. Вывод Италии из войны должен был, по его словам, значительно облегчить проведение воздушного наступления против Южной и Восточной Германии. Открытие второго фронта откладывалось на весну 1944 года или позже. Президент избегал уточнять, в каком районе планируется высадка. «Когда в каком-либо месте станут очевидными признаки слабости держав оси, – писал он, – действительное наступление или угроза такого наступления будут легко и быстро превращены в успешные операции»[693].
Председатель Совнаркома расценил 11 июня 1943 года вашингтонские решения как создающие «исключительные трудности для Советского Союза». Правительство СССР отказывалось «присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны»[694].
Черчилль, видимо, считался с более бурным взрывом. «Сурового порицания, полученного нами от дядюшки Джо в послании от 11 июня, – писал он президенту, – естественно, следовало ожидать из-за развития событий, определяющих наши решения. По моему мнению, наилучшим ответом будет разгром Италии и выход ее из войны, и пусть это будет ему утешением. Я вполне понимаю его раздражение, хотя он не может уяснить себе фактов, которые руководят нашими действиями»[695].
Черчилль направил в Москву телеграмму (с ней солидаризовался Рузвельт), в которой выразил понимание советского разочарования решениями вашингтонской конференции. Сталин нашел это краснобайство совершенно неуместным. Он упрекал премьера и президента в несерьезности. «Нечего и говорить, – заявлял Сталин, – что советское правительство не может примириться с подобным игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего врага… Дело идет здесь не просто о разочаровании советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжким испытаниям»[696].
Из послевоенных откровений Черчилля видно, что он сознательно искал осложнений с СССР. Для него это был способ исключить стыковку между Советским Союзом и США. Всякое потепление в советско-американских отношениях противоречило потугам англичан занимать в коалиции место не по росту. Но премьер капитально заблуждался в том, что Москве неведомы или непостижимы некоторые факты. Сверхведомы и до последней запятой постижимы, ибо в избранном обществе Черчилль не стеснялся в выражениях. Да и без обильной разведывательной информации трудно было, честно говоря, заблуждаться в британском шитье белыми нитками. Нечестные игры видели все. Даже некоторые англичане едва сдерживали себя[697].
После Сталинграда в лагере агрессоров зашевелились противники концепции «все или ничего». Начали озираться по сторонам сателлиты. Итальянцы прощупывали способы откола от Германии. По данным B. Шелленберга, немецкие спецслужбы знали о контактах Бадольо с западными державами, как и о сговоре Канариса с начальником итальянской разведки Аме относительно обманных маневров для прикрытия вывода Италии из войны. Доказательства заговорщической деятельности Канариса и Аме были представлены Гиммлеру, но последний не дал им хода[698].
Канарис состоял в это время в регулярной связи с американцами и англичанами. В конце 1942 года шеф абвера переслал руководителю британской МИ-6 C. Мензису «мирные предложения». Они обсуждались на личной тайной встрече Мезиса с Канарисом, устроенной на территории Франции. Переговоры оборвались после вмешательства МИД Англии, который опасался ссоры на этой почве с СССР[699].
Среди сотрудников Управления стратегических служб США, пишет А. Браун, «ходили слухи, что Донован и Канарис встречались лично в Испании в марте или апреле 1943 года и повторно в Стамбуле в конце лета или начале осени 1943 года. Но у нас нет прямых доказательств, что встречи состоялись и если да, то к чему они привели»[700].
Дж. Эрл, близкий к Рузвельту бывший губернатор штата Пенсильвания, назначенный помощником военно-морского атташе США в Турции, виделся с Канарисом в 1943 году. Они обсуждали возможности ускорения завершения войны и объединения сил для борьбы с «коммунистической угрозой». Доклад о встрече был направлен президенту. Не дождавшись ни одобрения, ни порицания, Эрл перешел на контакт с Куртом фон Лерснером, доверенным лицом Папена, через которого получил планы «группы немецких офицеров», задумавших похитить Гитлера и заключить мир с западными державами, дабы предотвратить вступление Красной армии на территорию Германии.
Примерно в это же время оппозиционная группа из абвера сообщила Управлению стратегических служб США план «урегулирования», призванного «предотвратить оккупацию Красной армией немецких территорий на Востоке». План был доставлен А. Даллесу и Г. Гэверницу сотрудником МИД Германии[701]. Те же идеи развивал в контактах с Даллесом Гизевиус. Видный деятель оппозиции и одновременно агент УСС № 512, Гизевиус выдал американцам ценнейшие государственные секреты Германии, в том числе факт дешифровки немцами американских и английских кодов, данные о разработке Фау-1, включая Фау-2 и местоположение конструкторских баз, а также испытательных полигонов. К середине 1943 года с помощью Гизевиуса бюро УСС в Берне составило досье объемом около 4000 «плотно заполненных страниц», дававшее «полнейшую картину» подготовки покушения на жизнь Гитлера внутри Германии. Участникам этой акции в телеграмме Даллеса в Вашингтон было присвоено имя «взломщики»[702].
Летом 1943 года Англия и США уклонялись от принятия перед СССР обязательств политического или военного свойства. Успех специальных мероприятий в Италии сделал президента и премьера восприимчивей к донесениям и рекомендациям УСС и МИ-6. Вдруг за ориентировками оппозиции, предвещавшими крах нацистского режима, что-то есть? Если в самом деле возможен «добровольный» и «мирный» уход с оккупированных территорий в Западной Европе? Тогда без всякого второго фронта «настоящая» Германия внесла бы свою лепту в «примирение христианских народов», столь желанное и необходимое перед лицом «угроз с Востока».
Соображения подобной пробы были изложены Герделером на встрече 19–21 мая 1943 года в Стокгольме с известными банкирами и промышленниками братьями Валленберг. В форме «письма Якоба Валленберга брату» немецкие предложения были переправлены по каналам шведского МИДа в адрес Черчилля. Суть письма состояла в следующем:
1. «Освободительная акция» в Германии – дело близкого времени. При ее проведении желательно остановить воздушные налеты на районы, которые окажутся под властью заговорщиков. В освобожденных пунктах будет отменено затемнение. Прекращение бомбардировок было бы «сильнейшей моральной поддержкой восставшим».
2. Новое правительство будет представлять «все социальные слои, все вероисповедания, все немецкие земли». Деятельность правительства будет контролироваться имперским советом.
3. Захваченные районы будут оставлены так быстро, как это возможно, с учетом обстановки в каждом случае. Восстанавливается «полная независимость всех европейских наций». Польско-германская граница подлежит определению путем переговоров. Легче всего было бы вернуться к границам 1914 года. «При достижении договоренности Германия гарантировала бы существование Польши и способствовала государственной унии Польши и Литвы». На Востоке войска рейха отводятся «с русских территорий по состоянию на 1938 год. Дальнейший отвод лишь по согласованию с Польшей и ее союзниками». На Западе справедливость и покой обещает этническая граница. Чехословакия восстанавливается. «Германия желает сохранения Финляндии и готова вести за это борьбу так же, как за восточную границу Польши». Западнее Советского Союза должно быть образовано «европейское сообщество совместных интересов и культуры, между членами которого никогда не велись бы войны».
4. Германия сама нуждается в разоружении. «Его возможные параметры зависят от отношения Европы к России», а также от положения на Дальнем Востоке. Германия отказалась бы от ВМС и «интернационализировала» ВВС.
Подытоживая, Герделер писал: «Это – план. У Германии в достатке людей, способных провести его в жизнь. Но именно они, уважающие самостоятельность всех народов и желающие ее, страстно отклоняют вмешательство других народов в германские дела. Когда слышится, что Польша требует Восточную Пруссию и часть Силезии, что есть намерение влиять на систему воспитания немцев, что в Германии кто-то собирается сделать то, что немцы должны сами, и только они могут сделать, тогда будущее Европы и белых народов выглядит черным. Ибо оно может строиться единственно на свободном союзе, самостоятельности и уважении, а не на новом бесчестии. Мы сами привлечем Гитлера и его сообщников к ответственности, поскольку они запятнали наше доброе имя. Но мы будем вместе с тем защищать нашу самостоятельность». По изложенным мотивам Герделер высказывался против принципа безоговорочной капитуляции[703].
Маркус Валленберг беседовал в Лондоне с секретарем премьера Д. Нортоном. Соображения Герделера были приняты как «информация». Через третье лицо, но со ссылкой на Черчилля М. Валленберга просили продолжать контакты с немецкой оппозицией. Проявлялся интерес к получению дополнительных данных о «группах сопротивления» в Германии и их составе.
Герделер в ответ подтвердил, что акция против Гитлера совершится в «самое скорое время». Через Валленберга он еще раз настоятельно просил, чтобы британские ВВС примерно до сентября-октября щадили Берлин, Лейпциг и Штутгарт – главные центры заговора. В ином случае акция может сорваться из-за выпадения связи. Свои призывы Герделер сопровождал битьем в набат по поводу угрозы «тотальной победы России». «Чрезмерно сильная Россия, – стращал он, – будет угрожать всем свободным странам, в особенности Швеции и Британской империи в Азии, по причине агрессивности и большевистского подрыва европейских демократий. В интересах самой Англии безотлагательно положить конец безумной войне и принять руку, протягиваемую немецкой оппозицией»[704].
Этот раунд переговоров Герделера с англичанами принял деловые очертания. При встрече с Я. Валленбергом в ноябре 1943 года бывший обер-бургомистр Лейпцига с удовлетворением отмечал, что английская авиация действительно меньше тревожила названные им города. Валленберг, в свою очередь, подчеркивал важность быстрых действий, если оппозиция хочет плодотворного разговора с британскими политиками. Когда Германия будет разбита, подсказывал шведский банкир, все станет напрасным.
Герделер сделал для себя из сообщений Я. Валленберга вывод, что Черчилль с «благожелательным интересом» наблюдает за становлением в Германии новой системы. Явно под впечатлением этих бесед Герделер сочинил летом-осенью 1943 года «мирный план», в котором Англия и США изображаются в качестве естественных антиподов «большевистской России». Отсюда автор выводил их «коренной» интерес к сохранению жизнеспособной и сильной Германии, потребность иметь на своей стороне «немецкого солдата» как заслон «продвижению России»[705].
Сравним рассуждения Герделера с тезисами, развивавшимися Бауманом, Позвольским, Ачесоном и представителями военного министерства на заседаниях комитета по послевоенной политике США, или с секретной запиской Лиддела Харта, которую британский авторитет в вопросах стратегии составил в октябре 1943 года.
Сначала о правительственном комитете, который возглавлял К. Хэлл. Большинство в нем определяло несущие элементы будущего курса США так: Советский Союз станет главным конкурентом интересам США; его надо задержать как можно дальше на востоке; модели обращения с Германией должны подчиняться главной задаче – ограничению советского влияния в Европе; Германия может рассматриваться как естественный союзник США и Англии, ее чрезмерное ослабление невыгодно, и надо добиваться для немцев «политического и военного равенства». Военные выражались проще и категоричней: после войны понадобится «привести в движение небо и землю», чтобы превратить Германию в союзника Соединенных Штатов[706].
Добавим – дискуссия шла не за стойкой в пивном баре, каждый выступал в официальном качестве. На календаре январь 1943 года. Паулюс еще не сдался в Сталинграде. Рузвельт произносит свою знаменитую тираду о безоговорочной капитуляции.
Точка зрения Лиддела Харта, снискавшего репутацию ведущего теоретика в области военной стратегии, кое-что значила для Черчилля и приближенных к нему военных. В Европе, убеждал Лиддел Харт, имеется лишь одна страна, способная вместе с западноевропейскими государствами оказать сопротивление послевоенным устремлениям русских, – это страна, которую «мы собираемся разгромить». «Великая дружба» с СССР, как бы желательна она в принципе ни была, должна кончаться там, где дело идет о сохранении единственного барьера, достаточно мощного, чтобы сдержать поток. По иронии судьбы оборонительная мощь, которую англичане собираются сломить, так как она громадной преградой стоит на их «пути к победе», одновременно является самой мощной опорой западноевропейского здания. Все остальные государства Западной Европы настолько слабы в военном отношении, что уничтожение германской армии неизбежно должно будет привести к подавляющему превосходству Красной армии. Поэтому было бы разумно выйти за рамки ближайшей военной цели, в сущности уже достигнутой (наступательная мощь Германии сломлена), и позаботиться о том, чтобы длительный путь к последующей цели был расчищен от опасностей, уже довольно отчетливо вырисовывающихся на горизонте[707].
Совпадения с планом Герделера почти дословные. При сопоставлении соображений Лиддела Харта и практической линии Англии в течение всего 1943 года тоже не обнаружится непримиримых противоречий. Теоретик стратегии призывал к оформлению в официальную политику того, что делалось явочным порядком. Все упиралось в сущую «мелочь» – недоставало переворота или хотя бы видимости переворота в Германии, демократического или псевдодемократического самоочищения рейха. Пока же демократам не к чему было приложить великодушие – за чужой счет.
Если пообстоятельней разбираться в стараниях Черчилля любыми правдами или неправдами ступить на Апеннинский полуостров, вскроется более широкий замысел, чем превращение Средиземного моря в Британское озеро. Италия виделась как пробный камень для отработки технологии обращения с каждым «образумившимся» противником.
26 июля 1943 года премьер призвал Рузвельта благосклонно отнестись к любому нефашистскому итальянскому правительству, которое с видами на успех отрядили бы порулить страной[708]. Далее он высказывал ряд соображений, превращавших капитуляцию Италии из безоговорочной в «почетную». И это не все. В приложенном к посланию меморандуме из 12 пунктов советский союзник упоминается дважды: в пункте 11, где выражалась надежда, что «Россия должна по возможности примкнуть к Англии и Соединенным Штатам» в нажиме на Турцию, чтобы та вступила в войну и помогла претворить балканский вариант второго фронта; в пункте 12, где говорится о возможных консультациях с СССР при решении судьбы Муссолини и его приспешников. Остальное – типичный сговор за спиной союзника в явное нарушение (для Англии в любом случае) принятых договорных обязательств[709].
Рузвельт слегка подчистил проект Черчилля. Были убраны слова, которые выглядели двусмысленно и даже провокационно. Так, премьер вел речь о капитуляции или возвращении в Италию всех итальянских вооруженных сил, пребывавших «на Корсике, на Ривьере, включая Тулон, и на Балканском полуострове, а именно: в Югославии, Албании и Греции». СССР назвать запамятовали. Президент записал: «… где бы они ни находились за пределами самой Италии». Черчилль вел речь «о немедленном освобождении всех английских военнопленных». Тут даже американские военнослужащие выпали. Президент заменил «английских» на «Объединенных Наций». Общая тональность документа, однако, осталась прежней[710].
Вывод Италии из войны мыслился британским лидерам без тяжелого противоборства с немецкими войсками. В мемуарах Черчилля приводятся заметки от 25 ноября 1942 года, в которых содержится следующий пассаж: «Я не разделяю точки зрения, что в наших интересах, чтобы немцы оккупировали и захватили Италию»[711]. Сталину и Рузвельту говорилось одно, а бумаге поверялось нечто иное: отвлечение частей вермахта с Восточного фронта – вне намерений Черчилля.
Условия капитуляции Италии были согласованы между Лондоном и Вашингтоном 26–30 июля, после чего Иден сообщил их временному поверенному в делах СССР в Англии А. Соболеву. На следующий день, 31 июля, В. Молотов известил британского посла в Москве, что советская сторона принимает без возражений документ, с которым ее ознакомили. Это не означало, однако, согласия с методой, которую навязывали советской стороне.
22 августа Сталин направил Рузвельту и Черчиллю послания с требованием создать «военно-политическую комиссию из представителей трех стран – США, Великобритании и СССР – для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии». «До сих пор, – отмечалось в посланиях, – дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно»[712].
Номер, который А. Иден в беседе с послом США Дж. Вайнантом обрисовал в словах «Советский Союз следует некоторым образом привлечь к совещаниям для рассмотрения положения в Италии», ибо, когда русские армии перейдут в наступление, «мы, возможно, также захотим оказывать влияние на их условия капитуляции и оккупации территорий союзных и вражеских стран»[713], не проходил. Советская сторона требовала определенности. Она не довольствовалась союзнической фразеологией и настаивала на союзническом поведении.
Упрек в нелояльности не замыкался, понятно, на Италии. Рузвельта и Черчилля предупреждали, что СССР не примет роль статиста в западных политических инсценировках. Советский демарш привел к учреждению названной комиссии и в очередной раз напомнил США – пора самоопределяться в принципиальных вопросах дальнейшего ведения войны и после военного сотрудничества.
Черчилль знал, какой вес в глазах англосаксов имеет прецедент, как можно акцией, дающей сиюминутную выгоду, увлечь Рузвельта, как размягчить его вчерашнюю решимость делать нечто противоположное. И он принялся еще усерднее конструировать явочным порядком ситуации, заставлявшие США дальше волочиться за Англией.
Вместо безоговорочной капитуляции, Италия стараниями Лондона получила удобоваримое перемирие. Из такого оборота событий верхушечная оппозиция в Германии почерпнула кое-какие инспирации. Антифашистскую революцию в Италии Черчилль свел к устранению Муссолини[714]. Государственная структура прежнего режима сохранялась нетронутой во имя поддержания «порядка» и предотвращения «стихийных эксцессов». От немецких оппозиционеров требовали чуть больше – отстранения от власти, помимо Гитлера, всей нацистской головки. На этом, наверное, даже настаивали. Но для начала сошло бы свержение одного главаря, чтобы чрезмерной разборчивостью не испортить общей диспозиции. Свержение Гитлера должно было стать сигналом для объявления цели войны достигнутой и для разворота фронтов соответственно новым задачам[715].
Неспроста проводилось различие между германским милитаризмом и прусским милитаризмом. К итальянским вооруженным силам особого интереса – в контексте ряда специфических проектов Запада – не проявлялось, иначе обстояло с вермахтом.
Летом 1943 года Управление стратегических служб США изучало целесообразность «поворота против него (Советского Союза) всей мощи еще сильной Германии». Меморандум Донована от 20 августа 1943 года и приложенный к нему документ «Стратегия и политика: могут ли Америка и Россия сотрудничать?» не удостоились у исследователей внимания, которым их одарили в свое время президент и премьер-министр вместе с начальниками своих штабов.
Коллективное творение УСС отразило концептуальные особенности подхода США к войне, становления их стратегии и политики. Оно позволяет лучше понять внутренние пружины многих зигзагов в действиях Соединенных Штатов вплоть до 1945 года и последующего их разрыва с наследием антигитлеровской коалиции.
Состояние отношений западных держав с СССР летом 1943 года расценивалось УСС как «кризис», «настоятельно требовавший пересмотра и определения стратегии и политики, от которых будет зависеть послевоенное устройство». Считалось, что «на будущее Европы глубоко и, пожалуй, решающим образом повлияет численность и географическая диспозиция вооруженных сил при прекращении официальных военных действий против Германии».
Главной американской целью в Европе называлась «безопасность Соединенных Штатов», а первым условием безопасности – срыв «попыток Германии объединить, подчинить и руководить мощью Европы». Вторым условием называлось предупреждение того, чтобы «после поражения Германии какая-либо одна отдельная страна или одна группа держав, в которой мы (США) не имеем сильного влияния, могла руководить мощью Европы». Если США не добьются и того и другого, «можно считать, что мы (американцы) проиграли войну». Конечная американская цель виделась в том, чтобы способствовать созданию в Европе условий, которые «обеспечат мир, свободу и процветание на благо не только Европы, но и нас (американцев) самих». Это достижимо лишь посредством «учреждения (соответствующей) системы власти».
В одиночку США не в состоянии добиться своих устремлений в Европе. Следовательно, они должны либо урезать свои цели, либо создать эффективные союзы. Совокупных усилий США и Англии недостаточно. Их желательно дополнить «созданием всевозможных вспомогательных сил (норвежских, голландских, бельгийских, чешских, польских, югославских, греческих и особенно французских) как до, так и после ожидаемой высадки союзных войск в Западной Европе».
Германия и СССР, по причине их мощи и влияния, понимались как державы, противостоявшие американцам. Первая – поскольку она пребывает в состоянии войны с США. Советский Союз – как государство, быстро наращивающее потенциал и способное проводить собственную политику.
Советскими целями в войне УСС считало:
1. Главная задача – безопасность СССР.
2. Первое необходимое условие для безопасности России – поражение Германии. И далее тезис, который присутствует в американском анализе постоянно, – «сильная и агрессивная Германия, безусловно, представляет бóльшую угрозу для русских, чем для Соединенных Штатов».
3. «Советское правительство, вероятно, будет настаивать, как минимум, на следующих условиях урегулирования:
а) восстановление советских границ примерно по состоянию на июнь 1941 года;
б) создание во всех соседних странах (включая Германию) дружественных или хотя бы не враждебных СССР правительств и не находящихся под влиянием других великих держав».
в) гарантия против общего господства в Европе любой несоветской державы или группы держав, в которой Советский Союз не имеет сильного влияния.
4. При известных предпосылках минимальные цели могут разрастись до максимума – «значительного распространения на Запад советской революционной системы с образованием новых советских правительств под эгидой Москвы». Установление такого режима в Германии «обеспечило бы России господство над Европой».
«Ввиду диспропорции между нашими целями и нашими возможностями, – говорится в документе, – предлагаются три альтернативных направления стратегии и политики в отношении Германии и России:
1. Немедленно предпринять попытку урегулировать наши расхождения с Советским Союзом и сосредоточить внимание на общих интересах, которые мы имеем с этой державой.
2. Америка и Великобритания продолжают следовать в течение некоторого времени стратегии и политики, независимых в самом важном от стратегии и политики Советского Союза, в надежде добиться тем самым как поражения Германии, так и укрепления своих позиций перед урегулированием некоторых противоречий с Россией.
3. Попытаться повернуть против России всю мощь непобежденной Германии, пока управляемой нацистами или генералами».
Оптимальным представлялся авторам курс, нацеленный на ослабление Германии и Советского Союза при «максимальном сосредоточении (англо-американских) сил в решающем районе Западной Европы». С учетом существовавших и предвидимых опасностей и неопределенностей, связанных с любым мыслимым курсом в Европе, «будь то в боевых действиях или в переговорах с Германией или с Россией, это представляется нашей единственной доброй надеждой».
По оценкам УСС, Советский Союз будет «способен сохранять нынешний масштаб военных действий до весенней оттепели 1944 года, а может быть, несколько дольше». Не позже лета, однако, «недостаток продовольствия и живой силы» должен вызвать «значительное снижение военных возможностей России». Ожидалось «значительное сокращение в течение того же периода военных возможностей Германии». Заключать сепаратный мир «с сильной и агрессивной Германией не в интересах Советского Союза», ибо тем самым американцы и англичане добились бы выполнения «единственного условия» (подчеркнуто авторами документа), при котором «для Соединенных Штатов и Великобритании стало бы политически и морально осуществимым заключение аналогичного мира» (с немцами).
В докладе подробно взвешиваются плюсы и минусы «американских альтернатив». При их разборе под пунктом «А» значится «поворот нацистской или юнкерской Германии против России», то есть «всей мощи все еще сильной Германии (а это означает – Германии, управляемой нацистами или генералами)», как «единственный способ победить Советский Союз только силой». После завоевания немцами СССР, чтобы не допустить господства Германии над всей Европой, США и Англии придется «взяться еще раз и без помощи России за трудную и, может быть, невыполнимую задачу нанесения поражения Германии». Основная трудность – как подчинить этому замыслу общественное мнение западных держав, мобилизовать его на реализацию сего плана.
Пункт «Б» – «проведение независимой стратегии в надежде на недорогую победу над Германией и лучшую позицию для переговоров с Россией». Авторы предупреждают, что «в отсутствие взвешенных, энергичных и успешных усилий для изменения нынешней тенденции развития англо-американская и советская стратегия и политика, вероятно, перейдут в течение шести или восьми месяцев от теперешней фазы сравнительной независимости и зачаточного состязания в новую фазу острого соперничества».
В этом случае ход событий до конца предстоявшей зимы прогнозировался так:
а) США и Англия будут продолжать наземные операции примерно на нынешнем уровне. Если без консультаций с СССР они распространят свои военные действия на Балканы, то «трения с русскими усилятся». В целом «балканская операция» представлялась малообещающей, ибо, не суля укрепления американской позиции в отношениях с СССР, отвлекала бы союзные войска из Западной Европы. Поэтому УСС высказывалось за попытки вывести Болгарию, Румынию и Венгрию из войны с Россией политическими средствами и бомбардировками с воздуха.
«Военно-политическая деятельность (в отношении рейха) могла бы отчасти вылиться в попытки отделить ненацистов в Германии от нацистов и других лиц, ответственных за войну, и предложить им умеренные по характеру условия, если нацисты и генералы будут отстранены от власти»;
б) СССР может продолжить операции против Германии примерно на нынешнем уровне и со значительным успехом. «Советское правительство в состоянии надеяться победить Германию преимущественно собственными усилиями, а затем играть главную роль в переустройстве Германии и Европы;
в) германские войска во все большем числе перебрасываются из Западной в Восточную Европу. Этому будут способствовать следующие факторы: отсутствие значительного давления союзников на Западе, сильное давление русских на Востоке и широко распространенный страх немцев перед Россией и коммунистами.
Весной-летом 1944 года в случае успешного продвижения русских к победе на Востоке и значительного ослабления немецких вооруженных сил на Западе возможно быстрое развитие кризиса. Тогда:
а) США и Англия могли бы предпринять наступление ограниченного масштаба на Западе;
б) немцы, предпочитая англо-американскую оккупацию русской, могли бы оказать сравнительно слабое сопротивление на Западе, но стараться удерживать существующие позиции на Востоке;
в) в такой ситуации контроль мог бы перейти от нацистов к немецким генералам;
г) генералы (придя к руководству), очевидно, попросили бы у западных союзников перемирия».
В случае отклонения такой просьбы генералы, как «полагают», передали бы власть «центристско-социалистическому правительству», приемлемому для США и Англии. Советской стороне пришлось бы признать свершившийся факт в качестве основы для прекращения военных действий на Восточном фронте и для последующего соглашения по послевоенному устройству.
Вероятными в проекции на весну-лето 1944 года считались также – мятеж энергичной группы меньшинства из немецких коммунистов и сочувствующих коммунизму; почти беспрепятственный марш русских на Запад силами, значительно превосходящими силы англо-американцев; возникла бы неблагоприятная для западных держав позиция для переговоров, и не исключался фактический конфликт с более сильными Вооруженными силами СССР.
Пункт «В» – «концентрация максимальных сил в Западной Европе и достижение немедленного соглашения с Россией».
УСС находило, что минимальные цели США и СССР поддаются совмещению и что, несмотря на обозначившуюся перспективу поражения Германии практически без прямого участия англо-американских сухопутных сил, советская сторона не потеряла интереса к сотрудничеству с западными державами. Дорогостоящая высадка на континент, подчеркивали авторы документа, «является единственной акцией, лучше всего спроецированной на то, чтобы заранее обеспечить западным союзникам эффективную позицию для достижения компромиссного урегулирования с Россией и основание для участия в такой согласованной оккупации Германии Соединенными Штатами, Британией и Россией, которая гарантирует выполнение договоренностей».
Осуществление данного варианта в решающей степени зависит от «масштабов, выбора времени и предварительного соглашения с Россией». Запоздалая высадка способна привести к изгнанию Советским Союзом союзников и созданию «экстремистского правительства». Скорая отправка союзных сил, пока у СССР не пропала потребность в координации действий, откроет путь к взаимопониманию по широкому кругу вопросов, представляющих первостепенный интерес для трех держав. В перечне из 12 таких вопросов упоминается «признание Советским Союзом американских и английских притязаний на ряд вновь приобретенных стратегических баз», по сути, в обмен на признание Западом «советских притязаний на значительную часть территорий, аннексированных Россией в 1939–1940 годах».
УСС высказывалось в пользу сосредоточения союзных войск в Западной Европе и соглашения с СССР. Если попытка договориться потерпит неудачу, то «дальнейшее открытое соперничество будет не острее, чем оно было бы, если бы не было попытки достичь согласия». Разведка выделяла ту мысль, что открытие второго фронта является «одним из неизбежных элементов всякой политики компромисса с Советским Союзом». Больше того, утверждалось, что без «крупных операций союзников в Западной Европе» не обойтись и в случае проведения сепаратной стратегии и политики в отношении Германии[716].
Забегая вперед, отметим, что практический курс США после Квебека, где обсуждались изложенные соображения ведомства Донована, был симбиозом различных альтернатив. При этом, как нетрудно убедиться на фактах, сам президент больше тяготел к варианту «В», а его окружение, аппараты госдепартамента, военного министерства, разведки, генералитет вдохновлялись идеями варианта «Б» (отчасти также и «А»).
Из параграфа 9 протокола «Военные соображения в отношениях с Россией», что велся по ходу заседания объединенного англо-американского штаба 20 августа, мы узнаем, что адмиралы У. Леги и Э. Кинг, генералы Дж. Маршалл и Г. Арнольд (США) и генерал А. Брук, адмирал Д. Паунд и главный маршал авиации Ч. Портал (Англия) обсуждали вопрос, «не помогут ли немцы» вступлению англо-американских войск на территорию Германии, «чтобы дать отпор русским»[717]. Совет этот держали в рамках конференции «Квадрант» (Квебек, 19–24 августа 1943 года). На чем сошлись? Архивы безмолвствуют.
Не похоже, что англичане ограничились разбором одних американских прожектов. В британских коридорах власти с марта 1943 года курсировал меморандум МИД Англии с изложением взглядов на будущую Германию. В нем тоже вели речь о том, что Германия, преклоняясь перед мощью, «может пойти на сотрудничество с Востоком и создание некоего блока с Советской Россией для покорения Запада». Лондон должен «надеяться на ее возвращение в семью западноевропейских наций». Из меморандума напрашивается заключение, что британская сторона сочувствовала бы следующему развитию: германская армия придет к выводу, что продолжение войны бесперспективно, и свергнет нацистское руководство, установит свою диктатуру и выступит затем с мирными предложениями от собственного имени или же предварительно сформирует какое-либо нефашистское правительство. Это правительство могут возглавить, например, Папен или Шахт. В такое правительство были бы включены консерваторы, либералы, католики. «При осуществлении подобного маневра германская армия могла бы рассчитывать на поддержку ведущих немецких капиталистов и католиков». Итальянский вариант в немецком исполнении?
Независимо от принятых решений факт постановки вопроса о способах и времени измены союзнику, делу антигитлеровской коалиции обличает сам себя. В момент тяжелейших сражений, которые вел Советский Союз для срыва гитлеровской «Цитадели», западные державы прикидывали, чем усложнить нам существование, как нарастить бремя борьбы с агрессорами сверх всяких пределов выносливости. Чем прежде У. Леги, А. Брук и прочие занимались порознь, даже по секрету друг от друга, теперь не стыдились дискутировать в довольно широком составе, без опаски, что их одернут.
Не позднее этого времени деятельность американской и английской разведок сосредоточивалась на создании условий для фактически беспрепятственного вступления войск США и Англии на территорию Германии и оккупированных ею стран. Реализация этого интереса составила главное содержание контактов на разных уровнях с немецкой оппозицией, которой отводилась роль «пятой колонны». В идеале виделась высадка с моря или воздуха американо-английских десантов для получения от командиров немногочисленных соединений вермахта, дислоцированных на западе, ключей городов и крепостей с переводом нацистских вояк в резерв на случай ожидавшихся по этому сценарию осложнений с СССР.
В июне-августе 1943 года премьер не уставал саботировать планы подготовки к форсированию Ла-Манша, и стратегическая концепция, с трудом сбитая на конференции «Трайдент», оказалась под угрозой срыва. К варианту «первоочередной операции» в Италии и балканскому плану англичане прибавили идею высадки в Испании.
Президент обсуждал испанскую идею с членами комитета начальников штабов и Гопкинсом 23 июня. Пиренеи заинтересовали адмирала Леги. Мнения других разделились. Одни (генерал Халл) – за операции в Средиземноморье, другие (генерал Ведемейер) – за удар через Ла-Манш или переориентацию на разгром Японии, третьи (полковник Бессел и генерал Лендсей) – за выжидание, пока СССР окончательно не измотает Германию, и тем временем выведение из войны Италии. Близкую к Черчиллю позицию отстаивал Донован. Маршалл определял различие между смыслом операций на Средиземном море и «Оверлордом» так: «Для англичан на Средиземноморском театре важны политические последствия, тогда как операция „Оверлорд“ есть такой решающий шаг, который с самого начала будет иметь чисто военные результаты»[718].
Перед встречей в Квебеке планирующие органы армии обратили внимание Рузвельта на «несоответствие достигнутых между США и Англией соглашений тому, как они выполнялись за последние полтора года». В докладе отмечалось, что переход от «Болеро» к «Торчу» осуществлялся в обстановке поспешности, расточительства и неразберихи. Планы военного производства, боевой подготовки и оснащения войск были нарушены, графики отправки войск на театры не соблюдались. В результате ни на одном из этих театров союзники не сумели сосредоточить достаточно сил, чтобы обеспечить быструю и решительную победу над державами оси.
В заключение планирующие органы подчеркивали, что распыление сил может завести войну в тупик. Во имя быстрой победы надо решить, где приложить основные усилия, и твердо держаться принятого решения. Сами плановики высказывались за операцию через Ла-Манш – единственный «доступный союзникам» маршрут для того, чтобы войти «в непосредственное боевое соприкосновение с германской армией».
Любые способы и средства сходили у демократов за годные, дабы увильнуть от настоящего боевого крещения на Европейском театре военных действий. В этом занятии забывали подчас, что рыть другому яму небезопасно. Если вовремя не спохватиться, то можно очутиться в положении третьего лишнего.
После Курской битвы Рузвельт и большинство в его окружении знали: Советский Союз разобьет нацистский рейх без ассистентов. В этом величайшем сражении участвовало с обеих сторон более 4 миллионов солдат и офицеров, было задействовано свыше 70 тысяч орудий и минометов, до 13 тысяч танков и почти 12 тысяч самолетов. Летом и осенью 1943 года нацисты потеряли на Восточном фронте 1,4 миллиона человек. Здесь было разгромлено 118 дивизий вермахта – половина из тех, что Гитлер и его генералы бросили в бой, рассчитывая добиться перелома в войне против СССР и тем самым изменения к лучшему для Третьего рейха стратегической ситуации в мире в целом.
События приняли свою внутреннюю динамику, и не во власти Вашингтона или Лондона было остановить их. Ни тактикой выжидания, ни с помощью стратегического курса, при котором СССР и Германия должны будут и дальше уничтожать друг друга на фронте, тогда как США и Англия ограничатся лишь «расшатыванием германской военной машины» методами «психологического и политического воздействия».
На встрече с Маршаллом 9 августа 1943 года президент высказался за совмещение «Оверлорда» с операциями в центральной части Средиземноморья. День спустя военный министр Стимсон рекомендовал Рузвельту не закрывать глаза на «принципиальное различие во взглядах» англичан и американцев и «принять на себя ответственность за руководство предстоящей решающей операцией на Европейском театре». «Мы не можем допустить, – говорилось в памятной записке Стимсона, оставленной президенту, – чтобы, еще раз собравшись на совещание, мы снова лишь на словах одобрили операцию „Болеро“».
Совещание 10 августа с участием Рузвельта, Стимсона и начальников штабов военные восприняли как переломное в умонастроении главнокомандующего. Он выступил против балканского варианта второго фронта. На случай отказа англичан от «Оверлорда» президент не исключал возможности чисто американской операции, но с использованием Британских островов в качестве оперативной базы[719].
Будучи оповещен о возобладавших в Белом доме настроениях, Черчилль прибег к испытанному «согласию в принципе» с операцией «Оверлорд» и накручиванию предварительных условий для ее осуществления. «Оверлорд» ставился в зависимость от того, что в день x вермахт не должен иметь во Франции и Голландии больше 12 дивизий полного состава, способных вести наступательные действия (без дивизий, удерживавших побережье и проходивших обучение); в первые два месяца после высадки немцы будут лишены возможности перебросить с Восточного фронта больше 15 боеспособных дивизий. И неизменный дубль – если не «Оверлорд», то операция «Юпитер», которую американцы приняли как возможную альтернативу.
Имея согласие Рузвельта на скорейшую «нейтрализацию» Италии, премьер попытался урвать для Апеннин максимальное количество сил. Операция должна проводиться уже выделенными войсками, заявили американцы[720]. Черчилль решил взять союзника не мытьем, так катаньем: форсируем Мессинский пролив, дальше все пойдем своим чередом.
На конференции в Квебеке параллельно с «Оверлордом» рассматривался преемник «Следжхэммера», обновленный план экстренной высадки союзников на континент – «Рэнкин» в трех модификациях:
Ситуация А
Полное ослабление духа и боевой мощи германских войск, которое делает возможным вторжение наличными англо-американскими войсками до определенного для операции «Оверлорд» срока.
Ситуация Б
Отвод германских войск из оккупированных районов.
Ситуация В
Безоговорочная капитуляция Германии и прекращение организованного сопротивления в Северо-Западной Европе.
В приложении 1 к общему документу говорится:
«В пределах возможного остается угроза полного поражения на русском фронте, что может побудить их (немцев) полностью прекратить оккупацию Западной и, может быть, также Южной Европы, чтобы бросить все наличные силы против русской угрозы и тем самым оттянуть час окончательного поражения и обеспечить оккупацию Германии скорее англо-американскими, чем русскими войсками».
В рамках ситуации В предусматривался захват в кратчайшие сроки районов, дающих в руки контроль «за соблюдением условий безоговорочной капитуляции». География этих районов определялась не без размаха. Американским войскам отводились Франция, Бельгия и Германия от швейцарской границы до Дюссельдорфа. Англичане занимали бы территорию Голландии, Дании, Норвегии и Северной Германии от Рура до Любека. План «Рэнкин» предусматривал формирование объединенной англо-американской гражданской администрации для Германии и для каждой из освобождаемых стран.
В этой редакции план был санкционирован Рузвельтом и Черчиллем в Квебеке. Но на сем мысль плановиков не иссякала.
Подновленный вариант от 8 ноября 1943 года нацеливал исполнителей на немедленное занятие войсками США и Англии в Северо-Западной Германии Бремена – Любека – Гамбурга; в Западной Германии – Рурской области и Кёльна; в Центральной Германии – Берлина и Дрездена; в Южной Германии – районов Штутгарта и Мюнхена; в Италии – районов Турина – Милана, Рима – Неаполя и Триеста; в Юго-Восточной Европе – Будапешта, Бухареста и Софии. «Символические силы» должны были высадиться в Гааге, Брюсселе, Лионе, Праге, Варшаве, Белграде и Загребе. Третьим эшелоном шло взятие под контроль Дании, района Киля, Салоник в Греции, острова Родос.
Везде лейтмотив – «опередить русских». Не координация действий с СССР, а контрдействия. Безоговорочная капитуляция Германии не перед антигитлеровской коалицией, включающей Советский Союз, а перед США и Англией.
Что сообщили Москве о принятых в Квебеке решениях? 26 августа Сталин получил совместное послание Рузвельта и Черчилля, в котором говорилось о планируемом расширении воздушного наступления против Германии с баз в Англии и Италии, а также о концентрации американских войск на Британских островах для высадки на континенте. Отмечалось, что эта операция с темпом развертывания сил от трех до пяти дивизий в месяц будет «основным американо-британским воздушным и наземным усилием». Задача на Средиземном море – отрыв Италии от рейха. Сроки отдельных операций не уточнялись[721]. О плане «Рэнкин», естественно, ни слова, ни намека.
После «Трайдента» в качестве срока открытия второго фронта называлась «весна 1944 года». А теперь и временем года не хотели себя как-либо связать. Не информация – но отписка, призванная затушевать факт изготовки к действиям, несовместимым с советскими интересами, что держали на уме в ожидании момента, когда СССР как союзник станет ненужным.
Итальянская кампания англосаксов не получила в послевоенных публикациях высоких оценок. Английский историк Дж. Фуллер аттестовал ее как уникальную «по своей стратегической бессмысленности и тактической заурядности»[722]. Многие американские авторы придерживаются «золотой середины»: зауживая цель против первоначального замысла до «вспомогательной», они утверждают, что в целом кампания себя оправдала. Правда, и заокеанские историки не проходят мимо посредственного руководства войсками, в частности из-за конкуренции между американцами и англичанами[723].
Итальянцы сдали Сардинию практически без борьбы. Немцы сами эвакуировали Корсику. Уступчивость противника породила в Лондоне иллюзию, что нацистское командование может ретироваться с островов в Восточном Средиземноморье и даже с Балкан.
Премьер нацелился на Додеканесские острова. Однако его новая попытка объявить «Апеннинский и Балканский полуострова единым целым в военном и политическом отношении» и причислить их к «фактически одному театру военных действий», установить некую взаимозависимость между развитием итальянской кампании и операциями в Эгейском море не произвела впечатления на американцев. США не поддались на уговоры «снять на несколько недель десантные средства и корабли штурмового эшелона десанта также с операции „Оверлорд“, не изменяя при этом установленной даты операции», чтобы не упустить «колоссальную, но ускользающую возможность» (захват острова Родос)[724].
Не помог и шантаж: в конце октября английские начальники штабов выразили мнение-предостережение, что, если кампания в Италии окончится неудачей или зайдет в тупик, «Оверлорд» неизбежно придется отложить. Попытки англичан действовать в одиночку, в обход США потерпели неудачу, что драматически описано в мемуарах премьера[725]. Драматически потому, что именно в Эгейском море затонули мечты подменить в последний момент «Оверлорд» дорогим его сердцу «балканским вариантом».
Заметим, между прочим, что Балканы, решись западные державы развертывать наступление здесь, стали бы крепким орешком. Из этого региона немцы получали незаменимые нефть, бокситы, медь, хром и другое сырье, а также сельскохозяйственную продукцию. К октябрю 1943 года вермахт оборудовал на Балканах прочный, по американским оценкам, оборонительный рубеж.
Отсутствие взаимопонимания с англичанами по вопросам европейской стратегии осенью 1943 года вызывало в Вашингтоне беспокойство. Оно «еще больше усилилось, когда, – как отмечал М. Мэтлофф, – стало ясно, что пришло, наконец, время согласовать англо-американскую стратегию с планами и намерениями другого главного союзника в войне с Германией – Советского Союза»[726]. «Пришло, наконец, время». Это, на взгляд американцев, которым верхнее чутье подсказывало, что подстраиваться к англичанам больше нельзя, настал, если не перезрел, крайний срок выправлять стратегию США в Европе, сообразуясь с действиями того государства, которое определяло суть происходившего.
Накануне Квебека президент возобновил предложение о личной встрече со Сталиным. В беседе с временным поверенным в делах СССР в США А. Громыко 19 июля Г. Гопкинс подчеркивал, что при такой встрече Рузвельт может удивить Сталина, насколько он, президент, готов далеко пойти в признании советских прав, в частности по территориальному вопросу. У Рузвельта имелись, по словам советника, «определенные обдуманные планы» и по другим вопросам[727].
Председатель Совнаркома и на сей раз уклонился от двустороннего обмена мнениями со стандартной ссылкой на напряженную фронтовую обстановку, требующую его присутствия в стране. Для проформы были упомянуты Астрахань или Архангельск в качестве возможного места для встречи «ответственных представителей» обоих государств. «Если Вас лично это не устраивает, – писал Сталин, – то Вы могли бы направить в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное лицо». Вместе с тем, как до этого в разговоре с Д. Дэвисом, он высказался за то, чтобы «совещание представителей двух государств превратить в совещание представителей трех государств»[728].
Ничто не говорит за то, что своим предложением Рузвельт преследовал тактические цели, искал, к примеру, оправдания для англо-американских конференций в Касабланке, Вашингтоне или Квебеке. Неконструктивный отклик из Москвы на президентские инициативы наверняка способствовал тому, что на всех этих конференциях США шли по пути наименьшего сопротивления англичанам. В том числе и по вопросу о втором фронте: поскольку советская сторона избегала сближения с ним, Рузвельт не видел смысла отдаляться от Англии.
В Лондоне знали о тяге президента к личной дипломатии и пытались отговаривать Рузвельта от нее. 25 июня премьер послал телеграмму, в которой писал, что любая встреча без англичан дала бы нацистской пропаганде повод для инсинуаций[729]. Неясно, почему тот же довод не останавливал Черчилля, когда он без президента ездил в Москву.
Что двигало Сталиным? Скорее всего, недопонимание личных особенностей Рузвельта и специфики роли президента в американской системе власти. Эмоции как следствие будоражащих данных о происках враждебно настроенных к СССР руководящих деятелей в госдепартаменте, военных ведомствах, генералитете, конгрессе США, перекликавшихся со «сведениями», которые пекли на лондонской кухне дезинформации и выставляли Рузвельта хамелеоном, недостойным доверия. Исторический опыт мог оправдывать взгляд на английскую позицию как более прагматическую, а американскую – как сугубо доктринерскую, но фактам того времени он не отвечал[730].
В конечном счете из предложения о двухсторонней встрече Рузвельта и Сталина выкристаллизовались идеи Московской конференции министров иностранных дел трех держав[731] и вслед за ней – совещания глав правительств СССР, США, Англии в Тегеране. Их значение для последующего хода событий трудно переоценить. Одновременно Москва и Тегеран дают представление о том, что могло совершиться на полгода или почти на год раньше, не откажи советскому диктатору его хваленая интуиция.
Разумеется, оснований прихорашивать позицию Вашингтона нет.к. Хэлла отправили на Московскую конференцию с предписанием не заключать каких-либо соглашений от имени комитета начальников штабов без особой на то санкции, проводить мысль о единстве англо-американской стратегии на всех театрах, пояснять планы войны с Японией «только в общих чертах», подчеркивать большие преимущества, которые открылись бы для СССР в случае его вступления в войну на Дальнем Востоке, то есть установить некую внутреннюю связь между вторым фронтом в Европе и вторым фронтом на Тихоокеанском театре военных действий.
На самой конференции американские, как и английские представители уходили от раскрытия намеченного срока высадки на континент якобы по мотивам обеспечения «безопасности операции». В действительности ими двигало нежелание превращать предварительные и рабочие планы, что легко менялись в зависимости от привходящих обстоятельств, в обязательства перед СССР. К тому же можно было неоднократно удостовериться, что присутствие англичан стесняло американских представителей, обедняло их информационно-словарный запас.
Об этом говорит, в частности, следующий эпизод. По ходу Московской конференции Рузвельт в телеграмме Черчиллю высказался за отсрочку ранее намеченного заседания англо-американского комитета начальников штабов. Ему, заметил президент, должны были бы предшествовать основательный анализ результатов встречи трех министров и переговоры со Сталиным.
Премьер, однако, категорически возразил. «Русским, – писал Черчилль в ответ, – не следует раздражаться, если американцы и англичане в тесном взаимодействии друг с другом готовят очень крупные операции, которые им предстоит провести в 1944 году на фронтах, где не будет русских войск. Я также не думаю, что нам следует встречаться со Сталиным, если эту встречу (с ним) вообще можно организовать, не договорившись об англо-американских операциях».
Премьер дал понять, что не рассматривает решение об «Оверлорде» как окончательное. «Расположение наших войск на театрах между Италией и Канадой определяется, – утверждал он, – не стратегическими потребностями, а ходом событий, возможностями морского флота и случайными компромиссами между англичанами и американцами». Черчилль предлагал заново взвесить ситуацию, имея в виду, что некоторые гипотетические условия для открытия второго фронта, «весьма вероятно, могут и не сложиться». Он ратовал за «величайшую осторожность и проницательность», чтобы не «дать Гитлеру шанс для потрясающего реванша». «В настоящее время мне многое неясно, и я не способен мыслить или действовать с расчетом на будущее, а это сейчас необходимо, – заключал премьер. – По этим соображениям мне хочется как можно скорее встретиться с Вами» (без Сталина)[732].
Рузвельт попробовал зайти с другого конца. Он предложил Черчиллю пригласить советского военного представителя на совещание англо-американских штабов. За этим делегатом признавалось бы право делать замечания и вносить предложения по ходу обсуждений. На совещаниях не предполагалось рассматривать чисто русских операций, за исключением тех, о которых советский представитель будет уполномочен сообщать. «Московская конференция, видимо, является подлинным началом англо-русско-американского сотрудничества, которое должно привести к скорому поражению Гитлера», подчеркивает президент, и нужно способствовать «дальнейшему развитию этого сотрудничества и в особенности укрепить уверенность Сталина в искренности наших намерений»[733].
Черчилль резко парировал: он «не одобряет идеи приглашения русского военного представителя на заседания нашего Объединенного совета начальников штабов». Премьер предрекал, что советский представитель «просто приставал бы насчет скорейшего открытия второго фронта и препятствовал обсуждению всех других вопросов». И без этого «между нами могут возникнуть серьезные разногласия, и мы можем пойти не тем путем, каким нужно. Или же опять мы можем пойти на компромисс и оказаться между двух стульев»[734].
Глава британского правительства, однако, давал маху: поезд тронулся без него. Лондону оставалось либо смотреть ему вслед, либо забираться в вагон на ходу, оставив большую часть британского багажа на перроне.
Накануне Московской конференции американские начальники штабов пришли к твердому выводу: Советский Союз в состоянии без западных держав разгромить Германию. При любом варианте развития он будет оказывать решающее влияние на положение в Центральной Европе и на Балканах. От США зависит ускорить поражение Германии. Последнее отвечало бы их основной стратегической цели и облегчало получение советской помощи для достижения быстрого разгрома Японии. Если бы СССР вышел из войны с Германией в момент, когда немецкая военная машина сохраняла свою мощь, западные союзники практически ничего не смогли бы предпринять на континенте, и дело свелось к воздушным налетам на рейх[735].
M. Мэтлофф обрисовывает возникшую ситуацию в хлестком афоризме: «Время пустых разговоров кончилось, и сейчас нужно было либо „подсечь рыбу“, либо „сматывать удочки“»[736]. Вступало в действие правило от противного: потребность СССР в военном сотрудничестве с Соединенными Штатами пошла на убыль, готовность американских планирующих органов заняться реализацией утвержденных в Квебеке схем крепла. Единственным основанием для их пересмотра могло бы теперь явиться согласие Москвы с позицией Лондона.
Московская конференция мининделов (19–30 октября 1943 года) значительна в первую очередь своими политическими результатами, той ролью, которую она сыграла в подготовке климата для первой встречи в верхах в Тегеране, а также в создании механизма выработки документов, связанных с капитуляцией Германии и установлением норм послевоенного обращения с нею. Весьма важным было рассмотрение проблем, вытекавших из освобождения порабощенных нацизмом народов Европы и задач обеспечения стабильного мира. В целом конференция проходила под знаком признания необходимости ускорения разгрома агрессоров и приближения сроков победы – вопроса, поставленного на ней во главу угла советской стороной[737].
И все же, думается, М. Мэтлофф перебарщивает, квалифицируя встречу трех министров как «поворотный пункт в развитии военного сотрудничества между союзными державами во Второй мировой войне»[738]. Возможно, так оно и было для штабов США. Вашингтон отрывался от британской пуповины, не чувствовал себя обреченным на сотрудничество единственно с англичанами. Впрочем, отход от Лондона не был равнозначен сближению с СССР. Курс на параллельные действия с нами сочетался с акциями, нацеленными на обустройство особого положения США в мире, если понадобится, без СССР и в перспективе против него.
Для Англии конференция являлась очередным этапом в борьбе за собственную концепцию войны, очищенную от «случайностей и компромиссов», о которых Черчилль писал Рузвельту, – концепцию, ориентированную всецело на сотворение послевоенного порядка в британском вкусе. В конце 1943 года, признает М. Мэтлофф, США и Англия стояли перед задачей «окончательно, раз и навсегда определить стратегию войны в Европе». И он же: «В стратегическом планировании коалиционной войны наступил критический момент. Прошло почти два года со времени событий в Пёрл-Харборе, а определенной договоренности между союзниками по вопросу о стратегии в разгроме основного противника – Германии – все еще не было. И это был не только вопрос о времени начала операции „Оверлорд“ или о целесообразности ее проведения вообще. Стратегия глобальной войны в целом, концепция „разгрома Германии в первую очередь“, роль США, Англии, Советского Союза в коалиционной войне – все эти проблемы ждали своего решения»[739]. До поворота, о котором говорил только что историк, было далековато.
Запомним, что, по предложению англичан, Московская конференция приняла специальное решение «О линии поведения в случае получения пробных предложений мира от враждебных стран». Оно предусматривало, что правительства трех держав будут «немедленно информировать друг друга о всякого рода пробных предложениях мира, которые они могут получить от правительства, отдельных группировок или лиц страны, с которой любая из трех сторон находится в состоянии войны. Правительства трех держав далее договариваются консультироваться друг с другом, с тем чтобы согласовывать свои действия в отношении подобных предложений»[740]. Запомнив, спросим себя: видно, неспроста проклюнулось желание прослыть образцовыми союзниками? Надолго ли его хватит?
После Московской конференции президент США провел ряд совещаний с военными, на которых рассматривались: план «Рэнкин»[741], разделение Германии на зоны оккупации, перевооружение французских войск, вступление Турции в войну, сотрудничество с СССР после войны. Не исключалось, что Германия может капитулировать до высадки союзников во Франции или в ходе нее. Соответственно предусматривалась возможность вычленения американских войск из «Оверлорда» на любой стадии проведения операции, чтобы использовать их для оккупации намеченных в плане «Рэнкин» районов. «Мы должны сделать все возможное, – заявил Рузвельт, – чтобы американские дивизии были в Берлине так быстро, как это возможно». Конструировался некий гибрид «Раундапа» с «Рэнкином», причем элементы последнего перевешивали. Все планирование велось из посылки, что сопротивление немцев войскам США будет малозначительным, а победа над Германией – легкой и быстрой благодаря подавляющему воздушному превосходству союзников и использованию ими высокомобильных соединений.
Зоной оккупации США Рузвельт хотел видеть Северо-Западную Германию до линии Берлин-Штеттин. Англичане получили бы районы к югу и западу от американской зоны. Территория к востоку отводилась СССР. По этим линиям Германия должна была быть разделена позднее на три (или пять) государств. Идея «поощрения сепаратистских тенденций» предполагала (или, как минимум, допускала) проведение различной политики в каждой из зон уже на этапе оккупации. Карта с собственноручными пометами президента была передана 19 ноября начальнику штаба армии Дж. Маршаллу.
Симптоматичен ход американских рассуждений по Франции. Считалось нецелесообразным способствовать наращиванию французского военного потенциала до размеров, допускающих его использование для восстановления власти Франции на всех ее заморских территориях или для оккупации стран оси, а также в военных действиях против Японии. Рузвельт предрекал, что «Франция не сможет стать великой державой еще по крайней мере 25 лет». Он был против возвращения французам Индокитая, Новой Каледонии, Маркизских островов и Дакара. Последнему отводилась роль «аванпоста Америки на Африканском материке» (при формальном контроле над портом, аэродромами и прочими военными объектами со стороны Бразилии, которая действовала бы от имени Объединенных Наций). Рузвельт, таким образом, ужесточал свою позицию в сравнении с началом 1943 года[742].
Что касается будущих отношений с СССР, то сведения о дискуссиях на сей предмет более чем скудны. Судя по линии Рузвельта в беседах с Черчиллем и Чан Кайши в Каире и затем на встрече глав трех держав в Тегеране, президент, претендуя на неоспоримое лидерство при определении политики и стратегии западного блока, не отрицал необходимости и целесообразности долговременного сотрудничества с СССР «путем согласования интересов сторон».
Каирские переговоры стали остужающим душем для Черчилля. Балканский вариант был отвергнут. По оценке Маршалла, он привел бы к сокращению американских военных возможностей «ровно на одну треть» и затяжке войны как в Европе, так и на Тихом океане. Соединенные Штаты отказались втягиваться в операции на Восточном Средиземноморье (остров Родос и прочее). Были отклонены попытки Лондона подчинить подготовку «Оверлорда» развитию военных действий в Италии. Американцы выступали за немедленное назначение Верховного главнокомандующего для руководства «всеми операциями Объединенных Наций против Германии со стороны Средиземного моря и Атлантики». Англичане уклонились от этого предложения, ибо главнокомандующим стал бы американский генерал[743].
«Условное» согласие американцев взвесить возможность новых операций в районе Средиземного моря было навеяно донесениями генерала Дина из Москвы, приписывающего советскому правительству тягу к балканско-средиземноморскому варианту и утрату интереса к второму фронту. «Наблюдения» Дина подкрепляли британские службы. Не исключено, что они-то и подсказали американцу гипотезу, которая рассыпалась ровно через три недели.
В Тегеране американские доводы в пользу «Оверлорда» и против распыления сил на Средиземноморском театре встретили с советской стороны полную поддержку. Согласно записи американцев, Сталин заявил, что «с русской точки зрения Турция, Родос, Югославия или даже занятие Рима не имеют значения». Он предложил дать штабам следующую директиву: «1) Для того, чтобы русские могли оказать помощь с востока в проведении операции „Оверлорд“, надо наметить определенную дату и не переносить ее. 2) Если возможно, операция в Южной Франции должна быть предпринята за два месяца до операции „Оверлорд“, но если это невозможно, тогда она должна быть начата одновременно или даже несколько позднее операции „Оверлорд“. 3) Главнокомандующий операцией „Оверлорд“ должен быть назначен как можно скорее».
Черчилль предпринял все, чтобы подвесить операцию «Оверлорд», сделать обязательства западных держав аморфными. В беседе с премьером один на один 30 ноября Сталин прибег к крепкому приему: если в мае 1944 года не будет высадки в Северной Франции, Красная армия воздержится в течение года от всяких операций. «Погода будет плохая, будут затруднения с транспортом, – заявил, согласно английской записи, Председатель Совнаркома. – Разочарование может вызвать недоброжелательство. Если не произойдет крупных изменений в европейской войне в 1944 году, русским будет очень трудно продолжать войну»[744].
Была установлена взаимозависимость между конкретной датой начала «Оверлорда» и подготовкой СССР новых ударов по Германии. Имея на руках документы, отражавшие американский и британский подходы к рассматривавшимся в Тегеране вопросам, а также донесения о раскладе сил в готовившейся англо-американской высадке на континент, Сталин де-факто превращал «Оверлорд» в составную часть как бы общей союзнической стратегии. Это не исключало шашней Лондона и Вашингтона на стороне и коварства типа плана «Рэнкин», но до какой-то степени все же сдерживало их.
Только в этот день, 30 ноября, Рузвельт сообщил Сталину, что форсирование проливов назначено на май. Москва, в свою очередь, обязалась организовать крупное наступление на Восточном фронте «примерно в это же время» и тем помешать переброске на Запад сколько-нибудь значительных германских сил. Соглашение было оформлено как «военное решение» конференции. Оно вменяло военным штабам трех держав держать тесный контакт друг с другом в интересах предстоящих операций в Европе[745]. Под второй фронт была подведена договорная основа.
Черчилля осадили, хотя зуд интриговать у него не иссяк. Главе администрации США пришлось отказывать англичанам в привлечении средств, переадресованных с «Баканира» на «Оверлорд», для «попутного» участия в высадке десанта в Анцио (Италия), как и в выделении транспорта под планы захвата острова Родос (операция «Геркулес»). 27 декабря 1943 года Рузвельт телеграфировал премьеру, что «в связи с англо-советско-американским соглашением, достигнутым в Тегеране, я (президент) не могу без санкции Сталина одобрить какое-либо и где-либо использование сил и средств, которое могло бы задержать или нанести ущерб успеху операций „Оверлорд“ и „Энвил“»[746].
Тогда Черчилль занялся противопоставлением «Оверлорда» «Энвилу», «Энвила» – операциям в Италии. В конце концов он добился того, что высадка на юге Франции была обусловлена продвижением союзных войск на Рим. Тем не менее навязать американцам совместную экспедицию в Югославию он не смог.
Из сказанного не следует, что советско-американские отношения после Тегерана засверкали теплотой, искренностью, последовательностью. Эти качества можно было зарегистрировать в лучшем случае как тенденцию, угасавшую по мере понижения уровня контактов. Указания Рузвельта многое теряли в своей конкретности и энергии, пройдя через руки таких деятелей, как У. Леги, К. Хэлл, Дж. Маршалл. Информация, которую получал президент от посольств, штабов, разведки и контрразведки, препарировалась в расчете на сдерживание его благостных порывов, подпитывание настороженности, закрепление симптомов великодержавного эгоизма. Министры, руководители ведомств, военачальники злоупотребляли принципом разделения ответственности и подчас проводили собственную линию, далеко не во всем схожую с президентской.
Поэтому приходится отличать решения, принимавшиеся наверху, от их практического исполнения, намерения – от поступков. Разная степень централизации и государственной дисциплины в СССР и США – при невозможности каждый раз докапываться до корней – оборачивались недоразумениями, осложнениями и разногласиями, порой на пустом месте.
Негативно на общем климате в коалиции сказывались скрытые и явные попытки Вашингтона обустроить позиции, ставившие Соединенные Штаты в особое положение на перспективу. Ряду проектов, ориентированных главным образом на послевоенный период, согласно информации, поступавшей в Кремль, отдавался наивысший приоритет. Если к этому времени судьба Германии была предрешена, то не случайным казался вопрос: о чьей еще судьбе пеклись за океаном?
Не обязательно было буквально принимать слова генерала Гровса, руководителя «манхэттенского проекта», что атомная бомба мастерится в расчете на следующий конфликт – для войны против СССР. Но, зная о подобных откровениях, совпадавших, заметим, с британскими, оставлять их неучтенными тоже не очень получалось.
После решения Московской конференции о «пробных шарах» из вражеских стран связи демократов с противником не оборвались. Их упаковка становилась все непроглядней, отчего доверие тоже не выигрывало. Существует сводная справка Управления стратегических служб США о связях и зондажах, осуществлявшихся при участии американской разведки в Европе с представителями вражеских стран и их посредниками. Опубликована пока лишь сопроводительная записка У. Донована к докладу-справке[747]. По-видимому, в справке содержатся кое-какие изюмины, иначе чего бы таиться. Но сверхновое по сути, не по именам, вряд ли там присутствует. Хотя чего не бывает.
Контакты англичан и американцев, в том числе с нацистской верхушкой, поддерживались вплоть до мая 1945 года, чаще через «двойников» из рядов верхушечной оппозиции, через деловые круги, «нейтралов», при посредничестве турецкой, шведской и швейцарской разведок, представителей правительств Испании, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции и Ватикана[748]. Этот слепок дает некоторое представление о размахе операций на невидимом фронте. Но в 1943 году и позже нарастанием количества дело не обошлось. Складывалось новое качество, которое приглашает к корректировке целого ряда устоявшихся оценок и понятий.
Нельзя принимать за данность утверждения, будто западные державы оставались «безразличными» и «безучастными» к активности антигитлеровской и антинацистской оппозиции внутри Германии. В данном случае собирательные понятия «Вашингтон» и «Лондон» не всегда годятся, ибо способны сбить с толку.
Оставим в стороне различия между правительственной и неправительственной линиями. Но и в том, что нельзя вычленить из государственных структур, имелся веер цветов и оттенков, на любой вкус – «личный», «деловой», «профессиональный». Подчеркнутую «сдержанность» в политическом пентхаусе касательно зондажей истинных и мнимых оппозиционеров из рейха этажами ниже и особенно в пристройках да флигелях не принимали за «нет» Белого дома или Даунинг-стрит, за амбарный замок на шлагбауме. Интерес к «альтернативам Гитлеру» никогда не угасал. Со временем он приобрел специфический характер.
На этом последнем – специфическом – интересе, не отменяющем значения политических, дипломатических, экономических контактов и в известной мере пересекавшемся с ними, надо бы задержаться.
Интеллидженс сервис (МИ-5) располагала солидной базой в Германии. Если в 1938–1939 годах информация в Лондон шла с уровня начальников отделов абвера, то не позднее декабря 1940 года на прямую связь с известным «С» – шефом британской разведки – вышел сам адмирал В. Канарис. Их личная встреча в 1943 году упоминалась. Естественно, ее надо понимать как нечто экстраординарное, призванное освятить договоренности, которые не вверяются даже сверхдоверенным агентам. Мы не отклонимся от истины, приняв гипотезу: руководители двух разведслужб обговаривали действия, призванные обеспечить успех операции «Рэнкин». В июне 1944 года сэр Стюарт Грэхем Мэнзис («С») получил от немецкого коллеги обстоятельную информацию о планах верхушечной оппозиции по физическому устранению фюрера.
Даже имея в наличии все без изъятий архивные материалы МИ-5 и Управления стратегических служб США, было бы сложно установить, кого Канарис жаловал больше – англичан или американцев – и кто – Лондон или Вашингтон – эффективней пользовался возможностями шефа абвера[749]. Западные союзники скупо делились между собой разведанными секретами. Факт контактов УСС с заговорщиками 20 июля был раскрыт без «излишних» подробностей перед англичанами лишь после взрыва в «волчьем логове». Вроде бы и Мэнзис своих тайн американцам не поведал.
Можно считать доказанным, что У. Донован и В. Канарис состояли в личном контакте не менее 2,5–3 лет до ареста и казни адмирала. Сотрудничество с абвером открывало американской (и британской) стороне доступ к аутентичным сведениям о самочувствии нацистского режима и его институтов, о важнейших операциях вермахта, к немецким оценкам жизнеспособности СССР, а также союзников Берлина. В какой мере собственные действия Канариса, сорвавшие или серьезно осложнившие реализацию планов Гитлера в Испании, Италии и Северной Африке, являлись отзвуком его связей с МИ-5 и УСС, – требует отдельного исследования. Так или иначе, навар от связей с абвером не уступал в ценности данным, что добывали спецслужбы Запада от любых других видов и групп внутригерманского противодействия Гитлеру.
Нелишне заметить, что Канарис выводил УСС и МИ-5 на те круги в рейхе, которые располагали определенным весом, но нуждались во внешних стимуляторах для перехода от слов к делам. Параллельно создавалось впечатление, что антигитлеровская фронда или оппозиция представляет собой некоторую величину. Наиболее заметными именами среди двух-трех десятков деятелей, выполнявших поручения адмирала или прибегавших к его услугам, были Гельмут Джеймс фон Мольтке, Ганс фон Донани, Дитрих Бонхёффер, Йозеф Мюллер.
СД и гестапо знали о факте утечки критически важных государственных секретов, но редко добирались до горизонтов, что давали течь, до организаторов и исполнителей трансакций, до их покровителей. Это свидетельствует не столько об умелой конспирации, сколько о необходимости дополнительно разбираться в россказнях насчет «всевидящего ока», будто бы державшего в поле зрения всех и вся в Третьем рейхе.
Мало надежд пробиться к истокам, принимая за чистую монету все то, что рассекречивается разведками, или предположив, что с обретением пары-другой монет особого достоинства наша нумизматическая коллекция становится завершенной. Сотрудники спецслужб сплошь и рядом понимают себя свободными от условностей и ограничений, предписываемых законами, не только вовне, но и внутри собственных стран. Возникают закрытые сообщества, живущие по собственным нормам и правилам, вкусившие от свобод, что дарит бесконтрольность.
Президент Рузвельт, к примеру, не одобрял контактов с фон Папеном и эмиссарами Гиммлера или сомневался в наличии концептуальной базы для продолжения сотрудничества с Мольтке и его единомышленниками. Конечно, это было неприятно для УСС. Но «человек действия» Донован, как называет его Ю. Хайдекинг, республиканец и предприниматель, не испытывавший никакой брезгливости по отношению к немецким консерваторам[750], не впадал в отчаяние. «Нельзя» означало лишь, что надо было быть разборчивей при докладах наверх, где в сутолоке дел утрачен вкус к разведывательной интриге и хвалу воздавали лишь за зримый и ощутимый результат. Еще меньше информаций посылалось в Белый дом, почти ничего – в госдепартамент и британскому союзнику. Особая статья – какие сведения не должны были ни при каких поворотах попадать «к русским»[751].
Принимается решение использовать под ответственность Управления стратегических служб связи в рейхе, чтобы двигать вперед – на базе, понятно, плана «Рэнкин» – приготовления к вторжению на континент, «пренебрегая любыми соображениями, касающимися будущего Европы или будущего Германии». Даются указания рассматривать группу Мольтке (и других) в качестве «потенциального резервуара двойных агентов». Их следовало «по холодному расчету иным образом (не только в качестве двойных агентов) вводить в действие, невзирая на личности отдельных немцев, их безопасность, личные связи с ними или конечный эффект для Германии в случае успешного вторжения». Иными словами, отмечает Ю. Хайдекинг, УСС «инструментализировало свои связи с противником в интересах вооруженной борьбы». Управление также монополизировало эти контакты, чтобы набрать козырей в вашингтонской бюрократической круговерти[752].
Для полноты картины прибавим, что пример Донована нашел подражателей в его собственном хозяйстве. Шеф УСС свободно истолковывал приказания президента, а Даллес и другие не молились на Донована. Вот и извольте гадать, когда же А. Даллес вошел в контакт с группой немецких деятелей, которых он в январе 1944 года окрестил во «взломщики». Если верить письменным донесениям резидента, это случилось не позднее 29 ноября 1943 года[753]. Тогда непонятно, зачем Доновану понадобилось докладывать Рузвельту (22 июля 1944 года), что «в первый раз два делегата группы заговорщиков вышли на представителя УСС в Берне в январе 1944 года»[754]. «Высокие соображения» мешали сказать нечто похожее на правду Лондону и Москве, но проводить собственного президента?!
По данным, имевшимся в Москве, интенсификацию деятельности УСС с задачей склонить германских генералов к сотрудничеству в интересах «скорейшего окончания войны» следует датировать августом-сентябрем 1943 года. И не случайно из-под пера Даллеса вышла фраза: «Если мы скоординируем меры в психологической и военной областях ведения войны, мы можем (подчеркнуто в оригинале. – В. Ф.) расколоть Германию и окончить войну в этом (1943) году»[755].
Утверждение в Квебеке близкого сердцам американских спецслужб плана «Рэнкин» вдохновляло. На каждый из трех принятых военно-политических сценариев: немцы оказывают «нормальное сопротивление» и им должно быть нанесено поражение («Рэнкин-А»); сопротивление незначительно, а Западный фронт частично будет открыт («Рэнкин-Б»); нацистский режим рухнет в канун или во время высадки («Рэнкин-В»), – отрабатывалась своя тактика поведения. Под кодовым названием «Герплан» спешно составлялись списки лиц, «заслуживающих доверия» и готовых к сотрудничеству, которые могли бы быть полезными при спешной оккупации территории рейха войсками западных держав[756].
На войне как на войне. Не возникало бы особого повода упрекать разведку США за то, что она стремилась создать наивыгоднейшие предпосылки для высадки союзнических войск в Северной Франции, если бы… если бы речь шла в основном о военных аспектах операции. Если бы имелась в виду операция против общего противника, а не фактически акт демонтажа антигитлеровской коалиции и ступенька к тому, что позднее войдет в летопись под названием «холодная война», но в тех конкретных условиях вполне могло стать прологом к глобальной катастрофе.
Гельмут фон Мольтке – один из учредителей «Крайзауского кружка», в котором группировались главным образом либерально мыслящие выходцы из аристократической и церковной среды, делового мира, профессуры, – отправился в ноябре 1943 года в Турцию. Поездка выполнялась по заданию Канариса для установления контакта с Верховным командованием западных союзников. В Турции должна была состояться встреча Мольтке с посланником США в Каире Кирком, о чем имелась предварительная договоренность. Кирк, однако, от встречи уклонился. Вместо него на беседу отрядили американского бригадного генерала Р. Г. Тиндэлла, который отнесся к графу Мольтке как к заурядному агенту. Никакого доверительного разговора не получилось. Перед отъездом из Турции Мольтке написал Кирку письмо, в котором выделялась мысль о необходимости безотлагательно кончать войну и уже затем справляться с возникающими проблемами[757].
Соображения, которые Мольтке должен был довести до сведения руководства США, обобщили после разговора с эмиссаром Канариса сотрудники УСС Г. Вильбрандт и А. Рюстов в форме докладной записки Доновану. Записке дан характерный заголовок: «Экспозе о готовности влиятельной немецкой группы подготовить и поддержать военные операции союзников против нацистской Германии». Основные ее положения состояли в следующем.
Оппозиция распадается на два крыла. Более многочисленное, к которому тяготеют военные, особенно из состава ВВС, ориентируется на добрососедство с Россией. Убеждение в необходимости блюсти эту традицию окрепло под впечатлением силы и выносливости Красной армии и искусства ее Верховного командования. Значительный отзвук в восточном крыле нашло учреждение в Москве союза немецких офицеров, в который вошел ряд выдающихся и лично не запятнанных военных.
«Западная» группа численно слабее, но представлена военными и государственными чиновниками, занимающими ключевые посты, в том числе в Ставке Верховного командования. Кроме того, она находится в тесном контакте с католическими епископами, евангелической церковью, ведущими деятелями бывших профсоюзов, а также влиятельными промышленниками и интеллектуалами. Эта группа стремится безотлагательно создать практическую основу для подлинного сотрудничества с США и Англией.
По мнению «западной» группы:
1) поражение Германии и ее оккупация морально и политически необходимы для будущего нации;
2) требование безоговорочной капитуляции справедливо. Дискуссии о мирных условиях не могут предшествовать капитуляции. Проанглосаксонская группа исходит из того, что цели ответственных деятелей (западных) союзников касательно «человеческих отношений» в принципе не отличаются от ее собственных и что естественная общность интересов Германии, сбросившей нацизм, и «демократических наций» неотвратимо должна вести к плодотворному сотрудничеству между ними. В совпадении целевых установок немецкие демократы усматривают более надежную гарантию достижения состояния равенства и уважения достоинства после войны, чем любые заверения, которые могли бы быть даны в настоящее время;
3) важной предпосылкой плана является сохранение боеспособного Восточного фронта в опасной близи от немецкой границы примерно по линии Тильзит-Львов. Это оправдало бы в глазах немцев радикальные решения на Западе как единственный способ упредить надвигающуюся угрозу с Востока;
4) группа готова к самой далеко идущей кооперации с западными союзниками при условии, что использование военной информации, средств и авторитета, которым располагает группа, будет увязано с крупной военной операцией союзников, вселяющей уверенность в быстром, решающем успехе на широком фронте. Победа над Гитлером, сопровождаемая по возможности самой скорой оккупацией западными союзниками всей Германии, разом изменила бы политическую ситуацию таким образом, что стал бы слышен подлинный голос Германии;
5) если, однако, вторжение в Западную Европу пошло бы так же, как в Италии, содействие группы не только не сыграло бы решающей военной роли, но могло бы родить новую легенду о кинжальном ударе в спину, которая лишь скомпрометирует немецких патриотов. Следовательно, полумеры принесут больше вреда, чем пользы. Поэтому группа не готова сотрудничать ради ограниченных целей;
6) в случае открытия второго фронта на Западе как операции, проводимой превосходящими силами и с задачей полной оккупации Германии группа готова поддержать акцию союзников со всей энергией и всеми имеющимися у нее важными вспомогательными средствами. После тщательного согласования планов она могла бы направить высокопоставленного офицера в соответствующую союзную страну для координации действий с союзным верховным командованием;
7) при соблюдении изложенных предпосылок вторжение союзников могло бы быть поддержано достаточным числом боеспособных частей вермахта;
8) группа позаботится о том, чтобы одновременно с высадкой союзников было образовано временное антинацистское правительство, которое выполняло бы невоенные обязанности. Состав такого правительства был бы определен заранее;
9) группа воспринимает перспективу «большевизации Германии в результате подъема национального коммунизма как смертельную угрозу Германии и сообществу европейских наций». Она исполнена решимости выступить против этой опасности всеми возможными средствами и в особенности воспрепятствовать тому, чтобы «война была закончена благодаря победе Красной армии, ведущей к русской оккупации Германии до подхода англосаксонских армий». С другой стороны, группа не хотела бы открыто конфликтовать с сильными прорусскими кругами в Германии и имеет в виду попытаться побудить их внести свой вклад в восстановление. Это нужно, чтобы новое «демократическое правительство» не выглядело экспонентом иностранных интересов;
10) во имя подрыва позиций левого радикализма планируемое «демократическое правительство» должно заигрывать с социал-демократами и профсоюзами, а при необходимости пойти на контакты с «независимыми коммунистами»;
11) местопребыванием контрправительства на первое время могла бы быть Южная Германия, возможно – Австрия. Желательно, чтобы гражданское население этой области не подвергалось террористическим воздушным налетам[758].
Что сталось с запиской и «планом Германа», как были закодированы соображения, приписываемые Мольтке? Резидентура Управления стратегических служб в Стамбуле переслала документ через штаб-квартиру в Алжире в США. Формально «план Германа» не стал предметом изучения в госдепартаменте. Донован адресовал его комитету начальников штабов с припиской, что автор и ряд других членов оппозиционной группы знакомы ему лично как деятели, питающие симпатии к США и Англии. Директор УСС засвидетельствовал серьезность намерений группы, отметив одновременно, что ее слабостью является отсутствие опоры в массах.
Далее Донован указывал на то, что «помянутая в экспозе линия Тильзит-Львов, на которой должно быть остановлено наступление русских, есть важное условие успеха плана… Это означает, что территория, подлежащая оккупации британо-американскими войсками, включает не только всю Германию, но и большую часть Польши». И в конце вывод: только при «широкой интерпретации» это может рассматриваться как «антирусское предложение»[759]. С точки зрения шефа разведки США, все, что устраивало консервативно-реакционную фракцию Вашингтона, должно было приветствоваться остальными и, понятно, не в Америке одной.
У. Донован разошелся в своих оценках с выводами руководителя «службы изучения и анализа» У. Лангера. Лангер (а) подверг сомнению факт существования «сравнительно большой, хорошо организованной и влиятельной группы», описываемой «Германом», – речь может, скорее, идти о «преимущественно военной организации во главе с генералом высокого ранга», которая утверждает, что располагает сторонниками среди дипломатов, юнкеров, крупных промышленников и даже несколькими лицами из гестапо; (б) «само собой разумеется, что в Германии есть определенные элементы или группы, играющие с идеей капитуляции перед британцами и американцами, дабы упредить прорыв большевистских армий»; (в) «главная цель авторов (плана „Германа“) – обеспечить себе сравнительно благоприятную линию против русских на востоке, а британцев и американцев завербовать в защитники Германии против большевиков».
Как полагал Лангер, было бы «тяжелой ошибкой» соблазняться предлагавшимися в «плане Германа» условиями, особенно в момент, когда «русские в любом отношении располагают большими возможностями для независимых действий, чем западные державы»[760]. Приговор суровый, тем более что У. Лангер полемизировал с Донованом и его мозговым центром.
Есть более чем веские основания считать, что Рюстов и Вильбрандт «творчески» обобщили и обогатили соображения, услышанные от Мольтке[761]. Англосаксонские привязанности графа вне сомнений. Но все обширное письменное и устное наследство Мольтке никак не выдает в нем того воинственного антисоветчика, каким он предстает на страницах «экспозе». С другой стороны, достаточно известно острокритическое отношение Мольтке к Герделеру и другим «реакционерам», шедшим в США и Англии за потенциальных попутчиков и даже партнеров. Зная цельную натуру этого незаурядного человека, допустить, что он выдал верительные грамоты подобного рода «патриотам», и к тому же без оговорок, значило бы преступить грань терпимости.
Нетрудно проследить в ставшей известной редакции «плана Германа» столь типичные для информации Управления стратегических служб США из Берна, Стокгольма, Стамбула, для продукции многих вашингтонских салонов акценты на опасность «большевизации» Германии и всей Европы[762], на необходимость, приняв сторону «западников» среди немецких оппозиционеров, задержать СССР как можно дальше на Востоке и предотвратить капитуляцию рейха перед Красной армией, на «родство высших интересов» Германии и демократий. Очевидный перебор совпадений. Негоже приписывать их случайности. Скорее перед нами часто используемый в дипломатической и разведывательной практике прием, когда для придания большей убедительности собственным аргументам их вкладывают в уста партнеру или клиенту.
Пока не прояснена взаимосвязь между «планом Германа» и другим документом, имевшим форму письма, исполненного на бланке немецкого посольства в Анкаре и подписанного д-ром П. Леверкюном (представлял до войны в Вашингтоне немецкую «смешанную комиссию по претензиям» и с тех времен поддерживал связь непосредственно с Донованом). В письме, между прочим, отмечалось, что «оппозиция» не может гарантировать в случае союзнического вторжения полного бездействия всего Западного фронта. Она располагает, однако, таким влиянием на командующих сухопутными войсками и частично ВВС на Западе, что немецкие контрмеры против десантируемых соединений США и Англии будут по меньшей мере приниматься с запозданием. В ответ от западных держав ожидают готовности вступить в переговоры с новым немецким правительством после государственного переворота.
Донован лично доставил письмо Леверкюна по назначению, предварительно проконсультировавшись с немецким профессором К. Брандтом, жившим в эмиграции в США, относительно подлинности текста. По одним сведениям, рекомендация генерала поддержать означенную активность не нашла одобрения Рузвельта. По другим, Доновану разрешалось войти в связь с оппозицией на основе означенных соображений, но от переговоров с «восточногерманскими юнкерами» уклоняться, то есть быть в контактах разборчивым. Судя по тому, чем занимались резидентуры УСС с начала 1944 года, а позднее – также офицеры из штаба Эйзенхауэра, вторая версия представляется более правдоподобной.
Параллельно оппозиционеры общались с англичанами. Тротт цу Зольц в ноябре 1943 года встречался с руководящим сотрудником британского министерства информации У. Монктоном в присутствии шведского министра иностранных дел К. Гюнтера. Визиты Тротта в Стокгольм повторились в марте и июне-июле 1944 года[763]. Формально ему ничего не обещали, но охотно принимали информацию и советы, которые придавали большую целеустремленность агентурной работе британской разведки, вычленявшейся из обязательств, что приняли на себя англичане в Москве.
«Возмутительное», по выражению составителей сборника «Секретная переписка…»[764], обвинение в «Правде» – сообщение о контактах между Риббентропом и английскими руководящими деятелями, опубликованное 17 января 1944 года, – отталкивалось от поступивших в Кремль сигналов о контактах сотрудников (Зольц) германского МИДа с представителями Лондона. Сознательный или произвольный перехлест состоял в увязке усилий по «формулированию условий сепаратного мира с Германией» с личностью Риббентропа. Неточность или нарочитость не меняли сути. Раздражение Черчилля шло от сознания того, что его замыслы для Москвы не тайна.
Потребность постичь подтекст упорного нежелания англичан и не слишком горячей заинтересованности американцев в налаживании предметного и конкретного сотрудничества между штабами западных держав и советским Генеральным штабом, ухода демократий от координирования крупных операций неотвратимо подводит нас к заключению: Лондон и Вашингтон писали «один», а «два-три-пять» постоянно придерживали в уме. Им все время было что скрывать от СССР. Они лелеяли надежду, что Германия рухнет, не успев расписаться в капитуляции, что распад рейха, режима и армии начнется с Запада и, в отсутствие твердых договоренностей с советской стороной о разграничении сфер ответственности, о политических ориентирах послевоенного сотрудничества или хотя бы способах мирного сосуществования, это освободит США и Англию от необходимости уважать интересы Советского Союза, вклад советского народа в победу. Моральные же обязательства Британию и Америку никогда не занимали настолько, чтобы чеканить их поступки.
Не что иное, как расчет на сепаратное решение де-факто, скрывался за систематическими ссылками Черчилля, которым внимали в Белом доме, на возможность в любой момент «революционных событий» в Германии, напоминающих 1918 год. Большая политика Вашингтона и Лондона до глубокой осени 1944 года строилась на презумпции асимметричного подхода самого нацистского руководства к операциям на Востоке и Западе, на не просто вероятности, но почти неизбежности – перед лицом надвигавшейся катастрофы – реакции «подлинных правителей» Германии: они привели Гитлера к власти, они с ним и покончат.
Весомым доказательством справедливости этого утверждения может служить факт: «Следжхэммер» и его преемник «Рэнкин» избежали судьбы «Раундапа» и прочих разновидностей планов открытия второго фронта в 1941–1943 годах. Их перманентно держали про запас. Случись ожидавшийся и поощрявшийся демократиями переворот в нацистском рейхе – достаточно было дворцового, – экстренной операции немедленно дали бы старт. Нашлись бы и войска, и оружие, и десантные средства. И с погодой поладили бы. Потому что налицо было желание.
Глава 9 Второй фронт: быть ко всему готовыми
Из обширного перечня проблем, заслуживающих системного анализа, остановимся на нескольких, пока наименее разработанных.
С 1943 года подходы Вашингтона к конкретным событиям все чаще замыкались на соображения и прогнозы, простиравшиеся за горизонт капитуляции агрессоров. Под этим углом оценивались плюсы и минусы отдельных операций, кампаний, театров военных действий, составлялись планы политических, экономических, военных и специальных мероприятий.
Вопрос, вокруг которого не затихали дискуссии, гласил: как обрести рычаги воздействия на сколько-нибудь значительные процессы повсюду в мире. Вопрос, конечно, не методологический. Он всегда неразрывно связан с мировоззрением, со зрелостью строя, заложенной в нем способностью совершенствоваться, обновляться, адаптироваться к переменам во внешних условиях. Спектр мыслей относительно того, что могут и что не должны делать США, был весьма пестр, как и различия в выборе политических, моральных, философских критериев для обоснования дозволенного и недозволенного.
Рузвельт был нестоек в настроениях, подвержен влияниям, нерасторопен до того, что подчас лучшая из представлявшихся возможностей оказывалась упущенной. Но при всем этом колебания и поиски Рузвельта вращались вокруг какой-то идеи, которую он избегал отдавать на заклание конъюнктуре, шли вдоль линии, прочерченной в его сознании и им ценимой. За скрытностью президента, нежеланием посвящать кого-либо в свои конечные замыслы, недомолвками в ходе куда как серьезных обсуждений, оставлением в неведении госсекретаря, других министров по наиважнейшим вопросам внешней и внутренней политики – за всем стояло, думается, стремление обеспечить успех своему «новому курсу». Рузвельт служил ему, не считаясь со многими, по американским меркам, неудобствами. Он мог рассчитывать на успех, только мешая своим противникам сплотиться, предоставляя им теряться в догадках, что за чем будет следовать.
Благодаря победам советских вооруженных сил стратегическая обстановка в войне коренным образом изменилась. Разгром гитлеровской Германии и других агрессоров перестал быть мечтой. День капитуляции, однако, зависел от того, оставят ли США и Англия добивать «главного противника» в Европе Советскому Союзу в одиночку или сами включатся в борьбу. Если включатся, то насколько активно, с какими ближними и дальними целями. Последнее имело первостепенную важность. Одно дело – нанесение Германии и Японии тотального поражения, которое, помимо прочих последствий, неминуемо вело к утрате агрессорами статуса великих держав. Другое – свержение нацистского режима при сохранении всех основных институтов и атрибутов империалистического германского государства для поддержания любезного британскому сердцу и многим в Вашингтоне «равновесия сил» на Европейском континенте.
Первый вариант предполагал продолжение сотрудничества с СССР в войне и сохранение его после войны. Второй – допускал отказ США и Англии от вооруженных действий против собственно Германии, продолжение ими стратегии затягивания «кольца окружения» с перенесением центра операций на Балканы и затем в бассейн Дуная, на север Европы и оттуда в Польшу. Логика второго варианта вела к сговору (или не исключала сговора) с немцами на враждебной Советскому Союзу основе, и штабные разработки – американские и англо-американские – тому подтверждение. Все это достаточно сложно само по себе, ибо даже летом 1944 года, к примеру, планирующие органы США четко не представляли себе, понадобится ли американцам сохранять после войны тесное сотрудничество хотя бы с Англией[765].
Рузвельт стал настойчивей добиваться прямого объяснения со Сталиным после того, как удостоверился – Советский Союз не сгинет. Президента озарило: не только актуальные потребности войны, но и капитальные интересы будущего мира указуют на необходимость известного взаимопонимания с СССР. Со своей стороны, Рузвельт не исключал признания принципа равноправия в советско-американских отношениях, будучи уверен, что в мире без гонки вооружений и при радикальном сокращении наличных запасов оружия – атом еще не был оседлан милитаристами – решающей станет экономическая мощь государства. Здесь же у Соединенных Штатов на обозримую перспективу не предвиделось серьезных конкурентов.
В отличие от Черчилля и большинства своих советников, Рузвельт исходил из того, что с Советским Союзом нецелесообразно держаться неуважительно, проявляя небрежение к его безопасности, экономическим и другим интересам, к его престижу. Напротив, полагал глава администрации, когда Москва убедится, что законные потребности СССР признаны, она станет сговорчивей, и с ней легче будет делать большие дела.
По собственному почину Рузвельт высказался в Тегеране за предоставление Советскому Союзу доступа к «теплым морям». С прицелом на перспективу он выступал за учреждение всемирной организации по поддержанию международной безопасности, в которой США и СССР действовали бы как партнеры. Соответствующие предложения президент вносил, обеспечив себе тылы: 5 ноября 1943 года сенат большинством в 85 голосов против 5 принял «резолюцию Коннэли», одобрявшую возможность послевоенного сотрудничества для обеспечения и сохранения мира, а также создание с этой целью международной организации – преемника Лиги Наций.
Рузвельт перестал бы быть Рузвельтом, поставь мы на этом точку. Видение мира с минимумом оружия и оптимумом советско-американского согласия не влекло отказа от (или хотя бы свертывания) мер, имевших объективно противоположный азимут. В 1943 году в США стартовали программа создания глобальной сети военных баз, программы строительства флота всех океанов и стратегических ВВС, сверхсекретная программа «Меррей Хилл Эриа» – выявления и подчинения себе всех мировых запасов и источников расщепляющихся материалов для обеспечения американцам атомной монополии, программа установления контроля над нефтяными ресурсами за рубежом. Тогда же в основном сложились планы обеспечения Соединенным Штатам доминирующих позиций в мировых финансах, международном гражданском воздушном сообщении, судоходстве. В конце 1943 года генерал Донован представил в комитет начальников штабов проект – «Необходимость создания в составе военного аппарата США постоянного ведомства стратегической разведки мирного времени»[766].
Игнорировать старания Вашингтона расставить свои базы таким образом, чтобы в пределах досягаемости американских ВВС оказывались все Западное и большая часть Восточного полушария, было невозможно. И очень сомнительно, чтобы разъяснение Гопкинса в Тегеране на встрече с Молотовым и Иденом закрыло для СССР данную тему[767]. Специальный советник президента заявил тогда: «При определении места расположения будущих опорных пунктов и при решении вопроса о том, какие сухопутные, морские и воздушные силы потребуются для них, следует исходить из того, кто явится будущим потенциальным противником. Президент считает необходимым, чтобы в интересах мира во всем мире Россия, Великобритания и Соединенные Штаты разработали этот важный вопрос в таком плане, который исключал бы возможность начала вооружения любой из трех держав против других»[768]. Как практически исключить? Понимания – взаимного и обязывающего – на сей предмет не имелось, а базы вырастали как грибы после дождя[769].
В каких подробностях знал Рузвельт об обсуждавшихся в его штабах, а также между представителями США и Англии так называемых альтернативных вариантах? Похоже, в самых общих чертах. Чаще президенту оставалось догадываться о совершавшемся в закулисье по тому обхождению, которому он подвергался на предмет корректировки требования о безоговорочной капитуляции.
Не совсем ясно, что скрывается за тезисом Р. Шервуда, назвавшего Тегеранскую конференцию «зенитом карьеры президента». Надо ли трактовать это так, что после Тегерана Рузвельт начал физически и политически угасать, что оттеснение Гопкинса и выдвижение в конфиденты Леги есть нечто большее, чем придворная чехарда? 1944–1945 годы дают предостаточно материала для раздумий.
Пока констатируем: в 1943 году Рузвельт, как правило, отметал попытки проделать лазейки в формуле безоговорочной капитуляции. Весной 1944 года на него давили объединенными силами англичане и американские военные (разведка, комиссия стратегических проблем КНШ). Президент отклонил внесенные ими рекомендации, хотя и допускал какие-то подвижки в практическом применении требований в конкретных условиях.
Мотивы раскрывает телеграмма Рузвельта Черчиллю от 6 января 1944 года. «Я сделал следующее публичное заявление 24 декабря (1943 года), – писал глава администрации. – Объединенные Нации не намереваются порабощать немецкий народ. Мы хотим предоставить ему полную возможность спокойно развиваться в качестве полезного и достойного члена европейской семьи. Но мы самым серьезным образом подчеркиваем слово „достойного“, так как мы намереваемся освободить его раз и навсегда от нацизма и прусского милитаризма, а также от нелепого и губительного представления о себе как „расе господ“». Конкретизация условий капитуляции была, по мнению президента, чревата опасностью упустить то, что в меняющихся обстоятельствах может сейчас или в будущем стать «столь же важным с нашей точки зрения»[770].
Британский премьер находил подход Рузвельта лишенным размаха. Идеологически окрашенным скепсисом были заражены американские военные. «Победа в войне будет бессмысленна, если мы (США) не выиграем и мир», – писал генерал Хэнди Дж. Маршаллу, вторя политическому комитету оперативного управления, который 23 января 1943 года, на фоне Сталинграда, рекомендовал: «Так как мы становимся сильнее, мы можем позволить себе в своих же интересах усилить наше политическое влияние на союзников. Настало время вести откровенные разговоры с русским премьером». И по результатам этих «разговоров» решить, продолжать ли поставки по ленд-лизу[771].
Еще летом и осенью 1943 года, напомним, в американских штабах и в Управлении стратегических служб сопоставлялись свет и тени возможной смены фронтов в войне с Германией. Мысль о чрезмерном усилении Советского Союза не покидала военных и дипломатов различного ведомственного подчинения на протяжении всего 1944 года[772]. Начальники штабов предрекали, что победа над Германией выведет СССР на «доминирующие позиции» в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
«Разгром Японии, независимо от того, вступят они (русские) в войну или нет, – отмечалось в докладе КНШ, – сделает Россию ключевой державой в Северо-Восточной Азии и даст ей возможность диктовать свою волю любым государствам». «После разгрома Японии, – продолжили начальники штабов, – Соединенные Штаты и Советский Союз будут военными державами первой величины. Это является неизбежным следствием их географического положения и размеров территории, а также широких возможностей по обеспечению своих армий. Хотя Соединенные Штаты и смогут направить свои вооруженные силы в различные заморские районы, относительная сила и географическое положение этих держав, несомненно, помешает военному разгрому одной из них другой, даже если эта держава будет в союзе с Британской империей. Тем более что Британская империя выйдет из войны, потеряв свое экономическое и военное значение»[773]. В меморандуме Хэллу комитет начальников штабов отмечал 16 мая 1944 года, что в случае вооруженного столкновения с СССР «мы (США) сможем успешно защитить Великобританию. Однако мы не в состоянии нанести поражение России. Другими словами, мы окажемся в войне, которую нельзя выиграть»[774].
Внешне, в отрыве от проходивших в американском верхнем эшелоне дискуссий, может показаться, что КНШ рекомендовал принять реальность как должное и неизбежное. В конкретной ситуации 1943–1944 годов, однако, тут на виду держалась иная цель: размывалась рузвельтовская установка на быстрый вывод войск США из Европы и Азии после окончания войны, а предстоявшие операции против Германии и Японии предлагалось увязывать с вероятной, но нежелательной перспективой превращения СССР в ту единственную державу, которая будет способна противостоять глобальной американской политике.
В том же направлении действовали крупные монополии, внедрившие своих людей во все звенья государственного механизма Соединенных Штатов: Дж. Форрестолл – заместитель министра ВМФ и одновременно вице-президент «Дженерал анилайн энд филм», А. Даллес – руководитель европейской сети Управления стратегических служб и член совета директоров прогерманского банка Шредера, Ф. Биддл – министр юстиции и лоббист дочернего предприятия «И. Г. Фарбениндустри» фирмы «Стерлинг», Дж. Джонс – министр торговли, прикрывал сделки «Стандарт ойл» и других монополий с противником. Целый букет деятелей в госдепартаменте и на посольских постах – Д. Ачесон, Дж. Кеннеди, У. Буллит, К. Хейс, Б. Лонч, Л. Штайнхардт – вели специфическую партию в дипломатической сфере. Вместе с гласными и негласными приверженцами «Америки превыше всего» они, а не мелкие сошки немецкого происхождения, являлись надеждой искателей «компромисса» с рейхом. Они же или, если так удобнее, их окружение были источниками неоценимых сведений для нацистского руководства, позволявших вплоть до лета 1944 года уверенно маневрировать, и не одними армейскими группировками.
М. Мэтлофф пишет, что, если бы Ф. Рузвельт уступил У. Черчиллю, война в 1944 году «пошла бы по совершенно иному политическому руслу». Возможно, предполагает историк, президент стремился «поскорее закончить войну и использовать остающуюся энергию на решение мирных задач»[775]. Не уступил. Второй фронт стал неизбежностью. Надо было готовиться к вторжению и к уже настоящим сражениям.
На протяжении 1941–1943 годов союзники систематически потчевали СССР обещаниями и препарированными данными о своем «мощном» авиационном наступлении на Германию.
Черчилль и его научный советник лорд Чаруэлл полагали, что интенсивная бомбардировка в течение 15 месяцев 58 крупнейших немецких городов сломит волю нации к сопротивлению. Основными объектами налетов союзной авиации были избраны жилые кварталы городов, населенные в основном рабочими, портовые сооружения, обслуживавшие нацистские ВМС, железнодорожные узлы. Здесь за исходную бралась посылка: именно на пролетарские слои должен приходиться центр тяжести террористических воздушных бомбардировок, ибо рабочий класс проще, чем зажиточный истеблишмент, поднять на восстание против существовавшего режима[776].
Имеются указания на то, что эта концепция итальянского происхождения была перенята британским военным руководством еще в 1936 году и переложена на язык практических операций ВВС в 1939 году. Поскольку война проводилась по категории «оборонительная», считалось, что для отражения угроз Англия вольна выбирать любые средства и способы, в том числе и запрещенные международными конвенциями.
США с промедлением приняли британскую версию воздушной войны. И не просто воспроизвели, но ужесточили и усугубили, насколько позволяла техника той поры.
Однако степень воздействия бомбардировок на экономику рейха и боевой потенциал его вооруженных сил были в 1939–1943 годах мизерными. Точность прицельного бомбометания оставалась крайне низкой. В облачную погоду и ночью до весны 1942 года на цель выходило лишь около пяти процентов самолетов. В марте – апреле того же года две пятых бомбардировщиков сбрасывало груз в радиусе 7–8 километров от точки прицеливания. Малая отдача налетов вызвала их свертывание во второй половине 1942 года[777] и перенацеливание авиации на решение других задач.
«Авиационное наступление» не являлось и не могло стать заменой второму фронту. С позиций СССР, оно не достигало главного: поток оружия и снаряжения, поступавшего войскам вермахта на Восточном фронте, где решалась судьба Третьего рейха, до середины 1944 года не убывал. К тому же приливы и отливы в союзническом «авиационном наступлении» вызывались не обстановкой в советско-германском противоборстве. Осенью 1941 года и осенью 1942 года, когда гитлеровцы, как казалось им самим и большинству наблюдателей в западных столицах, ближе всего продвигались к успеху, активность ВВС Англии и США на Европейском театре сникала. Часть сил отвлекалась на «второстепенные направления»[778].
Общий объем разрушений, причиненный предприятиям всего рейха к концу войны действиями с воздуха и на суше, оценивался в 18–19 процентов от наличных мощностей. Многие промышленные предприятия – особенно в будущих западных зонах оккупации – щадились в расчете на их скорое восстановление по окончании военных действий и чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый иностранным собственникам. Комиссией американских экспертов подсчитано, что в 1943 году немецкая промышленность из-за бомбардировок потеряла 9 процентов продукции (в 1940–1942 годах и того меньше), в 1944 году – 17 процентов[779], при непрерывном абсолютном росте объемов производств в сравнении с 1941 годом.
До «Оверлорда», наряду с ковровыми ударами по жилым кварталам городов, наиболее интенсивно обрабатывались с воздуха железнодорожные узлы, склады, другие объекты в Германии, разрушение которых снижало подвижность немецких войск, пропускную способность коммуникаций в западном направлении, эффективность системы ПВО. Налеты на Плоешти и другие центры нефтедобычи, находившиеся в руках немцев, были включены в планы поражения с воздуха только в 1944 году, хотя советская сторона, как отмечалось выше, неоднократно поднимала этот вопрос с 1941 года. Середина 1944 года как момент апогея «стратегического авиационного наступления» на Германию для «ослабления немецких ВВС и подрыва экономической основы сухопутных сил Германии» прямо названа в документе управления авиационного стратегического планирования штаба военного министерства США от 9 сентября 1942 года. Тот же ориентир взят при составлении «плана Икер» (30 апреля 1943 года). Его четвертый этап должен был непосредственно предшествовать «Оверлорду».
Лишь с конца 1943 года США и Англия стали всерьез уговаривать Швецию, Швейцарию, Турцию, Испанию и Португалию урезать поставки стратегического сырья, военных материалов и оружия в Германию. И эта акция синхронизировалась не с потребностями Восточного фронта, но исключительно с подготовкой к «Оверлорду». Удивляться вряд ли приходится, если учесть, что ряд американских фирм не оборвал контактов с врагом даже после форсирования союзническими войсками Ла-Манша.
Подшипники шли к немцам как из Швеции и Швейцарии, так и обходными путями с заводов СКФ в самих США, хотя американские авиационные и другие заводы захлебывались порой от их нехватки. Не бизнес, а твердая рука дирижировала движением жизненно важных для основного военного производства изделий. Шведы и другие поставщики в значительной степени компенсировали выпадение производства на предприятиях в Стасфурте, подвергавшихся американским же бомбардировкам.
Министр иностранных дел Швеции К. Гюнтер в ответ на демарш американского посла Г. Джонсона заявил 13 апреля 1944 года, что «трехстороннее соглашение» между США, Англией и Германией далось ценой неимоверных усилий и, разорви Стокгольм это соглашение, Германия отреагировала бы бурно. Министр предупредил, что нажим западных держав может привести к обнародованию «содержания всей переписки, из которой будет явствовать, что торговля между Швецией и Германией осуществляется на договорной основе, известной союзным правительствам и достигнутой с их предварительного согласия»[780]. Шведы, кроме того, снабжали Берлин собиравшейся их спецслужбами развединформацией о СССР. Именно от них нацистское командование получило данные, в частности, о подготовке Красной армией контрнаступления под Москвой (декабрь 1941 года).
В декабре 1943 года Берн согласился сократить на 45 процентов продажи Германии оружия, боеприпасов и машин и на 40 процентов – прецизионных станков и подшипников. Шведы дали обещание (и в 1944 году не выполнили его) свернуть поставки стратегических материалов немцам. Весьма своеобразно проходили затяжные переговоры с Турцией о прекращении экспорта в Германию хромовой руды, а с Испанией и Португалией – вольфрама. Большая часть переписки Рузвельта и Черчилля по этим вопросам не опубликована. Известно, однако, что особенную «гибкость», стремление «войти в положение» поставщиков Германии выказывал У. Черчилль. Он добивался и добился от президента принятия тактики «малых шагов», дабы не подвергать клиентов рейха нацистскому гневу[781].
Упоминание президентом в телеграмме премьеру (21 апреля 1944 года) нефтяного рычага[782] может быть истолковано как свидетельство того, что он плоховато ориентировался в ситуации. Западная пропаганда много наговорила о «нефтяной реке», якобы открывшейся после подписания советско-германского договора 23 августа 1939 года. Как обстояло в жизни? В январе 1940 года эксперты комитета начальников штабов Англии докладывали, что нефтепродукты из СССР составляли менее 2 процентов общего объема немецкого импорта[783]. В январе-мае 1941 года из Советского Союза в Германию было поставлено 306 884 тонны нефти, или около половины того, что ежегодно на протяжении почти всей войны перепадало немцам от американских фирм по испанскому каналу. В 1944 году немцы получали через Испанию в среднем по 48 тысяч тонн в месяц бензина и нефти. К этому можно прибавить, что с помощью «Стандарт ойл» немцы в 1943–1944 годах наладили производство в рейхе высокооктанового авиационного горючего[784]. Получается, что чуть ли не всю войну каждые восьмая-седьмая подводная лодка, самолет и танк Германии, использовавшиеся против СССР и самих США, приводились в движение горючим, которое закачивалось из западных бензоколонок.
Экономические связи с врагом, поддерживавшиеся накануне операции в Нормандии и не оборванные в ходе ее, строились в расчете на немедленное возобновление сотрудничества «деловых кругов» по окончании военных действий. Оно должно было составить материальную базу широкого диалога между западными державами и «настоящей» Германией. Условия диалога уточнялись через Банк международных расчетов в Базеле[785] и в ходе специальных мероприятий, проводившихся не без прикрытия американской и британской разведок.
Управление стратегических служб и его резидентуры наделялись широкими полномочиями. Отсутствие полномочий также не очень связывало. Многие инициативы У. Донована предпринимались вопреки отрицательному отношению к ним со стороны президента. В частности, без санкции Ф. Рузвельта проводились встречи агентов Донована и Шелленберга в Швеции, Испании и Швейцарии. «Аллен Даллес, – пишет Ч. Хайэм, – был идеальной фигурой для выполнения этой задачи. И он, и его брат Джон Фостер имели широкие связи с Германией. Последний был убежденным противником коммунизма, и ему предстояло сыграть решающую роль в послевоенной конфронтации, вызвавшей холодную войну».
Во время первой встречи (1942 год) с Гогенлоэ, представлявшим СД и СС, А. Даллес заявил, что «германское государство должно быть сохранено для поддержания порядка и начала переустройства», что чешский вопрос не имеет особой важности, однако необходимо создать санитарный кордон против большевизма и панславизма путем «расширения границ Польши на восток, сохранения Румынии и сильной Венгрии». Ни при каких условиях, подчеркивал Даллес, Россия не должна быть допущена в Румынию и Малую Азию.
Работая сразу на нескольких хозяев, разведка докладывала каждому отдельно взятому предназначенную для него правду. Поскольку президента интересовал успех «Оверлорда» малой кровью, то информация, поступавшая в Белый дом, выпячивала эту сторону. Военной необходимостью оправдывались контакты, которые в иных условиях должны были бы вызывать негодование главы администрации и дисциплинарные меры. Спецификой разведывательной работы обосновывались особая предосторожность, сокрытие от Советского Союза до последнего момента самого факта связей с противником.
Но вот 24 мая 1944 года госдепартамент США передал посольству СССР памятную записку, в которой говорилось:
«…К американским официальным представителям в Швейцарии обратились недавно два эмиссара одной германской группы с предложением попытки свергнуть нацистский режим. Эти эмиссары заявили, что они представляют группу, включающую Лейшнера, лидера социалистов и бывшего министра внутренних дел в Гессене; Остера, генерала, бывшего правой рукой Канариса, арестованного в 1943 году гестапо и который был под надзором и недавно освобожден от официальных обязанностей Кейтелем; Герделера, бывшего мэра Лейпцига; генерала Бека. Другими немецкими генералами, упомянутыми далее в качестве членов этой оппозиционной группы, являются Гальдер, Цейтлер, Хойзингер (начальник штаба Цейтлера), Ольбрихт (начальник германской армейской администрации), Фалькенхаузен и Рундштедт. В отношении Цейтлера было сообщено, что тот был привлечен Хойзингером и Ольбрихтом на основании того, что он должен принимать участие в любом плане для того, чтобы достигнуть упорядоченной ликвидации Восточного фронта и избежать, таким образом, обвинения за военную катастрофу там, чего он очень боится.
В апреле сего года эмиссары обратились к американскому представителю в Швейцарии и выразили от имени группы свое желание и готовность изгнать Гитлера и нацистов. Было заявлено, что группа сможет оказать достаточно влияния на германскую армию для того, чтобы заставить генералов, командующих на Западе, прекратить сопротивление союзным высадкам, как только фашисты будут изгнаны. Условие, при котором эта группа соглашается действовать, выражалось в том, чтобы она имела дело непосредственно с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами после свержения фашистского режима. Как прецедент для исключения СССР из всех переговоров она привела недавний пример с Финляндией, которая, по их утверждениям, имела дело исключительно с Москвой»[786].
В конце записки указывалось, будто представитель США ответил эмиссарам, что его правительство не примет никаких предложений, предполагающих их рассмотрение без участия СССР, и что политика союзников по вопросу безоговорочной капитуляции Германии остается в силе.
В день передачи советскому правительству записки госдепартамента Черчилль заявил в палате общин, что Британская империя будет вести борьбу до безоговорочной капитуляции Германии и не согласится ни на какие сделки в стиле 14 пунктов Вильсона. Совпадение клятвенных заверений Вашингтона и Лондона отдавало нарочитостью и, по опыту, должно было больше настораживать, чем успокаивать.
Памятная записка от 24 мая 1944 года – документ по-своему уникальный. Он появился на свет, поскольку шило в мешке таить было дальше невозможно. Покушение на Гитлера перестало быть призраком, ускользающим от света. Исполнители ждали приказа и случая. Устранение главы режима должно было повлечь последствия, по сути повторявшие итальянский прецедент. Как сообщал еще в августе-сентябре 1943 года А. Даллес, в генерал-полковнике Беке заговорщики видели «немецкого Бадольо», тогда как военные и консервативные круги рассчитывали на Гиммлера в качестве «моста к западным державам»[787].
Сценарий перехода Германии из нацистского в «нормальное» состояние прорабатывался при деятельном участии А. Даллеса и его правой руки Геро фон Шульце-Гэверница. В записке для Москвы, однако, этот сценарий подавался как задумка самих заговорщиков. США, разумеется, против, но что можно поделать, если немцы де-факто прекратят сопротивление только на Западе? Как верный союзник, Вашингтон постарается сломать «своеволие» немцев, для чего американским войскам, возможно, придется пройти через всю Германию к линии, на которой «застрял» вермахт на Востоке.
Записка вместе с тем предупреждала советскую сторону, что у Соединенных Штатов появился запасной вариант и он может получить развитие, коль скоро в антигитлеровской коалиции обострится дефицит взаимопонимания. Так оно, вероятно, и случилось бы, не повели судьба иначе, не испорти она западным державам их сложную игру.
Над запиской американцы, чувствуется, колдовали долго. Да слишком велик был набор исходных противоречий, если в предложенной советской стороне редакции их удалось устранить лишь частично. Начальное «недавно» раскрывается затем «в апреле». Значит, прошло не менее месяца по официальной версии. «Американские официальные представители» превратились по ходу изложения в одного «представителя». Он не назван, хотя речь идет об А. Даллесе. И т. п. Попробуем проанализировать эти и ряд других положений записки.
Провал «Цитадели» выбил спесь даже из таких прислужников Гитлера, как Манштейн, Клюге, Кюхлер, эсэсовские генералы Хауссер и Дитрих. Война проиграна безвозвратно – это знали все. Зыбкие надежды связывались с изобретением «больших политических решений». Клюге и другие считали, что «при своевременном взаимопонимании с англосаксами еще можно стабилизировать Восточный фронт вдоль старой восточной границы Польши и сделать его неприступным». Поскольку помехой для договоренности являлся Гитлер, признавалось необходимым отстранить его от власти. Герделеру поручалось позаботиться о том, чтобы США и Англия «правильно повели себя».
Беседу с Клюге и Беком на квартире у Ольбрихта (сентябрь 1943 года) Герделер считал днем рождения заговора 20 июля 1944 года[788]. Памятуя о давних связях Бека, Герделера и их единомышленников с англичанами и американцами, трудно назвать случайным, что в то же самое время начальники штабов США и Англии обсуждали варианты поворота дополнительных сил вермахта против СССР. Скорее всего, дата рождения заговора стала и днем зачатия памятной записки от 24 мая.
Естественно, ни о какой «упорядоченной» и любой другой «ликвидации Восточного фронта» заговорщики речи не вели – ни в своем кругу, ни с американцами. Это – неуклюжая попытка самого госдепартамента создать в Москве впечатление, будто дело ведется к капитуляции перед антигитлеровской коалицией в целом, может быть, чуть разорванной во времени и внешне по-разному обставленной, но капитуляции. Ничего подобного Герделер, Бек, Ольбрихт, Вицлебен на уме не держали.
Во многих исследованиях встречаются утверждения насчет вызревания в Германии, наряду с правоконсервативным, либерально-национального и даже просоветского заговоров. Отсюда торят тропу к умозаключению: США и Англии не оставалось иного, как перестраховки ради вступить в тайную связь с группой Бека-Герделера. В какой-то степени дезинформаторам легче дается их ремесло, когда на другой стороне отдельные участники покушения 20 июля беспричинно подрумянивались, а некоторым группам присваивался ранг «демократическое сопротивление».
Женщинам и мужчинам, бросавшим вызов Гитлеру, не откажешь в самоотверженности. Многими повелевал долг. «Ради чести», собственной и Германии, они шагнули в бессмертие. Марион Дёнхофф в воспоминаниях о своих друзьях дает тому неоспоримые свидетельства и непоколебимые поручительства[789]. Но достаточно часто борьба против нацизма велась на несколько другой основе.
Аргумент Герделера, Хасселя, Зольца цу Тротта: если Запад оттолкнет заговорщиков, не дав им минимума из просимого, то «большинство» оппозиции повернется к Востоку, – был продолжением игры, принесшей германскому империализму щедрый урожай в 20-30-х годах. Гестапо с пристрастием изучало вопрос о «восточных контактах» оппозиции. Его вывод гласил: «Группа сопротивления была едина (за исключением Рейхвейна и Лангбена) в том, что, во-первых, на перспективу плодотворное сотрудничество возможно только с Западом, но не с большевиками; во-вторых, колоссально нарастающая мощь Советов представляет столь большую опасность для Центральной Европы, что мы можем защищаться лишь совместно с Англией и Соединенными Штатами»[790].
В докладе А. Даллеса Доновану от 7 апреля 1944 года говорилось: Гизевиус доставил донесение от «черной капеллы», в котором констатировалось – «ситуация в Германии быстро меняется, и можно определенно предвидеть окончание военных действий в Европе». Заговорщики «желают теперь и готовятся начать акцию, имеющую целью свергнуть нацистов и обезвредить фюрера». Непременное условие, которым они обставляют свои действия, – гарантия того, что группа будет вести переговоры исключительно с англосаксонскими державами. Настоятельная цель группы, продолжал Даллес, «уберечь Центральную Европу от того, чтобы она попала под влияние Советов – фактически или идеологически». Они, утверждал резидент, не хотят, чтобы «нацистский тоталитаризм» сменился «новым крайне левым тоталитаризмом»[791].
Через О. Иона сообщение «черной капеллы» было сдублировано на англичан. Донован немедленно доложил телеграмму Даллеса президенту, госсекретарю, Объединенному комитету начальников штабов, Эйзенхауэру. Началась оживленная переписка между Вашингтоном, Лондоном и Берном, уточнявшая детали.
Тем временем 13 мая 1944 года через Гизевиуса поступило новое, еще более драматическое, как пишет А. Браун, предложение, перекликавшееся с «планом Германа». Заговорщики выражали готовность помочь американо-английским войскам войти в Германию, если США и Англия согласятся «позволить им (немцам) сохранить Восточный фронт». При проработке этого дополнительного предложения было (на уровне руководителей ведомств) условлено оставить президента на какое-то время в неведении. Заглавную роль перенимал госдепартамент, благо он не слишком педантично трактовал формулу безоговорочной капитуляции.
За двадцать дней до открытия операции «Нептун» («День Д»)[792] К. Хэллу был направлен документ, озаглавленный «Попытки немецких генералов и гражданской оппозиции добиться сепаратного перемирия». В документе говорилось: «С самого начала 1944 года с находившимися в Берне представителями Управления стратегических служб периодически вступали в контакт эмиссары германской группы, предлагавшей попробовать свергнуть нацистский режим». В эту группу входили Вильгельм Лейшнер, «лидер социалистов и бывший министр внутренних дел земли Гессен»; Ганс Остер, «генерал, бывший человек Канариса, его правая рука, арестованный гестапо в 1943 году, находившийся после освобождения под постоянным наблюдением и отстраненный недавно от всех официальных обязанностей по приказу (фельдмаршала Вильгельма) Кейтеля (шефа германского Верховного командования)»; Карл Герделер, «бывший обер-бургомистр Лейпцига», и генерал Людвиг Бек, «бывший начальник германского Генерального штаба». Недавно, говорилось далее в документе, к группе заговорщиков примкнули фельдмаршал фон Рундштедт и генерал барон Александр фон Фалькенхаузен, германский военный губернатор в Бельгии, «который был бы готов прекратить сопротивление и оказать помощь высадке войск союзников в случае, если нацистский режим будет свергнут».
Группа планировала «предпринять подобные же шаги и для принятия в стратегических пунктах Германии воздушно-десантных соединений союзников». Группа выражала готовность действовать при условии, что «после свержения нацистского режима она будет иметь дело только непосредственно с союзниками… Тем не менее группа выразила готовность сотрудничать с любыми левыми элементами, кроме коммунистов»[793].
Совпадения с памятной запиской от 24 мая 1944 года очевидные, но и разночтения выразительные. В сообщении советской стороне «инициатива» немцев датировалась апрелем, а Хэллу (опять же неверно) докладывалось, что переговоры велись с начала года. Антисоветский момент в бумаге для госдепартамента выпячивается, видимо, для придания плану Управления стратегических служб большей привлекательности. Более или менее правдоподобной является лишь версия об «одной группе», так как попытки в начале 1944 года объединить оппозиционеров разных течений не увенчались успехом по причине несовместимости буржуазно-либеральных взглядов, развивавшихся в «кружке Крайзау», и реакционных идей Герделера, которого Мольтке прозвал за пустопорожнюю болтовню «немецким Керенским»[794]. Речь велась о «сепаратном перемирии», а не о капитуляции, в любом случае не о капитуляции перед антигитлеровской коалицией.
Весной 1944 года А. Даллес энергично подталкивал администрацию к ревизии требования о безоговорочной капитуляции. Квинтэссенция его докладов в Вашингтон состояла в том, что «„немецкая военная оппозиция“ вынуждена будет бездействовать, пока не получит заверений (обещаний) от Запада». Формально предложение от имени группы Бека-Герделера о сотрудничестве с США и Англией в момент высадки союзников во Франции возникло после того, как демарши А. Даллеса остались без ответа[795]. Так называемое донесение Гизевиуса, по-видимому, должно было придать больший вес аргументам и соображениям самого резидента[796].
При согласии западных держав на сепаратные действия Бек и Герделер обещали, что главнокомандующие на Западном фронте Фалькенхаузен и Рундштедт получат приказ немедленно прекратить сопротивление и тем облегчат высадку союзников во Франции и, более того, позаботятся о том, чтобы воздушно-десантные войска союзников овладели ключевыми пунктами в самой Германии. «Если нужно сначала обращаться к Москве, – подчеркивали заговорщики, – то для сего имеются другие силы, но не эта группа».
Как замечает биограф Герделера, после оккупации англо-американскими войсками всей Германии должны были начаться мирные переговоры между победителями и побежденными с непременным участием нового германского правительства, благодаря которому «решающая схватка значительно сократилась» и относительно признания которого западные державы должны были заранее принять твердые обязательства. «Весьма сомнительная перспектива», – пишет Риттер, – но все-таки значительно лучше, чем «безоговорочная капитуляция в полном объеме! И все же лучше, чем капитуляция после завоевания Берлина русскими»[797].
В начале мая 1944 года через Гизевиуса поступило предложение от «группы военных из Берлина», предусматривавшее высадку при поддержке мятежных соединений вермахта в районе германской столицы трех воздушно-десантных дивизий американцев. Кроме того, крупные десанты должны были быть сброшены в окрестностях Гамбурга и Бремена. Не исключалось содействие высадке союзников на французском побережье. В свою очередь, надежные части заговорщиков из района Мюнхена изолировали бы Гитлера и его окружение в Оберзальцберге. Согласно А. Даллесу, эта разновидность плана была воспринята как «фантастическая»[798].
В конце мая или начале июня 1945 года на встречу с А. Даллесом в Швейцарию выезжал фельдмаршал фон Браухич. От имени группы военных он предложил мир на следующих условиях: армия свергает Гитлера; создается военное правительство, которое пойдет на безоговорочную капитуляцию; советские войска не должны участвовать в оккупации какой бы то ни было части германской территории. Предложения Браухича были доложены в Вашингтон. По данным советской разведки, госсекретарь известил Даллеса, что переговоров с немцами в отсутствие других союзников американцы вести не будут[799].
На чем же американцы и заговорщики формально разошлись? Оппозиционеров смущала неопределенность принципа безоговорочной капитуляции. В точном истолковании и при добросовестном применении он предполагал капитуляцию перед всеми противниками одновременно. Отказываясь капитулировать также перед Советским Союзом, немецкие реакционеры рассчитывали выторговать «для Германии», или, если отсеять шелуху, для ее «элиты» некоторые послабления, кои, по крайней мере в недалеком будущем, сложатся в конструкции сотрудничества на общей идейной базе. Далее, группа Бека-Герделера добивалась от западных держав определенных заверений по территориальным и ряду государственно-политических вопросов. Их нельзя было дать, не вступая в прямое противоречие с тегеранскими решениями «большой тройки» и, очевидно, представлениями Рузвельта.
Идти на открытый разрыв с СССР, на авантюру с необозримыми последствиями, вдвойне необозримыми, поскольку оппозиция в деле себя никак не показала, или реализовывать план «Оверлорд», предоставляя немецким генералам и политикам шанс воспользоваться ситуацией и как бы от себя распустить Западный фронт? Выбрали второе, дав ясно понять немецким клиентам, что политику им придется отложить до лучших времен, и назвав штаб Эйзенхауэра в качестве ведущего партнера для обсуждения всех деталей сепаратного прекращения огня[800].
Ключевое значение приобретало устранение Гитлера. Оно почти автоматически должно было инициировать благоприятные для демократий процессы внутри Германии, кто бы ни нанес режиму роковой удар. А. Даллеса не смутило бы, если бы «антинацистскую операцию» осуществил, скажем, Гиммлер.
Р. Х. Смит проводит взаимосвязь между американо-немецкими контактами по разведывательным каналам и уклонением США от координации с СССР планов военных действий против Германии[801]. Можно проследить еще одну взаимозависимость – между развитием военной обстановки и темпами переговоров в Европейской консультативной комиссии, на которых вырабатывались основополагающие документы, касавшиеся капитуляции Германии и зон ее оккупации, на чем еще придется остановиться чуть ниже.
Отказ Белого дома санкционировать перевод переговоров с группой Бека-Герделера в официальное политическое русло не понудил Даллеса оборвать с нею контакты и дезавуировать ранее данные заговорщикам обещания. Напротив, резидент всячески их подбадривал, но сам отдавал теперь предпочтение «практикам», вместо «идеологов».
12 и 15 июля Даллес сообщал в Вашингтон о предстоявшем устранении главы нацистского режима, словно о решенном деле[802]. Он не счел нужным добавить, как и отметить это позже в своих книгах, что в июне 1944 года от него исходило поручение Гизевиусу сообщить Беку: «Времени для дополнительных дискуссий больше нет, настала пора действовать»[803].
Полковник Клаус граф Штауффенберг, благодаря личным качествам которого заговор против Гитлера обрел конкретность, являлся одним из редких в оппозиции деятелей, готовых к самопожертвованию на благо «национальной Германии». А. Даллес подозревал К. Штауффенберга в повышенном интересе к «проблемам отношений с Востоком и к возросшему значению России в Европе», даже в симпатиях к национальному комитету «Свободная Германия». Несогласие Штауффенберга с сектантством группы Бека-Герделера Даллес интерпретировал как склонность к кооперированию с «коммунистическим подпольным движением»[804].
К. Штауффенберг плохо вписывался в реакционные идейно-политические координаты, которые отстаивали Герделер и прочие «старики». Последних, конечно, никак не вдохновляло, что «начало конца всего военного развития» полковник в своем анализе развития связывал с «русским походом, который начался приказом об уничтожении всех комиссаров и изведением голодом военнопленных и продолжился охотой на людей для получения рабочих рук»[805]. Им не могло нравиться, что Штауффенберг поддерживал личную связь с такими «прорусскими» фигурами, как бывший военный атташе в Москве генерал Кестринг, который настойчивее других пытался отсоветовать Гитлеру нападать на СССР. Граф, как и члены «кружка Крайзау», не проявлял аллергии к социал-демократам, профсоюзникам и даже коммунистам. Это принималось «стариками» почти за измену, во всяком случае за нечто несовместимое с канонами «немецкого офицерства».
Сомнения по поводу идейного и политического кредо К. Штауффенберга – похоже, без Гизевиуса здесь тоже не обошлось – стали достоянием А. Даллеса. Они преломились в суждениях и воспоминаниях резидента в характерной для него манере. С тяжелой руки Даллеса спекуляции пошли после войны гулять по страницам различных публикаций, авторы которых, однако, не потрудились представить весомых данных в подтверждение своих догадок или наветов. О доказательствах нельзя и говорить.
В этом контексте напрашивается совсем другая мысль: нелепость или опять совпадение – излишняя осведомленность и подозрительность спецслужб, а также «двойников» типа Гизевиуса (в немецком случае) – предопределили роковой исход для генерала Делестрена и Мулена их поездок в Лондон[806], а для А. Зефкова и Ф. Якоба, Ю. Лебера и А. Рейхвейна – установление контакта с верхушечной оппозицией в Германии? «Центристско-социалистическое правительство», задуманное американской разведкой в августе 1943 года, должно было являть собой ширму или кляп для возмутителей общественного мнения, чтобы сподручней было добиваться задуманного антисоветского разворота событий, но никак не служить заменой консерваторам.
По сведениям, собранным гестапо, Штауффенберг весной 1944 года несколько раз выходил на связь с англичанами. Помимо вопросов чисто военных, англичане уточняли списки лиц, с которыми могут вестись переговоры. После ареста Герделер показал, что полковник неоднократно говорил ему о возможностях доводить свои сообщения непосредственно до Черчилля. Через Гизевиуса и Йона Штауффенберг имел выход на высшее американское командование.
Накануне вторжения союзников во Францию ядро антигитлеровской фронды составляли фельдмаршалы Роммель и Вицлебен, военный губернатор оккупированной части Франции генерал Штюльпнагель, комендант Парижа генерал Бойнебург-Ленгсфельд, командующий немецкими войсками в Бельгии и Северной Франции Фалькенхаузен, генералы Тресков, Хаммерштейн, Остер, Томас, Вагнер, Ольбрихт. Возглавлял военную группу генерал-полковник Бек. Хотя фельдмаршал Рундштедт отказался примкнуть к заговору, все основные силы вермахта, размещенные во Франции и Бельгии, а также резервные соединения в самой Германии, как и войска связи и тыловые службы, оказались под началом противников Гитлера. При слаженных, решительных действиях оппозиция объективно была в состоянии дезорганизовать Западный фронт и открыть границы рейха войскам США и Англии. Американских и британских деятелей, ответственных за высадку, эта возможность весьма привлекала, а ручательства Даллеса за Бека и Герделера вселяли некоторую уверенность.
Как показали следователям гестапо Штрюнк и Герделер, Гизевиус (со ссылкой на Даллеса) информировал заговорщиков, что Эйзенхауэру даны инструкции не требовать от правительства Бека-Герделера, в случае его создания, безоговорочной капитуляции[807]. Если такие инструкции имелись – косвенные данные это не исключают, – они наставляли на благожелательное, милостивое обращение с новым правительством и фактическое выхолащивание безоговорочной капитуляции. Но при определенных условиях Вашингтону и Лондону было выгодней инсценировать распад централизованной власти в рейхе, чтобы каждый немецкий командующий стал сам себе головой, чтобы никто не мог отдать приказ о повсеместном прекращении огня, и, таким образом, США и Англия не были бы формально в ответе за продолжение сопротивления немцев на Восточном фронте. Примерно так, как оно и получилось в апрельско-майские дни 1945 года.
Итак, 6 июня 1944 года передовые части американцев, англичан, канадцев вступили на землю Нормандии. В ночь на 6 июня, одновременно с выходом в море армады кораблей и «плавсредств», авиация союзников обрушила тысячи тонн бомб на артиллерийские батареи, штабы, скопления гитлеровских войск, аэродромы, транспортные узлы, очертив район десантирования. А еще несколькими часами раньше 2395 самолетов и 847 планеров сбросили в тыл немецким позициям тысячи парашютистов. Французские силы Сопротивления, координировавшие свои действия со штабом Эйзенхауэра, перерезали немцам проводную связь, расстроили энергоснабжение, прервали движение по железным и шоссейным дорогам.
Немцы, знавшие о подготовке вторжения и ожидавшие его[808], вдруг оглохли и ослепли. «Неуклюжестью» немецкой разведки, которая, добыв сведения о месте и времени вторжения («6 или 7 июня в районе Нормандия-Бретань»), будто бы «упустила» передать их по инстанции, подобного не объяснить. Как следствие, ни Роммеля, ни Дальмана (командующий 8-й армией), ни Дитриха в решающий момент не оказалось на своих командных пунктах. Батальонным, полковым, дивизионным командирам оставалось заниматься самодеятельностью.
При расследовании покушения 20 июля выяснилось, что в абвере лишь два начальника отделов – Гелен («Иностранные армии Востока») и Герке (транспорт) – не были втянуты в заговор. Полковники Ханзен (преемник Канариса) и Рённе (начальник отдела «Иностранные армии Запада») активно участвовали в подготовке переворота. Перед началом операции союзников в Нормандии Рённе был уполномочен войти в контакт с англо-американским командованием для содействия высадке союзных войск и обеспечения их скорейшего продвижения через Западную и Центральную Европу к Эльбе (?) «до того, как туда придут русские»[809].
По поступлении сведений о воздушных десантах фельдмаршал Рундштедт приказал в ночь с 5 на 6 июня двум танковым дивизиям резерва двинуться из района западнее Парижа к устью Сены. В шестом часу утра он получил из Ставки Верховного главнокомандования указание остановить маневр, ибо, как говорилось в телеграмме, «пока трудно с уверенностью установить, где высадятся главные силы, и, кроме того, Гитлер еще не принял никакого решения»[810]. В 14.20 того же дня последовало разрешение продолжить задуманную Рундштедтом переброску войск, но время было упущено. Англо-американская авиация безраздельно господствовала в воздухе и делала почти невозможным перемещение днем сколько-нибудь значительных частей противника. 6 июня авиация западных держав совершила 10 535 вылетов. Люфтваффе – 319, из них лишь 12 в район высадки. Бездействовали немецкие ВМС.
Нет, не только по техническим причинам – разрушение узлов и линий коммуникаций, неосведомленность Берлина о масштабах и диспозиции вторжения, отсутствие вдоль Атлантического побережья сплошной линии обороны – потребовались недели на налаживание централизованного управления действиями частей и соединений вермахта на Западном фронте. То, чем кичились немецкие генштабисты, – умением в считаные часы с нуля готовить операции величайшей сложности, – словно было забыто. Отлаженный и до поры до времени почти без заминок функционировавший милитаристский механизм сбился с ритма. Понятно, в чрезвычайных условиях, в которых очутилась Германия, новые наступательные операции типа «Везерюбунг» стали затруднительны. Но с другой стороны, в это же самое время на Восточном фронте немцы показывали высокое оперативное и тактическое мастерство именно в обороне. Значит, на Западе и в отношении Западного фронта превалировали иные факторы.
Первый ясен: во Франции, Бельгии и Голландии вермахт располагал ограниченным количеством сил и боевой техники для отражения широкомасштабного вторжения. На момент высадки союзников там дислоцировались по номинальному счету 58 дивизий рейха, объединенных в группы армий «Б» и «Г». Почти во всех дивизиях недокомплект достигал 20–30 процентов, а более 20 дивизий состояли из солдат старших возрастов и подростков 17 лет, не прошедших надлежащей выучки. 33 дивизии относились к «стационарным» по причине отсутствия у них транспортных средств. Большинство танковых дивизий (всего – девять), вместо положенных 200 танков, имело в наличии по 90-120 боевых машин. Войска были лишены прикрытия с воздуха. При десантировании союзники превосходили немцев по самолетам в 61,4 раза. Всего у немецкого командования было на Западном фронте 526 тысяч человек в сухопутных войсках, 6700 орудий и минометов, 2000 танков и самоходных артиллерийских установок, 160 боевых самолетов.
Основные работы по укреплению обороны в предполагаемых районах вторжения начались лишь в ноябре 1943 года, когда Роммель принял поручение покончить с существовавшей неразберихой. Ввиду нехватки сил и средств фельдмаршал поощрял прежде всего подводное минирование. Общее количество расставленных взрывных устройств при нем утроилось и достигло 6 миллионов единиц. Мощные оборонительные узлы были созданы между Кале и Булонью, а также на ряде островов. Однако гарнизоны и техника укрепрайонов никакой роли в отражении десантов не сыграли, так как вторгшиеся части союзников их попросту обошли. В зоне высадки союзников фортификационные работы были выполнены лишь на 18 процентов от плана (против 68 процентов в зоне Ла-Манша).
К 12 июня 1944 года в полосе десантирования пятнадцати полноценным дивизиям сил вторжения противостояло девять немецких дивизий, понесших в предшествовавшую неделю большие потери, прежде всего из-за непрерывной обработки их позиций с воздуха и моря. Значительные силы противника сковывали французские партизаны. В конце июня союзники довели численность своих экспедиционных войск на нормандском плацдарме до 875 тысяч человек. В зоне высадки было оборудовано 23 аэродрома. В случае энергичного движения на юг и юго-восток англичане и американцы не встретили бы серьезного сопротивления: здесь фронт был фактически открыт. Случился, однако, Дюнкерк наоборот – на несколько недель союзники остановились и ограничивались акциями местного значения по внешнему обводу плацдарма.
Отсутствовал опыт крупных наземных операций? Несомненно. Много брака наблюдалось во взаимодействии родов войск, свою роль играли трения между национальными группами, входившими в экспедиционный корпус. Довлело стремление ничем не рисковать, снизить во что бы то ни стало уровень собственных потерь[811].
На неофициальных переговорах в Лондоне (1015 июня) американские и английские начальники штабов обсуждали возможность как закрепления в районе высадки, так и отвода войск, если немцы усилят сопротивление и в течение 7–8 дней нанесут мощный контрудар. Сумей командование вермахта учинить в этот момент малые Арденны или хотя бы стабилизировать оборону, что они сделали при таком же примерно количестве сил первой линии в Италии, то англичане и американцы могли бы поднять паруса и взять курс назад – на Британские острова.
Неадекватная реакция Верховного командования вермахта (ОКВ) и командования армейских группировок на начало «Оверлорда» заставляет полагать, что, помимо заговорщиков, и другие лица, занимавшие важные посты, стояли за непротивление англо-американскому вторжению, за прекращение войны на Западе до того, как Красная армия вступит в пределы Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Балканских стран. Инертность в верхнем звене лишь частично и локально восполнялась напористостью командиров на местах, действовавших, не ожидая приказов, сообразно обстановке.
Оперативная пассивность союзников в июле 1944 года, когда законы борьбы предписывали массированное использование своего превосходства и растерянности противника, была прямо-таки показной. Само собой на войне такое не случается. Штаб Эйзенхауэра досконально знал, что происходило в немецком стане. Достаточно было смять сопротивление на переднем крае, продемонстрировать на паре примеров решимость без колебаний использовать козыри союзников, и почти все определилось бы само собой. Но к чему подставлять свой лоб под хотя бы шальные пули, если не сегодня завтра фюрера должны были смести, а США и Англию пригласить в Германию в качестве спасителей от большевиков?
Все это, порознь или вместе взятое, обнаруживает внутреннюю взаимосвязь во внешне противоречивом переплетении частностей и несуразностей. Если судить по фактам, не совсем случайно бомба в ставке Гитлера взорвалась в момент, когда накопление сил на нормандском плацдарме в основном завершалось.
Восстановим в памяти последовательность событий и эпизодов. Сразу после начала высадки генерал Тресков сообщил через Лендорфа Штауффенбергу: «Покушение должно совершиться. Если оно не удастся, все равно надо действовать в Берлине. Дело уже не в практической цели, а в демонстрации перед всем миром и историей того, что движение Сопротивления отважилось на решительный шаг». Тресков настаивал на роспуске явочным порядком Западного фронта и рекомендовал Штауффенбергу немедленно отправиться во Францию, чтобы через начальника штаба группы «Б» Шпейделя убедить Роммеля принять этот план[812].
Вариант – «распахнуть брешь, чтобы позволить прорыв союзников», – обговаривался между Роммелем, Шпейделем и Штюльпнагелем еще в мае. Тройка представляла его себе не как «бесформенный развал» фронта и не как капитуляцию. Военные думали о заключении без санкции Гитлера перемирия напрямую с Эйзенхауэром и Монтгомери, по которому немцы отошли бы из оккупированных стран за «западный вал». В ответ немедленно прекращались бы воздушные налеты на Германию. Вслед за тем должны были быть начаты сепаратные мирные переговоры. Предполагалось издать обращение к немецкому народу с разъяснением безнадежности ситуации и разоблачением нацистских преступлений. После ареста Гитлера власть перешла бы к правительству Бека-Герделера-Лейшнера[813].
Согласно следственным материалам гестапо, свои подходы к Эйзенхауэру и Маршаллу, минуя немецких политиков, торили в это время Ханзен и Штауффенберг. Граф надеялся, что сработает контакт «от военного к военному», о котором О. Йон договаривался с американским военным атташе в Испании, будто бы взявшимся доставлять Эйзенхауэру все сообщения от заговорщиков[814].
Управление стратегических служб США, как отмечалось, вело курс на приспособление верхушечной оппозиции и ее программы к оперативным планам штаба Эйзенхауэра и стратегическим замыслам Вашингтона. С членами оппозиционной группы с апреля 1944 года обращались как с агентами американских спецслужб, без того, однако, чтобы немцы об этом догадывались. В самой группе «старики» пытались выстроить свою субординацию. Герделер требовал от офицеров «беспрекословного исполнения приказов» и никакого вмешательства в политику[815]. К. Штауффенберг твердо отклонил подобные притязания и, насколько позволяют судить документы, до конца июня держался взгляда, что Германия в состоянии успешно сыграть на разногласиях между западными державами и СССР и, если момент для устранения Гитлера не будет пропущен, новая власть, опирающаяся на вермахт, может стать весомым фактором в европейском раскладе сил.
Исходя из этого, К. Штауффенберг выступал против зауженного «западного решения», предполагавшего лишь отказ от сопротивления войскам США и Англии во Франции и содействие безоговорочной оккупации ими территории всей Германии. Он, констатирует Э. Целлер, верил в возможность перемирия, а не капитуляции на Западе, чтобы продолжать сопротивление на Востоке. К. Штауффенберг не был особенно высокого мнения об искусстве западного военного командования, что в контрасте с его оценками советских операций также давало пищу для вычислений, в какую сторону в конце концов полковник может склониться[816].
Роммель сблизился с Беком и другими заговорщиками в феврале 1944 года на им самим сформулированных условиях. Фельдмаршал возражал против физического устранения Гитлера. Он считал достаточным сместить его (с последующим возможным преданием немецкому суду), да и то лишь в случае отказа фюрера немедленно прекратить войну и добровольно уйти в отставку. Если бы, однако, попытки урезонить главу режима потерпели неудачу, Роммель не исключал «самовольных действий». До начала вторжения заметных шагов в осуществлении этих своих размышлений он не предпринимал: смущал Рундштедт, не желавший нарушать «солдатский долг».
29 июня 1944 года Рундштедт и Роммель доложили Гитлеру «деловую» оценку положения: наличными силами организовать оборону на Западе невозможно, и войну надо считать проигранной. «Пораженческие» настроения стоили Рундштедту поста главнокомандующего Западным фронтом. Его преемником стал (7 июля) Клюге.
9 июля Роммеля посетил Ц. Хофакер (доверенное лицо Штюльпнагеля и двоюродный брат Штауффенберга) и передал записку, в которой фельдмаршалу предлагалось собственным решением прекратить войну на Западе. Роммель заявил, что – независимо ни от чего и ни от кого – фронт продержится «максимально от 14 дней до 3 недель». Было условлено, что до 15 июля ему будет направлена дополнительная информация о подготовке к перевороту. Тем временем Роммель приступил к практическим приготовлениям по выходу из войны. В частности, был опробован канал радиосвязи с штабами сил вторжения, началось прощупывание настроений фронтовых генералов.
12 июля Роммель убедил Клюге в необходимости направить «ультимативное» послание Гитлеру и действовать, если глава режима не внемлет предъявленным требованиям. Шпейдель взялся известить Штюльпнагеля насчет готовности Роммеля проявить инициативу, если Клюге в очередной раз заколебался. Пока же засомневались Бек и Герделер: не поздновато ли устраивать покушение на Гитлера, может, лучше встать на путь пассивного сопротивления его приказам на Западном фронте, всячески облегчая американо-английским войскам выход на линию Кенигсберг-Прага-Вена-Будапешт?
К. Штауффенберг решил действовать так, как ему подсказывал собственный внутренний голос. Он получил доступ на оперативные совещания у Гитлера, будучи назначен (1 июля) начальником штаба армии резерва и первым помощником командующего этой армией генерала Фромма. 11 июля 1944 года Штауффенберг вылетел в Берхтесгаден (резиденция фюрера на юге Баварии), имея при себе взрывное устройство, но покушения не произвел, поскольку на совещании у Гитлера отсутствовал Гиммлер. Ближайшую следующую дату покушения он установил на 15 июля, о чем известил участников заговора за день. Ольбрихт привел в готовность резервные войска. Взрыва снова не последовало: в ставке не оказалось Геринга и Гиммлера, а Роммель и Клюге требовали обязательно убрать обоих во избежание осложнений с ВВС и войсками СС. Тревогу по армии резерва выдали за «учебную». Покушение состоится при ближайшей возможности, независимо от состава находившихся при Гитлере лиц, – таким было личное решение Штауффенберга.
Акция против Гитлера должна быть предпринята до конца июля – из этого исходил Даллес. Он ждал взрыва в Растенбурге («Волчье логово») или Берхтесгадене. В 16 часов 20 июля Даллес находился в своем бюро в обществе сотрудницы британской военной миссии в Берне Э. Визкеманн. Она вспоминает: «Позвонил телефон. Он (Даллес) отвечал коротко, так, как воспринимают новости, которых ждут. Положив трубку, сказал мне: „Совершено покушение на жизнь Гитлера в его штаб-квартире“. Я не была ошарашена, скорее озадачена: никто из нас не знал, удалось ли покушение»[817].
Неудача, свидетельствует В. Хегнер, тягостно подействовала на А. Даллеса. «Никогда я не видел их (Даллеса и Гэверница) такими полностью подавленными, – писал В. Хегнер. – Они всегда надеялись, что посредством внезапного свержения Гитлера война окончится, прежде чем советские русские войдут в Берлин. Быстрое мирное соглашение с демократическим германским режимом предотвратило бы это. Но теперь все было потеряно: затягивание войны откроет русским проход на Эльбу, к сердцу Европы. Американская политика потерпела ужасное поражение»[818].
Еще 15 июля 1944 года Роммель послал Гитлеру записку (попала по назначению 22 или 23 июля вместе с письмом Клюге от 21 июля), в которой напирал на необходимость «незамедлительно делать политические выводы из этого (безнадежного военного) положения». Перед отсылкой он изъял слово «политические», чтобы не провоцировать «бесполезные взрывы ярости». В это же время Герделер пытался побудить Клюге и Роммеля, не ожидая покушения на Гитлера, капитулировать на Западе и немедленно перебросить все войска на Восток, вынудив Гитлера «включиться в спасательную операцию или уйти в отставку»[819].
Это интересно, пожалуй, для понимания того, насколько «идеологи» оппозиции завязли на «западном решении». Нечто подобное могло произойти даже при неудавшемся покушении на Гитлера 20 июля, не будь Роммель 17 июля тяжело ранен. «Сильный человек», которому предстояло развернуть Западный фронт на 180 градусов, оказался потерянным для заговора. Карточный домик и вовсе рассыпался после того, как струсил и пустился в бега Клюге.
Когда шок от взрыва в «Волчьем логове» угас, «друг другу противостояли, – отмечает П. Хоффман, – не военные, не вермахт против остатков режима, лишенного своего предводителя, а группа заговорщиков в руководстве армии резерва против всех остальных вооруженных сил и против полностью дееспособного руководства Третьего рейха»[820]. В несчетный раз немецкие генералы взяли сторону сильного. У верхушечного заговора не оказалось поддержки и последователей в самой армии и народе[821].
В «Секретной переписке…» президента США и премьера Англии отсутствует тема покушения на Гитлера. В воспоминаниях Черчилля ему посвящена пара фраз, одну из которых нелишне воспроизвести: «Во время затишья на фронте в Нормандии 20 июля было предпринято новое безуспешное покушение на жизнь Гитлера»[822]. Как если бы Лондон и Вашингтон узнали о случившемся после всех, а «затишье» и покушение лишь совместились во времени! Рузвельт не оставил практически никаких сведений о своем взгляде на события, которые, пойди все как задумано и сплетено, могли крупно изменить финал войны в Европе.
21 июля в рейхе развернулась лихорадочная чистка армии и госаппарата от замешанных и подозреваемых в заговоре лиц. А 22 июля, не раньше, не позже, главнокомандующий американо-английскими экспедиционными войсками созвал совещание для обсуждения «сложившейся обстановки, которая диктовала, чтобы Монтгомери двинулся вперед всеми силами, проявляя настойчивость». Наряду с чисто военными соображениями, записал очевидец, «этого требовала и политическая ситуация»[823].
25 июля англичане предприняли неудавшуюся попытку продвинуться на Фалез, а американцы 30 июля добились крупного успеха в районе Авранш. Контрудар Клюге, осуществлявшийся 7–8 августа по приказу ставки с задачей отбросить союзников на исходные рубежи, успеха не имел. Как заявил Варлимонту Гитлер, «наступление провалилось потому, что фельдмаршал Клюге хотел его провала».
Д. Ирвинг пишет, что Клюге «прямо-таки потворствовал операциям Паттона по окружению группировки Эрлебаха»[824]. Фельдмаршал, возможно, собирался в мешке под Фалезом войти в прямую связь с западными союзниками, но, когда это сорвалось и Гитлер заподозрил предательство, Клюге принял яд (19 августа)[825].
Разведки раскрывают свои архивы скупо и избирательно. Остаются засекреченными целые разделы планов «Следжхэммер» и «Рэнкин», поскольку это касается специальных операций. Как зеница ока хранятся имена агентов-нелегалов и связников, если они сами не отказались от инкогнито или случайно не попали в свет прожекторов. Но факты говорят сами за себя. Как до, так и после взрыва в «Волчьем логове» немецкий генералитет вел войну на Западе спустя рукава. Даже в декабре 1944 года, когда стартовала Арденнская операция, «Восточный фронт оставался единственным театром военных действия для ОКХ (Верховного командования сухопутных сил)»[826]. В войне против Советского Союза нацистская военная машина крутилась, поскольку это зависело от немцев, без заминок.
С конца июля 1944 года Гитлер подчинял все действия против американцев и англичан задаче выиграть время, чтобы употребить его для расшатывания антигитлеровской коалиции[827]. Фюрер еще пристальнее следил за поведением Вашингтона и Лондона, регистрировал, где они выполняют обязательства перед СССР и где двурушничают.
Судя по частично приоткрытым материалам, нацисты прощупывали за и против разыгрывания балканской карты. Не исключался отвод войск вермахта к Дунаю и на Восточный фронт с замещением их войсками США и Англии. Соответствующее предложение в сентябре 1944 года было передано от имени МИД Германии А. Даллесу. В различных модификациях оно оставалось предметом тайных контактов между западными державами и эмиссарами Берлина до мая 1945 года[828].
Почему Балканы всплывали как возможный объект сделки и каковы должны были быть ее общие рамки?
Сказалась осведомленность Берлина о настроениях Черчилля. Потворствуя его попыткам открыть третий фронт в Юго-Восточной Европе, нацисты вели дело к распылению сил США и Англии, чтобы разгрузить таким образом группировку вермахта во Франции, Бельгии и Голландии. Но главное – рассчитывали сотрясти тегеранские договоренности. Установление негласного параллелизма действий против советских интересов не замкнулось бы Балканами.
К уходу без борьбы из ряда районов Югославии, Албании, Болгарии и Румынии (как до или после этого вермахт оставлял Южную Францию, Сардинию, Корсику и Грецию) гитлеровцев побуждала жгучая потребность высвободить часть сил, скованных югославами, для укрепления обороны вокруг мест добычи стратегически важного сырья и нефти, без коих вермахт терял едва ли не половину боеспособности. Тем не менее чисто военные выгоды (сокращение протяженности обороняемых рубежей, обеспечение более коротких и надежных коммуникаций) не представлялись нацистскому руководству достаточными без политических уступок со стороны США и Англии. На политике опять все и споткнулось[829].
Обычно историография делает ударение на то, что Берлин не получал положительного ответа на зондажи и предложения. Эмиссаров рейха выслушивали и затем, как правило, им напоминали, что официальной позицией западных держав остается безоговорочная капитуляция. Формально, наверное, так оно и обставлялось. Если не смешивать форму и содержание.
Доводы немецкой и британской сторон в пользу итало-балканской модели перегруппировки позиций принципиально не расходились. М. Мэтлофф описал английские переживания так: «С этого времени (с лета 1944 года) война вступила в новый этап, и Черчилль сам уже стал смотреть на Европейский континент по-иному, следя одним глазом за отступавшими немцами, а другим – за продвигавшимися вперед русскими. Это была новая периферийная стратегия, и ее особенность заключалась в том, чтобы сдержать наступление советских войск в Восточной Европе»[830]. Слова «сам уже» должны показать, будто до 1944 года взор премьера был устремлен только на Берлин, тогда как и Черчилль не скрывает, что к средиземноморским вариантам его влекло с 1941 года.
После высадки в Нормандии англичане попыталась замотать операцию «Энвил» – десант на юге Франции. На штабных переговорах (июнь 1944 года) они добились отсрочки окончательного решения, поставив его в зависимость от развития «Оверлорда» и наступления Красной армии: если немцы распустят Западный фронт, то надобность в «Энвиле» сама собой отпадет; если основные советские усилия пришлись бы на южный фланг, то не исключать высадки союзников в Истрии.
«Дробление кампании на Средиземноморском театре на две операции, ни одна из которых не может дать решающих результатов, – писал Черчилль президенту 1 июля 1944 года, – стало бы первой серьезной и политической ошибкой, ответственность за которую должны были бы нести мы оба». Премьер указывал на важность захвата таких «стратегических и политических позиций», как Истрия и Триест. «Исходя из политических соображений дальнего прицела, – убеждал Черчилль, – он (Сталин), возможно, предпочтет, чтобы англичане и американцы выполнили свою долю задачи во Франции в предстоящих там исключительно тяжелых боях и чтобы Восточная, Центральная и Южная Европа сама собой попала под его контроль»[831].
Рузвельт отвел английские аргументы как «надуманные» и «нелогичные». «Правильным курсом было бы осуществление операции „Энвил“ в возможно кратчайшие сроки», как договорено в Тегеране[832]. Президент потребовал, чтобы генералу Уилсону были даны необходимые указания. В письме Гопкинсу (середина июля) Черчилль советовал: «Мы подчинились против воли… Хотя, похоже, мы выигрываем войну, перед нами со всех сторон встают труднопреодолимые проблемы, и я лично чувствую, что ничто, кроме союзнического долга, не заставит меня заниматься этим»[833]. В августе премьер предпринял еще одну попытку переубедить Рузвельта, но тот не поддался на уговоры.
От прямого военного вмешательства в дела Юго-Восточной Европы американцев удерживали трезвый расчет и опыт. Первый подсказывал, что выступление на стороне скомпрометировавших себя монархических режимов, пользовавшихся покровительством Лондона, не обещает дружественного приема. Последний учил тому, что англичане уже втянули США не в один вредный переплет. Из-за британской обструкции война грозила затянуться сверх меры, причем вполне могло статься так, что победу в Европе Соединенные Штаты встречали бы не на территории рейха, а застряв где-нибудь на севере Италии и в предгорьях Альп. Подобная перспектива Вашингтон не устраивала, а вероятность осложнений с СССР в тех условиях не привлекала.
«Планирующие органы США считали, – сообщает М. Мэтлофф, – что вопрос о поддержке политики Англии на Средиземноморском театре является проблемой дальнего прицела и что его надо решать в зависимости от того, понадобится ли США сохранять тесное сотрудничество с Англией после войны». В тот период преобладало мнение, что участие британских войск в военных операциях на Тихом океане нежелательно. Англичан не хотели выпускать за пределы Индийского океана. Вместе с тем придавалось «первостепенное значение» тому, чтобы СССР, включившись в войну на Дальнем Востоке, удержал на континенте Квантунскую армию, если США придется высаживаться на острова японской метрополии[834].
Многие аспекты американской политики на будущее, однако, еще не были определены. Рузвельт не давал четких установок, в частности, по трем комплексам вопросов: «Хотят ли США оставаться доминирующей силой в юго-западном районе Тихого океана, намерены ли они сохранять военные базы южнее линии Соломоновы острова – Французский Индокитай – Калькутта и, наконец, желают ли США получить экономические или политические привилегии в Голландской Индии, Сиаме или Французском Индокитае?»[835]. Ответы на эти и другие вопросы, касавшиеся Азии, и гораздо большее число вопросов, связанных с Европой, так или иначе упирались в подбор вех и опор для послевоенной политики Соединенных Штатов.
Отказ Вашингтона от поддержки военно-политических планов Лондона в отношении Балкан не был выражением американского безразличия к судьбам этого региона. Внешне обстояло так: Красной армии «позволялось» изгнать агрессоров из Восточной и Юго-Восточной Европы, а политические и иные последствия освобождения должны были быть урегулированы в пакете с прочими решениями по послевоенному устройству. Точнее – переустройству сообразно новому пониманию Соединенными Штатами своей глобальной роли.
Выступая в октябре 1944 года перед членами Ассоциации внешней политики, Рузвельт заявил: «Моральное, политическое, экономическое и военное могущество, которого достиг наш народ, налагает на нас определенную обязанность и вместе с тем дает возможность осуществлять руководство в сообществе наций. В наших собственных интересах, в интересах мира и человечества наш народ не может, не должен уклоняться и не уклонится от этой обязанности»[836]. Возможно, перед выборами, когда изоляционисты опять зашевелились, возникла необходимость напомнить о том, что времена государств в футляре прошли. Скорее для привлечения голосов избирателей, ибо внушительную поддержку со стороны сената планов учреждения новой организации на замену Лиги Наций Рузвельт уже имел.
Смысл подобных выступлений Рузвельта, однако, раскроется полнее, если прочитать их в контексте дипломатической переписки того периода, в которой отдельные западные историки усматривают начало холодной войны[837]. В связи с визитом У. Черчилля в Москву президент направил 4 октября 1944 года Сталину телеграмму, в которой сквозило неодобрение самого факта двухсторонней советско-британской встречи. Рузвельт подчеркивал: «Вы понимаете, я уверен, что в нынешней всемирной войне буквально нет ни одного вопроса, будь то военный или политический, в котором не были бы заинтересованы Соединенные Штаты. Я твердо убежден, что мы втроем, и только втроем, можем найти решение по еще несогласованным вопросам». Исходя из сказанного, глава администрации объявлял, что будет рассматривать предстоящие беседы Сталина с Черчиллем как «предварительные к встрече нас троих», иначе говоря, требующие одобрения Вашингтона[838].
Это выглядело претенциозно, даже если учесть, что повод для обращения к советскому руководителю дала поступившая к Рузвельту информация насчет стремления Черчилля внести Сталину предложение о разделении «сфер влияния». Странно и эгоистично, потому что США продолжали практиковать щедрые исключения для себя из концепции «единого мира». Центральная и Латинская Америка были не единственными из них. Нелогично и претенциозно также на фоне только что прошедшей американо-английской встречи в Квебеке, на которую СССР не приглашался ни в каком качестве и с результатами которой он никогда не был исчерпывающе ознакомлен.
В ответе Рузвельту Сталин выразил «озадаченность» демаршем президента. Он язвительно заметил, что рассматривает визит Черчилля как продолжение Квебека[839].
Внешне подозрения Вашингтона падали на британскую сторону, и послание от 4 октября можно было расценить как сигнал того, что Рузвельт не разделяет концепций Черчилля и хотел бы найти единомышленника в лице советского лидера. Сталин отдал должное идее трехстороннего сотрудничества, но не захотел признать за США функций верховного арбитра. В исторической литературе приводятся ссылки на отклонение Председателем Совнаркома заявки Рузвельта на право голоса во всех международных вопросах[840].
Принципиальную важность при оценке происходившего летом-осенью 1944 года имеет то обстоятельство, что к моменту вторжения союзников на континент отсутствовали конкретные договоренности трех держав о порядке оккупации Германии после ее капитуляции. Представители прежде всего США в Европейской консультативной комиссии не торопились согласовывать с СССР рекомендации также после открытия второго фронта, хотя накануне проведения встречи Рузвельта с Черчиллем в Квебеке (11–16 сентября) «существовала общая уверенность в том, что капитуляция Германии – дело ближайших недель или даже дней»[841].
Потому и не спешили, что надеялись превратить победу, добытую прежде всего кровью и ратными подвигами советского народа, в торжество американо-английской демократии. Гитлера устранить не удалось, но очень хотелось верить, что «немцы могут преднамеренно позволить англо-американским войскам прорваться и вступить в Германию в расчете, что таким образом Третьему рейху удастся избежать страшной заслуженной мести русских». Возможно, поэтому, а не из-за одних президентских выборов не торопились также созывать новую встречу глав трех держав или их ответственных представителей.
Перед Квебеком и на самой конференции Черчилль упорно склонял Рузвельта к совместному наступлению на Вену, чтобы войти в австрийскую столицу до русских, ибо «неизвестно, какую политику станет проводить Россия после взятия Вены»[842]. «Я очень хотел, – вспоминал премьер, – чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы. Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому продвижению, но они капитулировали бы перед английскими войсками, если бы последние могли подойти вовремя». Черчилль доказывал, что удар в «адриатическую подмышку» будет полезным во всех случаях: если западные державы не достигнут Вены, то они овладеют Триестом и Фиуме, а это существенно ввиду «быстрого продвижения русских на Балканский полуостров и опасного распространения там советского влияния»[843].
Согласно телеграмме премьера в Лондон 13 сентября, «мысль о нашем продвижении к Вене на случай, если война продлится достаточно долго и если другие не вступят туда раньше, здесь (в Квебеке) полностью принята». В тот же день он обязал генералов Вильсона и Александера готовиться к новым операциям, проявляя «смелость и предприимчивость» в продвижении к Вене. Насколько можно верить Черчиллю, в американской позиции обнаружились разводья. Технически переориентация стратегии выглядела бы примерно так: на основе договоренности с немцами прекращались боевые действия на Апеннинах, и войска США и Англии через Люблянский проход и Бреннерский перевал должны были прорваться в Австрию, Югославию и Венгрию[844]. Так осенью 1944 года закладывалась основа будущих переговоров А. Даллеса с К. Вольффом.
В Квебеке было условлено, что общей целью Верховного командования экспедиционных войск союзников во Франции должно считаться «уничтожение германских вооруженных сил» и «занятие сердца Германии». Лучшим путем к овладению этим сердцем назывался удар по Руру и Саару[845]. Президент и премьер согласились взять за основу будущей политики в отношении Германии «план Моргентау»[846].
На квебекской встрече Рузвельт разблокировал вопрос о разделении Германии на зоны оккупации. Неожиданно для своих военных он снял претензию на Северо-Западную Германию, уступая ее англичанам. К американской зоне причислялись районы южнее линии, идущей от Кобленца вдоль северной границы Гессен-Нассау до границы территории, передававшейся под контроль Советского Союза. К этому времени президент засомневался в обоснованности оптимистических прогнозов, предрекавших быстрый крах Германии и возможность задержать Красную армию где-то между Одером и Вислой, Карпатами и Родопами.
В контексте размышлений политиков США и Англии над способами прорыва в Германию и в ряд стран, находившихся под ее пятой, нельзя не упомянуть одно событие, степень причастности к которому США не совсем ясна. Вернемся к взрыву 20 июля в Растенбурге и предпринятому летом 1944 года «грандиозному наступлению русских», как скажет Черчилль в VI томе своих мемуаров[847], и зададим вопрос: не было ли причинной связи между взрывом, советским наступлением и трагически закончившимся августовско-сентябрьским восстанием в Варшаве?
В послании Сталину, отправленном премьером 4 сентября от имени военного кабинета, между строк признавалось, что восстание инспирировано англичанами. «Какова бы ни была правда или неправда в отношении истоков варшавского восстания, – писал Черчилль, – нельзя считать сам народ Варшавы ответственным за принятое решение. Наш народ не может понять, почему полякам в Варшаве не была оказана материальная помощь извне. Да и самому военному кабинету трудно понять отказ Вашего правительства считаться с обязательствами британского и американского правительства помочь полякам в Варшаве»[848]. В тот же день премьер телеграфировал Рузвельту: «Боюсь, что падение Варшавы не только разрушит всякие надежды на прогресс (в формировании угодного англичанам режима в Польше. – В. Ф.), но и роковым образом подорвет положение самого Миколайчика»[849].
Общий взгляд на ситуацию был выражен Черчиллем в послании президенту 18 августа. «В результате славных и колоссальных побед, одерживаемых во Франции американскими и британскими войсками, положение в Европе сильно меняется, – подначивал премьер своего вашингтонского коллегу, – и, вполне возможно, наши армии добьются в Нормандии победы, значительно превосходящей по масштабам все, что сделали в какой-либо отдельный момент русские. Поэтому я склонен полагать, что они отнесутся с известным уважением к тому, что мы скажем, если мы скажем это простым и ясным языком. Вполне возможно, что Сталин не будет недоволен; но даже если и будет, то мы – нации, служащие великому делу, – должны давать искренние советы в целях достижения международного мира»[850].
Судя по вялой поддержке, которую Лондон встречал в Вашингтоне, Рузвельт узнал правду о восстании постфактум. Он не мог не понимать, что Черчилль затеял азартную игру, и не хотел в нее втягиваться. 5 сентября, то есть за месяц до окончательного подавления нацистами сопротивления варшавян, президент списал восстание в убыток. «Проблема помощи полякам в Варшаве, – заявил он премьеру, – к сожалению, уже разрешилась из-за затяжки и действий немцев, и теперь, видимо, мы ничего уже не можем сделать, чтобы помочь полякам»[851]. Далеко не все архивные досье раскрыты, но сегодня никто не станет всерьез утверждать, что варшавское восстание вспыхнуло «стихийно, под впечатлением „комментария московского радио“ от 29 июля, звавшего к действию»[852], или что речь идет об «изолированной», оторванной от «большой стратегии» Запада «национальной польской акции». Нет, восстание подготавливалось долго и тщательно, его сроки сопрягались с операцией «Оверлорд» или, вернее, с планом «Рэнкин», приказ подняться поступил из британской столицы. Раз так, то лучше по порядку.
В 1940 году англичане учредили Управление специальных операций (УСО) во главе с генералом Габбинсом. В британской директиве № 13186/761/G говорилось: «Польская Армия крайова, подчиняющаяся как часть польских вооруженных сил генералу Соснковскому – польскому главнокомандующему, находится под оперативным контролем британских начальников штабов».
Армия крайова (АК)[853] создавалась под непосредственным присмотром английских советников, на средства Лондона и оснащалась оружием, которое сбрасывалось над территорией Польши с самолетов УСО. Из 175 тысяч человек (официальная цифра о численности АК) лишь малая часть использовалась в операциях против нацистских оккупантов, остальные должны были ждать часа х. АК решительно отклоняла все предложения Гвардии Людовы (с 1944 года – Армии людовы) о совместных выступлениях или скоординированных акциях против нацистов.
В середине 1943 года в недрах АК возник план «Шторм», нацеленный на борьбу с «двумя врагами». Предусматривалось при подходе частей Красной армии захватить контроль над несколькими польскими городами и провозгласить в них власть эмигрантского правительства. Как установил Л. Безыменский, в первой редакции «Шторма» среди подлежащих взятию городов Варшава не фигурировала.
Считались возможными два варианта развития событий:
«Гипотеза А: русские, тесня немцев, глубоко проникают в Польшу.
Гипотеза Б: немцы капитулируют прежде, чем Красная армия вступит в Польшу».
Второй вариант брался, разумеется, за наилучший. Генерал Соснковский по этому поводу записал: «Наше дело только в том случае завершится полной победой, если немцы и русские ослабят друг друга таким образом, что окончательными победителями будут англосаксонские войска, которые займут немецкую и польскую территории». Куда конь с копытом, как говорится, туда и рак с клешней.
В случае вступления Красной армии на территорию Польши (в границах на 1 сентября 1939 года) польские вооруженные силы должны были в соответствии с инструкцией своего Генштаба, составленной осенью 1943 года, оказать ей сопротивление. Пока же им предписывалось вести беспощадную борьбу с «просоветским» партизанским движением в Западной Украине и Западной Белоруссии и готовить «всеобщее восстание в этих областях» против Красной армии. Инструкцией устанавливалось: для борьбы с партизанским движением и Красной армией предусмотреть «использование польской полиции, ныне официально находящейся на службе у немцев».
Одновременно должна была быть развернута пропаганда, рассчитанная на возбуждение враждебных чувств среди населения по отношению к СССР. В частности, распространялись слухи о намерении Советского Союза захватить всю Польшу, закрыть католические церкви, обратить поляков в православных, всех несогласных сослать в Сибирь. Советская разведка, сообщавшая в Москву содержание инструкций польского Генштаба, отмечала: англичане знают об отданных подполью в Польше распоряжениях и молчаливо одобряют их[854].
В январе 1944 года Соснковский направил коллеге Габбинсу меморандум с соображениями об интегрировании АК в общую стратегию западных союзников. Начальники штабов США и Англии тоже получили аналогичный польский документ, озаглавленный «Вооруженные силы и нелегальные военные организации в Польше как фактор общеевропейского планирования союзников». Маленький отрывок из обширного трактата: «Армия крайова в Польше может стать мощным оружием союзников в Восточной и Центральной Европе». Под «союзниками» здесь и далее подразумеваются единственно США и Англия. У Объединенного разведывательного комитета западных держав логично возник вопрос: против кого должна выступить польская секретная армия, будучи полностью вооружена, – против России, против Германии или против них обеих?
11 января 1944 года Черчилль, отношение которого к «Оверлорду» читатели, по-видимому, уяснили себе, запросил мнение начальников штабов: «Какие силы есть в вашем распоряжении для проведения операции „Рэнкин“ в феврале или марте, если события неожиданно повернутся в нашу пользу?» Начальник Управления специальных операций получил вслед за этим директиву: «Разработать планы интенсификации диверсионной кампании, которая сопровождалась бы максимальной активизацией нелегальных вооруженных сил и по времени служила бы поддержкой „Оверлорду“ и „Рэнкину“».
21 июля 1944 года генерал Бор-Комаровский, руководивший варшавским восстанием, отправил в Лондон донесение № 406/1/ХХ/799: «Только что совершенное покушение на Гитлера, поставленное в связь с военным положением Германии, может в любой момент вызвать ее крушение». Бора меньше всего занимала задача просвещения англичан и американцев. Он в очередной раз подтвердил заявку, выдвинутую Соснковским в 1943 году, на право Армии крайовы автономно выбирать момент всеобщего восстания. Аргумент Соснковского гласил: «Всеобщее восстание есть своего рода акт самопожертвования польской нации. Ясно, что его нельзя совершить дважды».
Объединенный комитет начальников штабов, приведя в ответ все доводы против задуманной польским эмигрантским правительством операции, формально сложил с себя ответственность за выбор дня х. Британский военный кабинет имел на сей счет свое суждение. На заседании в феврале 1944 года было признано целесообразным поднять восстание Армии крайовы «непосредственно вслед за вторжением (союзных сил) в Европу». С этого момента вопрос о восстании в Польше не сходил с повестки дня правительства Черчилля.
Тема восстания обсуждалась в ходе визита главы польского правительства Миколайчика в США с 4 по 15 июня 1944 года. Начальник оперативного управления польского армейского командования С. Татар вел в это же время переговоры с Макклоем (заместителем военного министра), генералом Мак-Нарнеем, адмиралом Леги.
При встрече с Рузвельтом Миколайчик создавал впечатление, что речь ведется о «военной акции польского подпольного движения в кооперации с русской армией» и что лояльность по отношению к союзнику США соблюдается. Английские начальники штабов, прослышав про эту «кооперацию», решили перестраховаться: «Не следует прямо подталкивать поляков на такое развертывание их операций, которое могло бы быть полезно для русских».
Не поощрять еще не значит отговаривать. Диверсионным операциям с целью парализовать железнодорожное движение по всей Польше (план «Барьер») – да. Третий и четвертый этапы «Барьера» должны были прийтись на 25 июля, пятый и шестой – на 10 августа[855]. Всеобщее восстание – по усмотрению поляков. Выйдет прок – тем лучше, провалится – Лондон умоет руки.
В польской военной среде мнения разделились. Соснковский находил восстание, предварительно не обговоренное с Красной армией, «неправильным политически и актом отчаяния в военном смысле». Бор-Комаровский выступал против любого контакта с советской стороной, за ускорение восстания и концентрацию всех сил в Варшаве, чтобы подчеркнуть его политический смысл и направленность. По словам Бора, восстанием открывается «политическая борьба против России, которую мы должны выиграть». Ему ассистировал представитель Миколайчика в Варшаве Янковский. «Не могло быть и речи о том, – заявлял он, – чтобы увязывать начало восстания с военными действиями на Востоке».
O безответственном поведении устроителей восстания-демонстрации свидетельствуют, в числе прочего, следующие данные. Они запросили у США и Англии массированной (1300 самолето-вылетов) авиационной поддержки непосредственно перед началом восстания, переброски из Италии бригады польских парашютистов и прочее. Англичане отказали Миколайчику и его представителям по всем пунктам: запросы неосуществимы. Отказали и на политическом уровне (Иден), и на военном (Исмей). Эмигрантское правительство, однако, оставило Бора в неведении на сей счет. Последний знал лишь о том, что западным державам направлены соответствующие заявки и что они изучаются.
Когда все началось, англичане послали 4 августа 14 самолетов с грузами для повстанцев и между 8 и 18 августа – еще 9 машин. Итого 23 самолета вместо 1300. Американцы наотрез отказались рисковать и порекомендовали полякам «обратиться к маршалу Сталину».
Миколайчик был в Москве в конце июля – начале августа 1944 года. 31 июля при встрече с Молотовым он заявил, что «польское правительство обдумывает план общего восстания в Варшаве и просило бы советское правительство о бомбардировке аэродромов вокруг Варшавы». Англичане считали совпадение дат визита польского премьера в Москву и начала восстания в Варшаве заранее спланированным[856]. Официальное извещение о развернувшихся событиях было доведено до сведения НКИД через британскую военную миссию только 3 августа.
Не менее существенным, чем приезд польского премьера в СССР, был, надо полагать, выход соединений Красной армии к Висле напротив Варшавы и предпринятые советским командованием попытки, что называется, на плечах противника форсировать реку севернее и южнее польской столицы с целью создания плацдармов на левом берегу.
27-29 июля на заседании ставки верховного командования в Москве рассматривался график дальнейших действий. Основные силы 1-го Белорусского фронта были не в состоянии включиться в операцию. В июне-июле они прошли с тяжелыми боями 500–600 километров. Многие части надо было выводить на переформирование. Личному составу других требовался отдых. На 31 июля 3-й и 8-й танковые корпуса потеряли 284 танка и самоходных орудия. Запасы боеприпасов и горючего были на исходе. Штурмовать при таких условиях глубоко эшелонированную оборону немцев, которую держал по фронту К. Рокоссовского почти один миллион офицеров и солдат вермахта (на всем Западном фронте в это время рейх имел, напомним, 526 тысяч человек в сухопутных войсках), было безответственно. Ввиду непрерывных немецких контратак впору было думать об элементарной обороне.
4 августа Сталин получил обращение Черчилля с призывом прийти на выручку восставшим полякам. Неверно, что советский диктатор ограничился выражением возмущения по поводу авантюры как таковой и попыток Лондона втянуть в нее СССР. Нет, он поручил Г. Жукову и К. Рокоссовскому срочно подготовить соображения по взятию Варшавы. Маршалы доложили свои предложения 6 и 8 августа. Предусматривалось форсирование Вислы севернее польской столицы и расширение плацдарма южнее ее с последующим охватом размещенных в Варшаве войск противника. На решение поставленной задачи выделялись 3-я и 50-я армия из состава 1-го Белорусского фронта, 70-я армия из резерва и 1-я польская армия под командованием генерала Берлинга. План получил одобрение. Начало операции было назначено на 25 августа.
Уже в подготовительной стадии – 14, 19 и 25 августа – попытки советских и польских частей расширить имевшиеся и захватить новые плацдармы на левом берегу успеха не имели. Немецкое командование ввело в бой танковую дивизию «Герман Геринг» и еще две свежие дивизии. Ввиду тяжелых потерь десантников 29 августа операция по форсированию Вислы была остановлена. Усилия сосредоточились на освобождении предместья столицы – Праги, что на правом берегу реки. К 14 сентября Красная армия установила полный контроль по правому берегу Вислы. Открылась возможность прямого контакта с восставшими. Для координации действий на месте Сталин прикомандировал к 1-му Белорусскому фронту Г. Жукова.
С 13 сентября по 1 октября 1944 года самолеты 1-го Белорусского фронта произвели для поддержки восставших 4821 вылет, в том числе 2435 на сбрасывание грузов (оружие, боеприпасы, средства связи, медикаменты, продовольствие), 1361 – на бомбардировку и штурмовку позиций противника в Варшаве, 925 – на прикрытие районов, занимаемых повстанцами, и разведку. Артиллерия 1-й польской армии вела огонь на подавление огневых средств и уничтожение живой силы противника, а зенитные средства прикрывали повстанческие районы от налетов вражеской авиации[857].
С 18 сентября, после восстановления воздушной базы в районе Полтавы, существенно пострадавшей во время немецкого налета в июне 1944 года[858], начались транспортные операции американских «летающих крепостей». Всего в них участвовало 305 самолетов. Грузы сбрасывались на парашютах с большой высоты, по назначению к повстанцам попадало чуть больше трети.
16 сентября части, прежде всего 1-й польской армии, предприняли новую попытку форсирования Вислы на трех участках. Однако командование Армии крайовы не пошло на соединение с десантами и, более того, отвело свои отряды в глубь города, что позволило нацистам не только удержать оборону, но и перейти в контратаки. 21 сентября маршал Рокоссовский и генерал Берлинг эвакуировали ранее переправленные в Варшаву шесть батальонов на восточный берег.
Руководители восстания отклонили или оставили без ответа предложения советской стороны о согласовании усилий с целью доставки оружия и снаряжения повстанцам. Генерал Монтер заявил представителю советского командования И. Колосу: «Наше начальство не ожидает никакой помощи от Советов. Нам поможет Лондон». Колос, единственный из трех групп офицеров, сброшенных с парашютами, сумел выйти на связь с восставшими. Напарник Колоса погиб при приземлении, судьба остальных неизвестна.
Вместо согласования действий с Красной армией, руководство Армии крайовы выдвигало, по свидетельству И. Колоса[859], лозунг «второго чуда на Висле», которое должно было преградить русским путь в Варшаву. Грузы, сбрасывавшиеся с советских самолетов, выдавались за английские. Солдаты армии Берлинга назывались «продажными элементами из Сибири». Проводилась оголтелая антиукраинская и антисемитская агитация. Дискриминировались и преследовались повстанцы из Армии людовы.
Согласно немецкому документу, обнаруженному в здании СД в Груйнеце (Польша) в январе 1945 года[860], Армия крайова предполагала очистить Варшаву от немцев в течение трех дней. Допросы руководителей восставших показывали, что в их планы входило после освобождения Варшавы распространить восстание на все генерал-губернаторство, чтобы таким образом создать новое польское государство и «вопреки Советам» образовать самостоятельную власть. Когда неудача восстания стала очевидной, командованием АК принимались меры по закладке в тайники оружия и диверсионного снаряжения, а также по переводу в подполье сотрудников «корпуса безопасности» в расчете на проведение террористических актов против военнослужащих армии Берлинга, польского комитета национального освобождения и подготовку «второго восстания».
Переговоры о капитуляции с немцами сопровождались распространением слухов, будто рейх «заключил перемирие с Англией и США» и вместе с ними приступает к войне против СССР, а советские войска якобы отступили из Праги (предместья Варшавы), будто плененных поляков с помощью англичан и американцев сразу же освободят. Немецкая пропаганда, в свою очередь, обещала всем капитулировавшим полякам возможность повернуть оружие против Красной армии. Генерал Монтер оставил без внимания предложения советского командования прорываться за Вислу на соединение с частями Красной армии, вместо того чтобы капитулировать.
В ходе операций августа-сентября 1944 года в помощь Варшаве Красная армия потеряла убитыми и умершими от ран 7750 человек. 24 100 солдат и офицеров было ранено и контужено. В 1-й польской армии погибло более 5600 человек. Это для сведения тех, кто бесстыдно клевещет на солдат, отдавших в борьбе с нацизмом свои жизни, и утверждает, будто советские войска и соединения Войска польского прохлаждались на правом берегу в момент, когда повстанцы истекали кровью[861].
Из документов следует, что демократы старой империалистической закваски тщились насадить на польской земле им угодное правительство в качестве противовеса Национальному совету Польши (учрежден в Варшаве 1 января 1944 года) и Польскому комитету национального освобождения (создан в июне 1944 года в городе Хелм) и таким образом заполучить рычаг для воздействия на процессы воссоздания Польши, формирования ее политического, социального и идейного лица. Если бы, однако, подправление режима в рейхе совместилось с реставрацией довоенных порядков в Польше, это могло бы иметь необозримые последствия. Хотя бы из-за возгорания споров о праве и условиях прохождения Красной армии через польскую территорию при преследовании нацистского вермахта. В этом контексте весьма симптоматичны претензии Лондона делать «обязательства британского и американского правительства перед поляками» также обязательствами СССР, как и ставка Черчилля на события, превосходящие «по масштабам» любые достижения «русских».
В архиве российской внешней разведки хранятся материалы, подтверждающие, что Польша не была единственным объектом, на котором Лондон, не без подстраховки американцев, ставил свои недружественные СССР эксперименты. С февраля 1943 года венгерские руководители завязали контакты с представителями западных союзников в Стамбуле на предмет согласования условий отпочкования Венгрии от рейха и возможного содействия вступлению англо-американских войск на ее территорию.
На переговорах представителя МИД Венгрии Вереша с советником британского посольства в Турции Стерндалом в августе 1944 года планы англо-венгерского сотрудничества приобрели отчетливые контуры. В частности, упоминалась возможность предоставления англо-американским войскам расположенных на территории Венгрии аэродромов и других военных объектов, которые могли бы понадобиться в ходе намечавшейся операции демократов.
9 сентября Стерндал вручил Верешу послание, пункт 3 которого допускал вступление Венгрии в официальные отношения с Лондоном без «объявления безоговорочной капитуляции», если, по мнению Будапешта, время для капитуляции «не наступило». Достаточно было бы «в ближайшем будущем порвать с Германией и оказать помощь союзным силам, чтобы задержать действия немцев и воспрепятствовать актам саботажа с их стороны». «Если венгерское правительство, – говорилось в послании, – принимает пункт 3, то правительство его величества готово сообщить о формах и средствах его осуществления через венгерского военного представителя в Стамбуле, как это рекомендовал Вереш».
Сделка с англичанами и параллельно с американцами не нашла завершения. В тайну венгерских контактов с союзниками проникла немецкая контрразведка, и Канарис посоветовал венгерской стороне «остановить пустые затеи, дабы не провоцировать негативные последствия». Регент Хорти и премьер-министр Каллаи ретировались[862].
Еще одна тема – ядерная. По мере продвижения научно-технических и конструкторских работ она приобретала все больший вес в политике США и Англии, в их прикидках и расчетах. 18 сентября 1944 года, после официального закрытия Квебекской конференции, Рузвельт и Черчилль подвели на переговорах в Гайд-парке итоги состояния дел в данной области. Было решено продолжить реализацию атомной программы в обстановке «величайшей секретности» и после изготовления одной бомбы «по зрелом размышлении, возможно, использовать ее против японцев». Президент и премьер условились сохранить по окончании войны американо-английское сотрудничество в целях мирного и военного применения ядерной энергии[863].
Приступая к конструированию бомбы и накоплению расщепляющихся материалов, специалисты Англии и США исходили из того, что на решение основных технологических проблем уйдет около года напряженного труда. По аналогии оценивались шансы немцев, которые начали заниматься военным атомом раньше и в 1941–1942 годах могли опережать демократии. Темпы были бы выше, чем реально получилось, если бы не сумасбродство Гровса в США и Гитлера в Германии.
Оглядка на атомное оружие с 1942 года постоянно давала себя знать в американском стратегическом планировании. В конце 1943 года в рамках «Манхэттенского проекта» была создана «научная разведывательная миссия», на которую возложили проведение операции «Алкос» – добывание информации об атомных работах у противника, а также в Советском Союзе. Летом 1944 года не исключалось, что Германия уже владеет каким-то оружием на базе атома и может задействовать его для отражения наступления с Запада. Агенты «Алкос» двигались в передовых отрядах сил «Оверлорда» для захвата любой аппаратуры, которая применялась в экспериментах немецкими специалистами-ядерщиками, и сбора сведений о них самих. Все, что не могло быть демонтировано и вывезено в США, подлежало уничтожению, дабы не попало к русским и французам. Полученная от немцев информация о дислокации лабораторий и прочих объектов в районах, остававшихся вне контроля Соединенных Штатов, закладывалась в планы налетов американской стратегической авиации[864].
В ноябре 1944 года, после вступления американцев в городок Хайгерло, стало окончательно ясно, что атомной бомбы у рейха нет и до конца войны не будет. После этого руководитель группы «Алкос» датский физик С. Голдсмит заявил своим армейским сослуживцам: «Теперь нам придется использовать нашу бомбу». Слова эти должны были пониматься так: поскольку угроза возмездия отпадает, можно без колебаний применять свое оружие.
В середине 80-х годов вскрылось, что в США в 1943 году рассматривался проект создания радиологического оружия на основе стронция в количествах, достаточных для уничтожения 500 тысяч человек (письмо Р. Оппенгеймера Э. Ферми 25 мая 1943 года). По мнению профессора Б. Бернстейна, обнаружившего это письмо в библиотеке конгресса, проект не был реализован «из-за существенных технических проблем и нежелания высшего военного руководства отвлекать ресурсы от создания атомной бомбы». В курсе радиологического проекта были Маршалл, Конант (председатель национальной научно-исследовательской комиссии по обороне), Гровс, Теллер, Гамильтон (специалист-медик из лаборатории радиации). В письме Оппенгеймера упоминается просьба Маршалла к Конанту подготовить доклад «О военном использовании радиоактивных материалов».
Факт примечательный. Немецкие ученые, насколько известно, не рекомендовали альтернативно заняться радиологическим оружием, когда в 1942 году расписались в неспособности (или отсутствии большого желания) создать технологию обогащения природного урана до необходимых для взрыва кондиций.
С начала 1945 года антисоветский аспект стал превалирующим для «Алкос». Агенты этой организации сосредоточились на розыске немецких специалистов, их интернировании или немедленной отправке за океан, а также выявлении лабораторий, материалов и документов, могущих представлять ценность для атомных исследований в СССР. 15 марта налетом 612 «летающих крепостей» был уничтожен завод фирмы «Ауэр-гезельшафт» в Ораниенбурге (под Берлином), имевший дело с ураном. «Для маскировки перед русскими и немцами цели налета, – признался позднее Гровс, – одновременно такой же массированный удар был обрушен на городок Цоссен, где располагался штаб вермахта». Все детали этой, как и других аналогичных военно-политических диверсий, обговаривались в рабочем порядке непосредственно между Маршаллом, Гровсом и Спаатсом. Генералы делали свою большую политику[865].
Как отмечалось, с 1943 года под крышей «Манхэттенского проекта» осуществлялась также сверхсекретная программа инвентаризации глобальных запасов и месторождений радиоактивных элементов и установления над ними единоличного американского контроля. Соглашения с иностранными правительствами оформлялись без ведома и в обход госдепартамента. В докладе военному министру (сентябрь 1944 года) Гровс предсказывал, что к концу войны США будут прямо или косвенно распоряжаться девятью десятыми всей руды с богатым содержанием урана. 3 декабря 1945 года Гровс доложил, что 97 процентов мировых запасов богатой урановой и ториевой руд находятся под контролем США. Считалось, что переработка бедных руд требует революции в технике извлечения полезного вещества. Отсюда делался вывод, что атомная монополия американцев будет длительной, а превосходство незыблемым[866].
Едва ли ошибочно принять 1943-й за год рождения американской «атомной дипломатии». Сути не меняет то, что намерение оснастить политику «абсолютным оружием» чаще и категоричнее выражалось в ту пору англичанами. Летом 1943 года Черчилль рассуждал о «жизненной заинтересованности (Англии) в том, чтобы быть в состоянии поддержать свою независимость в будущем перед лицом международного шантажа, к которому русские в конце концов смогут прибегнуть»[867]. Те самые русские, которые ломали тогда на Курской дуге хребет нацистскому зверю, те самые, о которых премьер 21 октября 1942 года, накануне советского контрнаступления под Сталинградом, писал в меморандуме членам британского военного кабинета, что они угрожают независимости и культуре европейских народов «варварством». Черчилль выступал в этом меморандуме против допуска СССР, а также Китая к выработке предложений по послевоенному устройству мира: «Мы не знаем, с какой Россией и с какими русскими требованиями нам придется столкнуться»; в лице Китая, «несомненно, появился бы голос на стороне Соединенных Штатов в любой попытке ликвидировать Британскую заморскую империю». Премьер муссировал прожекты создания «Соединенных Штатов Европы» как прежде всего антисоветского и частично антиамериканского образования и «нескольких конфедераций» – скандинавской, дунайской, балканской и других, которые ходили бы на помочах у англичан[868].
Член британского военного кабинета Дж. Андерсен, отвечавший за работы в атомной сфере, говорил премьер-министру Канады М. Кингу после первой Квебекской конференции (август 1943 года), что «атомное оружие даст контроль над миром той стране, которая первой его получит». Он же, Андерсен, «рассматривал атомную бомбу в аспекте советской угрозы и ставил под вопрос разумность полагаться исключительно на Соединенные Штаты»[869].
У Гровса, Стимсона и ряда других американцев, причастных к атомной политике, язык развяжется после смерти Рузвельта и еще больше с окончанием Второй мировой войны[870]. В 1942–1945 годах они делали свое дело под покровом таинственности, непроницаемой даже для вице-президентов, госсекретарей и почти всех министров. Последнее дало почитателям политики подавляющей силы козыри перед их соперниками, когда пробил час определять место и курс Соединенных Штатов в послевоенном мире, заново пересчитывать врагов и друзей.
Конец 1944 года прошел под знаком нарастания разногласий между США и Англией. Недовольство поездкой Черчилля в Москву было одним из его симптомов. Рузвельт неприязненно наблюдал назойливые старания Лондона восстановить довоенные режимы в Италии, Греции и ряде других европейских государств. Хотя, как показывает пример Франции, сами Соединенные Штаты не блистали щепетильностью и последовательностью, когда им надлежало согласовывать широковещательные декларации о демократии со своими поступками.
Во время вооруженной интервенции англичан в Грецию, уже освобожденную внутренними силами страны от захватчиков, – интервенции во имя восстановления трона короля Георга II и демонстрации британского флага в этой части Средиземноморья, – адмирал Кинг издал приказ, которым запрещалось использование для операции американских танкодесантных средств. Приказ был отменен распоряжением Леги, но точка зрения США в принципе не изменилась. 13 декабря 1944 года Рузвельт прямо заявил Черчиллю, что не имеет «возможности встать на Вашу (британскую) позицию при нынешнем ходе событий в Греции»[871].
Какую-то роль играло настроение общественности. Президент не забыл своего прискорбного эксперимента с адмиралом Дарланом и отклика, который вызвала попытка опереться во французских делах на эту скомпрометированную коллаборационизмом фигуру. Не менее важным, однако, было желание выдвинуться в ангелы-хранители демократии и свободы, стремление стать единственным истолкователем Атлантической хартии и ее гарантом. На фоне английского произвола и жестокостей, с какими Черчилль утверждал свои «искренние советы», Соединенным Штатам было затруднительно критиковать не нравившиеся им действия СССР в Восточной Европе, добиваться от Москвы большей гибкости.
Разочаровывающее сотрудничество с британской стороной и неровно складывавшиеся отношения с СССР возбудили у Рузвельта сомнения в полезности для США надолго застревать в Европе. Вряд ли искренние и стойкие. В телеграмме Черчиллю 18 ноября 1944 года он писал: «Вам, конечно, известно, что после краха Германии я буду должен доставить американские войска на родину так быстро, как это позволяют транспортные проблемы». Премьер высказал по этому поводу серьезные опасения[872], чего, вероятно, и добивался президент.
22 ноября Рузвельт предложил англичанам обратиться к немцам с призывом прекратить сопротивление ввиду его бесполезности и избежать тем самым дополнительных ненужных жертв и разрушений, подчеркивая, что цель союзников – ликвидация нацизма и «возвращение немецкого народа к цивилизации всего остального мира». Он как будто поменялся с Черчиллем местами. Теперь премьер настаивал на том, чтобы держаться «установки на безоговорочную капитуляцию». По его мнению, в тот момент немцы могли принять увещевание за признак слабости и усилить сопротивление[873].
Что двигало президентом – усталость, раздражение из-за несбывшихся обещаний генералов, предчувствие испытаний, что готовил западным державам Гитлер? Можно лишь догадываться, что двигало Черчиллем, когда он 15 декабря 1944 года раскрывал перед палатой общин планы передачи Польше восточных областей Германии и ликвидации Восточной Пруссии. Немцам давалось понять: чем дольше они будут откладывать капитуляцию на Западе, тем суровее станет расплата на Востоке?
На исходе 1944 года боевой пыл американских вооруженных сил подостыл, готовность вести крупные сражения на Европейском театре заметно снизилась. Арденнское контрнаступление вермахта, проводившееся ограниченными силами и на узком участке фронта, «вынудило США использовать все имевшиеся дивизии». Кризис, вызванный этим предприятием, «полностью поглотил весь стратегический резерв». «К счастью, – отмечал М. Мэтлофф, – это было последней неприятной неожиданностью. Если бы произошел еще один такой кризис, то дивизий для него уже не нашлось бы»[874]. Обычно без резервов идут на рать, когда нужда загоняет в угол или есть уверенность, что впереди не жаркий бой, а необременительная процедура подсчета пленных и трофеев.
В середине сентября американское командование не сомневалось, что победа – дело ближайших дней[875]. Превосходство в танках 20:1, в самолетах – 25:1, высокая подвижность соединений западных держав против лишенных маневренности сил вермахта – все настраивало на благодушный лад. «Организованное сопротивление под руководством германского Верховного командования, – выстраивали гороскопы аналитики разведки, – вероятно, не продлится дольше 1 декабря 1944 года, а… возможно, оно прекратится еще раньше»[876].
На встречах Даллеса и Гэверница с начальниками разведки из корпуса О. Брэдли (декабрь 1944 года) говорилось о том, что «имеется еще ряд германских генералов, которые не верят в обещания Гитлера и которые были бы рады сдаться, представься возможность сделать это разумно, безопасно для самих себя». После этого совещания Гэверниц направился в лагеря для военнопленных, где совместно с сотрудниками британской МИ-6 отобрал группу немецких генералов с целью учреждения комитета наподобие «Свободной Германии». План был расстроен указанием из Вашингтона на «самом высоком уровне»: «Не использовать одних немецких милитаристов для разгрома других немецких милитаристов». К превеликому огорчению А. Даллеса[877].
Агенты Гиммлера неоднократно возобновляли в ноябре-декабре 1944 года «мирные предложения» Даллесу, который пользовался в Берлине репутацией «не только человека высокоинтеллигентного, но к тому же и убежденного врага большевизма в силу знаний, доводов разума и ясного видения будущего». На Даллеса выходили итальянские церковники, австрийские промышленники, немецкий военно-воздушный атташе в Берне, и все с неизменным мотивом – «святой союз против восточного коммунизма»[878]. На основе этих и других контактов у американских спецслужб крепло намерение организовать под свою ответственность «секретную капитуляцию» немцев на всем Западном фронте или на одном из важных его участков.
Ход мысли у Гитлера был несколько иным, но добивался он, в сущности, того же. Война на два фронта проиграна безвозвратно; если, однако, США всерьез заинтересованы преградить Советскому Союзу путь в Центральную Европу, им не миновать сотрудничества с Третьим рейхом и, следовательно, с нацистами. Чтобы раскрыть Вашингтону и Лондону глаза, надо, упреждая переход Красной армии в новое наступление, показать западным державам: вермахт, ведомый им, Гитлером, – сила, он, несмотря ни на что, еще кое-что значит. «Наивно надеяться на успех переговоров в момент тяжелых военных поражений, – заявил нацистский главарь генералу Мантейфелю. – Западные державы будут более склонны к миру по соглашению, если удастся нанести им военное поражение»[879].
Преимущественно политический характер арденнской операции подчеркивал генерал Йодль 3 ноября 1944 года на совещании командующих соединениями Западного фронта: «Планы союзников будут расстроены на длительный срок, и противнику придется произвести принципиальный пересмотр своей политики»[880]. Судя по маневрированию войсками в период самой операции, нацистское командование рассчитывало серией ошеломляющих контрударов по войскам США и Англии попеременно на разных участках создать видимость захвата инициативы и достижения запаса прочности в обороне.
Ввиду близившегося наступления Красной армии в Венгрии, приведшего к окружению 26 декабря в Будапеште 188-тысячной группировки вермахта, приготовлений советских войск к форсированию Вислы и к ударам по Восточной Пруссии, Рундштедт не получил подкреплений с Восточного фронта. Арденнский кулак создавался за счет флангов Западного фронта. Возможно, если принять во внимание схему мышления Гитлера и его окружения, нацисты со злорадством ждали, не даст ли Москва американцам и англичанам прочувствовать на себе изнанку коварства. Раз те почти не скрывали намерения задержать советские войска как можно дальше от Берлина, Вены, Праги и Будапешта, то почему, спрашивается, это не должно было когда-то аукнуться им самим? Случись нечто сходное, особенно в конце 1944 – начале 1945 года на Восточном фронте, Лондон и Вашингтон не стали бы спешить СССР на выручку.
Арденнской операцией немцы нагнали на западные державы большого страха. В телеграмме, направленной союзному комитету начальников штабов 21 декабря 1944 года, Эйзенхауэр создавал впечатление, будто вермахт двинул против него все главные силы. «Немецкие дивизии, сформированные или переформированные на востоке Германии, перебрасываются на Западный фронт, – доносил генерал. – Прибытие этих дивизий, естественно, влияет на ход событий в моем районе, и, если эта тенденция сохранится, она окажет воздействие на решения, которые я должен принимать в отношении будущей стратегии на Западе. Поэтому я считаю необходимым, чтобы мы возможно скорее получили от русских какие-либо данные об их стратегических и тактических намерениях»[881].
24 декабря Рузвельт и Черчилль обратились к Сталину с телеграммой, в которой, в частности, отмечалось: «… Совершенно очевидно, что Эйзенхауэр не может решить своей задачи, не зная, каковы Ваши планы… Нам, безусловно, весьма важно знать основные наметки и сроки Ваших операций. Наша уверенность в наступлениях, которые должны быть предприняты русской армией, такова, что мы никогда не задавали Вам ни одного вопроса раньше, и мы убеждены теперь, что ответ будет успокоительным…»[882] Президент просил принять офицера из штаба генерала Эйзенхауэра для обсуждения вопроса о взаимодействии между Западным и Восточным фронтами[883].
Могло показаться, что Вашингтон и Лондон были готовы принести извинения за небрежение своими союзническими обязанностями на протяжении трех лет войны, за обман советской стороны насчет своих действительных планов, что наконец-то у американцев и англичан пробудился вкус к братству по оружию. Только вот командированный в Москву представитель – британский маршал Теддер – был снабжен инструкцией слушать и… уклоняться от координации действий английских и советских войск[884].
Пока Теддер добирался до советской столицы, немцы в ночь на Новый год перешли в наступление силами восьми дивизий в Эльзасе с задачей отвлечь на себя часть войск противника и облегчить достижение цели арденнской операции – прорыв на Антверпен. В донесении военному министру США Эйзенхауэр сообщал: «… Немцы предпринимают максимальное и решительное усилие с целью достижения победы на Западе в возможно кратчайший срок. Битва в Арденнах является, по моему мнению, только эпизодом, и мы должны ожидать, что противник нанесет удары в других районах»[885].
Накануне Эйзенхауэр, а также Монтгомери и де Голль высказались за то, чтобы Черчилль незамедлительно обратился лично к Сталину за помощью. В послании премьера в Москву от 6 января подчеркивалось: «На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения… Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях… Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января или в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть… Я считаю дело срочным»[886].
В день получения черчиллевского призыва о помощи, 7 января, Сталин ответил: учитывая положение наших союзников на Западном фронте, решено усиленным темпом закончить подготовку и «открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января». Пока же рекомендовалось использовать «превосходство против немцев в артиллерии и авиации». Неспроста советский лидер припомнил премьеру про авиацию, которая в 1942–1943 годах всегда присутствовала в россказнях англичан как фактор, заменявший второй фронт.
Черчиллю было не до сарказмов. Он забыл про мечты задержать русских на Висле и 9 января написал в послании Сталину: «Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!»[887]
Эйзенхауэр воспринял полученную от премьера новость как «наиболее ободряющую»[888]. 27 января Черчилль прислал в Москву новое послание, в котором выражал «восхищение» «славными победами над общим врагом и мощными силами, которые Вы выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов»[889].
Благодарить было за что. Ввиду сосредоточения советских сил к наступлению вермахт еще 26 декабря 1944 года начал переброску своих войск с Западного фронта в Венгрию. 3 января Гитлер согласился вывести в резерв 6-ю танковую армию СС (главную ударную силу арденнской операции) и 47-й танковый корпус. 15 января для предотвращения крушения Восточного фронта Гитлер приказал перебросить туда более 40 дивизий. 19 января 6-я танковая армия самым спешным образом была направлена в район Балатона. Всего с Запада снималось около одной трети сил. Для борьбы против советских танков к Одеру было стянуто более 300 батарей тяжелой зенитной артиллерии. Берлин, Лейпциг, Дрезден, другие крупные города остались без прикрытия средств ПВО, поскольку одновременно практически все истребители-перехватчики использовались как полевая авиация в боях, развернувшихся в Восточной Пруссии и Силезии.
В «Секретной переписке…», претендующей на объективную передачу документов периода войны, в мемуарах Черчилля, в других официальных и официозных западных изданиях тема помощи, оказанной советской стороной США и Англии в тягостные для их войск недели декабря 1944 – января 1945 года, либо почти опускается, либо данные препарируются таким образом, что у несведущих невольно складывается мнение, будто после высадки союзников в Нормандии центр тяжести в войне против рейха переместился на Запад. «Для русских лето 1944 года, – словоблудствуют, например, составители „Секретной переписки…“, – было периодом почти беспрепятственного продвижения, они быстро одерживали одну за другой крупные военные победы в Польше и на Балканах»[890]. Воистину человеческая глупость и политическая неблагодарность не ведают границ.
В названных изданиях практически не встречаются сведения о закулисных действиях, предпринимавшихся тогда же «благодарными», судя по телеграммам Черчилля, союзниками и партнерами, так сказать на всякий пожарный случай. Как отмечает профессор Г. Розанов, генералы Эйзенхауэр и Монтгомери в январе 1945 года не оставили без отклика телеграмму Кейтеля, который предлагал заключить на Западном фронте перемирие на сто дней, чтобы позволить вермахту сосредоточить максимум сил против Красной армии и нанести ей «уничтожающее поражение между Вислой и Одером».
Монтгомери склонялся не мешать немцам перебрасывать войска с Запада на Восток при условии, что демократиям будет позволено беспрепятственно овладеть территориями Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и занять «линию безопасности» на западных границах Германии. Верховное командование вермахта (ОКВ) выдвинуло встречный вариант: пока на Западе должен сохраняться статус-кво. Но если в определенный срок успеха против СССР не удастся достичь, то войскам США и Англии будет дана возможность пройти через Германию как можно дальше на Восток. Всего Кейтель, Эйзенхауэр и Монтгомери обменялись семью телеграммами. Торг кончился после того, как советская сторона проникла в эту тайну[891].
Выходит, арденнской операцией Гитлер все же добился некоторого политического эффекта? Отчасти да. В январе-феврале 1945 года начался последний раунд сепаратных усилий Англии, США и Германии в расчете на спасение позиций германского империализма, обеспечение Вашингтону и Лондону дивидендов от победы, несоразмерных их вкладу в разгром нацизма. Для Черчилля, как и реакционно настроенного окружения Рузвельта, «Советская Россия стала смертельной угрозой свободному миру». Надо было «немедленно создавать новый фронт против ее стремительного продвижения», и «этот фронт в Европе должен был уходить как можно дальше на восток»[892]. С начала 1945 года борьба для определенных фракций демократий шла не за обещанный народам прочный мир, но прежде всего за выгодные исходные позиции, с которых собирались приступить к долговременной осаде Советского Союза.
Глава 10 К победе без мира
Война пришла на землю Германии. «Жизненное пространство» расы господ стремительно и неумолимо сокращалось. Но Гитлеру и его присным хотелось думать, что судный день можно отдалить. Коль очень повезет, так и вырвать прочь из календаря. Фюрер тешил себя иллюзией, что барьеры для сделки с правящими кругами демократий преодолимы. Вопрос упирался больше в конкретную цену, а не в абстрактные принципы, в совместимость интересов, а не личностей.
Вера главы режима в то, что империалистической Германии как противовесу СССР в Европе нет эквивалентной замены и что это так или иначе калькулируется политиками Запада, была непоколебимой. Она покоилась на всем довоенном опыте, на циничной, очищенной от пустословия и декораций оценке британской и американской стратегии в войне, на понимании подоплеки негласного сотрудничества большого бизнеса западных держав с немецкой финансово-промышленной олигархией.
В сознании Гитлера не укладывалось, что США и Англия станут подпиливать сук, столь важный для удержания превосходства капиталистической системы, и смиренно наблюдать, как СССР превращается в великую европейскую и мировую державу. Внутри Соединенных Штатов и Англии, по его убеждению, должны были найтись влиятельные группы, которые склонят их правительства к взаимопониманию с Германией, так же как немецкие промышленники со второй половины 1944 года потребовали от нацистского руководства кончать с войной на Западе.
На начало 1945 года руководство рейха располагало обширным банком сведений, позволявших составлять более дифференцированную картину о настроениях, привязанностях и течениях в «великой тройке» и ее окрестностях, чем это вытекало из речей в парламентах, коммюнике или обменов поздравлениями. Богатую пищу для размышлений и спекуляций давали протоколы Московской конференции министров иностранных дел и переговоров Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране, материалы с подробностями поставок вооружений в СССР в порядке ленд-лиза, информация об «Оверлорде» и операциях ВВС союзников, в частности на Балканах, циркуляры Форин офис посольствам. Их поставлял эмиссарам Шелленберга за настоящие и фальшивые фунты стерлингов Цицерон[893] прямо из сейфа британского посла в Анкаре. И естественно, пристальное внимание Берлина приковывали сведения, которые снимались с трансатлантических кабелей связи и выуживались из шифрпереписки трех держав о дебатах в Европейской консультативной комиссии (ЕКК).
Эта комиссия была создана решением Московской конференции (октябрь 1943 года) с задачей разработать порядок капитуляции стран-агрессоров и предложения по механизму контроля за ее осуществлением. Нелишне отметить, что именно на конференции трех министров[894] формула безоговорочной капитуляции из одностороннего заявления Ф. Рузвельта (январь 1943 года), поддержанного У. Черчиллем, стала совместным требованием антигитлеровской коалиции. Руководителей рейха больше занимали не декларации и «решения в принципе». В прошлом многие шедевры подобного жанра оказались пустоцветами. Что принесет практика, какой гранью и к кому она обернется? Распознать эту сторону дела было куда важнее.
Материалы ЕКК и поныне не утратили своей информационной ценности. Без них трудно распутать целый клубок хитросплетений, сопутствовавших отношениям США, Англии и СССР в 1944–1945 годах. Если Гитлер был в курсе пусть некоторых из них, это наверняка распаляло его вожделение. Вплоть до того, что фюрер видел себя среди пользователей распада коалиции союзников-антагонистов.
Под конец Первой мировой войны президент США В. Вильсон выдвинул лозунг – «мир без победы». Что из этого получилось, другой вопрос. Но вильсоновская философия построения справедливого и прочного мирового порядка, не знающего разделения на победителей и побежденных, сама по себе не являлась чрезмерно еретической. Подобные идеи тогда стучались в двери. Недостало воли и мудрости, ответственности и прозорливости политиков, чтобы пригласить их войти дальше зала ожиданий и помочь новым идеям восторжествовать.
К концу Второй мировой войны, с ее невиданными ожесточением и бесчеловечностью, уроки Версаля начисто забылись. Чем дальше, тем упорней Вашингтон держался линии на «победу без мира». Отсутствие межсоюзнических договоренностей о целях в войне и по устройству международных отношений после ее окончания дарило простор и свободу, а с ними виделась почти реализованной установка на «американское лидерство». Отсюда загодя для себя решенное: мирного договора с Германией не будет, в любом случае мира скорого. Да и о каком замирении стоило думать, если в 1944–1945 годах не устоялись представления, сколько Германий целесообразно иметь на месте и вместо Третьего рейха, а главное – к какой Германии или Германиям вести исподволь либо в открытую дело? Но чтобы определиться тут, большинство на верхнем этаже Вашингтона должно было сначала разобраться с вопросом вопросов: как поступить с антигитлеровской коалицией, когда пробьет час зачехлять орудия и ставить на прикол корабли? Последнее программировало всю композицию послевоенного мира.
На конференции ООН по развитию (Москва, 1988 год) и по другим поводам автор высказывал точку зрения, что важнейшим политическим, правовым и моральным итогом Второй мировой войны было не сокрушение нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, а создание Организации Объединенных Наций, освящавшее конструктивный опыт антигитлеровской коалиции и призывавшее обратить его на пользу мира. Если в первые сорок лет своего существования Организация не зарекомендовала себя особой результативностью, так это потому, что ООН учреждалась как добровольное сообщество сотрудничества и вовсе не как арена конфронтаций. С небольшими дополнениями Устав ООН мог бы стать в свое время хартией мира и безопасности, договором над договорами. К сожалению, не стал.
Вернемся, однако, в год 1944. Отвечая на послание премьера от 2 января, Рузвельт писал: «По моему мнению, в настоящее время лучше, чтобы наше понимание безоговорочной капитуляции осталось таким, как оно есть». То есть самым общим и расплывчатым. Эту же мысль президент повторил Хэллу[895], который, со своей стороны, инструктируя Вайнанта, посла США в Лондоне и представителя американского правительства в ЕКК, предписывал ограничивать круг занятий комиссии сугубо техническими рамками и не втягиваться без специального разрешения в общеполитические дискуссии.
В момент конституирования ЕКК американцы неуклюже попытались приладить к ней опекунов в виде Объединенного комитета начальников штабов США и Англии: рекомендации комиссии должны были, по их замыслу, направляться трем правительствам лишь с санкции западных военных. А. Иден отвел этот проект за явной одиозностью и как провокационный по отношению к СССР.
Характерен в данном контексте также посланный Вайнанту военными руководителями США список вопросов, подлежавших обсуждению в ЕКК (перечислялись в порядке важности):
(1) директивы касательно гражданской администрации во Франции;
(2) директивы касательно гражданской администрации в Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии;
(3) «военное перемирие» с Германией;
(4) военное управление Германией;
(5) «исчерпывающие условия капитуляции для Германии»;
(6) условия капитуляции для малых вражеских стран[896].
Не без сочувствия и соучастия чиновников госдепартамента американские военные своевольно истолковывали политические решения, а также договоренности трех держав. Освобождавшиеся от нацистского ига страны подстерегала новая оккупация. Вместо акта безоговорочной капитуляции агрессоров – «перемирие», причем его конкретная проблематика назначалась к рассмотрению в последнюю очередь. Макклой, участвовавший в создании сего уникума, комментировал пункт 5 так: «В природе незаполненного бланка есть что-то значительно более ценное, нежели в документе, который заранее фиксировал бы и определял все наши права»[897].
За линию на принижение роли и значения ЕКК американская администрация и ее ведомства цеплялись до конца 1944 года. В октябре Рузвельт писал Хэллу: «Мы должны подчеркивать, что Европейская консультативная комиссия является „консультативным“ органом и что ни Вы, ни я не связаны ее советами. Именно это положение временами упускается из виду, и, если мы не будем помнить это слово „консультативная“, можно будет зайти слишком далеко и осуществить некоторые советы, которые, когда настанет пора, нам могут быть совсем не по нраву»[898].
Не следует искать здесь единственный – антисоветский знаменатель. По крайней мере, в отдельные моменты антибританский угол в позиции США был не менее острым. К примеру, генерал Эйзенхауэр и начальник его штаба Беделл Смит настаивали на создании единой англо-американской зоны оккупации Германии, предполагая, что ее военную администрацию будет возглавлять американец.
Объективно позиции СССР и Англии, особенно в начальный период деятельности ЕКК, оказывались по различным причинам ближе друг к другу. Нежелание Лондона перенимать подходы американского партнера усугубило неприязнь президента лично к А. Идену.
Британский министр был заподозрен в излишнем расположении к аргументам СССР.
Смущала ли Ф. Рузвельта в такой же степени тенденция англичан процеживать лексикон комиссии сквозь имперский фильтр довоенного пошиба? Вашингтон могло наводить на раздумья упрямое стремление, правда, больше проступавшее у Черчилля, чем у Идена, распространить на Германию итальянский опыт применения безоговорочной капитуляции.
15 января 1944 года британская сторона внесла в ЕКК проект «Военная оккупация Германии». Он предусматривал поэтапные (в течение двух лет) демобилизацию и разоружение германских вооруженных сил. Мотив – забота об «упорядоченном переходе» в новое состояние и предотвращении «внутренних беспорядков» – никого не обманывал. Рузвельт в это время придерживался по отношению к германскому милитаризму почти противоположного взгляда: не заигрывать, а показать всем и каждому в Германии, что «германский народ – побежденная нация»[899].
США встретили в штыки английский вариант условий капитуляции. Они высказывались категорически против детального кодифицирования того, что, как и кем должно было делаться в момент признания Германией своего поражения. Если бы англичане в каждой из семидесяти статей своего проекта повторяли слова «безоговорочная капитуляция» – в действительности понятие «безоговорочная капитуляция» не фигурировало ни разу, – это, с точки зрения Вашингтона, ничего не изменило бы. Рузвельт 29 февраля 1944 года обратился к Черчиллю с просьбой-требованием снять английский проект с рассмотрения. Он подчеркнул целесообразность иметь «документ, в котором утверждались бы общие принципы»[900].
В одном из госдеповских проектов (25 января 1944 года) давалась следующая дефиниция термину «безоговорочная капитуляция»: «Безоговорочная капитуляция есть признание Германией того, что а) ее вооруженные силы потерпели полное поражение и не способны сопротивляться достижению военных целей противников; б) ее ресурсы и народ истощены до такой степени, что дальнейшее сопротивление бесполезно; в) она готова повиноваться беспрекословно любым условиям военного, политического, экономического и территориального характера, которые могут быть названы ей победителями». Вместе с тем проект США допускал сохранение части нацистских организаций, «которые окажутся желательными», а демобилизацию вермахта, как и англичане, предлагал осуществлять «с максимальным учетом внутреннего порядка и социальной устойчивости»[901]. Комитет начальников штабов США отклонил разработку дипломатов, поскольку она излишне связывала американскую сторону. Посол Вайнант получил указания опустить конкретику, а акту капитуляции придать самый общий вид[902].
Внесенные Вайнантом 15 февраля, 6 и 25 марта 1944 года в ЕКК предложения предусматривали, что «права, полномочия и привилегии верховного командующего союзными экспедиционными силами и главнокомандующего вооруженными силами СССР… не будут иметь ограничений какого бы то ни было характера». «Строгую форму военного управления» предполагалось ввести «на значительный период времени». Риторические, подчеркнуто жесткие формулировки и освящение загодя непоследовательности в обращении с поверженным противником. Полная свобода – так полная, вплоть… до сохранения институтов и кадров, что сгодятся, когда сочтут целесообразным перекрашивать противника в союзники, а союзника – во враги.
Советский проект порядка объявления и осуществления Германией безоговорочной капитуляции (15 февраля 1944 года) Дж. Вайнант воспринял как документ преимущественно военного характера, «призванный обеспечить, прежде всего, незамедлительно и эффективно, чтобы германские вооруженные силы не могли продолжать военные действия». Заметим: как на Западе, так и на Востоке одновременно. «Наше первое общее впечатление об этом документе, кратком, деловом и широком по своим рамкам, таково, – докладывал посол Хэллу, – что он обнадеживающе близок к нашим собственным идеям»[903]. Позднее Вайнант добавит в депеше госдепартаменту, что он «лично согласен с обоснованностью предложенной русскими очередности принятия, прежде всего, военных условий капитуляции с последующим опубликованием прокламаций и приказов в порядке их важности»[904].
Наивный посол. Он воевал не с ветряными мельницами, а с соединенной реакцией, окопавшейся в госдепартаменте и Пентагоне. Она домогалась свободы рук в отношении не столько побежденных, сколько союзников. Сотрудничество с СССР в деле управления Германией заранее считалось нереальным, а согласование общих программ ее денацификации и демократизации «по соображениям общего свойства» (Дж. Кеннан) – неподходящим.
В ходе острых дебатов в ЕКК американская сторона настаивала на отражении в проекте положений, которые бы «резервировали абсолютную власть без каких-либо ограничений и условий любого характера над германским правительством, народом, территорией и ресурсами». Англичане и американцы добивались в это же время учреждения при ЕКК специального комитета для подготовки предложений о расчленении Германии[905].
Советский представитель Ф. Гусев, сославшись на занятость делегации «вопросом об условиях капитуляции Германии» и отсутствие у него «достаточных материалов и экспертов», уклонился от участия в рассмотрении британского проекта положения о названном комитете. Он отказался также выделить кого-либо из членов своей делегации для изучения этого проекта.
Тема расчленения Германии в комиссии в 1944 году больше не всплывала. К ней вернулись на конференции в Крыму после того, как Сталин 5 февраля 1945 года спросил у партнеров, предполагают ли они расчленить Германию после ее военного поражения? Черчилль и Рузвельт выступили за разделение рейха на несколько государственных единиц. Президент настаивал на том, чтобы принципиальное решение на сей предмет было принято в Ялте. Сталин поддержал идею «решения в принципе». Оно было отражено в дополнении к статье 12 акта о безоговорочной капитуляции[906].
Главы правительств назначили комиссию в составе Идена, Гусева и Вайнанта для изучения соответствующих модальностей. 9 марта Иден предложил своим коллегам рассмотреть, «каким образом Германия должна быть разделена, на какие части, в каких границах и каковы должны быть взаимоотношения между частями». 26 марта Гусев направил Идену следующий ответ: «Советское правительство понимает решение Крымской конференции о расчленении Германии не как обязательный план расчленения Германии, а как возможную перспективу для нажима на Германию с целью обезопасить ее в случае, если другие средства окажутся недостаточными»[907]. Советский делегат позаботился о том, чтобы принятое в Ялте дополнение к статье 12 (о расчленении Германии) не доводилось до сведения французской стороны и не содержалось в официально утвержденном тремя державами и принятом Францией тексте документа о безоговорочной капитуляции[908].
Для цельности картины надо прибавить следующее. Советская позиция в отношении будущего государственного устройства Германии познала несколько зигзагов. В декабре 1941 года Сталин подверг сомнению правильность сохранения единой Германии. Пару месяцев спустя он же выдвинул известную формулу – «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское остается». В начале сентября 1943 года при Наркоминдел СССР были созданы комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства под председательством М. Литвинова и комиссия по вопросам перемирия во главе с К. Ворошиловым. Последняя позднее была реорганизована в комиссию по перемирию с Германией, и отдельно возникла комиссия по перемирию с Финляндией, Венгрией, Румынией. После Тегеранской конференции в комиссии по вопросам мирных договоров обсуждались варианты возможного расчленения Германии, которые за подписью авторов (М. Литвинов, Е. Тарле и другие) докладывались Сталину и Молотову, а также посылались «для личного сведения» Гусеву в Лондон.
В марте 1945 года, когда Ф. Гусев получил указания де-факто снять вопрос о расчленении Германии с повестки дня, Сталин пришел к решению, что советским интересам, не без учета известных Москве планов США на послевоенный период, больше отвечало бы существование единого, демократического немецкого государства с социально-экономическим строем типа Веймарской республики. В архиве МИД СССР хранились материалы о встрече Сталина с членами комиссии Литвинова, где это было соответственно отражено.
Обратимся к дискуссиям в ЕКК по другим вопросам. Первый проект установления зон оккупации Германии был подготовлен англичанами в августе 1943 года. 15 января 1944 года британский делегат Стрэнг реализовал его в ЕКК как предложение о создании трех оккупационных зон. Советская сторона 18 февраля без торга согласилась с этим планом. Вайнант пребывал в ожидании инструкций до марта 1944 года. Наконец, к нему поступило указание комитета начальников штабов США отвести Советскому Союзу зону вдвое урезанную по сравнению с английским предложением и в три раза меньшую той, на которую претендовали сами американцы.
Дж. Вайнант обратился к президенту за разъяснением. Ф. Рузвельт отменил указание КНШ как неверно истолковывавшее «черновой набросок» хозяина Белого дома (декабрь 1943 года), не предназначавшийся для оглашения. Послу поручалось принципиально одобрить зональные границы, как они проектировались Лондоном, при условии, что американцы займут северо-западную часть Германии. Эту оговорку Вашингтон отозвал лишь в сентябре 1944 года, когда стало ясно, что советские войска первыми войдут в Германию и что не только не удастся задержать их «подальше на востоке», но Красная армия может овладеть большей частью территории рейха[909].
Нередко встречается мнение, что ЕКК не справилась с возложенной на нее задачей и не сумела выработать согласованного текста условий капитуляции Германии. Подобные утверждения неверны. 25 июля 1944 года Европейская консультативная комиссия приняла соответствующий проект. 9 августа он был одобрен правительством США, 21 августа – СССР, 31 августа – (с оговорками) Англией[910]. Документ ЕКК, санкционированный по всей форме в Ялте, обрел статус договоренности на высшем уровне. Францию пригласили войти в состав комиссии и присоединиться к условиям капитуляции для Германии тоже на Крымской конференции с неохотного согласия Рузвельта. Но США не сразу позволили решению «большой тройки» касательно приглашения французов войти в силу. В итоге Франция смогла стать участником соглашения об условиях безоговорочной капитуляции Германии и контрольном механизме только 1 мая 1945 года.
К концу июля 1945 года ЕКК подготовила по инициативе советской стороны соглашение о некоторых дополнительных требованиях к Германии. В нем регулировались вопросы разоружения и демилитаризации Германии; возвращения на родину военнопленных, интернированных и насильственно угнанных граждан Объединенных Наций; ликвидации нацистского режима и выдачи военных преступников; контроля над экономикой Германии.
Однако мы забежали вперед. Конференция в Крыму вроде бы все основное расставила по местам. Черчилль переживал неудачу: президент больше поглядывал в сторону СССР, чем Великобритании. Из суфлера стать статистом? Смирить гордыню? И это после стольких трудов, в пяти минутах от звездного часа, когда должны были восторжествовать его напор, хватка, преданность своей идефикс?
В послании президенту США от 8 января 1945 года Черчилль требовал, рекомендовал, умолял: нужна жесткая линия в отношении СССР, ибо «конец войны может оказаться более разочаровывающим, чем конец прошлой»[911]. Ч. Моран, не чуждый премьеру человек, напишет позднее: с некоторых пор Черчилль «больше не говорит о Гитлере, он толкует об опасности коммунизма»[912].
Шарль Луи Монтескье заметил в своих «Персидских письмах»: «Государь утешается в потере одной крепости тем, что берет другую». Британские монархи царствуют, но не управляют. Премьер не царствует, но управляет, и брать крепости – его удел. Имелись ли еще в запасе крепости, желавшие вручить ключи именно Черчиллю? Мир так велик, что нет такого, чего не было бы, гласит китайская мудрость. Не случайно на январь-май 1945 года падает такое количество тайных контактов с рейхом, которого с лихвой достало бы на все годы войны.
Помимо моделей «почетного» мира, составлявшихся в ряде случаев под диктовку Гитлера («меморандум Риббентропа» от 19 января 1945 года, телеграфное указание Риббентропа от 16 февраля 1945 года немецким диппредставителям в Ирландии, Португалии, Италии и Ватикане[913]), западным державам был известен ряд планов, авторами которых выступали имперские министры и видные деятели национал-социалистской партии – НСДАП. «Генеральный план на 1945 год» А. Шпеера включал следующий пункт: «Полный роспуск Западного фронта даст нам исключительную возможность не только помешать крушению, но и откроет невиданные возможности на будущее». Показательно, что даже «уравновешенный» Шпеер заявлял претензии на Австрию, Венгрию, часть Югославии, а Советскому Союзу отводил роль поставщика сырья.
30 января 1945 года Шпеер направил Гитлеру меморандум, в котором доказывал абсолютную бесперспективность войны, невозможность с утратой Силезии удовлетворять минимальные потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках. Министр призывал подумать о людях[914].
Свою точку зрения – «экономически» война безвозвратно проиграна, и из этого должны незамедлительно делаться радикальные выводы – Шпеер довел до сведения трехсот крупнейших предпринимателей, поощряя их к действию. Эти и последующие шаги Шпеера предполагали незаурядное мужество, особенно после предупреждения фюрера 27 января 1945 года, сделанного в ответ на «пораженческий» доклад Гудериана: «Кто в разговорах с другими станет утверждать, что война проиграна, будет обвинен в измене со всеми последствиями для него самого и его семьи. Я позабочусь о том, чтобы это применялось без скидок на ранг и авторитет»[915].
Герделер не прекращал попыток свести вместе Германию и западные державы, даже находясь в заключении. В письме «шведскому другу» (Я. Валленбергу) 8 ноября 1944 года он отмечал: «Поскольку Англия не может рассчитывать на крах национал-социализма, она должна заключить перемирие с нынешней Германией. Иначе борьба с национал-социализмом будет стоить ей будущего… Общая катастрофа при продолжении борьбы неизбежна. Таким образом, Англии придется терпеть национал-социализм; тогда она сможет решить польский вопрос. У меня есть готовый спасительный для Европы и удовлетворяющий Англию и США мирный план… Я знаю, что нацисты под моим влиянием, оказываемым из тюрьмы, ограничили свои военные цели и будут сотрудничать; необходимость внутренних реформ придет автоматически, если я и мои друзья останемся живы. Поскольку мы приговорены к казни, надо действовать быстро… Сначала все должно делаться закулисно, скрытно от России. Я заклинаю Вас проявить инициативу»[916].
Бывший обер-бургомистр изъявил готовность принять предложение Гиммлера, чтобы использовать свои связи с шведским королем, а также при посредничестве сионистского лидера Вейцмана с Черчиллем для быстрого окончания войны на сносных условиях. Но в плату за услуги он запросил свободы. Гиммлер на это не пошел. Герделер попытался заинтересовать своей персоной Гитлера. Без успеха.
Известно, что Кальтенбруннер систематически информировал Гитлера обо всем, чем занимался заключенный. Впечатление таково, что некоторые из соображений Герделера преломились в диктовке фюрера, обретшей вид «меморандума Риббентропа». Во всяком случае, созвучия заметны, акценты расставлены примерно одинаково, смысловой строй близок: «дальнейшее ослабление Германии является для англичан и американцев самоубийством»; необходимость заменить политику «баланса сил» внутри Европы новым балансом – «Германия, Европа, Англия против мощного Советского Союза». Касательно Азии Гитлер-Риббентроп шли дальше Герделера. Нацистские руководители соблазняли американцев и англичан обещанием подключить Японию к борьбе против СССР, выведя ее, естественно, из войны с США и Англией.
Из сочинения в сочинение некоторых истолкователей былого кочует завуалированный или набранный крупным шрифтом тезис о том, что Гитлер дважды виновен перед «Германией»: безрассудством и одержимостью. Фюрер якобы помешал генералам вырвать решающие победы, а под конец войны, потеряв всякую ориентировку во времени и пространстве, свел на нет все попытки сговориться против главного врага – Советского Союза, искусно завязывавшиеся с немецкой и англосаксонской сторон.
Что до военных концепций и оперативного руководства войсками, то верно следующее: пока вермахт купался в успехах, Гитлер слыл за величайшего полководца со дня сотворения мира. Поражение, как и положено, стало сиротой. Под занавес глава режима объяснял крах «русского похода», обусловившего общую катастрофу Третьего рейха, тем, что не сумел в 1941 году реализовать свой стратегический замысел и, поддавшись уговорам генералов, разрешил операцию «Тайфун» – штурм Москвы. Объективность требует признать, что замышлявшийся Гитлером прорыв к Волге и Кавказу с обходом Москвы с юга и востока таил в то время, пожалуй, большие опасности для СССР.
В части сепаратных переговоров одиозная личность фюрера, конечно, не облегчала сделок даже тогда, когда он сам их искал. Правящие круги Запада были склонны уступать Гитлеру меньше, чем кому угодно другому. Устранение нацистского предводителя представлялось необходимым, чтобы смену персоналий выдать за свержение тирании и получить возможность заявить: цель войны достигнута.
Судя по документам, кое-кто из англичан и американцев не погнушался бы собеседованиями с самим шефом СС и гестапо Гиммлером, будь тот поактивней и менее трусливым[917]. Сталин не случайно задал Рузвельту и Черчиллю на конференции в Крыму прямой вопрос: «… Оставят союзники или нет правительство Гитлера, если оно безоговорочно капитулирует?» Премьер заявил: если «с предложением о капитуляции выступят Гитлер или Гиммлер… союзники ответят им, что они не будут вести с ними переговоры, как с военными преступниками»[918].
Согласитесь, это двусмысленней в сопоставлении с тем, что говорилось в 1940-м или в 1943 годах[919]. Какие вообще переговоры, если требование безоговорочной капитуляции сохранялось? Или Черчилль намеренно не упомянул термин «безоговорочная», примериваясь, как бы спустить на тормозах, ревизовать установку на безусловную капитуляцию Германии одновременно перед всеми державами, которые вели против нее войну?
31 марта 1945 года английский представитель в Европейской консультативной комиссии внес новый проект «Декларации о поражении Германии», который не содержал формулы безоговорочной капитуляции. Исполняя поручение Молотова, посол Гусев направил официальный письменный запрос британской делегации в ЕКК: что означает отсутствие в проекте от 31 марта «формулы безоговорочной капитуляции, которая лежала в основе документа о безоговорочной капитуляции Германии, выработанной в ЕКК и утвержденной тремя правительствами»?[920] Неделю спустя заместитель министра иностранных дел Англии в ответном письме заверил посла: «Это исключение не означает какие-либо изменения в позиции правительства его величества в отношении принципа безоговорочной капитуляции, который остается основой его политики»[921]. Когда британская дипломатия возводит требование в ранг «принципа», да еще берет принцип за «основу», надо было быть, как мы могли неоднократно удостовериться, настороже. Обычно затевалось неладное.
Весной 1945 года Черчилль выискивал и создавал предлоги, чтобы уклоняться от выполнения договоренностей по военным и политическим вопросам. Тощий итог не соответствовал приложенной премьером энергии. Подвел немецкий догматизм. Не подсобил в должной степени «близорукий» рузвельтовский Вашингтон со своими заскорузлыми, на взгляд Черчилля, представлениями об этике и долге. У Советского Союза, оракулам в посрамление, нашлось третье и четвертое дыхание: он не упускал инициативы, хотя с марта 1945 года второго (Западного) фронта де-факто уже не существовало и вермахт вел бои только против Красной армии. Но на войне как на войне – здесь музыку заказывает тот, в чьих руках инициатива.
Берлин расшифровал союзнический приказ, из которого следовало, что налеты авиации западных держав на узлы коммуникаций в Восточной и Центральной Германии – якобы «в поддержку союзнических операций» – имели действительной задачей затруднять и замедлять продвижение соединений Красной армии в глубь рейха[922]. Из контактов с представителями США и Англии немцы заключали, что Вашингтон и Лондон, официальным декларациям вопреки, заинтересованы в негласном сотрудничестве, прежде всего, с германским военным командованием и службами безопасности. Если удастся, в установлении взаимопонимания еще до встречи глав трех правительств в Крыму.
Как заметит Черчилль в своих мемуарах, отправляясь в Ялту, он считал открытыми вопросы о «форме и структуре послевоенной Европы», об отношении к Германии после того, «как нацисты будут побеждены», о том, «какие меры и какую организацию смогут предложить три великих союзника (одного из которых премьер тут же назовет „завоевателем“) для обеспечения будущего мира и правильного управления всем миром»[923]. Он полагал, по крайней мере когда занялся воспоминаниями, что прежние договоренности не являлись чем-то неприкосновенным, а некоторые из них и вовсе утратили на тот момент свою привлекательность.
Тактика конфронтации, замысленная премьером с прицелом на встречу глав трех держав, быстро обнаружила свою несостоятельность ввиду стремления Рузвельта не теоретизировать, но договариваться по неурегулированным вопросам. Владея документальной информацией о британских домашних заготовках, Сталин в свою очередь не дал Черчиллю зацепок для провоцирования трений между Москвой и Вашингтоном, для инструментовки своего лейтмотива, что пик сотрудничества пройден и дальше каждая из трех держав пойдет собственной дорогой.
Крымская встреча удовлетворила Рузвельта в большей степени, чем он ожидал. Это удовлетворение проистекало не только из принятых СССР обязательств по окончании войны в Европе внести свой вклад в разгром японского милитаризма. В основу важнейших решений конференции легли американские разработки. Это предельно сузило поле для черчиллевских интриг и подножек. Подчеркнуто деловой подход советской стороны к обсуждавшимся вопросам снимал сомнения президента в достижимости стабильного мира. Естественно, при минимальном желании и готовности самих американцев учиться у жизни, а не только поучать других.
Но, как сообщал 1 марта 1945 года из Вашингтона посол А. Громыко, возобладавшая в Ялте линия на совместные действия трех держав в доведении войны до общей победы и строительство в согласии друг с другом прочного мира после разгрома агрессоров встретила в США не одни восторги. Сенатор Ванденберг открыто отстаивал свой план «пересмотра» взаимоотношений между союзниками по завершении войны. Сенатор Уилер призывал защищать «западную цивилизацию» от Советского Союза. Газеты Херста и Патерсона вели кампанию за то, чтобы «держать Россию вне Европы»[924].
Не в последнюю очередь эти круги имел в виду Рузвельт, подчеркивая, что от добросовестного выполнения союзнических соглашений, достигнутых в Тегеране и Ялте, зависят «судьба Соединенных Штатов и судьба всего мира на будущие поколения». «Здесь, – предупреждал президент по возвращении из Крыма, – у американцев не может быть среднего решения. Мы должны взять на себя ответственность за международное сотрудничество, или мы будем нести ответственность за новый мировой конфликт»[925].
При тщательном ознакомлении с документами и заявлениями Рузвельта конца 1944–1945 года бросается в глаза их разнокалиберность и атональность. Сказывались, по всей видимости, происшедшие с лета 1944 года перемены в окружении президента. Гопкинса оттерли от Рузвельта: их отношения омрачили слухи, будто специальный советник главы администрации попал под слишком сильное влияние то ли англичан, то ли русских или китайцев, чтобы доверять ему защиту интересов США. На авансцене красовались деятели типа Леги и Маршалла. Им принадлежало авторство большинства полемических посланий, которые от имени президента направлялись в тот период в Москву. Вполне правдоподобно мнение, что в последний год жизни Рузвельта министры, советники и помощники, «щадя его здоровье», многое просто не докладывали президенту. Власть растаскивалась по департаментам и ведомствам. В силу этого затруднительно вынести однозначное суждение о том, в какой мере глава администрации был информирован, в частности, о специальных операциях Управления стратегических служб.
Об афере К. Вольффа написано немало книг и глав в книгах. Скрупулезно точно фактическая сторона дела и его подоплека описана Л. А. Безыменским, имевшим возможность выверить данные и оценки в беседах с непосредственными участниками событий[926]. Стандартным произведением остается работа Б. Смита и Е. Агаросси «Операция „Восход солнца“»[927]. Некоторые нюансы этой операции высвечены в книге под общим названием «Война секретных служб против Германии»[928].
Наше внимание сосредоточится на прояснении вопросов о том, (а) когда контакты стали переговорами, (б) какие конкретные расчеты связывались сторонами с возможной договоренностью, (в) к чему свелась афера в конечном счете. Выяснить и наложить реальность на официальную версию, которая на высшем уровне горячо отстаивалась американцами и англичанами как единственно верная.
Итак, 12 марта 1945 года посол США в Москве известил письмом в НКИД о том, что «8 марта через Бюро стратегических служб на данном (Средиземноморском) театре было получено сообщение, что старший офицер войск СС в Италии генерал Карл Вольфф в сопровождении Долльмана и Зиммера и представителя ОКВ, как предполагают из штаба генерала Кессельринга, должны были прибыть в Лугано (Швейцария) с целью обсуждения вопроса о капитуляции германских войск в Италии. Информация, полученная 9 марта, подтвердила прибытие генерала Вольффа и его готовность попытаться разработать программу вывода из войны немцев, находящихся в Северной Италии».
Уже из текста письма вытекало, что речь шла о чем-то большем, чем «капитуляция войск». Предлагалось (якобы Вольффом), чтобы «до капитуляции германские руководящие лица, находящиеся в Италии, обратились к германскому народу с заявлением, что положение безнадежно и что продолжение борьбы ведет лишь к бесполезному пролитию немецкой крови». Уже в первом письме посла США контакты с Вольффом дважды назывались «переговорами», но одновременно нарочито акцентировался тезис, что американские представители намерены вести их «на чисто военной основе, а не на правительственной или политической основе»[929].
Перед советской стороной было классическое «отвлекающее заявление», возникшее, наряду с прочим, в результате цепи фальсификаций: Долльман утаил от Вольффа часть «предварительных условий», изложенных ему сотрудниками Управления стратегических служб на «ознакомительной» встрече в Швейцарии, которая состоялась 3 марта; Даллес в донесении Доновану о беседе с Вольффом 8 марта придал повышенную привлекательность позиции генерала СС; Донован, докладывая вопрос Рузвельту, госсекретарю Стеттиниусу и главкому Эйзенхауэру, «отредактировал» Даллеса таким манером, что Гиммлер оказывался вроде бы непричастным к начинавшимся переговорам, а заглавной целью самих переговоров стало «прекращение немецкого сопротивления в Северной Италии». Дезинформация обладает тем лучшими шансами на успех, чем ближе она отвечает сокровенным чаяниям потребителей.
Естественно, в информации, заготовленной для Москвы, целиком сокрытым был факт, что афера Вольффа стартовала не с нулевой отметки. В ней кульминировались встречные усилия сторон: с конца 1944 года УСС подсылало к германским командующим на Западном фронте отобранных из военнопленных немецких офицеров с предложением сложить оружие (можно и без формальной капитуляции), люди Гиммлера в свой черед выходили на Даллеса – через итальянских промышленников, архиепископа Милана кардинала Шустера, спецслужбы Швейцарии, немецкого консула в Лугано Константина фон Нойрата – с идеей перемирия, по которому англо-американским войскам упорядоченно передавалась бы вся Северная Италия в обмен на дозволение вывести соединения вермахта «за Альпы». К. Вольфф был практически продолжателем зондажей Нойрата (декабрь 1944 – январь 1945 года), но в переговорах с Даллесом мог опираться на одобрительно принятый Гитлером 6 февраля 1945 года доклад генерала СС, выделявшего необходимость активных акций, дабы расколоть «противоестественный» союз США и Англии с СССР.
Часть правды вышла наружу в тот же день, 12 марта, когда В. Молотов сообщил А. Гарриману, что советское правительство «не возражает против продолжения переговоров англо-американских офицеров с генералом Вольффом» при том понимании, что в переговорах примут участие представители советского военного командования[930]. Англичане, будучи не совсем в курсе дела, не возражали. Даже американские военные на уровне Лемнитцера, заместителя начальника штаба вооруженных сил на Средиземноморском театре, которых тоже не посвящали в конечный замысел спецслужб, находили советскую точку зрения резонной.
В штыки восприняли реакцию Москвы Стимсон, Гарриман, глава военной миссии США в СССР Дин и руководители УСС, ибо суть отнюдь не исчерпывалась капитуляцией группировки Кессельринга. 15 марта советская сторона была поставлена в известность о том, что ее представители не будут допущены к переговорам с Вольффом ни в каком качестве. Сами переговоры отныне выдавались за «встречу» для установления контакта «в целях доставки германских представителей в ставку фельдмаршала Александера, где будут обсуждены все вопросы, касающиеся капитуляции»[931]. Одна ложь тянула за собой другую, пятую, десятую.
Итак, операцию раздвоили. В Берне узкий состав участников должен был притирать американские и германские военно-политические позиции по существу. В Казерте – в случае успеха сидений Даллеса с Вольффом – видимая часть сделки была бы оформлена в присутствии свидетелей, в том числе от СССР, как некий вариант капитуляции. В Берне диалог брался в рамки большой политики: на кону держали роспуск всего Западного фронта при сохранении и усилении Восточного, – в Казерте разыгрывали бы пьесу из повседневной военной жизни.
И все кончилось тем, чем должно было кончиться, – серьезным политическим осложнением. 16 марта СССР потребовал прекратить начатые переговоры и исключить впредь «возможность ведения сепаратных переговоров одной или двух союзных держав с германскими представителями без участия третьей союзной державы». В ответ на новые попытки Гарримана (21 марта) оправдать аферу Вольффа советское требование было повторено в еще более жестких выражениях. Затем в переписку и неизбежную полемику оказались втянутыми Рузвельт, Черчилль и Сталин[932].
В последней телеграмме Черчиллю, написанной, как считается, собственноручно, президент выражал намерение не усугублять возникавших проблем, большинство которых «так или иначе само собой регулируется», как «недоразумение, касающееся встреч в Берне». Самое позднее тогда Рузвельт осознал, что цель Вольффа – «сеять подозрения и недоверие между союзниками»[933].
За день до этого, 10 апреля, Даллес получил приказ вести переговоры на чисто военной основе и с офицерами, обладающими соответствующими полномочиями. О деталях «высокого спора» Донован сориентировал Даллеса лишь через два дня после кончины Рузвельта (12 апреля). Эта информация повергла резидента в растерянность насчет «будущего его мирных переговоров». 20 апреля госдепартамент предписал резиденту прекратить переговоры с Вольффом, в чем Даллес усмотрел часть «коммунистического заговора», направленного на установление контроля над Триестом – ключом к Адриатике и в какой-то мере к Северной Италии. Донован при молчаливом согласии Стимсона и Маршалла) полагал, что Даллес должен довести аферу Вольффа до финала, избегая излишней бумажной волокиты и делая вид, что с тем же Вольффом варится другое варево.
Один тот факт, что действия Управления стратегических служб в подработке формулы взаимопонимания с представителями германского руководства целый месяц никак не ограничивались, а самого представителя управления всячески выгораживали перед президентом США – о союзнике по антигитлеровской коалиции нечего и говорить, – показывает, насколько высокими были ставки в игре. Б. Смит и Е. Агаросси замечают по этому поводу:
«Было бы несправедливо и неверно возлагать на А. Даллеса исключительную ответственность за бессмертие „Восхода солнца“. Представитель УСС мог продолжать разыгрывать из себя миротворца, поскольку начальство не слишком внимательно приглядывало за ним. Руководители УСС в Вашингтоне были готовы рисковать и игнорировать симптомы грозящей неудачи, потому что подобно Даллесу они жаждали политического триумфа в последнюю минуту. Генералы поддерживали „Восход солнца“ по военным мотивам и защищали его как перед президентом, так и перед Советским Союзом… Не раздавалось также окрика из Белого дома, который призвал бы генералов к порядку, и тому имелись многие причины. Во время последней болезни Рузвельта Верховное командование Соединенных Штатов привыкло обходиться скупыми указаниями главного администратора или действовать в их отсутствие»[934].
«Императрица умерла!» – это известие принес фюреру Геббельс, проводя параллель с «чудесным спасением» прусского короля Фридриха II. Со смертью Елизаветы Петровны в 1762 году российский трон унаследовал Петр III – апологет неметчины. Новый правитель отменил все решения своей предшественницы и одарил Фридриха возможностью царствовать дальше.
Кончина Рузвельта вызвала в нацистском стане настоящее ликование. У Гитлера с новой силой забрезжила надежда на развал антигитлеровской коалиции. Даже засосало под ложечкой: на время властители рейха приняли позу слишком гордых, чтобы капитулировать безоговорочно.
Ряд всплывших в 80-90-х годах американских документов свидетельствует о том, что уход из жизни Рузвельта вызвал прилив энергии в среде противников антигитлеровской коалиции в самих Соединенных Штатах. В марте-мае 1945 года им недостало сил и рычагов, чтобы сразу переложить руль американского государственного корабля на другой румб, хотя им ассистировали в меру способностей Черчилль и некоторые другие патентованные демократы. Однако не истечет и года, как это случится и будет списана в архив, пожалуй, лучшая из дававшихся человечеству возможностей открыть подлинно мирную главу цивилизации.
Программа-минимум операции «Восход солнца» включала в себя передачу власти в регионе из рук немцев в руки американцев и англичан таким образом, чтобы не допустить перерастания национального сопротивления на севере Италии в социальную революцию. Промышленные объекты, интересовавшие монополии США и Англии, должны были остаться нетронутыми в физическом и юридическом смысле. Чтобы достичь поставленной задачи, западные державы, как перед тем и во Франции, шли на то, чтобы с помощью нацистского вооруженного персонала сдержать, где потребуется, подавить левые силы.
Не раскрывая деталей, В. Смит и Е. Агаросси упоминают, что «англо-американцы и итальянское королевское правительство» намеренно подставляли итальянских партизан под удары немцев или дезорганизовывали действия сил сопротивления. Никакие «революции» в Италии не должны были быть терпимы, иначе – «освободительная интервенция»[935]. Когда у великого замаха Даллеса пообвисли перья, резидент утешал себя тем, что ему удалось сдержать «красную опасность» в итало-югославском пограничном регионе[936].
Программа-максимум нацеливалась на то, чтобы проложить войскам западных союзников кратчайшие пути в Центральную Европу. Рассудок отступал перед искусом завершить войну «динамичным англо-американским наступлением, которое дало бы Западу в руки многие территории, судьба которых еще не была определена»[937]. Беспардонность, с какой велось объяснение с СССР, отражала, справедливо замечает Л. Безыменский, вселенную Даллесом и Донованом уверенность, что капитуляция по меньшей мере группы армий «Ц» – дело верное[938].
Еще 2 апреля Черчилль писал Эйзенхауэру о «чрезвычайной важности того, чтобы мы встретились с русскими как можно дальше на Востоке», и прибавлял: «Многое может случиться на Западе до того, как начнется главное наступление Сталина»[939]. Где-то к середине апреля премьер разуверился в посулах Вольффа и порекомендовал Вашингтону оборвать переговоры с нацистскими эмиссарами. Одновременно Черчилль послал примирительную телеграмму Сталину, в которой высказался за то, чтобы считать «недоразумение» в отношении «Кроссворда» (английское кодовое название аферы Вольффа) устраненным[940]. Тогда же было отозвано британское предложение исключить из «Декларации о поражении Германии» формулу о безоговорочной капитуляции.
Программа-минимум была в основных чертах реализована. «Порядок» в Северной Италии сохранился, хотя западным державам, и, к сожалению, не только им одним, пришлось заплатить определенную цену за проволочки, которыми под контролем Берлина занимался Вольфф. В ожидании капитуляции немецкой группировки войска Александера на несколько недель прекратили активные боевые действия. Это освободило Верховное командование вермахта (ОКВ) от части забот по снабжению Южного фронта боеприпасами, горючим и пополнению личного состава. Затишье в Италии позволило переадресовать ресурсы для подкрепления соединений, ведших в это время ожесточенные сражения с Красной армией, и перебросить на восток до трех дивизий.
Документ о капитуляции итальянской группировки вермахта был подписан в Казерте 29 апреля. Датой прекращения огня в нем называлось 2 мая 14.00 местного времени. К этому моменту подразделения союзнической 15-й группы армий заняли Бреннер и (с 30 апреля) начали стягиваться к Триесту. Были взяты под контроль англо-американского командования ключевые пункты в зонах действий итальянских партизан.
Автор истории Управления стратегических служб предполагает, что советское руководство было в курсе контактов людей СС и УСС. Возможно, пишет он, русские перехватили телеграмму Вольффа Гиммлеру, в которой он представлял диалог с Даллесом как «важные переговоры, имеющие назначением отделить англо-американцев от Советов»[941]. Не исключено, продолжает Р. Смит, Москве было известно, что во второй неделе апреля, когда Даллес и Донован прикидывали дальнейшие ходы, сотрудник американской разведки имел в Цюрихе тайную встречу с представителем Кальтенбруннера В. Хёттлем. Последний предлагал сорвать создание приверженцами Гитлера «альпийской крепости» в обмен на недопущение советской оккупации Австрии[942].
Одно надо сказать определенно: в Москве знали о «Восходе солнца», как и о многих других сепаратных операциях США и Англии, гораздо больше, чем хотелось их организаторам. Бурная негативная реакция – неуклюжая, противоречивая, не выдерживающая никакой критики – на советское пожелание быть допущенными за стол переговоров укрепляла Москву в сомнениях относительно добропорядочности намерений США и Англии[943].
Практически никто из участников аферы, включая Даллеса, Вольффа, Рана, не счел нужным оспаривать после войны, что они занимались именно переговорами в расчете на решение важных военно-политических задач. Это показывает, насколько обоснованными и весомыми были слова советского лидера, произнесенные в апреле: проблема в том, что СССР и западные державы различно понимали союзнический долг.
Сепаратные планы препарирования германской военной машины к выгоде США и Англии обернулись затягиванием ее конвульсий. Это ничуть не волновало Вашингтон и Лондон.
В марте 1945 года немцы фактически прекратили организованное сопротивление на западе. Второй фронт как операция против Германии тихо скончался. Войска Эйзенхауэра и Монтгомери рвались на восток, чтобы остановить продвижение Красной армии на запад. Отработанная на переговорах с Вольффом технология установления деловых контактов с немецкими командующими позволила американо-английским войскам по сути бескровно для себя подчинять крупнейшие города Западной и Центральной Германии.
Впервые с 1941 года начались массовые перемещения дивизий и армий вермахта с реального Восточного фронта в сторону символического Западного, но не для того, чтобы воевать, а сдаваться в плен. Черчилль отдавал приказы собирать трофейное оружие и не распускать формирования его бывших владельцев на случай, если Вторая мировая война без заминки перейдет в Третью.
В январе-феврале 1945 года основные акции с немецкой стороны в расчете на политический сговор с западными державами осуществлялись Гиммлером и его эмиссарами, а посредниками выступали Швейцария и Швеция. Рейхсфюрер лично встречался с бывшим президентом Швейцарской конфедерации Музи. После первого контакта Гиммлер-Музи (еще в конце 1944 года) Кальтенбруннеру был отдан приказ остановить уничтожение евреев в концлагерях. Вторая их встреча в Вильдбаде (февраль 1945 года) увенчалась договоренностью о формировании каждые две недели групп по 1000–1200 человек из евреев-заключенных для доставки их в Швейцарию (с последующим переездом в США). Музи взялся представить действия Гиммлера Вашингтону и Лондону как «свидетельство начавшихся в Германии перемен»[944].
В Швейцарию удалось переправить лишь одну группу узников. Широко задуманная операция оборвалась после вмешательства Гитлера. С подачи Кальтенбруннера и Риббентропа он приказал немедленно казнить любого немца, содействующего побегу еврея, англичанина или американца.
Несмотря на это, Гиммлер и Шелленберг снова виделись с Музи (в Берлине). Гиммлер не внял, однако, совету Шелленберга, предлагавшего выйти на США и Англию с идеей четырехдневного перемирия на суше и в воздухе и, «демонстрируя добрую волю Германии», переправить в эту паузу через линию фронта из концлагерей всех евреев и иностранцев (кроме русских, поляков, югославов). Из рейхсфюрера удалось вытянуть распоряжение не «эвакуировать» концлагеря при приближении англо-американских войск, то есть не уничтожать заключенных, а передавать их соответствующему союзному командованию. Швейцарский экс-президент довел эту новость до сведения Эйзенхауэра. Она была принята с удовлетворением[945].
Параллельная нить вилась из Стокгольма. Граф Бернадотт встретился (19 февраля) с Гиммлером в Хоенлихене. Договорились собрать всех норвежцев и датчан в один лагерь, чтобы через два месяца перевезти их в Данию. От политической инициативы с целью прекращения военных действий на Западе Гиммлер увильнул и тем оставил неиспользованным, по словам Бернадотта, последний шанс[946].
С конца марта Гиммлер прощупывал возможности изоляции (но не физической ликвидации) Гитлера. 21 апреля он встретился с Мазуром (президентом Всемирного еврейского конгресса) и Бернадоттом. На сей раз Гиммлер взялся выполнить все требования, касавшиеся евреев на контролировавшихся рейхом территориях. Но когда на следующий день (22 апреля) он обратился к шведу с просьбой устроить встречу с Эйзенхауэром, то услышал в ответ: поздно. Надо было брать власть в свои руки в феврале (видимо, до Ялты).
23 апреля Бернадотт порекомендовал Гиммлеру (через Шелленберга) направить письмо Эйзенхауэру о согласии безоговорочно капитулировать. На встрече со шведом в тот же день в Любеке рейхсфюрер заявил: «Мы, немцы, должны объявить, что считаем себя побежденными западными державами, и я прошу Вас сообщить это при посредстве шведского правительства генералу Эйзенхауэру, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. Капитулировать, однако, перед русскими для нас, немцев, невозможно, в особенности для меня. Против них мы будем бороться дальше, пока фронт западных держав не заменит немецкий фронт»[947].
Граф Бернадотт взялся оказать посредничество. Была обговорена формальная сторона дела. Имелось в виду, что Гиммлер отправит соответствующее письмо на имя министра иностранных дел Швеции К. Гюнтера. До письма, похоже, не дошло. Но 24 апреля шведы довели содержание беседы Бернадотта с Гиммлером до Лондона и Вашингтона. Черчилль в свою очередь без промедления связался с Эйзенхауэром, надеясь склонить его воспользоваться широкими полномочиями главнокомандующего и положительно отреагировать на обращение Гиммлера.
Генерал Эйзенхауэр предостерег премьера от действий, которые чреваты разрывом с русскими. По его мнению, развал Западного фронта обеспечивала капитуляция отдельных нацистских армий и группировок. «Немецкий командующий, – отмечал он, – может так поступить, а командующий союзными войсками может принять их капитуляцию; но для правительства Германии есть только один путь – безоговорочная капитуляция перед всеми союзниками»[948].
25 апреля предложения Гиммлера обсуждались Черчиллем по прямому проводу с Трумэном, Маршаллом и Леги. Премьер не преуспел в попытках убедить преемника Рузвельта выйти из стеснительных договоренностей с Советским Союзом во имя «немедленного прекращения войны»[949].
Только после этого (25–26 апреля) США и Англия проинформировали Москву о зондажах Гиммлера и своем отрицательном отношении к ним. А 28 апреля агентство Рейтер обнародовало факт обращения рейхсфюрера к западным союзникам, на что последовало распоряжение Гитлера арестовать «изменника».
Шпеер и Борман предприняли в 20-х числах апреля собственные шаги по установлению контакта с США и Англией. Они демонстрировали заботу о том, как «уберечь Чехословакию от большевизма». Выражалась готовность сдать крупнейшую группировку вермахта «Центр» под командованием Шернера и часть армии «Австрия» генерала Рендулича американским войскам и оказать последним содействие в оккупации ЧСР[950]. Это предложение корреспондировало с планами союзного (западного) командования, которое поддерживали Черчилль и Трумэн[951].
27-28 апреля – как следует из приведенных фактов, это не наслоение дат – премьер направил Сталину и Трумэну письма: «Теперь видно, что не будет никакого подписанного документа о капитуляции». Вместо разработанного Европейской консультативной комиссией и утвержденного в Крыму текста он предложил издать от имени четырех держав декларацию о поражении Германии. Глава советского правительства в принципе (30 апреля) не исключил такого варианта «в случае отсутствия в Германии организованно действующей центральной власти»[952].
Это случилось в день самоубийства Гитлера. Новый рейхспрезидент Дёниц издал 1 мая приказ по армии, которым легализовалось все то, чем с 1943 года занимались украдкой оппозиционеры разных оттенков и зарившиеся на власть Геринг, Гиммлер, Борман и прочие. «Я принимаю на себя верховное командование всеми частями германского вермахта, – гласил текст приказа, – преисполненный решимости бороться против большевизма… Против англичан и американцев я вынужден вести борьбу, поскольку они препятствуют моей борьбе с большевиками»[953]. Вопреки завещанию Гитлера Дёниц не ввел в переходное правительство Геббельса (фюрер уготовил ему пост рейхсканцлера) и Бормана (должен был стать министром по делам нацистской партии). Другие видные нацисты тоже остались за бортом. Таким образом, одно из требований, ставившихся Черчиллем в качестве предварительного условия признания «нового режима», почти удовлетворялось.
На совещании 2 мая с участием Дёница, Шверина фон Крозига и статс-секретаря Вегенера выдвигалась задача осуществить капитуляцию лишь на Западе и отмечалось, что ввиду «невозможности сделать это по официальным каналам из-за политических обязательств, связывающих союзников, следует добиваться данной цели с помощью частичных акций, на базе групп войск». Было признано целесообразным прекратить все боевые действия против англосаксов и снимать войска с Восточного фронта, чтобы как можно большее число солдат и офицеров избежало русского плена.
Как вытекает из документов, хранившихся в Потсдамском архиве и впервые систематически исследованных доктором исторических наук Н. С. Лебедевой, совещание у Дёница откликалось тем самым на инициативы штаба Эйзенхауэра, которые датируются концом апреля[954]. Именно тогда, еще при жизни Гитлера, состоялись переговоры генерала Беделла Смита с рейхсминистром Зейсс-Инквартом, имперским комиссаром Голландии. Формальным поводом, прикрытием для их встречи была проблема снабжения голландского населения продовольствием. Американцы, однако, давали понять, что с их стороны не возникло бы возражений против обмена мнениями «по общим вопросам, которые отвечали бы интересам рейха» (радиограмма Зейсс-Инкварта на имя Гитлера)[955].
По получении этого сообщения Дёниц в своем новом качестве уполномочил Зейсс-Инкварта «как можно скорее осуществить возможное зондирование в упомянутом Вами смысле». Цель – перемирие только на Западе. Дамбы – уже заминированные – не взрывать. «Почетный мир даст нам определенный шанс»[956].
2 мая в ставке Дёница прошел еще ряд совещаний. С участием Шверина фон Крозига, Шпеера, Кейтеля и Йодля была определена линия поведения на ближайшую перспективу: налаживание всеми средствами сотрудничества с США и Англией; продолжение военных действий против Красной армии в расчете на выигрыш времени в политических целях; сохранение от разгрома возможно большего числа соединений вермахта и передача их в распоряжение англо-американского командования; содействие оккупации большей части Германии западными войсками. В капитуляции перед Западом виделся способ осложнить отношения англосаксов с СССР и добиться признания Лондоном и Вашингтоном «переходного правительства» Дёница.
С этой целью решили без отлагательств делегировать к фельдмаршалу Монтгомери нового главнокомандующего ВМС рейха генерал-адмирала Г. Фридебурга. Ему вменялось: добиваться чисто военной капитуляции во всей Северо-Западной Германии, но «не в ущерб сухопутным и морским операциям по отрыву от противника на Востоке»[957].
При первом же контакте с фельдмаршалом Монтгомери Фридебург предложил англичанам принимать капитуляцию также соединений вермахта с Восточного фронта. Фельдмаршал не получил санкции Эйзенхауэра на пленение немецких соединений, ведущих бои против Красной армии, но прислушался «к рекомендации» главнокомандующего известить делегатов Дёница, что просьбы офицеров и солдат вермахта, пожелавших сдаться западным союзникам «в индивидуальном порядке», не будут отклоняться[958].
Монтгомери настаивал на том, чтобы капитуляции в Северо-Западной Германии сопутствовала сдача ему немцами Голландии и Дании. В ночь с 3 на 4 мая Дениц по докладу Фридебурга принял решение удовлетворить требования англичан, поскольку достигалось главное: британская сторона не вела речи об одновременной капитуляции вооруженных сил рейха на всех фронтах, включая Восточный.
4 мая в 18.30 Монтгомери и Фридебург подписали акт о капитуляции германских сил в Голландии, Северо-Западной Германии и Дании перед 21-й группой армии союзников. Военные действия прекращались здесь 5 мая в 8 часов утра. Договоренность предусматривала, что части вермахта свертывали огонь только против британских войск, но не против, в частности, отрядов голландского и датского Сопротивления. Больше того, германским командующим в Дании и Голландии было приказано подавлять силой любые попытки датчан и голландцев разоружать немецкий военный персонал.
В общей директиве Кейтеля подчеркивалось: «Если мы складываем оружие в Северо-Западной Германии, Дании и Голландии, так это потому, что борьба против западных держав потеряла смысл. Однако на востоке борьба продолжается»[959].
В тот же день, 4 мая, Дёниц приказал прекратить подводную войну против западных держав, операции «Вервольфа» на занятой ими территории, избегать столкновений с англичанами и американцами в Норвегии.
5 мая американо-английскому командованию на тех же условиях, что были согласованы между Монтгомери и Фридебургом, сдались группы армий «Е», «Г» и 19-я армия, действовавшие в Южной и Западной Австрии, Баварии и Тироле. Коменданты на острове Крит и в Эгейском регионе получили распоряжение подписывать с западными представителями акты о капитуляции, «если таковые потребуются».
Эйзенхауэр распорядился, чтобы по окончании переговоров с 21-й группой армий Фридебург был направлен в Реймс для оформления «общей капитуляции», если у генерал-адмирала будут на то полномочия от Дёница. Военные действия должны были быть остановлены либо приказом германского командования о безоговорочной и одновременной капитуляции на соответствующих фронтах, либо подписанием документа о безоговорочной капитуляции начальником верховной ставки вермахта, командующими сухопутными, морскими и воздушными силами. Совершенно очевидно, что главнокомандующий англо-американскими войсками поступал вразрез с Крымской договоренностью, обусловливавшей ведение переговоров с любым новым германским правительством получением на то согласия СССР.
Фридебург и Йодль 5–7 мая под разными предлогами тянули с ответом на формально предъявленное им требование о прекращении германскими вооруженными силами военных действий одновременно на всех фронтах. Форма блюлась, но сам же Эйзенхауэр уготовил лазейки для обходов и маневров. Он дал согласие на то, чтобы представители Кессельринга вели свои переговоры с американским генералом Деверсом о порядке капитуляции соединений вермахта, противостоявших его армиям. 6 мая Эйзенхауэр сообщил Йодлю, что «солдаты и отдельные войсковые соединения могут не повиноваться приказам о сдаче Советам и пробиваться к американцам». Такое «неповиновение» не будет писаться в строку вермахту[960]. Понятно, подобные комментарии и «послабления» делались за спиной советского представителя при штабе Эйзенхауэра генерала Суслопарова.
В 2 часа 11 минут 7 мая Йодль поставил свою подпись под документом о капитуляции. Акт вступил в силу 9 мая в 00 часов по германскому летнему времени. Йодль и Фридебург выхлопотали почти двое суток для «отрыва» соединений вермахта от передовых советских частей. За главное командование союзных экспедиционных сил в Европе документ подписал Беделл Смит. Советский и французский представители при ставке Эйзенхауэра выступали в качестве свидетелей.
Дабы демонстрация англо-американского своеволия вышла совершенной, Йодлю предъявили для подписи не условия капитуляции, разработанные Европейской консультативной комиссией и утвержденные «большой тройкой» в Крыму. Как так? У Беделла Смита, напишет позже политсоветник главнокомандующего Р. Мэрфи, случился «провал в памяти», и он «вообразил, что Европейская консультативная комиссия никогда не утверждала соглашения»[961]. ЕКК потратила десять месяцев на составление документа, одобренного Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем в Ялте. Трое офицеров Смита смастерили свой альтернат за пару часов.
Как и многие прочие сказки, версия Мэрфи опровергается фактами. Берем запись телефонного разговора Беделла Смита с послом Вайнантом вечером 4 мая в преддверии объяснений с Фридебургом в Реймсе. Реагируя на предложение посла немедленно выслать ему подписанный текст документа ЕКК и его немецкий перевод, Беделл Смит заметил, что знаком с ним и располагает его копией, но не получил инструкций Объединенного комитета начальников штабов на его формализацию[962].
Эйзенхауэр непосредственно перед прибытием Йодля лично поинтересовался у начальника отдела послевоенного планирования ОКНШ британского полковника Каунселла, как оформлять капитуляцию. Тот упомянул документ ЕКК и присовокупил, что он устарел или непригоден к использованию: в Германии нет правительства, признанного союзниками, и, кроме того, главнокомандование экспедиционными силами не уполномочено начальниками штабов или главами правительств на его подписание. Каунселл «посоветовал» (еще одна версия!) составить простой текст, фиксировавший готовность германских вооруженных сил капитулировать перед командованием союзников[963].
Одного поразил «склероз», другой усомнился, третьему «подсказали». И возник спонтанно новый текст сугубо «военного» смысла. Все вроде бы сходится, если предать забвению:
что комитет начальников штабов США добивался «аполитизированной» капитуляции с 1943 года;
что с того же времени, а может быть, и раньше, между западными державами и рейхом существовал негласный консенсус: Германия должна капитулировать перед США и Англией, а не перед СССР;
что с 1943 года в госдепартаменте возобладала точка зрения Боумана и других, выступавших в пользу хорошо укрепленной «линии разграничения», протянутой через всю Европу, и против намерения «надолго лишить Германию статуса великой державы». Член консультативного комитета по проблемам международных отношений Н. Дэвис рекомендовал тогда же «великодушно» обойтись с Германией, ибо «мы, возможно, будем однажды, стоя на коленях, просить Германию помочь нам против России»[964].
И месяца не минуло после Крымской конференции, а официальные лица в Вашингтоне уже с пренебрежением взирали на достигнутые там решения, – их все чаще именовали «так называемые соглашения», «псевдодоговоренности» в Ялте, не решения, а «мнение» и т. п.[965] С приходом в Белый дом Трумэна мало кто в администрации ломал голову над тем, как совместную победу над германским нацизмом и милитаризмом увенчать конструктивным сотрудничеством на благо прочного, равновеликого для всех мира.
Правителей США пьянил мираж всемогущества. Гегемонистский настрой заражал все этажи и ветви власти. Никаких компромиссов, никакого баланса интересов государств, потребительский взгляд на любые договоры и соглашения, в том числе подписанные самими Соединенными Штатами.
Кто еще поусердствовал в том, чтобы под последние залпы орудий в Европе развернулся демонтаж капитальных решений трех держав? Вы не ошибетесь, предположив, что здесь не обошлось без неутомимого У. Черчилля.
Не с кем иным, как с британским премьером, «забывчивый» Беделл Смит сверял часы и согласовывал «упрощенную редакцию» акта о капитуляции. «Экспромтом» по поручению Черчилля занимался Стрэнг, британский представитель в Европейской консультативной комиссии[966]. Премьер готовил попутно почву для ревизии уже прочерченных границ зон оккупации и брал на мушку договоренности о четырехстороннем контрольном механизме в Германии.
В апреле 1945 года советские войска, преследуя противника, продвинулись в Австрии на запад дальше демаркационных линий, согласованных между тремя державами. На совещании у Сталина руководитель 3-го европейского (германского) отдела НКИД A. A. Смирнов высказал мнение, что Советскому Союзу следовало бы закрепиться на фактически достигнутых рубежах и при случае вести дело к пересмотру союзнических договоренностей на сей счет. Реакция Сталина: «неверно и вредно». По его распоряжению тут же была подготовлена телеграмма Эйзенхауэру следующего содержания: военная обстановка обусловила, что войска Красной армии вышли за пределы обговоренных между союзниками линий разграничения. Само собой разумеется, с окончанием военных действий эти войска будут отведены в пределы зоны, предназначенной СССР. Советская сторона исходит из необходимости строгого выполнения союзнических договоренностей[967].
«Экспромт» Смита не обошел стороной Дж. Вайнанта, и посол попытался предотвратить худшее. Он настоял на оговорке, что предложенный к подписанию в Реймсе акт «не может осуществляться в ущерб любому общему документу о капитуляции, принятому объединенными государствами или от их имени в отношении Германии и германских вооруженных сил в целом, и подлежит замене таким документом»[968].
В информации о контактах с представителями Дёница, поступавшей к советскому Верховному главнокомандованию от американской военной миссии в Москве, новый текст акта капитуляции не был упомянут ни словом даже после того, как его согласовали с Лондоном и вручили Фридебургу. Только в ночь на 6 мая военная миссия США послала на имя начальника Генерального штаба генерала Антонова два документа – «Соглашение между Верховным командованием и соответствующими германскими уполномоченными» и «Акт о военной капитуляции». Как пояснялось в сопроводительной записке, они предназначались для подписания германской стороной. Со ссылкой на Эйзенхауэра задавался вопрос, не желает ли советское Верховное командование внести какие-либо изменения в условия капитуляции Германии. Далее штаб главнокомандующего западными экспедиционными силами интересовался, не желает ли советская сторона, чтобы официальная процедура капитуляции была повторена перед русскими представителями, или она предпочтет участвовать в официальной встрече для ратификации акта, который будет совершен в Реймсе[969].
Ответ, переданный генералом Антоновым в тот же день, гласил: (а) не следует устраивать промежуточных процедур, а надлежит оформить капитуляцию в Берлине; (б) советское правительство назначило маршала Жукова представлять его при принятии капитуляции немцев; (в) стремясь к скорейшему прекращению кровопролития, советская сторона не настаивает на том, чтобы капитуляция совершалась на основе документа, уже одобренного СССР, США, Англией и Францией. Вместе с тем был предложен ряд дополнений и поправок к тексту, полученному 6 мая от американской военной миссии.
Штаб Эйзенхауэра счел союзнический этикет исчерпанным после принятия ряда советских поправок к тексту акта о капитуляции. Теперь предусматривалось не просто прекращение военных действий, но и полное разоружение германских войск с передачей оружия и военного имущества местным союзным командующим. Было, кроме того, условлено считать реймсскую процедуру «предварительной». За ней должно было последовать подписание акта о военной капитуляции в Берлине.
8 мая в Берлине состоялось подписание Акта о военной капитуляции Германии. В соответствии с полномочиями, данными ему Дёницем, Акт от имени Верховного командования Германии скрепил своей подписью В. Кейтель. Занавес величайшей трагедии в Европе опустился там, где он за 5 лет 8 месяцев и 8 дней до этого был поднят.
Эпилог
Вторая мировая война не была карой Божьей. Ее породили человеческий эгоизм, политический авантюризм и ненасытный милитаризм. Платой за неразумение, попрание всякой морали, манию величия отдельных выродков и персоналий стала жизнь ста миллионов людей, опустошение целых стран и континентов, утрата невосполнимых исторических и культурных сокровищ.
Учтенные (на 1991 год) потери Советского Союза превысили 27 миллионов 600 тысяч человек. Две трети из них – жертвы среди мирного населения. В Белоруссии погиб каждый четвертый житель, в Ленинграде, на Смоленщине и Псковщине – каждый третий. Насилие и бесчеловечность не ведали пощады ни к малому, ни к старому, ни к больному либо убогому.
1418 дней и ночей длилось безмерно трудное, полное трагизма и подвигов сражение советского народа с главными силами нацистской Германии. Дальнейшее национальное существование СССР стояло на карте. Взять верх над агрессором в прямом противоборстве или кануть в Лету – иного было не дано, независимо от стратегии и тактики союзников по антигитлеровской коалиции.
На Восточном фронте Третий рейх потерял убитыми, ранеными и пленными около 10 миллионов солдат и офицеров, 48 тысяч танков и штурмовых орудий, 167 тысяч артсистем, 17 тысяч кораблей и транспортов. Красная армия разгромила и пленила 607 дивизий противника. Это – три четверти от общих германских потерь. Это – и ответ на вопрос, где решались судьбы Второй мировой войны.
Автору абсолютно чуждо стремление умалить или как-то принизить боевые заслуги союзных СССР государств. Сводная статистика, вырванная из конкретного исторического контекста, теснящая на дистанцию скверной видимости актуальные императивы складывавшихся в каждый день, порой даже в каждый час войны ситуаций, пригодна скорее для полемики, чем для взвешенных суждений. Если дело было общее, если коренные интересы совместимы, негоже выпячивать национальное «я», неверно протягивать сквозь ушко, откалиброванное под свой размер, действия партнеров, особенно когда подводятся итоги прошлому, уже свершившемуся и переиначиванию не подлежащему.
Факт есть факт, что первый сбой нацистская стратегия завоевания Европы познала в британском небе. И мало кто верил в 1940 году, что Англия выстоит, что ее не постигнет участь Франции. Мужественные британцы, однако, сумели отбить воздушное нападение на свою страну. Они сорвали операцию «Адлер» в поединке с гитлеровской военной машиной.
Никому не удастся оспорить, что именно Соединенные Штаты нанесли решающие поражения милитаристской Японии. После проигранного сражения у острова Мидуэй японцы лишились всякого шанса выйти сухими из воды. Открытым оставалось лишь – насколько крутой будет траектория падения. Токио еще в 1944 году решил для себя, что вступление СССР в войну против Японии перекроет ей пути бегства от безоговорочной капитуляции. Как свидетельствуют раскрытые в 80-90-х годах документы, руководство США знало об этом. Применение атомного оружия против уже поверженного противника диктовалось в 1945 году не военной необходимостью, а политическими расчетами дальнего прицела[970].
Раздавая заслуженные комплименты державам, внесшим главный вклад в разгром того или иного агрессора, не упустим воздать должное китайскому народу. Он стал первой жертвой Второй мировой войны. Китай понес наибольшие людские потери в ней и дольше, чем любая другая нация, был лишен возможности вкусить от плодов мира после капитуляции Японии.
Никчемными и недостойными союзнической морали были бы потуги бросить тень на ратный труд британских и американских, канадских и французских, польских и всех других военнослужащих, куда бы их ни засылали приказы командования на Европейском и Атлантическом театрах военных действий. Они выполняли свой солдатский долг и, как могли, приближали День Победы. Не стоит лишь соблазняться искусом подменять панораму событий пусть душещипательным, но все же недостоверным видом, что открывается взгляду из отдельно вырытого окопа или даже с относительно высокой колокольни.
Из этого общего правила не может быть исключения также для высадки союзников в Нормандии – крупнейшей операции такого рода в военной истории. Она имела задачей не разбить противника, а добить его. Если вермахт не догадается или не решится воспользоваться единственной оставлявшейся ему лазейкой для раскола антигитлеровской коалиции: не сдастся на милость демократам при продолжении и ужесточении борьбы с «красной опасностью» на Востоке.
Ни один серьезный исследователь не возьмется подвергать сомнению тот факт, что в 1941 году – в ключевую, если не решающую фазу перевода на язык агрессий гитлеровской концепции молниеносных войн – вермахту на Европейском континенте реально противостояли, наряду с Красной армией, только югославские патриоты. К началу 1942 года в ряды вооруженных формирований национально-освободительного движения Югославии влилось около ста тысяч бойцов. Они завязали на себя более 20 немецких дивизий, которые в иных условиях могли бы оказаться у стен Ленинграда или Москвы и крайне осложнить и без того почти отчаянное положение, в какое попал Советский Союз в октябре-ноябре 1941 года.
В 1941–1943 годах освободительная борьба югославов во главе с И. Броз Тито в известной степени восполняла отсутствие второго фронта[971]. Приходится с недоумением отметить, что вклад югославских партизан в конечный успех антигитлеровской коалиции не получил по сию пору адекватного признания ни в России, ни у демократий.
Немало спекуляций было нагорожено по ходу холодной войны вокруг американских поставок согласно программе ленд-лиза дружественным странам, ставшим после вступления США в войну их союзниками. Безусловно, правы те американские военные и политики, которые, оппонируя противникам прямого включения Соединенных Штатов в борьбу с агрессорами, подчеркивали в свое время: войну нельзя выиграть простым увеличением производства военных материалов и оружия. Формально трудно возразить против реальных цифр: материалы и вооружения, доставшиеся Советскому Союзу на льготных условиях ленд-лиза, составляли примерно четыре процента от национальных советских ресурсов, инвестированных в победу антигитлеровской коалиции.
Но если эти «малые проценты» озвучить в приличествующих нормальному, партнерскому восприятию словах и понятиях, то надо будет внятно заявить: американские поставки позволили СССР расшивать критически важные для обороны страны узкие места, особенно после утраты в 1941 и частично в 1942 годах многих собственных предприятий по производству качественных сталей, алюминия и других цветных металлов, исходных химических материалов, станков, приборов, моторов. Большим подспорьем для снабжения действующей армии, флота и авиации являлись поставки из США продовольствия, а также медикаментов. Поступившие по ленд-лизу грузовики и прочие транспортные средства на порядок повысили мобильность сухопутных сил Красной армии, что, конечно, сказалось в эффективности их действий – на заключительном отрезке войны в особенности. Больше того, американские грузовики, торговые суда, грузовые самолеты сослужили добрую службу Советскому Союзу после окончания войны, когда с миру по нитке собирались силы и средства на восстановление разрушенной экономики, жилого фонда, дорожной инфраструктуры.
Искренней признательности и благодарности заслуживают в данной связи экипажи транспортных судов и команды кораблей сопровождения, что доставляли советскому союзнику вооружения и военные материалы, продовольствие в порты назначения, принимая на себя удары противника и стихии.
Нелишне, по-видимому, упомянуть, что в свою очередь США получали из СССР платину, легирующие и другие материалы. Если не брать здесь за меру весов голые тонны, то не будет перехлестом допустить, что встречные советские поставки в определенной степени способствовали наращиванию потенциала «арсенала демократии». И раз уж опять всплывает понятие «арсенал демократии», нельзя оставить без возражений попытки подразделить пользователей этого арсенала на «избранных» и «быдло»! Последнему, шедшему за «пушечное мясо», не прочь были отказывать в праве голоса как в годы войны, так и по ее окончании, когда оно, «быдло», порывалось замолвить слово в свою пользу.
Короче, можно по-разному принимать и оценивать ход и исход войны. Одни выводы запросятся на бумагу, если в основу суждений будут положены факты, и только факты. Совсем иначе предстанут события полувековой давности, если взирать на них с позиций несбывшихся надежд или распинать историю на потребу насущному политическому интересу, в угоду возлюбленной идеологии.
Как никогда, актуальна констатация Артура Шопенгауэра: «И в одинаковой с другими среде каждый продолжает жить в ином мире». Почему бы нет. И пусть себе счастливо живет, коль не за счет других и не в ущерб им.
Возможно ли такое? «Да» или «нет» зависит от готовности четко определиться по коренной проблеме века: чему должно быть отдано предпочтение – балансу сил или балансу интересов? И под этим углом зрения: на алтарь чего приносились в годину мирового пожара неисчислимые жертвы – чтобы настал конец всем войнам или чтобы опять, собравшись с силами, терзать Землю? Если Вторая мировая война была всего лишь очередным переделом, следовательно, запрограммировано было и ее переиздание? Ведь не только побежденные, но и победители вышли из горнила в весьма различной кондиции.
Судя по новейшим откровениям ведущих политиков НАТО, второй фронт явился первым актом «освободительного» похода против Советского Союза, крестового похода, вошедшего в летопись под названием холодной войны. На пике этой войны в распоряжении милитаризма скопились горы оружия, достаточные, чтобы устроить 600 тысяч Хиросим и 2400 войн, подобных Второй мировой. Силовое наваждение поглотило больше ресурсов в холодной войне, чем все вооруженные конфликты, вместе взятые, за время, что помнит себя человечество.
Не предательство ли это по отношению к ста миллионам убиенных, уходивших в небытие, чтобы избавить грядущие поколения от ужасов насилия, чтобы дать им мирную путеводную звезду? Не потому ли у самой жестокой и пока самой кровопролитной из войн в истории не было логического завершения – мирного договора? О каком завершении можно было думать, когда в 1945–1946 годах сотворилось именно то, чем в Вашингтоне и Лондоне вплотную занимались еще в 1943-м: антифашистская коалиция приказала долго жить. Ее сменил альянс американских претендентов на глобальное «лидерство» и германских правителей, полагавших, что в 1945 году война не была проиграна, не повезло лишь в сражениях. Каждый из новых партнеров искал свое самоопределение, самовыражение и нашел себя в конфронтации с Советским Союзом, с КНР и другими странами, устоявшими перед вашингтонским притяжением.
Поэтому, в частности, не надо смешивать итоги Второй мировой и итоги холодной войны. В 1990 году подводилась черта именно под войной холодной. В ней были свои торжествующие и побежденные. Первым номером среди последних шел СССР, руководство которого предало забвению истину: мудрость есть распознание пределов возможного, высшая мудрость – это распознание пределов собственных возможностей.
Будут ли свежие победители мудрее? Время покажет. Пока особых причин для оптимизма не приметно. Апеллировать к морали по современным понятиям смешно. За нее сегодня ломаного гроша в базарный день не допросишься. И остается взывать к прагматизму, позаимствовав у Вольтера его сарказм: низвергая памятники, пощадите пьедесталы – они еще могут сгодиться.
Примечания
1
Irving David. Churchill’s War. The Struggle for Power. Australia, 1987. Vol. I; Ernst Topitsch. Stalins Krieg 1937–1945. Herford, 1990; Dirk Bavendamm. Roosevelts Krieg 1937–1945. München, Berlin, 1993.
(обратно)2
Hoggan David L. Der erzwungene Krieg. Tübingen, 14. Neuauflage, 1990.
(обратно)3
Так аттестует Гитлера Джон Лукас в своей книге «Черчилль и Гитлер: поединок» (John Lukacs. Churchill und Hitler. Der Zweikampf. Stuttgart, 1991, c. 316).
(обратно)4
Б. Муссолини постоянно держал эти письма при себе как талисман или страховой полис, особенно когда почва стала уходить из-под ног. У. Черчилль развил после войны энергичные усилия, чтобы заполучить свою корреспонденцию обратно. Не для того, позволительно предположить, чтобы включить ее в шеститомник «Вторая мировая война»: для этого могли бы сгодиться и копии писем.
(обратно)5
Глава предвоенного правительства Франции Э. Даладье признавался в 1963 году: перед войной «идеологические проблемы часто затмевали собой стратегические императивы».
(обратно)6
Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence. Edited with Commentary by Kimball Warren F. Princeton, New Jersey, 1984 (далее – Kimball W. F. Correspondence). В сборнике воспроизведено 745 документов президента и 945 – премьер-министра. В нерассекреченных архивах осталось, по данным Д. Ирвинга (см.: Irving David. Churchill’s War… Vol. 1, с. 196), около 950 документов Черчилля и 800 документов Рузвельта.
(обратно)7
В сборнике воспроизведено лишь послание Черчилля от 14 июня 1941 года, в котором говорится о приготовлениях вермахта к вторжению в пределы СССР по широкому фронту от Финляндии до Румынии (Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 208).
(обратно)8
Служба внешней разведки РФ могла бы существенно помочь делу. Но пока она ограничилась в основном намеками и сводными цифрами. «Всего за годы войны внешняя разведка получила в Англии (без учета научно-технической разведки) 19 709 разведывательных материалов, из них 90 процентов составляли документы, 7136 информационных материалов освещали положение в Германии, США и других странах», – читаем мы в «Очерках истории российской внешней разведки» (т. 4, М., 1999, с. 281, далее – Очерки РВР). Будем надеяться, что разведчики не сказали последнего слова.
(обратно)9
Ставка Гитлера сооружалась трудом десятков тысяч военнопленных. Все они после завершения работ были уничтожены.
(обратно)10
«Соединение (эскадрилья) Ровель» в течение примерно четырех месяцев предпринимало с базы Инстербург в Восточной Пруссии, из районов Бухареста, Кракова и Будапешта рейды в глубь территории СССР на высоте 9-12 тысяч метров, что обеспечивало им относительную скрытность при тогдашних технических средствах ПВО (подробнее см.: Paul Carell. Unternehmen Barbarossa. Berlin, 1991, c. 54). В какой степени опыт люфтваффе подвиг военное командование США на свое тайное проникновение в пределы других государств с использованием, в частности, высотных «У-2» и его преемников, автору неизвестно.
(обратно)11
См.: Friedrich Jörg. Das Gezetz des Krieges. Das deutsche Heer in Rußland 1941–1945. München, Zürich, 1993, c. 287, 289, 324 и далее, 399.
(обратно)12
Подробнее см.: Моримура С. Кухня дьявола. Правда об «отряде 731» японской армии. Москва, 1983, с. 106, 158, 206–207, 232–236, 240, 258–259.
(обратно)13
М. М. Литвинов – личность, безусловно, неординарная – был склонен к интриганству. Красин, Карахан, Сокольников и другие оказались объектами его наветов. Г. В. Чичерин неоднократно делал в этой связи представления руководству страны.
Освобождение Литвинова от должности наркома (министра) иностранных дел 3 мая 1939 года мотивировалось в циркулярной телеграмме за подписью И. Сталина следующим образом: «Ввиду серьезного конфликта между Председателем СНК тов. Молотовым и наркомом иностранных дел тов. Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения тов. Литвинова к Совету Народных Комиссаров Союза ССР, тов. Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей народного комиссара иностранных дел. ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу тов. Литвинова и освободил его от обязанностей наркома. Народным комиссаром иностранных дел назначен по совместительству Председатель СНК Союза ССР тов. Молотов» (Архив внешней политики СССР (далее – АВП СССР), фонд 059, оп. I, п. 313, д. 2151, л. 45).
В чем состоял конфликт, документы МИД СССР не раскрывают. Есть достаточно причин считать, что Литвинов противился многовариантной позиции Советского Союза в условиях надвигавшегося конфликта Германии с Польшей и, как это случалось с ним прежде и позднее – в бытность послом СССР в США, пускался на несанкционированные поступки.
(обратно)14
Hillgruber Andreas. Der Zweite Weltkrieg 1939–1945. Stuttgart, 1989, c. 9.
(обратно)15
Все в мире, конечно, относительно. Это меньше, чем Веймарская республика и Третий рейх израсходовали на перевооружение.
(обратно)16
Германия не была включена ни в состав учредителей Лиги, ни в число приглашенных стран. Ей отвели жесткую скамью в зале ожидания.
(обратно)17
См.: Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers (далее – FR US). US Government Printing Office. Washington, D. C., Vol. III, 1920, c. 463–468; Vol. IV, 1922, c. 873.
(обратно)18
Это соглашение устанавливало так называемую германо-конгресспольскую границу, отдававшую под власть Варшавы Украину, Белоруссию, часть прибалтийских земель.
(обратно)19
Германия занимала в период конфликта позицию доброжелательного нейтралитета по отношению к Советской России, но была не в состоянии перекрыть транзит оружия и персонала из Франции в Польшу. Правительство ЧСР запретило Венгрии провоз военных материалов в Польшу через Закарпатскую Украину. Это припомнили Праге в 1938–1939 годах, когда занялись расчленением Чехословакии.
(обратно)20
Освоение этого искусства, заметим с достаточным к тому основанием, давалось с трудом его же основоположникам, не раз старавшимся деградировать мирное сосуществование в одну из форм классовой борьбы.
(обратно)21
Burckhardt Carl J. Meine Danziger Mission 1937–1939. München, 1980, c. 126.
(обратно)22
Burckhardt Carl J. (Hrsg.). Hugo von Hofmannsthal – Carl J. Burckhardt, Briefwechsel. Frankfurt/Main, 1956, c. 186–187.
(обратно)23
См.: Graml Hermann. Europa zwischen den Kriegen. München, 1976, c. 223.
(обратно)24
Graml Hermann. Europas Weg in den Krieg. München, 1990, c. 31 и далее.
(обратно)25
См.: Paech Norman, Stuby Gerhard. Machtpolitik und Völkerrecht in den internationalen Beziehungen. Baden-Baden, 1994, c. 155 и далее. Friedrich J. Указанное сочинение, с. 839–840.
(обратно)26
Burckhardt C. J. Meine Danziger Mission… С. 13.
(обратно)27
Paech N., Stuby G. Указанное сочинение, с. 155.
(обратно)28
Paech N., Stuby G. Указанное сочинение, с. 156.
(обратно)29
Там же, с. 142–154.
(обратно)30
Гитлер в заявлении перед рейхстагом 1 сентября 1939 года утверждал, что вермахт открыл «ответный огонь» в 5.45 утра.
(обратно)31
Протоколы заседаний правительства Великобритании «Cabinet Papers, Minutes, Conclusions and Confidencial Annexes in the Public Record Office» (далее – PRO), Cab. 23/82, c. 337, 340, 345.
(обратно)32
Это к предыстории Брюссельской конференции по Китаю, Мюнхенской – по Чехословакии, а также мифа о так называемой «доктрине Брежнева».
(обратно)33
См. запись бесед министра иностранных дел Англии Дж. Саймона, лорда-хранителя печати А. Идена с А. Гитлером, фон Нойратом и фон Риббентропом в Берлине 25-го и 26 марта 1935 года (Очерки РВР, т. 3, с. 461–467).
(обратно)34
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg (далее – Reich und Weltkrieg). Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.). Band 1, c. 603.
(обратно)35
В Испанию был брошен 50-тысячный итальянский экспедиционный корпус и около 10 тысяч военнослужащих вермахта. Личный состав легиона «Кондор» (6500 человек) менялся каждые три-шесть месяцев в зависимости от специальности. За три года испанской войны подготовку в условиях реальных боевых действий прошло 30–40 тысяч человек из состава нацистских ВВС.
(обратно)36
Gordon Helmut. Es spricht: Der Führer. Leoni am Starnberger See, 1983, c. 104.
(обратно)37
Hitler Zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahre 1928. Stuttgart, 1961, c. 112.
(обратно)38
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, 1918–1945 [Внешнеполитический архив Германии, 1918–1945] (далее – ADAP). Serie C, Band 1, Dokument 1.
(обратно)39
Reich und Weltkrieg. Band 1, c. 568.
(обратно)40
В большинстве публикаций тема, кто дал в 20-х годах импульс контактам, которые развились в военно-техническое сотрудничество и обмены на уровне командования Вооруженных сил СССР и Германии, и кто здесь поставил финальную точку, либо обходится с помощью безличной формы: сотрудничество «наладилось» или «прекратилось», – либо решение о разрыве этих связей неверно приписывается Гитлеру, а установление – Москве.
Наряду с этим практикуются подмена понятий, подтасовка данных и прочие методы, призванные доказать, будто нацистский меч ковался в Советском Союзе. Танковый полигон, если обратиться к реальным цифрам, располагал в каждый конкретный день его использования двумя-тремя исправными танками для обучения и тренировки немецких и советских экипажей, в летной школе курсантам приходилось довольствоваться одним-двумя самолетами. Ни на одном из объектов, охватывавшихся программами исследований в области ОВ, работы не вышли из подготовительной стадии и лабораторных экспериментов. На авиационном заводе в Филях фирма «Юнкерс» выполнила некоторый объем работ, предусмотренных контрактом, но до совместного производства самолетов дело не дошло, и выгоды от кооперации здесь достались СССР. Однобокость в освещении зарубежной активности рейхсвера обслуживает еще одну задачу – стремление уйти от ответа на вопрос, какими возможностями пользовались немецкие военные в 20-30-х годах в Италии, Швеции, США и некоторых других странах.
(обратно)41
Politisches Archiv. Auswärtiges Amt, Bonn, 31610, Bl. 194–195.
(обратно)42
Goebbels Joseph. Die Tagebücher. Sämtliche Fragmente. Hrsg. von Elke Frühlich. Band 2. München, 1987, c. 430.
(обратно)43
МИД СССР. Год кризиса. Документы и материалы. Т. 2. Москва, 1991, с. 368–369.
Если быть точным, до этого было еще достигнуто урегулирование между Берлином и Ватиканом, которое способствовало стабилизации и углублению кооперации нацистов с консервативными силами внутри Германии.
(обратно)44
Известия, 21 мая 1934 года.
(обратно)45
В нотах (16 ноября 1933 года) выражалась надежда, что отношения между СССР и США навсегда останутся нормальными и дружественными и что им «отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для ограждения всеобщего мира» (Документы внешней политики СССР (далее – ДВП СССР). Т. XVI, с. 641).
(обратно)46
Известия, 30 мая 1934 года.
(обратно)47
ДВП СССР. Т. XVII. М., 1971, с. 830.
(обратно)48
Там же. Т. XVI, с. 876.
(обратно)49
Табуи Ж. Двадцать лет дипломатической борьбы. М., 1960, с. 289.
(обратно)50
Меморандум МИД Англии от 17 февраля 1935 года. – Documents of British Foreign Policy, 1919–1939 (далее – DBFP). Serie 2. Vol. XII, c. 501 и далее.
(обратно)51
PRO. Cab. 23/81, c. 302.
(обратно)52
DBFP. Serie 2. Vol. XIII, c. 224.
(обратно)53
Обширный каталог договоренностей с двойной оптикой (опустим для упрощения соглашения западных держав и Японии с различными антисоветскими группами и между собой в период интервенции в Россию в 1918–1922 годах) открывался франко-польским договором 1921 года. Секретное приложение к нему оставалось до последнего времени неопубликованным.
(обратно)54
См.: Очерки РВР. Т. 4, с. 215 и 224.
(обратно)55
АВП СССР, ф. 09, оп. 27, д. 61, л. 14.
(обратно)56
См.: Friedrich Jörg. Указанное сочинение, с. 129.
(обратно)57
Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т. 1. М., 1957, с. 258.
(обратно)58
Tugwill P. The Democratic Roosevelt. New York, 1967, c. 516.
(обратно)59
Данные сообщены автору генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цземином в июне 1991 года.
(обратно)60
Reich und Weltkrieg. Bd. I, с. 618.
(обратно)61
ADAP. Serie D, Bd. I, Dok. 19.
(обратно)62
Reich und Weltkrieg. Bd. I, с. 624.
(обратно)63
Операция «Грин» – план захвата ЧСР.
(обратно)64
Здесь и далее выделено автором, если в тексте не сделано иной оговорки.
(обратно)65
Hill Leonidas E. (Hrsg.). Die Weizsäcker-Papiere. 1939–1950 (далее – Weizsäcker-Papiere). Frankfurt, Berlin, Wien, 1974, с. 118 и далее.
(обратно)66
Feiling Keith. The Life of Neville Chamberlain. London, 1946, с. 319.
(обратно)67
«Дайте удовлетворяющие нас заверения, что по отношению к Австрии и Чехословакии вы (немцы) не примените насилие, и мы гарантируем вам, что не станем силой препятствовать каждой перемене, которую вы желаете, если вы ее добьетесь мирными средствами» (Henke Josef. Hitler und England. England in Hitlers politischem Kalkül 1935–1939. Boppard, 1973, с. 87 и далее).
(обратно)68
Документы и материалы из предыстории Второй мировой войны. Т. 1. Из архива германского министерства иностранных дел. М., 1948. Док. 1. ADAP. Serie D, Bd. 1, Dok. 31.
(обратно)69
PRO, Cab. 23/83, с. 282.
(обратно)70
Εden Anthony. Angesichts der Diktatoren. Memoiren 1923–1938. Köln, 1964, с. 516.
(обратно)71
Seton-Watson R. W. Munich and the Dictators. London, 1939, с. 161.
(обратно)72
Ronnefarth Helmuth K. G. Die Sudetenkrise in der internationalen Politik. Wiesbaden, 1961, Teil 1, с. 505.
(обратно)73
Экземпляр данной книги был любезно предоставлен автору известным гамбургским библиофилом В. Гёриком.
(обратно)74
Из всех политиков Октября, злорадствовал Черчилль, в живых остался, помимо их палача Сталина, лишь Троцкий.
(обратно)75
Churchill Winston. Schritt für Schritt. Amsterdam, 1940, с. 63–65. См. также письмо Гитлера Муссолини (8.03.1940): «В России после окончательной победы Сталина, несомненно, совершается превращение большевистского принципа в своего рода национальный русский образ жизни» (ADAP. Serie D, Bd. 8, Dok. 663).
(обратно)76
Churchill Winston. Schritt für Schritt, с. 323.
(обратно)77
Hillgruber Andreas. Der Zweite Weltkrieg 1939–1945, с. 11–26.
(обратно)78
Там же, с. 26, 43, 68, 88.
(обратно)79
Rоhwеr Jürgen, Jäсkel Eberhard (Hrsg.). Kriegswende Dezember 1941. Koblenz, 1984, с. 11 и далее.
(обратно)80
Stimson H. L. and Вundy M. On Active Service in Piece and War. New York, 1948, с. 221.
(обратно)81
Способ ликвидации независимости Австрии – аншлюс – стал непосредственным поводом для закрепления в международном праве понятия «косвенная агрессия».
(обратно)82
ADAP. Serie D, Bd. 1, Dok. 148.
(обратно)83
Помощник госсекретаря США Дж. Мессерсмит резюмировал в сентябре 1947 года нацистские планы следующим образом: захват Австрии и Чехословакии, установление господства Германии в Юго-Восточной Европе, захват Украины, ослабление Франции путем расторжения ее союза с Россией, расчленение Британской империи, наконец, действия против США. Считалось, однако, что Гитлер не начнет войны против западных держав до того, как разделается с СССР (FRUS. Vol. 1, 1937, с. 140 и далее).
(обратно)84
Hauser Oswald. England und das Dritte Reich 1936–1938. Göttingen, 1982, с. 303 и далее и с. 393 и далее.
(обратно)85
Официальный ответ Галифакса полпреду СССР в Лондоне 24.03.1938 гласил: по мнению британской стороны, советское предложение не окажет благоприятного влияния на мир в Европе (DBFP. Serie 3. Vol. I, № 116). Глава британского правительства заявил генералу Айронсайду: единственное, что не должно делать, – это договариваться с Россией (см.: Reich und Weltkrieg. Bd. 1, с. 639).
(обратно)86
Celovsky Boris. Das Münchener Abkommen. Stuttgart, 1958, с. 25, 34, 245, 248.
(обратно)87
Papers and Memoirs of Josef Lipski, Ambassador of Poland, Diplomat in Berlin 1933–1939 (далее – Lipski Papers). New York, 1968, с. 323, 328, 331, 336, 353 и далее.
(обратно)88
Lipski Papers, с. 354.
(обратно)89
Правда, 2.06.1938.
(обратно)90
ДВП СССР. Т. XX, с. 431–432.
(обратно)91
DBFP. Serie 3. Vol. III, № 34.
(обратно)92
FRUS. Vol. 1, 1938, с. 650 и далее.
(обратно)93
Правительства Англии и СССР располагали информацией о военных и других аспектах польско-германских контактов летом и осенью 1938 года. На основе этой информации британский Форин офис делал 20–21 сентября представления в Варшаве и Будапеште, а Советский Союз 23 сентября предупредил Польшу: вступление ее войск в ЧСР приведет к денонсации польско-советского договора 1932 года о ненападении.
(обратно)94
Nicolson Harold. Diaries and Letters. 1930–1939. London, 1966, с. 359. Ту же мысль занес в свой дневник помощник министра иностранных дел Англии О. Харви: «Любая война, завершится она победой или поражением, уничтожит богатые, праздные классы, и поэтому они – за мир любой ценой» (The Diplomatic Diaries of Oliver Harvey. 1937–1940. London, 1970, с. 222).
(обратно)95
См.: Celovsky Boris. Указанное сочинение, с. 32.
(обратно)96
Там же, с. 304.
(обратно)97
Ritter Gerhard. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. München, 1964, с. 205 и далее.
(обратно)98
Celovsky Boris. Указанное сочинение, с. 304.
(обратно)99
Соlvin I. Vansittart in Office. London, 1965, с. 243.
(обратно)100
Schmädeke Jürgen, Steinbach Peter (Hrsg.). Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler (далее – Widerstand). München, Zürich, 1985, с. 747.
(обратно)101
Документы по истории мюнхенского сговора 1937–1939 гг. Издание МИД СССР и МИД ЧССР. Москва, 1979, с. 312.
(обратно)102
The Memoirs of Cordell Hull. Vol. 1. New York, 1948, с. 652 и далее.
(обратно)103
FRUS. Vol. 1, 1938, с. 541.
(обратно)104
Reynaud P. La France a sauvél’Europe. Vol. 1. Paris, 1947, c. 375.
(обратно)105
См.: Очерки РВР, т. 3, с. 63.
(обратно)106
New York Times, 27 октября 1938 года.
(обратно)107
СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны (сентябрь 1938 – август 1939 г.). Документы и материалы. М., 1971, с. 26–28, 31–32, 63, 82, 142, 171, 199, 202.
(обратно)108
МИД СССР. Год кризиса 1938–1939. Документы и материалы (далее – Год кризиса), т. 1, документ № 152.
(обратно)109
The Secret Diary of Harold L. Ickes. New York, 1953–1954. Vol. 2, с. 484.
(обратно)110
Ионг Л. де. Немецкая пятая колонна. М., 1958, с. 73, 190–191, 202.
(обратно)111
Гендерсон, посол Англии в Берлине, получил от Чемберлена ориентировку: правительство его величества «не имеет желания вмешиваться ненужным образом в дела, которые в большей степени затрагивают другие правительства» («коричневое сообщение» № 112097).
(обратно)112
Langer W., Gleason S. Challenge to Isolation 1937–1940. New York, 1952, с. 67.
(обратно)113
СССР в борьбе за мир, с. 88. См. также так называемый «меморандум Гендерсона». В нем Форин офис рекомендовалось, в частности, не испытывать слишком большого беспокойства по поводу «подъема и расширения неугомонного пангерманизма в Центральной и Восточной Европе», и, не откладывая, признать, что «определенное превосходство Германии на Востоке является неизбежным и что мир на Западе не должен быть принесен в жертву теоретически похвальному, но практически ошибочному идеализму на Востоке. Говоря прямо, Восточная Европа, окончательно, на все времена еще не устроенная, не представляет жизненного интереса для Англии… Можно было бы даже утверждать, что несправедливо пытаться мешать Германии завершить свое единство и изготовиться для войны против славян при условии, что эти приготовления не разубедят Британскую империю, что они одновременно не направлены против нее».
Меморандум был составлен в 1937 году перед назначением Гендерсона послом в Берлин. По словам Дж. А. Эллиота (под этим псевдонимом в Комитете информации МИД СССР работал Гай Берджесс, с которым автор имел ряд бесед в 1957–1958 годах), соображения Гендерсона были с некоторым резервом встречены Иденом, но разделялись Чемберленом и Галифаксом. Они и вошли в ткань британской позиции, как она излагалась в ноябре 1937 года Гитлеру и осуществлялась в ходе мюнхенского «урегулирования».
(обратно)114
В послании Муссолини Гитлеру от 25 августа 1939 года говорилось: «На наших встречах начало войны было намечено на 1942 год, и к этому периоду я, сообразно обговоренным планам, привел бы в готовность силы на земле, море и в воздухе» (ADAP. Serie D, Bd. 7, Dok. 271). См. также: Brissaud A. Canaris. 1887–1945. Frankfurt/ Main, 1977, с. 241 и далее.
(обратно)115
Год кризиса, т. 2, № 544.
(обратно)116
См.: David Irving. Rudolf Heß – ein gescheiterter Friedensbote? Gras, Stuttgart, 1987, с. 171.
(обратно)117
DBFP. Serie 3. Vol. IV, с. 373.
(обратно)118
Год кризиса, т. 1, с. 6.
(обратно)119
Niedhart Gottfried. Großbritannien und die Sowjetunion 1934–1939. München, 1972, с. 62.
(обратно)120
Год кризиса, т. 1, с. 263.
(обратно)121
От С.П. Козырева и И. М. Лаврова, многие годы работавших помощниками В. М. Молотова, автору известно, что готовность к сотрудничеству со «всеми странами», независимо от существовавшего там режима, не случайно варьировалась в докладе. Молотов участвовал в окончательном редактировании этих формулировок в расчете на внешний резонанс.
(обратно)122
Год кризиса, документ № 177.
(обратно)123
Год кризиса, документы № 196, 197, 198, 200.
(обратно)124
Утверждения, будто Риббентроп с ходу, чуть ли не в день произнесения Сталиным его доклада, проникся убеждением: Германии протягивается оливковая ветвь (см.: Maser Werner. Der Wortbruch. München, 1994, с. 3), – подкрепляются лишь ссылкой на «воспоминания и последние заметки» самого Риббентропа уже в качестве обвиняемого, представшего перед Нюрнбергским трибуналом. Его тогда больше занимала не правда истории, но спасение своей шкуры.
(обратно)125
Сомнения Лондона насчет подлинных планов польского правительства не были сняты и после предоставления Польше гарантий. Они подпитывались, в частности, упорным отказом Бека посвятить Англию и Францию в существо его переговоров с Гитлером и Риббентропом.
(обратно)126
Год кризиса, документ № 254. Аналогичная формула была применена Англией для Турции на случай прямых или косвенных угроз со стороны Италии и Германии. Это – поучение авторам, приписывающим СССР введение в 1939 году в оборот понятия «косвенная агрессия» и называющим его первым эскизом «доктрины Брежнева».
(обратно)127
PRO, Cab. 27/625, с. 318.
(обратно)128
Dilks D. The Diaries of Sir Alexander Cadogan 1939–1945 (далее – The Diaries of Sir Alexander Cadogan). London, 1971, с. 167 и далее.
(обратно)129
Butler J. R. M. Grand Strategy. September 1939 – June 1941. Vol. 2. London, 1967, с. 10; Medliсоtt W. N. The Economic Blockage. Vol. 1. London, 1952, с. 1.
(обратно)130
Astоr A. 1939. The Making of Second World War. London, 1973, с. 305 и далее.
(обратно)131
PRO, Cab. 27/624, с. 288 и далее, с. 302; Cab. 27/625, с. 30 и далее.
(обратно)132
Год кризиса, документ № 250.
(обратно)133
Год кризиса, документ № 265. Лимитрофами назывались государства, образованные после 1917 года из западных провинций бывшей царской России, – Финляндия, Литва, Латвия, Эстония.
(обратно)134
Там же, документ № 414.
(обратно)135
Weizsäcker-Papiere, с. 176.
(обратно)136
Год кризиса, документ № 252.
(обратно)137
Год кризиса, документ № 193.
(обратно)138
Там же, документ № 279. А. Мерекалов был вскоре отстранен от дальнейших политических контактов с МИД Германии. Ведение обмена мнениями поручалось Г. Астахову.
(обратно)139
Год кризиса, документ № 362.
(обратно)140
ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 451; Weizsäcker-Papiere, с. 154.
(обратно)141
Беседа 18 мая 1939 года. Год кризиса, документ № 354.
(обратно)142
Там же, документ № 437.
(обратно)143
Год кризиса, т. 2, документ № 400.
(обратно)144
Там же, документ № 442.
(обратно)145
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 234.
(обратно)146
Mазер В. (см.: Werner Maser. Указанное сочинение, с. 61) утверждает, что в 1939 году Япония располагала 91 самолетом. В налете 22 июня 1939 года на позиции монгольско-советских войск участвовало 120 японских истребителей и бомбардировщиков (Год кризиса, документ № 434). Очевидно, Квантунская армия «позаимствовала» в этот и другие дни часть самолетов где-то на стороне.
(обратно)147
ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 487; Год кризиса, документ № 393.
(обратно)148
Год кризиса, документ № 430.
(обратно)149
5 июня 1939 года Шуленбург предупреждал Вайцзеккера, что японцы будут недовольны, «если произойдет хоть малейшее смягчение между нами и Советским Союзом».
(обратно)150
DBFP. Serie 3. Vol. IX, с. 313; Год кризиса, документ № 495.
(обратно)151
Тех, кому не светит долгое ожидание, можно пригласить ознакомиться со скупыми публикациями службы внешней разведки РФ. Из «Очерков РВР» (т. 3, с. 216–217) читатель узнает, что в 1936 году, согласно документу английской разведки, панисламистским организациям в регионе была поставлена задача отторгнуть Синьцзян от Китая, подчинить его Великобритании и отсюда направить удар по СССР. Советская сторона известила о заговоре Китай, и заговорщики были обезврежены. В 1939 году, как раз в момент событий на Халхин-Голе, английская агентура готовила восстание в Синьцзяне местного полка, укомплектованного киргизами. Эту акцию также удалось предотвратить, а ряду сотрудников британского консульства в Кашгаре пришлось срочно покинуть Китай. В общем, «соглашение Арита-Крейги» проросло не на стерильной почве.
(обратно)152
Год кризиса, документ № 440.
(обратно)153
Поход против СССР.
(обратно)154
Год кризиса, документы № 489, 493, 499 (записка К. Вольтата и текст программы германо-английского сотрудничества). См. также: ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 716.
(обратно)155
Вернер-Грен стал крестником поездки Вольтата в Лондон.
(обратно)156
Graml Hermann. Указанное сочинение, с. 291.
(обратно)157
Год кризиса, документ № 500. Французам англичане сообщили, что будут готовы вступить в военные переговоры через 8-10 дней (там же, № 506).
(обратно)158
Год кризиса, документ № 512.
(обратно)159
Там же, документ № 514.
(обратно)160
Там же, документы № 515, 516.
(обратно)161
Дж. А. Эллиот, знавший интимные секреты британской внешней политики, не исключал именно такого объяснения линии поведения Лондона.
(обратно)162
Год кризиса, документ № 533.
(обратно)163
Burckhardt Carl J. Meine Danziger Mission 1937–1939, с. 348.
(обратно)164
Год кризиса, документ № 490.
(обратно)165
ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 583.
(обратно)166
Год кризиса, документ № 494.
(обратно)167
ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 729.
(обратно)168
Год кризиса, документ № 503.
(обратно)169
История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, т. 1, с. 174; Год кризиса, документ № 523. Более подробная немецкая запись содержится в: ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 758, 760.
(обратно)170
Год кризиса, документ № 524.
(обратно)171
ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 766; Год кризиса, документ № 525. В данном случае богаче нюансами советская запись.
(обратно)172
Год кризиса, документ № 510.
(обратно)173
Там же, документ № 528.
(обратно)174
Там же, документ № 529.
(обратно)175
Год кризиса, документ № 532.
(обратно)176
Там же, документы № 534, 540.
(обратно)177
Там же, документ № 541.
(обратно)178
Германская действительность знала собственные примеры не освященных верхами действий. Ряд видных дипломатов не захотели быть безвольным инструментом режима. Э. Вайцзеккер, У. Хассель, Ф. Шуленбург, братья Кордт – назовем лишь несколько имен, – различными способами пытались предотвратить скатывание Германии в войну, когда Гитлера в принципе еще можно было остановить. Идеализация этих личностей неуместна. Большинству из них совсем не были чужды концепции «Великой Германии». Здесь мало кто из них разнился от группы Герделера – фон Бека, а некоторые примыкали к ней. Но во всяком случае в 1939 году Э. Вайцзеккер шел на больший риск и сделал гораздо больше в попытках сорвать военные замыслы фюрера, чем многие из деятелей, удостоившихся в Федеративной Республике статуса оппозиционеров нацистской политике.
Понятно, нельзя смешивать сопротивление из принципиальных или идейных мотивов и сотрудничество с заграницей из других побуждений. Классических информаторов имелось в достатке, и их услугами охотно пользовались все. Посольства США, Англии, Франции и Италии в Москве оперативно получали информацию о контактах между германской и советской сторонами, к примеру, от Ганса фон Херварта унд Биттенфельда, сотрудника посла Шуленбурга. 24 августа 1939 года Херварт сообщил Ч. Болену, советнику посольства США, содержание секретного протокола к германо-советскому пакту о ненападении.
(обратно)179
The Secret Diary of Harold L. Ickes. Vol. 2, с. 705.
(обратно)180
DBFP. Serie 3. Vol. VI, с. 423–426.
(обратно)181
PRO, Cab. 27/625, с. 52–55.
(обратно)182
Там же, с. 28, 32–33, 42, 230.
(обратно)183
The Diaries of Sir Alexander Cadogan, с. 182.
(обратно)184
PRO, Cab. 27/625, с. 128–130.
(обратно)185
Daily Telegraph, 1.01.1970.
(обратно)186
PRO, Cab. 27/625, с. 236–237.
(обратно)187
Там же, Cab. 23/98, с. 129–130.
(обратно)188
Там же, Cab. 27/625, с. 268.
(обратно)189
Там же, Cab. 27/625, с. 266. Напомним, что 19 июня 1939 года В. Молотов поставил перед Сидсом и французским послом Наджиаром вопрос: «Кто будет решать, является или нет агрессия угрозой для одной из трех договаривающихся сторон?» (См.: «Год кризиса», документ № 422.) Вопрос, как показывает заявление Саймона на закрытом заседании британского правительства, совсем не платонический. Каталог доказательств из французских, американских и других документальных источников, что Лондон интересовало в основном усиление подозрительности и напряженности в отношениях между Германией и СССР, обширен. Но суть полнее и четче всего передают слова Галифакса и Саймона. Худшим из всех вариантов Галифакс находил следующий: начинается война, которая не затронет Россию и не поглотит ее силы; в этом случае Россия стала бы «главной угрозой» в мире (DBFP. Serie 3, Vol. VI, Dok. 38).
(обратно)190
Reginald P. Drax. Mission to Moscow, August 1939. Naval Review, 1952, № 3, с. 232. Φ. Шуленбург телеграфировал в свой МИД: «Как стало известно из английского источника, военные миссии с самого начала имели инструкции вести работу в Москве в замедленном темпе и по возможности затянуть ее до октября».
(обратно)191
Из надежных источников в Лондоне и Париже советская разведка получила информацию об инструкциях, которыми наделялись делегации Англии и Франции для переговоров в Москве (см. Очерки РВР, т. 3, с. 9).
(обратно)192
Посол Наджиар телеграфировал министру Бонне 12 августа: «Я не сомневаюсь, что… независимость и патриотизм адмирала побудят его действовать во имя лучшего, вопреки данным ему инструкциям» (Год кризиса, документ № 545).
(обратно)193
Год кризиса, документ № 533.
(обратно)194
Naval Review, 1952, № 3, с. 254.
(обратно)195
Год кризиса, документ № 554.
(обратно)196
DBFP. Serie 3. Vol. VII, с. 600–601.
(обратно)197
Год кризиса, документ № 555.
(обратно)198
Там же, документ № 561.
(обратно)199
Mосли Л. Утраченное время. Как начиналась Вторая мировая война. М., 1972, с. 292.
(обратно)200
Год кризиса, документ № 573. Опустим оскорбительные выпады против Советского Союза, которые не остались скрытыми от Сталина. Наджиар (телеграмма Бонне от 25 августа 1939 года) возлагал ответственность за случившееся – срыв переговоров и сближение СССР с Германией – на Польшу и западные державы (там же, № 607).
(обратно)201
Ю. Бек и другие польские деятели в резких выражениях протестовали против упоминания англичанами и французами Польши на переговорах с СССР. В Мюнхене в 1938 году они перепоручили Гитлеру представительствовать польские интересы в связи с расчленением Чехословакии.
(обратно)202
Год кризиса, документы № 527, 554, 467.
(обратно)203
Ueberschär Gerd, Wolfram Wette (Hrsg.). Unternehmen Barbarossa. Paderborn, 1984, с. 89–96.
(обратно)204
Коrdt Erich. Nicht aus den Akten. Stuttgart, 1950, с. 310.
(обратно)205
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 252.
(обратно)206
Documenti Diplomatici Italiani (далее – DDI), Ser. 8, M. XIII, с. 73.
(обратно)207
В этот день Шуленбург излагал в Москве соображения Риббентропа, которые должны были рассеять скептицизм В. Молотова. Указания послу запроситься на прием к наркому поступили в посольство 2 августа (см.: ADAP. Serie D, Bd. 6, Dok. 736, 757). Г. Херварт через Ф. Маклина и А. Дью держал англичан в курсе происходившего.
(обратно)208
Год кризиса, документ № 526.
(обратно)209
Американский историк Ф. Шуман напишет позднее, что «все западные державы предпочитали гибель Польши ее защите Советским Союзом. И все надеялись, что в результате этого начнется война между Германией и СССР» (Schuman F. L. Soviet Politics. At Home and Abroad. New York, 1947, с. 376). Все – это и США. Американские послы изъяснялись более чем откровенно, а официальный Вашингтон их не подправлял. Дж. Кеннеди, посол США в Лондоне, рекомендовал предоставить поляков отведенной им судьбе и тем вынудить их принять требования Гитлера, что «позволит нацистам осуществлять свои цели на Востоке» (Langer W., Gleason S. Указанное сочинение, с. 76). X. Вильсону лучший выход виделся в нападении Германии на СССР с негласного согласия западных держав или с их одобрения (Hugh R. Wilson. A Career Diplomat. New York, 1960, с. 11).
(обратно)210
Burckhardt Carl J. Meine Danziger Mission 1937–1939, с. 346.
(обратно)211
Год кризиса, документ № 549.
(обратно)212
Решение политбюро ЦК ВКП(б) о вступлении – параллельно с переговорами, которые велись с англичанами и французами, – в политические переговоры с Германией было принято 11 августа 1939 года. Однако 19–20 августа 1939 года в позиции СССР произошел перелом. Как свидетельствовали автору С. Козырев (руководитель секретариата В. Молотова), И. Ильичев (начальник советской военной разведки), И. Агаянц (руководящий сотрудник политической разведки), Сталин в этот момент окончательно убедил себя, что британское правительство не держит в планах эффективный союз с СССР, а тройственные переговоры нужны ему для воздействия на параллельно ведшуюся англо-германскую игру. Провокационная реакция Польши на идею военного сотрудничества с Советским Союзом являлась эмоционально важным элементом при принятии решения и аргументом в пользу переориентации на сближение с Германией. Доступные советские документы не противоречат этой точке зрения, а телеграммы французского посла Наджиара, генерала Думенка, записки Ке-д'Орсе на имя Даладье с критикой британской и польской линий ее подкрепляют.
(обратно)213
При условии, что Англия вообще пошла бы на объявление войны Германии.
(обратно)214
PRO, Cab. 23/100, с. 375.
(обратно)215
«Документы» о так называемых изменнических связях М. Тухачевского, И. Якира и других, подброшенные из ведомства Гейдриха, не фигурировали на заседаниях трибунала. Последнему не вменялось в обязанность оценивать «доказательства» виновности обвиняемых. Трибунал должен был проштемпелевать приговор, вынесенный диктатором задолго до ареста этих военачальников.
(обратно)216
Иллюстрация к параноидальному поведению Сталина: в июне 1941 года, когда на страну обрушилась нацистская орда, из камеры смертников «внутренней тюрьмы» на Лубянке в кабинет диктатора в Кремле был доставлен Б. Ванников, до ареста нарком вооружений, наспех приведенный в человеческий вид.
Вопрос Сталина к Ванникову: в состоянии ли он немедля составить план эвакуации оборонных предприятий из угрожаемых районов на Восток? Ответ Б. Ванникова: может, но сначала хотел бы выяснить, снимаются ли с него обвинения, а именно: шпионаж в пользу Германии и намерение сбежать в Третий рейх, где ему был якобы обещан пост министра? Ванников добавил: «Зачем мне понадобилась министерская должность в Берлине, когда я был министром в Москве? К тому же едва ли у Гитлера было желание вводить еврея в свое правительство».
Сталин раздраженно заметил, что не время разбираться в случившемся вчера, надо спасать Отечество. «Садитесь у меня в приемной и, не теряя ни минуты, готовьте план демонтажа и вывоза за Волгу наиболее ценного оборудования». Ни извинений, ни сожаления, ни сочувствия. При диалоге с Ванниковым присутствовал Берия, которого диктатор представил Рузвельту и Черчиллю в Ялте лапидарно и ясно: «Наш Гиммлер». Он, вероятно, решал теорему, как добиться от Б. Ванникова последней услуги и затем пустить его в расход.
Уничтожение генералов и офицеров, руководящих работников оборонных ведомств, арестованных в 1937–1940 годах, продолжалось выборочно вплоть до ноября 1941 года.
Эпизод с Б. Ванниковым сообщен автору И. Ильичевым.
(обратно)217
Вскоре после хасанских событий был арестован и замучен подручным диктатора Ежовым маршал В. Блюхер.
(обратно)218
1 июля 1940 года Сталин заявил британскому послу Стэффорду Криппсу: «Я не столь наивен, чтобы верить германским заверениям, будто они не стремятся к гегемонии».
(обратно)219
Прекращение Германией поддержки агрессивных действий Японии и обязательство не вести дело к исключению СССР из международных отношений, то есть отказ от нового Мюнхена и прочих «урегулирований», дискриминирующих или прямо нарушающих советские интересы (беседа В. Молотова с Ф. Шуленбургом 3 августа 1939 года. Год кризиса, документ № 525).
(обратно)220
Письмо Гитлера было вручено В. Молотову послом Ф. Шуленбургом в 15.00 21 августа 1939 года. Ответ Сталина посол получил из рук наркома в 17.00 того же дня (Год кризиса, документы № 582, 583). Почему передача в Берлин 14 строк русского текста и доведение их до адресата заняли около девяти часов – загадка. Или умысел? Если умысел, то чей?
(обратно)221
Наспех отпечатанные тексты договора и секретного протокола (с поправками от руки) были скреплены подписями около двух часов ночи 24 августа 1939 года. За основу договора был взят советский контрпроект, переданный В. Молотовым Ф. Шуленбургу 19 августа, после того как немецкий вариант (из двух пунктов) был отклонен как неподходящий. Проект протокола был привезен Риббентропом (его авторство приписывается заведующему правовым департаментом МИД Германии). Окончательная редакция совершалась по ходу переговоров.
(обратно)222
Геринг поручил 24 августа 1939 года Далерусу довести до сведения Чемберлена, что договоренности с СССР намного объемней, чем можно вычитать из опубликованного коммюнике.
(обратно)223
FRUS, 1939, Vol. 1, с. 307. 24 августа 1939 года Форин офис информировал свое посольство в Вашингтоне о словах Молотова: «Некоторое время спустя, например через неделю, переговоры с Францией и Англией могли бы быть продолжены».
(обратно)224
См.: Саrеll Paul. Unternehmen Barbarossa, с. 89–96.
(обратно)225
Год кризиса, документ № 602.
(обратно)226
Единственное официальное сообщение о контактах Германии с Лондоном поступило 29 августа 1939 г. от Риббентропа. Это была законченная дезинформация: немцы выразили пожелание разрешить польский вопрос мирным путем и улучшить отношения с Великобританией, Гитлер поставил условием нормализации англо-германских отношений «безусловное» сохранение договора между СССР и Германией, а также уважение дружественных отношений Германии с Италией. Давались заверения, что Германия не согласится ни на одну международную конференцию, в которой не участвовал бы СССР (там же, документ № 617).
(обратно)227
См.: Очерки РВР, т. 3, с. 63.
(обратно)228
DBFP. Serie 3. Vol. VII, с. 330–332.
(обратно)229
Год кризиса, документ № 609.
(обратно)230
PRO, Cab. 40/39, с. 277. Иллюстрация к саймоновскому требованию о важности сохранить за Англией свободу в интерпретации фактов (см. с. 110–111).
(обратно)231
PRO, Cab. 43/39, с. 379.
(обратно)232
Там же, с. 380.
(обратно)233
DBFP. Serie 3. Vol. VII, с. 283.
(обратно)234
Там же, с. 302.
(обратно)235
Там же, с. 351.
(обратно)236
PRO, Cab. 46/39, с. 423.
(обратно)237
ADAP. Serie D, Bd. VII, Док. 150 и далее; Brown A. C. The Last Hero. New York, 1984, с. 186–191.
(обратно)238
Передано послом США Л. Штайнгартом В. Молотову 16 августа 1939 года (Год кризиса, № 564). Намек на взаимоувязанность активности агрессоров в Европе и на Дальнем Востоке брошен. Развития, однако, он не получил, несмотря на то что география, о которой пекся Ф. Рузвельт, еще меньше благоприятствовала Советскому Союзу в отношениях с Японией.
(обратно)239
ADAP. Serie D, Bd. VII, Док. 214, 261, 279, 422.
(обратно)240
Правильнее 23–24 августа 1939 года, так как переговоры, а затем беседы в Кремле затянулись далеко за полночь. Протоколов заседания не велось, или они не сохранились.
(обратно)241
Fleischhauer Ingeborg. Der Pakt. Hitler, Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie 1938–1939. Berlin, Frankfurt/Main, 1990.
(обратно)242
Англо-германская декларация от 30 сентября 1938 года (Год кризиса, документ № 2).
(обратно)243
Год кризиса, документ № 479.
(обратно)244
В. Молотов не имел официально оформленных полномочий на подписание протоколов к договорам от 23 августа 1939 года и 28 сентября 1939 года. Эти протоколы не рассматривались ни на предварительной стадии, ни после их формализации в правительстве. Они не представлялись в парламент при ратификации соответствующих договоров Верховным Советом СССР. К ним не подпускали даже членов политбюро ЦК правившей партии, стоявшего над всеми государственными институтами.
Кстати, перемены к лучшему здесь не настали также после Сталина. Автор входил в состав комиссии, назначенной съездом народных депутатов разбираться с генезисом советско-германских договоров 1939 года. С его участием составлялись все документы, представлявшиеся съезду по данному вопросу, в том числе проект названного постановления.
Вырабатывать общее мнение внутри комиссии оказалось проще, чем подвигать М. Горбачева на признание фактов и извлечение из них должных выводов. Комиссия не была допущена к подлинникам документов 1939 года, которые хранились в «особом» архиве Общего отдела ЦК и без добро Генерального секретаря не выдавались никому.
(обратно)245
Термин «союз» применительно к германо-советским отношениям после 23 августа 1939 года не употреблялся ни Гитлером, ни Сталиным. Политики избегали его даже на гребне холодной войны. Слово «союз» замелькало в научных изданиях с середины 70-х годов, а во второй половине 80-х годов, в канун 50-летия нападения Германии на Польшу, стало почти трафаретным.
(обратно)246
Год кризиса, документ № 620.
(обратно)247
В заметках Г. Димитрова о беседах со Сталиным в сентябре-октябре 1939 года выделялась мысль последнего: время работает на Советский Союз, не нужно поспешными действиями ему мешать, и тогда все само собой расставится на положенные места.
(обратно)248
В этот день Англия и Франция объявили войну Германии. Накануне, 2 сентября, постпред СССР в Варшаве Н. Шаронов посетил Ю. Бека и, сославшись на интервью К. Ворошилова от 27 августа, в котором упоминалась возможность продажи военных материалов также Польше, поинтересовался, почему поляки не обращаются к Советскому Союзу. Посол В. Гжибовский получил указание вступить в контакт с НКИД на сей предмет неделю спустя, когда польское сопротивление агрессору фактически было дезорганизовано. Поставки советских материалов Польше по ранее подписанным контрактам прекратились 6–7 сентября (FRUS, 1939, Vol. 1, с. 419 и далее).
В архивах внешнеполитической службы СССР не обнаружено следов указаний Н. Шаронову на проведение этой встречи с Беком. Отсутствует также донесение посла о состоявшемся у него разговоре с министром. Вместе с тем сохранилась телеграмма Н. Шаронова о беседе 1 сентября с заместителем министра иностранных дел Польши. Арцишевский касался желательности поставок советского сырья и вооружений (и «потом, кто знает, может быть, и (помощи) Красной армии»), но в самом общем виде и реагируя на замечание постпреда («для самих поляков плохо, что Англия и Франция не заключили договора с СССР») (Год кризиса, документ № 627; FRUS, 1939, Vol. 1, с. 419).
(обратно)249
Согласно записи посла Шуленбурга, советская сторона примерялась к следующему варианту заявления: «Дальнейшее продвижение германских войск побуждает заявить: Польша разваливается, СССР ввиду этого вынужден прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожают немцы».
(обратно)250
В свою очередь, вся Литва должна была войти в состав рейха в качестве протектората.
(обратно)251
Йонг Л. де. Указанное сочинение, с. 248. Обучение лиц из среды украинской националистической эмиграции военной и террористической деятельности приняло значительный масштаб в 1938 году. В районе Химзе националистам прививали навыки ведения «малых войн». В лабораториях абвера в Тегеле (Берлин), «боевой школе» Квенцзее преподавалась техника диверсионных и разведывательных операций (W. Brockdorff. Geheimkommandos des Zweiten Weltkrieges. Augsburg, 1993, с. 66).
(обратно)252
Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М., 1956, с. 25, 27.
(обратно)253
Опубликован впервые в 1945 году.
(обратно)254
Договором о границе и дружбе, подписанным 28 сентября 1939 года Риббентропом и Молотовым.
(обратно)255
См.: The Secret Diary of Harold L. Ickes. Vol. II, с. 702 и далее; W. Langer, S. Gleason. Указанное сочинение, с. 203.
(обратно)256
Обмен ратификационными грамотами к договору от 28 сентября 1939 года состоялся 15 декабря.
(обратно)257
Либо нацистское руководство читало оперативные документы штабов Англии и Франции, либо оно было посвящено в святая святых политических комбинаций Чемберлена и его окружения, либо и то и другое вместе. Это позволило ему нацелить большую и лучшую часть вермахта на Польшу, не обременяя себя чрезмерными заботами об организации серьезной обороны вдоль франко-германской границы. Дислоцированные здесь армейская группа генерала Р. фон Лееба и части резерва не насчитывали даже половины тех сил, которые сразу могли задействовать французы. На приведение армии Франции в готовность по нормам военного времени (91 дивизия) требовалось, согласно мобилизационным планам, до трех недель. Если ничего похожего на военные действия с Запада не состоялось, то не из-за нехватки солдат и оружия на стороне Франции и Англии. Это – важный показатель для понимания ситуации 1939–1940 годов.
(обратно)258
В многотомнике «Третий рейх и Вторая мировая война» («Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg») нацистское нападение на Польшу рассматривается в совершеннейшем отрыве от союзных связей Варшавы с Англией и Францией и объявления последними войны Германии. Даже структурно план «Вайс» выделяется в обособленную операцию – «первый (?) блицкриг в Европе» (указанное сочинение, Bd. 2, Teil III, с. 79–149), а противостояние на Западе всплывает лишь в разделе VI («Борьба за господствующие позиции в Западной Европе»). На разбор «войны без войны» под несколько конфузным заголовком «Стратегическая оборона на Западе» ушло ровно три страницы (там же, с. 235–237).
(обратно)259
Геринг обещал покончить с преследованием евреев и добиться скорейшего прекращения огня (после того как военные действия по плану «Вайс» начались). Он высказывался за «добропорядочный мир», который предусматривал бы восстановление Польши (с изъятиями в пользу Германии коридора и при условии аншлюса Данцига) и, возможно, Чехословакии. Во избежание дальнейших осложнений он, Геринг, брался отстаивать линию на недопущение авианалетов против Англии, если сами англичане не инициируют обмен бомбардировочными ударами.
(обратно)260
Fish Hamilton. Der zerbrochene Mythos. F. D. Roosevelts Kriegspolitik 1933–1945. Tübingen, 1989 (далее – Fish H. Der Mythos).
(обратно)261
Fish H. Der Mythos, с. 100–101. На с. 141 конгрессмен приводит отрывок из сочинений «способного» историка Гарри Барнеса: «Если бы не давление Рузвельта на Англию, Францию и Польшу и если бы до сентября 1939 года он не давал обещаний, вероятно, дело не дошло бы в 1939 году до европейской войны… Любая будущая европейская война вылилась бы в германо-советский конфликт. Это привело бы к далеко идущему ослаблению обеих тоталитарных держав и в итоге сохранило за свободными западными демократиями превосходство при определении судеб нашей цивилизации».
(обратно)262
Fisch H. Der Mythos, с. 102.
(обратно)263
Этикетку «война за жизненное пространство», справедливо замечает Г. Грамль, приклеили к агрессии против Польши после того, как решение о нападении было принято исходя из совсем других причин.
(обратно)264
Fish H. Der Mythos, с. 105. Где Австрия, Чехословакия, Польша, Дания, Люксембург? Забыли или списали при крупном помоле?
(обратно)265
Далерус встречался 28–30 сентября с Кадоганом, Галифаксом и Чемберленом.
(обратно)266
ADAP. Serie D, Bd. VII, Dok. 440.
(обратно)267
Нота британского правительства посольству Германии от 3 сентября 1939 года (там же, с. 445–448).
(обратно)268
ADAP. Serie D, Bd. VII, Dok. 456.
(обратно)269
В письме Рузвельту от 5 ноября 1939 года Чемберлен выражал уверенность в скором окончании войны не потому, что Германия будет побеждена, а потому, что немцы поймут, что в войне можно обнищать (см.: Lukасs John. Указанное сочинение, с. 43).
(обратно)270
Schellenberg W. Memoiren. Köln, 1959, с. 94.
(обратно)271
Ueberschär Gerd R. Hitler Entschluß zum «Lebensraum» – Krieg im Osten. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Frankfurt/Main, 1991, с. 23 и далее.
(обратно)272
Hoffmann Peter. Widerstand. Staatssreich. Attentat. Der Kampf gegen Hitler. München, 1970, с. 186, 725.
(обратно)273
Φинкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полковника Штауфенберга. М., 1975, с. 100.
(обратно)274
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 187 и далее.
(обратно)275
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 247.
(обратно)276
Churchill Winston. The Second World War. Vol. 1. Boston, 1948, с. 490 и далее.
(обратно)277
Переговоры Мацуоки с нацистскими руководителями показательны в нескольких ракурсах. Они велись в марте-апреле 1941 года, но немцы ограничились лишь намеками на возможность «осложнений» с СССР. Это позже будет истолковано японцами как очередной показатель склонности Берлина к сепаратным поступкам. Из неверности союзника Токио вывел право на собственную сольную партию в концерте агрессоров.
На Мацуоку не подействовало твердое по форме обещание Гитлера «сделать немедленные выводы», если Япония окажется в конфликте с США (а также с Советским Союзом). Возможно, потому, что этим словам предшествовало путаное изложение немцами взглядов на отношения рейха с Соединенными Штатами. 28 марта японский министр иностранных дел напрямую спросил своего коллегу: «Оставит Германия в покое США, если американцы после поражения Англии прекратят поддержку Британской империи?» Ответ Риббентропа озадачил: «Германия не имеет ни малейшего интереса к войне с Соединенными Штатами». «Каждый будет господствовать в своей сфере, – заявил он. – Германия вместе с Италией осуществляла бы его в европейско-африканском регионе, США должны были бы удовольствоваться Американским континентом, а за Японией был бы зарезервирован Дальний Восток… В будущем сохранились бы только означенные три сферы интересов в качестве крупных центров силы». Мацуока придерживался мнения, что англосаксов надо брать в целом и что, «если не удастся обратить Америку в нашу веру, будет невозможно установить новый порядок» (ADAP. Serie D, Bd. VII, Dok. 279, 308, 472).
(обратно)278
Бывший сотрудник госдепартамента Л. Хартли в канун 1939 года войны писал в книге «Боится ли Америка? Внешняя политика Америки»: «Мы можем легко создать себе империю, управляемую из Вашингтона. Мы имеем возможность в настоящее время… взять курс на подобную политику и подчинить все Западное полушарие американскому флагу. Активное и умелое использование нашей морской, экономической и потенциальной военной мощи позволит, пока Европа и Восточная Азия остаются раздробленными, расширить наше господство за пределами полушария, установить мировую американскую гегемонию и направить всемирное развитие по пути установления нашего мирового господства, основанного на американских долларах, линкорах и бомбардировщиках».
(обратно)279
Documents on American Foreign Relations 1939–1945 (далее – DAFR). Boston, Vol. II, с. 35.
(обратно)280
Шeρвуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 238.
(обратно)281
Мэтлофф М., Снелл Э. Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941–1942 гг. М., 1955, с. 44–45, 48.
(обратно)282
Там же, с. 54. Англичане, со своей стороны, лишь в июне 1940 года избавились от заблуждения, что в войне с Германией они обойдутся без США (памятная записка британских начальников штабов от 13 июня 1940 года).
(обратно)283
FRUS, 1940, Vol. 1, с. 555, 624 и далее; FRUS, 1941, Vol. 1, с. 127, 158.
(обратно)284
Welles Sumner. The Time for Decision. London, 1944, с. 170. Копия директивы попала к Вуду, как полагают, через бывшего депутата рейхстага от партии центра Респондека, состоявшего в приятельских отношениях с Гальдером.
(обратно)285
Dawson R. H. The Decision to Aid Russia 1941. Chapell Hill, 1959, с. 21, 25.
(обратно)286
Шeρвуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 390.
(обратно)287
Сколько историков – столько суждений о значении официального вступления США в войну против Германии и начала японо-американской войны. Объявление Берлином 11 декабря 1941 года войны Соединенным Штатам, считает Г. Мольтман, «нельзя рассматривать как крупный, решающий момент в историческом развитии. Налицо был лишь переход от давно имевшегося латентного состояния войны к открытому противоборству» (Моltmann Günter. Amerikas Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg. Heidelberg, 1958, с. 40).
С этой точкой зрения спорит большинство участников научного симпозиума «„Поворот в войне“. Декабрь 1941 года» (Штутгарт, 17–19 сентября 1981 года). Несомненно – и это можно доказать – война с превращением США в воюющую сторону приобрела новое качество и в Европе и в Азии.
Сложней с прояснением мотивов решения Гитлера заполучить нового военного противника в момент, когда «молниеносная война» (единственная, в которой он владел инициативой с известными шансами на успех) была необратимо проиграна в противоборстве с уже имевшимися.
Еще больше вопросов возникает, если вспомнить, что решение бросить перчатку США было вынесено в Берлине 4 декабря 1941 года, то есть до перехода советских войск в контрнаступление под Москвой и до удара японских ВМС по базе американского тихоокеанского флота Пёрл-Харбор. 11 декабря датируется подписание соответствующего соглашения между Германией и Японией, обязывавшего обе державы вести войну до победного конца, когда Гитлер уже отдавал себе отчет в том, что впору думать, как подрумянить поражение.
Акт отчаяния? Попытка уравновесить две изнурительных войны для Германии войной на два фронта для США? В надежде или почти уверенности, что Тихоокеанский театр станет в глазах Вашингтона главным? Если последнее верно, то логичнее было бы следовать примеру Японии, которая связывала дату вступления в войну против СССР с падением Москвы, затем Сталинграда. В отсутствие состояния войны между Германией и США прогерманским силам в Штатах было бы проще добиваться концентрации американской мощи на отпор Японии и ее разгром. Или Токио выдал какие-то авансы Берлину, которые затем отозвал? Как бы пригодились в поисках ответов досье из последней штаб-квартиры Гитлера, что держат под замком в Соединенных Штатах.
(обратно)288
Старший советник Дж. Маршалла по вопросам стратегии генерал Эмбик замечал по этому поводу, что английские планы, к которым до конца 1943 года подстраивались США, основывались «скорее на политических соображениях, нежели на здравых стратегических расчетах» (Мэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 123). Ссылки на англичан аргументированы и – главное – удобны. Но факты остаются фактами. До самого вступления США в войну не была пересмотрена директива Рузвельта от 16 января 1941 года, особо оговаривавшая: «Армия не должна брать на себя никаких обязательств, предусматривающих наступательные действия, пока она не будет к этому полностью подготовлена», «до того, как будут развернуты наши силы, наш военный курс должен быть очень умеренным» (M. S. Watson. Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations. Washington, 1959, с. 125).
(обратно)289
FRUS, 1941, Vol. 1, с. 769 и далее.
(обратно)290
30 мая 1941 года Шлоссштайн из фирмы «Бош» доставил архиепископу Йоркскому для передачи У. Черчиллю письмо Герделера, завизированное фельдмаршалом Браухичем, в котором содержалось предложение заключить мир с преемниками Гитлера при оставлении за Германией Эльзаса и Лотарингии, Австрии, Судетской области, западных районов Польши и т. д. Вермахт предлагали в качестве «ядра европейских вооруженных сил» союза государств, «объединяющего только антибольшевистские круги». Запомним мысль о «европейском вооруженном сообществе» (Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 336–340).
(обратно)291
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 167 и далее, 176.
(обратно)292
The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt (далее – Roosevelt Papers). Ed. Rosenman Samuel I. 13 Vols. New York, 1938 bis 1950. Vol. 1, 1939, с. 3.
(обратно)293
За первые пять месяцев войны экспорт США увеличился на 30 процентов, в том числе в Англию – на 10 процентов.
(обратно)294
ADAP. Serie D, Bd. 7, Dok. 360.
(обратно)295
Hull Cordell. Vol. 1, с. 710.
(обратно)296
После акта провозглашения Советской Россией независимости Финляндии государственная граница была проведена по реке Сестре, в неполных 30 километрах от Ленинграда, а не по исторической линии, установленной Петром I и существовавшей до момента присоединения Финляндии к России в 1809 году. Инициатива этого нововведения, зафиксированного в Тартуском договоре, связывается с именем Сталина, бывшим в ту пору наркомом по делам национальностей.
(обратно)297
Roosevelt Papers, Vol. 1, 1940, с. 104.
(обратно)298
FRUS, 1940, Vol. 1, с. 117 и далее.
(обратно)299
ADAP. Serie D, Bd. 7, с. 770 и далее.
(обратно)300
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 268–269.
(обратно)301
Австрия и Судетская область остаются в составе рейха, западная граница по состоянию на 1939 год, восточная – по состоянию на 1914 год; Польша и Чехословакия восстанавливаются в урезанном виде; за Германией признается функция щита против большевизма (там же, с. 271 и далее).
(обратно)302
FRUS, 1940, Vol. 1, с. 2.
(обратно)303
См.: Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 274, 504.
(обратно)304
Формула «анафема» не исчерпывает оттенков в подходах Лондона. Г. Вильсон в беседе с И. Майским сказал: «Да, мы хотели бы иметь дело с другим правительством в Германии. Для этого достаточно было бы исчезновения одного Гитлера… Пусть остается национал-социалистическая партия, если немцы этого хотят, но пусть исчезнет только ее нынешнее руководство. Со всеми другими мы сумеем договориться» (Дневник И. М. Майского. Запись 28.10.1939 г. АВП СССР).
(обратно)305
Welles Sumner. Указанное сочинение, с. 75–81, 94.
(обратно)306
ADAP. Serie D, Bd. 8.
(обратно)307
Welles Sumner. Указанное сочинение, с. 83–88.
(обратно)308
Видимо, в Берлине были неплохо осведомлены насчет вариантов обращения с побежденной Германией, которые с осени 1939 года дискутировались в правительственных сферах Англии и Франции. В беседе с И. Майским Г. Вильсон развивал следующую концепцию: вышедшая из войны Германия должна перестать быть единым централизованным государством и превратиться в «свободную федерацию», как было когда-то. Австрия, Бавария, Вюртемберг и другие должны стать полунезависимыми участниками федерации. Чехословакия также могла бы войти в германскую федерацию со статусом, схожим с британским доминионом. Польша должна быть восстановлена на своей этнографической основе, без Западной Украины и Западной Белоруссии. Германской федерации может быть предоставлено право кондоминиума с Англией и Францией в бывших немецких колониях. Вильсон «жаловался», что «французы занимают гораздо более крайнюю позицию, чем англичане, не делают различия между гитлеровским режимом и немецким народом и носятся с идеей расчленения Германии на мелкие независимые государства, безоружные и беззащитные» (Дневник И. М. Майского. Запись 28.10.1939. АВП СССР).
(обратно)309
Welles Sumner. Указанное сочинение, с. 95.
(обратно)310
ADAP. Serie D, Bd. 7, Dok. 864.
(обратно)311
FRUS, 1940, Vol. 1, с. 67, 300 и далее, 306 и далее.
(обратно)312
FRUS, 1940, Vol. 1, с. 104.
(обратно)313
Там же, с. 106 и далее.
(обратно)314
Видимо, так, как предлагал весной 1939 г. посол Гендерсон лорду Галифаксу, – оставаясь нейтральной, Англия могла бы позволить Германии вплотную заняться «освоением» Украины и тем надолго увязнуть на Востоке (см.: DBFP. Serie 3. Vol. IV, с. 213–217.
(обратно)315
Правительства Англии и Франции рассчитывали, что СССР воздержится от объявления войны западным державам в ответ на их агрессию и не примет статуса союзника Германии.
(обратно)316
Roosevelt Papers, Vol. 1, 1940, с. 111 и далее.
(обратно)317
Шеρвуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 241.
(обратно)318
В «беседе у камелька» 29 декабря 1940 года Рузвельт заявил: «Любая страна может заключить мир с нацистами только ценой своей полной капитуляции. Подобный продиктованный мир вовсе не будет миром. Он явится лишь еще одним перемирием, ведущим к гигантской гонке вооружений и к самым опустошительным в истории торговым войнам. Мы все на всем Американском континенте жили бы под угрозой нацистских орудий, заряженных разрывными снарядами как экономического, так и военного свойства». Вильсоновскую концепцию «мир без победы» Рузвельт отверг как ошибочную, что, однако, не свидетельствовало о готовности США воевать. Достаточно, если они станут «великим арсеналом демократии» (Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 242, с. 388–390).
(обратно)319
ADAP. Serie D, Bd. 10, с. 319.
(обратно)320
См.: Schenk Peter. Landing in England. Berlin, 1987, с. 30–33, 282 и далее, 309.
(обратно)321
Там же, с. 404–410.
(обратно)322
«Адлер» – кодовое наименование нацистского воздушного наступления против Великобритании в 1940 году.
(обратно)323
Из Дюнкерка (на 4 июня 1940 года) было вывезено 338 226 солдат и офицеров (88 процентов от численности экспедиционного корпуса). Около 40 тысяч французских военнослужащих, размещавшихся в Дюнкерке, попали в плен. 10–19 июня были эвакуированы британские, канадские и ограниченное число французских частей из Гавра, Шербура, Бреста, Нанта и ряда других прибрежных пунктов.
(обратно)324
См.: Lukасs John. Указанное сочинение, с. 119, 127.
(обратно)325
Будущий президент США Дж. Ф. Кеннеди являлся секретным сотрудником этого комитета (см.: Lukaсs John. Указанное сочинение, с. 206).
(обратно)326
Smith H. P. OSS. The Secret History of America's First Central Intelligence Agency. New York, 1972, с. 36 и далее.
(обратно)327
Наподобие того, как держался Сталин, когда вермахт разделывался с Польшей.
(обратно)328
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 256–257.
(обратно)329
Р. Гесс имел при себе документы на имя Альфреда Хорна.
(обратно)330
Очерки РВР, т. 3, с. 434–440.
(обратно)331
Von Hassell Ulrich. Vom anderer Deutschland. Aus den nachgelassenen Tagebüchern 1938–1944. Zürich, 1946, с. 162, 182, 205, 223.
(обратно)332
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 483, 587.
(обратно)333
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 161.
(обратно)334
См.: Brown A. C. Указанное сочинение, с. 316 (о линии американской и британской разведок: «Хотя оба – и Донован, и Мензис – вели одну войну, каждому виделся разный мир»); Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 335 и далее; von Hassell Ulrich. Указанное сочинение, с. 249, 285, 287.
(обратно)335
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 448.
(обратно)336
DAFR. Vol. II, с. 83–86.
(обратно)337
Там же, с. 85 и далее, 93 и далее.
(обратно)338
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 450, 478.
(обратно)339
FRUS, 1941, Vol. III, с. 68, 77.
(обратно)340
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 456–459, 465–466: Xайэм Ч. Торговля с врагом. М., 1985, с. 143, 145, 152, 180–202, 236.
(обратно)341
С 14 мая по 10 октября 1940 года конфискационные акции против Советского Союза осуществлялись в нарушение действовавшего в США внутреннего законодательства.
(обратно)342
Посол Великобритании С. Криппс посетил 1 июля 1940 года Сталина и вручил ему послание Черчилля. Премьер приглашал СССР к выправлению советско-британских отношений, невзирая на различия в географическом положении двух стран и в их политическом мышлении. Сославшись на изменения, происшедшие в Европе после прекращения Советским Союзом в августе 1939 года переговоров с Англией и установления тесных связей с Германией, он поставил «актуальный» вопрос: как реагировать на перспективу немецкой гегемонии? Положение достаточно серьезно, заключал Черчилль, чтобы довести до сведения советской стороны взгляд на него английского правительства. Ответа на это послание не последовало.
(обратно)343
FRUS, 1940, Vol. III, с. 329 и далее.
(обратно)344
Позднее будет переименована в «Барбароссу».
(обратно)345
Британское правительство брало бы обязательства:
1) не заключать мира без предварительной консультации с СССР;
2) не вступать также по окончании войны в соглашения с какими-либо государствами, направленные против СССР;
3) не прибегать к военным мерам любого характера против Баку и Батуми;
4) заключить торговое соглашение, по которому СССР поставлялись бы каучук, олово и другие интересующие его товары;
5) признать де-факто советские приобретения в Прибалтике, Восточной Польше, Бессарабии и Буковине, имея в виду, что окончательно этот вопрос будет отрегулирован по завершении войны.
Ожидалось, что советское правительство:
1) займет подлинно нейтральную позицию в отношении германо-британской войны;
2) в случае нападения держав оси на Турцию и Иран будет придерживаться в отношении двух последних доброжелательного нейтралитета;
3) не прекратит материальной поддержки Китая также в случае заключения советско-японского соглашения;
4) вступит в переговоры с Англией относительно заключения договора о ненападении (Ernest Llewellyn Woodward. A History of the Second World War: British Foreign Policy in the Second World War. London, 1970, Vol. 1, с. 667 и далее).
(обратно)346
FRUS, 1940, Vol. III, с. 399, 622 и далее. На это время приходятся первые зондажи возможностей подведения под советско-японские отношения договорной базы.
(обратно)347
Kimball Warren F. The Most Unsordid Act. Lend-Lease. 1939–1941. Baltimore, 1969, с. 189 и далее.
(обратно)348
FRUS, 1941, Vol. I, c. 712 и далее. Штайнгардт вступил в дискуссию с госдепартаментом относительно целесообразности подобного шага. Его аргументы были оставлены без внимания, а директива послу подтверждена.
(обратно)349
FRUS, 1941, Vol. IV, с. 945 и далее.
(обратно)350
Там же, с. 942 и далее.
(обратно)351
FRUS, 1941, Vol. I, с. 737 и далее.
(обратно)352
См.: Knipping Franz. Die amerikanische Rußlandpolitik in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes 1939–1941. Tübingen, с. 215.
(обратно)353
Городетский Г. Черчилль и Советский Союз после 22 июня 1941 г. Новая и новейшая история. М., 1990, № 6, с. 61, 62.
(обратно)354
Там же, с. 62–63.
(обратно)355
FRUS, 1941, Vol. I, с. 757 и далее, 764 и далее.
(обратно)356
FRUS, 1941, Vol. I, с. 766 и далее.
(обратно)357
См.: Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. Ф. Л. Лоуэнхейм и др. (ред.). М., Прогресс, 1977, с. 17.
(обратно)358
Сталин в 1945 году отверг доложенный ему проект, в котором употреблялся термин «англо-американский империализм». Подобной категории не существует, заявил он составителям, у этих держав различные интересы, и каждая из них проводит свою политику. Сообщено автору И. И. Ильичевым, лично выслушивавшим поучение Сталина.
(обратно)359
Мэтлофф М. От Касабланки до «Оверлорда». М., 1964, с. 571.
(обратно)360
Maser Werner. Указанное сочинение, с. 209.
(обратно)361
Schwendemann Heinrich. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939–1941 – Alternative zu Hitlers Ostpolitik? Dissertation, vorgelegt 1991, с. 22, 24, 27, 30 и далее.
(обратно)362
Телеграмма Шуленбурга в МИД Германии от 5 апреля 1940 года (ADAP. Serie D, Bd. 9, Док. 50).
(обратно)363
Schwendemann Heinrich. Указанное сочинение, с. 309.
(обратно)364
Там же, с. 12, 265, 343.
(обратно)365
Schwendemann Heinrich. Указанное сочинение, с. 589.
(обратно)366
Schwendemann Heinrich. Указанное сочинение, с. 520, 526 и далее.
(обратно)367
Автор более двух десятилетий тесно общался с известным авиаконструктором A. C. Яковлевым, непосредственно участвовавшим в отборе и закупке немецкой военной техники в 1940–1941 годах, а также был знаком с А. И. Микояном и A. A. Туполевым. Их оценки обобщены в воспроизведенной констатации.
(обратно)368
См.: Очерки РВР, т. 3, с. 16–17.
(обратно)369
В середине августа 1940 года Гитлер распорядился поставлять в Финляндию оружие. Из соображений ограждения источника советский протест ограничивался темой германского военного транзита через Финляндию в Норвегию.
(обратно)370
См.: Известия ЦК КПСС. 1990, № 3, с. 220–222; № 4, с. 198–199, 205–207, 219–222.
(обратно)371
У. Черчилль и А. Иден до середины июня тоже терялись в сомнениях: похоже, война с Россией неотвратима, но не исключалось, что в последний момент Гитлер дрогнет и выкинет какой-нибудь фортель.
(обратно)372
Так Гитлер квалифицировал решение пойти войной против СССР.
(обратно)373
Известия ЦК КПСС. 1990, № 4, с. 219–220.
(обратно)374
Schwendemann Heinrich. Указанное сочинение, с. 474.
(обратно)375
Между 3.00 и 3.30 утра в зависимости от географических координат прохождения государственной границы СССР.
(обратно)376
Reich und Weltkrieg. Bd. 4, с. XIV.
(обратно)377
Там же, с. XVII, 13.
(обратно)378
Запись в военном дневнике Гальдера 30.3.1941 (т. 2, с. 335).
(обратно)379
Reich und Weltkrieg. Bd. 4, с. 18.
(обратно)380
Небезызвестный в послевоенной ФРГ Вильгельм Греве, близкий к Аденауэру и министру иностранных дел Брентано политический советник, затем западногерманский посол в ряде крупных стран, пробавлялся в 1941 году составлением «юридических заключений». Одно из них было посвящено обоснованию правомерности нераспространения на советских военнослужащих, в том числе в случае их пленения, гаагских конвенций о правилах ведения войн.
(обратно)381
Reich und Weltkrieg. Bd. 4, с. 117.
(обратно)382
Там же, с. 185, 188.
(обратно)383
«Расчетные» означает в данном случае, что многие из них только формировались и не располагали ни штатным личным составом, ни определенными на то время по нормам вооружениями.
(обратно)384
Старая полоса обороны разоружалась без оборудования новой. В войска передавалась новая авиационная и танковая техника для преимущественно поштучной замены устаревшей или использования наряду с ней, вместо того чтобы проводить единственно правильную линию – формировать на новой технической базе новые части и соединения с поставкой им новых тактико-оперативных задач.
(обратно)385
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 494, 495–496, 515.
(обратно)386
Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1984, т. 1, с. 42–43.
(обратно)387
Postwar Foreign Policy and Preparations 1939–1945, Washington, 1949, с. 19.
(обратно)388
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 43.
(обратно)389
Fish Hamilton. Указанное сочинение, с. 38, 141–142, 199.
(обратно)390
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 494.
(обратно)391
Шервуд Р. Указанное сочинение, с. 495–496.
(обратно)392
Летом 1941 года из видных буржуазных государственных деятелей только Э. Бенеш не терял веры в советскую способность сдержать натиск агрессоров. Жизнестойкость СССР не ставили под вопрос также аналитики-экономисты из ведомства Донована (см.: Smith R. H. Указанное сочинение, с. 32). Возможно, они держали перед глазами опыт своего шефа, консультировавшего в свое время адмирала Колчака. Можно назвать в числе оптимистов еще одно имя – руководителя военной разведки Швейцарии Р. Массона.
(обратно)393
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 49, 50, 64.
(обратно)394
FRUS, 1941, Vol. 1, с. 767 и далее.
(обратно)395
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 45. 26 июня 1941 года президент распорядился не издавать в связи с германо-советской войной декларации о нейтралитете. Это имело практическим результатом невключение дальневосточных портов СССР в зону военных действий.
(обратно)396
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 331 и далее.
(обратно)397
Послание У. Черчилля И. Сталину. Поступило 8.07.1941 (Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьерами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 (далее – Переписка…). М., 1976, т. 1, с. 17).
(обратно)398
Churchill Winston. The Second World War. Vol. Ill, с. 350, 352.
(обратно)399
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 315, 337, 338.
(обратно)400
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 324 и далее. Записка была подготовлена по поручению имперского министра, который испытывал интуитивный страх перед нападением на СССР и искал аргументы для возможного разговора с Гитлером. Тогда же Вайцзеккер докладывал Риббентропу, что «Россию можно одолеть только военным путем, напротив, в экономической борьбе мы проиграем» (ADAP. Serie D, Bd. 12, Dok. 419; Weizsäcker-Papiere, c. 249).
(обратно)401
См.: Unternehmen Barbarossa, с. 100.
(обратно)402
Городетский Г. Указанное сочинение, с. 63.
(обратно)403
Там же, с. 71.
(обратно)404
Там же, с. 61, 77.
(обратно)405
Cripps Papers Diary. 29 and 30 June, 1 and 3 July 1941.
(обратно)406
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 500–501.
(обратно)407
Там же.
(обратно)408
The Public Papers. Vol. 1941, с. 481.
(обратно)409
FRUS, 1941, Vol. 1, с. 182.
(обратно)410
Соmmοns P. W. 15.7.1941, Vol. 373, Col. 463.
(обратно)411
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 542–543, 546.
(обратно)412
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 80–81.
(обратно)413
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 546.
(обратно)414
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 101–102.
(обратно)415
Совершенно секретно. Только для командования. М., 1967, с. 130, 150.
(обратно)416
См.: Мэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 117–119.
(обратно)417
Kennedy Joseph. The Business of War. London, 157, с. 157.
(обратно)418
Юнион-джек – британский флаг.
(обратно)419
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 413.
(обратно)420
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 178 и далее.
(обратно)421
Churchill Winston. Указанное сочинение, Vol. IV, с. 289.
(обратно)422
Unternehmen Barbarossa, с. 149 и далее.
(обратно)423
См.: Очерки РВР, т. 4, с. 263–264.
(обратно)424
Там же.
(обратно)425
Там же, т. 4, с. 265–266. Полный текст меморандума Бивербрука был доложен Сталину 7 ноября 1941 года.
(обратно)426
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 84.
(обратно)427
FRUS. The Conferences of Washington, 1941–1943, and Casablanca, 1943. Washington, 1968, с. 50–53.
(обратно)428
Мэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 75, 100.
(обратно)429
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 119–120, 205–206.
(обратно)430
Очерки РВР, т. 4, с. 266.
(обратно)431
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 227–231; Секретная переписка… Т. 1, с. 176.
(обратно)432
Liddеll Hart B. H… The Defence of Britain. London, 1939, с. 44.
(обратно)433
Вrоwn A. C. Указанное сочинение, с. 202.
(обратно)434
Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия. Июнь 1941 – август 1942. М., 1967, с. 104.
(обратно)435
Секретная переписка… Т. 1, с. 64.
(обратно)436
Niedhart A. C. Указанное сочинение, с. 183 и далее; Hillgruber Andreas. Der Zenith des Zweiten Weltkriegers. Wiesbaden, 1977, с. 33; Unternehmen Barbarossa, с. 151; Wilson J. A. The First Summit: Roosevelt and Churchill at Placentia Bay. London, 1970.
(обратно)437
Churchill Winston. Указанное сочинение, Vol. III, с. 393 и далее.
(обратно)438
Там же, с. 394.
(обратно)439
О проекте «Георг» Донована, утвержденном Рузвельтом 14 августа 1941 года и имевшем назначением содействие антигитлеровскому перевороту в рейхе см. в: Brown A. C. Указанное сочинение, с. 207.
(обратно)440
Reich und Weltkrieg. Bd. 4, с. 1070 и далее.
(обратно)441
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 70, 304; Яковлев H. H. Рузвельт – человек и политик. М., 1965, с. 218; В u r n e s J. All in one Life-time. New York, 1958, с. 281; Tugwell R. The Democratic Roosevelt. New York, 1967, с. 50.
(обратно)442
U. S. Congress: Congressional Record. Vol. 87, pt. 7, с. 7217.
(обратно)443
Дневник И. Майского. Запись 17 октября 1939 г. (АВП СССР).
(обратно)444
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 109–111.
(обратно)445
Niedhart Gottfried. Указанное сочинение, с. 184.
(обратно)446
Dullеs John Foster. Long Range Peace Objectives Including an Analysis of the Roosevelt-Churchill Eight Point Declaration. New York, 1941, с. 1, 3 и далее, 12 и далее, 26.
(обратно)447
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 336–340.
(обратно)448
Батлер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 118.
(обратно)449
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 118.
(обратно)450
Батлер Дж. и Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 124–125; Brown A. C. Указанное сочинение, с. 205, 217.
(обратно)451
См.: Watson M. S. Указанное сочинение, с. 340.
(обратно)452
Мэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 78–79.
(обратно)453
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 1, с. 636–648.
(обратно)454
См. также: Мэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 62, 86.
(обратно)455
Там же, с. 205–206, 249–251. Донован отстаивал путь «непрямых действий» и постоянно доказывал Рузвельту, что стратегия Управления стратегических служб (УСС) США может поспорить в эффективности с другими (Brown A. C. Указанное сочинение, с. 217).
(обратно)456
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 278.
(обратно)457
Watsоn M. S. Указанное сочинение, с. 343 и далее; Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 80.
(обратно)458
Переписка… Т. 1, с. 18–19. Хронологию советско-британского диспута вокруг второго фронта см.: Земсков И. Дипломатическая история второго фронта. М., 1982, с. 20–29.
(обратно)459
Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны (далее – Советско-английские отношения…) М., 1983, т. 1, с. 118.
(обратно)460
Сhurсhill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 411–415. См. также: Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 164–165, 168–170.
(обратно)461
Батлер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 166–168.
(обратно)462
Батлер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 96.
(обратно)463
FRUS, 1941, Vol. 1, с. 838.
(обратно)464
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 116, 119.
(обратно)465
После разгрома немцев под Москвой британский посол Криппс сказал шведскому посланнику в Москве: «Откровенно говоря, Россия одна, без всякой помощи успешно сражается с немцами. Наша помощь ей ничтожна» (Очерки РВР, т. 4, с. 267).
(обратно)466
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 121–126, 131.
(обратно)467
Переписка… Т. 1, с. 42–43.
(обратно)468
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. М., 1946, т. 1, с. 41–42.
(обратно)469
Kriegswende, с. 207–208; Unternehmen Barbarossa, с. 145 и далее.
(обратно)470
Kriegswende, с. 209.
(обратно)471
Unternehmen Barbarossa, с. 162 и далее. В прошении об отставке с поста главнокомандующего сухопутными силами фельдмаршал Браухич отмечал, что восточный поход «должен быть охарактеризован как невыигранный».
(обратно)472
Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948, с. 41–43, 56–60.
(обратно)473
На 1941 год приходится не меньше половины от всех безвозвратных потерь в поле, понесенных Советским Союзом на протяжении Второй мировой войны, – убитыми, умершими от ран и в плену, пропавшими без вести (8,7 миллиона человек). Если учитывать погибших ополченцев и партизан, которых статистика не включала в боевые потери, то количество жертв агрессии в первый военный год увеличится не менее чем на четверть миллиона человек.
(обратно)474
Congressional Papers, с. А 3369.
(обратно)475
Kriegswende, с. 18, 20, 40, 45, 63, 123 и далее.
(обратно)476
Там же, с. 19, 23.
(обратно)477
Проект предусматривал: ограничительное толкование Японией «трехстороннего пакта»; проведение Соединенными Штатами оборонительного курса в Атлантике; окончание китайской войны посредством соглашения между Чан Кайши и Вангом, главой созданного японцами марионеточного «правительства для Китая». Предполагалось возобновление в полном объеме японо-американской торговли и оказание со стороны США поддержки Японии в мирном приобретении сырья в Юго-Восточной Азии.
(обратно)478
Kriegswende, с. 46.
(обратно)479
См.: Junker D. Der unteilbare Weltmark. Das ökonomische Interesse in der Außenpolitik der USA von 1933–1941. Stuttgart, 1975.
(обратно)480
Нота США от 26 октября 1941 года расценивалась японцами как неприемлемый ультиматум (безоговорочное принятие четырех принципов: уважение территориальной целостности и суверенитета наций, невмешательство во внутренние дела других стран, равенство (включая свободный доступ на рынки третьих стран), полный вывод японских войск из Индокитая и Китая, ликвидация режима Ванга, отказ от Маньчжурии, выход из «трехстороннего пакта»).
(обратно)481
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 250. Почему «двухмесячная передышка»? Более пары месяцев войны на два фронта СССР не выдюжит?
(обратно)482
Яковлев Н. Указанное сочинение, с. 407.
(обратно)483
Kriegswende, с. 125. В начальной фазе участия США в войне, отмечает А. Браун, «американская военная доктрина не отличалась от таковой времен Первой мировой войны» (Brown A. C. Указанное сочинение, с. 216).
(обратно)484
Kriegswende, с.72.
(обратно)485
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 209–305, 314 и далее.
(обратно)486
Eberhardt В. Dietrich Bonhoeffer. München, 1967, с. 821.
(обратно)487
Советско-английские отношения… Т. 1, с. 173–174. Советский ответ на записку там же, с. 175–176.
(обратно)488
См.: Безыменский Л. Разгаданные загадки Третьего рейха. М., 1984, т. 1, с. 278–330.
(обратно)489
Martin В. Friedensinitiativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg, 1939–1942. Düsseldorf, 1974, с. 487 и далее; Schacht Hjalmar. Abrechnung mit Hitler. Hamburg, 1948, с. 29.
(обратно)490
Brown A. C. Указанное сочинение (о связях Донована с Канарисом накануне и в ходе войны см. с. 128 и далее, 132, 271, 293); Braunschweig P. T. Geheimer Draht nach Berlin. Zürich, 1989, с. 102, 293.
(обратно)491
Kriegswende, с. 221.
(обратно)492
Unternehmen Barbarossa, с. 94 и далее, 96–99, 103.
(обратно)493
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 332, 342.
(обратно)494
Kriegswende, с. 221.
(обратно)495
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 80.
(обратно)496
Западные оценки значения поражения под Москвой для общего хода войны см.: Unternehmen Barbarossa, с. 162–163. В докладной записке Верховного командования вермахта (ОКВ) «Военная мощь вермахта весной 1942 года» констатировалось: «Ни в личном, ни в материальном плане невозможно провести полное освежение всей восточной группировки до необходимой боеготовности и мобильности». Исследователи ФРГ признают, что в персональном и материальном отношениях «германские сухопутные силы так и не удалось вывести на уровень, какой они имели перед началом битвы за Москву» (с. 168 указанного сочинения). И далее: «Победа Красной армии под Москвой, несомненно, стала „сменой вех“ во всей мировой войне» (там же, с. 171).
(обратно)497
Вöttger Peter. Churchill Winston und die Zweite Front (1941–1943). Frankfurt/Main, 1984, с. 9 и далее.
(обратно)498
Черчилль поиздевался над призывом Криппса приложить «сверхчеловеческие усилия», чтобы предотвратить крушение СССР. Это не помешает ему в 1942 году заговорить о развитии «сверхчеловеческой» энергии в контексте подготовки операции в Северной Африке («Торч»). В 1942 году, непосредственно перед броском вермахта к Волге, встречаясь с журналистами, Черчилль заявит: «Сам по себе факт, что русские страдают, совсем не означает, что мы тоже должны страдать. Мы должны заставить страдать своего противника» (Очерки РВР, т. 4, с. 269).
(обратно)499
Nicolson Harold. Diaries and Letters. 1931–1945. London, 1967, с. 174.
(обратно)500
Советская внешняя политика в период Отечественной войны, т. 1, с. 131–132.
(обратно)501
Ваrкеr Е. Churchill and Eden at War. London, New York, 1878, с. 233.
(обратно)502
См.: Сиполс В. На пути к Великой Победе: советская дипломатия в 1941–1945 гг. М., 1985, с. 89; Kitchen M. British Policy Toward The Soviet Union During the Second World War. London, 1986, с. 109 и далее.
(обратно)503
См.: Вöttger Peter. Указанное сочинение, с. 159.
(обратно)504
«Торч» – американо-английская операция в Северной Африке.
(обратно)505
Это не должно пониматься так, что Великобритания не могла провести никаких операций в Европе, которые чувствительно затрагивали бы потенциал и боеспособность Германии. Плоешти оставался в пределах досягаемости (при использовании советских баз в Крыму до 1942 года) так же, как никелевые рудники в Петсамо или железорудный порт Нарвик (при нанесении ударов из района Мурманска). Но эти стратегически важные для рейха объекты союзники до 1944 года не трогали.
(обратно)506
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 291.
(обратно)507
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 352–353.
(обратно)508
История Второй мировой войны 1939–1945. М., 1975, с. 317.
(обратно)509
Балтер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 243–245.
(обратно)510
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 574 и далее.
(обратно)511
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 576, 578.
(обратно)512
Там же, с. 578–581.
(обратно)513
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 582 и далее.
(обратно)514
Там же, с. 585.
(обратно)515
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 118–119.
(обратно)516
FRUS. The Conferences of Washington, 1941–1943, and Casablanca, 1943, с. 44–47, 50–53.
(обратно)517
FRUS. The Conferences of Washington, 1941–1943, and Casablanca, 1943, с. 54 и далее.
(обратно)518
Там же, с. 62.
(обратно)519
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 16–17.
(обратно)520
FRUS. The Conferences of Washington, 1941–1943, and Casablanca, 1943, с. 210, 214 и далее.
(обратно)521
Там же, с. 214–217; Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 31.
(обратно)522
А. Браун: «С момента, когда Черчилль предложил свою комбинацию ортодоксальных методов ведения войны, единственным их сторонником в американской иерархии был, кроме Рузвельта, Донован» (Brown A. C. Указанное сочинение, с. 205).
(обратно)523
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 79.
(обратно)524
Churchill Winston. The Second World War. Vol. III, с. 559.
(обратно)525
Мэтлофф. М. Указанное сочинение, с. 154.
(обратно)526
Там же, с. 40, 73.
(обратно)527
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 179.
(обратно)528
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 182–184; Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 178–179.
(обратно)529
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 182.
(обратно)530
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 183–184.
(обратно)531
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 186–187.
(обратно)532
Там же, с. 189.
(обратно)533
Кimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 379 и далее.
(обратно)534
Позднее будет переименована в операцию «Торч».
(обратно)535
Кimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 390–393.
(обратно)536
Там же, с. 398 и далее.
(обратно)537
Секретная переписка… Т. 1, с. 216.
(обратно)538
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 404 и далее.
(обратно)539
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 394. Рассмотрение этого вопроса откладывалось до «после войны».
(обратно)540
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 432–433.
(обратно)541
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 202–203.
(обратно)542
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 433–434.
(обратно)543
Там же, с. 437.
(обратно)544
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 439–440; Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 398 и далее.
(обратно)545
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 118.
(обратно)546
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 421.
(обратно)547
Оперативное управление было учреждено 23 марта 1942 года на базе упраздненного управления военного планирования, которое возглавлял также Эйзенхауэр.
(обратно)548
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 211–212.
(обратно)549
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 214–215.
(обратно)550
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 218.
(обратно)551
A. Brayant. The Turn of the Tide. New York, 1957, с. 355 и далее.
(обратно)552
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 433.
(обратно)553
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 145. См. также: Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 319–322.
(обратно)554
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 458 и далее.
(обратно)555
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 288 и далее.
(обратно)556
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 221.
(обратно)557
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 466.
(обратно)558
Там же, с. 438 и далее. Черчиллю, как, впрочем, и Рузвельту, было известно, что поставки в СССР урезались и никак не увеличивались.
(обратно)559
Brayant А. Указанное сочинение, с. 287.
(обратно)560
Memoirs of General Lord Ismay. New York, 1960, с. 250.
(обратно)561
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 255–256, 257–258.
(обратно)562
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 158–160.
(обратно)563
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 162–165.
(обратно)564
Переписка… Т. 1, с. 210. Послание поступило 12 марта 1942 года.
(обратно)565
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 237; Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 453–454.
(обратно)566
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 288 и далее.
(обратно)567
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 288.
(обратно)568
Brayant А. Указанное сочинение, с. 359 и далее.
(обратно)569
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 303 и далее.
(обратно)570
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 176.
(обратно)571
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 176–178.
(обратно)572
Там же, с. 178–179. После возвращения в Москву Молотов заметил послу США, что война может быть выиграна в 1942 году и наверняка в 1943 году.
(обратно)573
Там же, с. 180.
(обратно)574
Позже Маршалл признается: «В то время (1942 год) Германия и Япония оказались настолько близки к завоеванию мирового господства, что мы до сих пор еще по-настоящему не осознали, сколь тонкой была нить, на которой висела судьба Объединенных Наций. Ради справедливости следует сказать, что наша роль в предотвращении катастрофы в те дни не делает нам чести» (General Marshall's Report. The Winning of the War in Europe and the Pacific. Washington, 1945, с. 64).
(обратно)575
Кimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 503 и далее.
(обратно)576
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 191. В действительности идея урезания поставок СССР возникла задолго до переговоров с Молотовым по второму фронту. Она взвешивалась в контексте переброски американских войск на Дальний Восток и в Северную Африку. В графиках, определявших срочность и обязательность поставок вооружений и материалов, наша страна ставилась в феврале 1942 года на восьмое место.
(обратно)577
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 197.
(обратно)578
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 192.
(обратно)579
Там же, с. 193–194.
(обратно)580
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 203.
(обратно)581
«Секретная переписка…» Т. 1, с. 248.
(обратно)582
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 271.
(обратно)583
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 309, 318.
(обратно)584
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 305.
(обратно)585
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 273–275, 278–279; Секретная переписка… Т. 1, с. 252.
(обратно)586
«Болеρо» – здесь только план сосредоточения американских войск и техники на территории Англии без уточнения модальностей их возможного оперативного использования.
(обратно)587
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 342 и далее.
(обратно)588
He без ведома Рузвельта Управление стратегических служб прорабатывало планы установления контроля США над Северной Африкой в сотрудничестве с властями Виши. Другая сторона медали – использование Виши для наведения мостов к противнику. Донован доложил 26 июня 1942 года президенту об усилиях в направлении «заключения мира между державами оси и союзниками» при посредничестве ряда деятелей, группировавшихся вокруг профашистского банка Вормса (см.: Brown. A. C. Указанное сочинение, с. 238 и далее, 245, 257 и далее).
(обратно)589
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 214; Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 280.
(обратно)590
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 281–282. Теорию Донована о нанесении поражения Германии посредством специальных мероприятий военные расценивали как «неэтичную, неджентльменскую и отвратительную» (Brown. A. C. Указанное сочинение, с. 217).
(обратно)591
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 282–283.
(обратно)592
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 221.
(обратно)593
Секретная переписка… Т. 1, с. 252.
(обратно)594
См.: Очерки РВР, т. 4, с. 585. По указанию начальника британского морского штаба Паунда число эскортировавших конвой кораблей было сокращено, а оставшиеся получили приказ в случае нападения немцев боя не принимать.
(обратно)595
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 520 и далее.
(обратно)596
Там же, с. 523.
(обратно)597
«Раундап» – новое кодовое название операции на севере Франции вместо «Следжхэммер».
(обратно)598
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 529.
(обратно)599
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 395 и далее.
(обратно)600
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 232.
(обратно)601
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 312–315.
(обратно)602
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 319–322.
(обратно)603
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 235.
(обратно)604
Шервуд Р. Указанное сочинение, с. 235–236; Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 322–323. Текст инструктивного письма приводит У. Черчилль, намекая, что при саботировании второго фронта у него были ассистенты (см.: Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 398 и далее).
(обратно)605
См. разведдонесение из Лондона о совещании 21 июля 1942 года, доложенное 2 августа ГКО СССР (Очерки РВР, т. 4, с. 583–584).
(обратно)606
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 323. У Р. Шервуда пункты 4 и 5 изложены несколько иначе; подкрепление английских войск американскими в Египте; американская операция через Иран в направлении Кавказа (см.: Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 241–242).
(обратно)607
Mэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 325–326; Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 485–486.
(обратно)608
Лорд Бивербрук, последовательный сторонник идеи второго фронта, объяснял 24 июля 1942 года лондонскую обструкцию эффективного сотрудничества с СССР следующим образом: «Только немногие хотят уничтожить сильное немецкое государство на континенте» (Очерки РВР, т. 4, с. 269).
(обратно)609
Очерки РВР, т. 4, с. 576.
(обратно)610
Очерки РВР, т. 4, с. 576–577. См. также донесение от 2 августа 1942 года (с. 581).
(обратно)611
Текст телеграммы не опубликован, краткое изложение см.: Батлер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 485. Премьер торжествовал и поторопился заново окрестить своего «фаворита», присвоив ему кодовое название «Торч» («Факел»), заменившее все ранее употреблявшиеся («Джимнаст», «Суперджимнаст», «Хафджимнаст») (Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 404).
(обратно)612
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, приложение IV, с. 519–520.
(обратно)613
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 328–330.
(обратно)614
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 541 и далее. Текст телеграммы, опубликованной в IV томе мемуаров Черчилля (The Second World War, с. 404–405), подвергся не только «косметической» правке. Вместо «хитрости», говорится о «введении противника в заблуждение», опущены фразы и абзацы насчет эскадрилий, изменена последовательность изложения.
(обратно)615
Там же, с. 543 и далее.
(обратно)616
Доклад Дилла в Лондон (см.: Батлер Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 487).
(обратно)617
См.: Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 331.
(обратно)618
Зря Эйзенхауэр надеялся, что отныне (после его разговора с Черчиллем) британский премьер не может считать операцию «Торч» совместимой с требованиями СССР об открытии второго фронта и оказании помощи военными материалами (письмо Эйзенхауэра Маршаллу 21 сентября 1942 года) (см.: Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 374).
(обратно)619
Кimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 602 и далее.
(обратно)620
Переписка… Т. 1, с. 71.
(обратно)621
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 545 и далее.
(обратно)622
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 546–550.
(обратно)623
Переписка… Т. 2, с. 27.
(обратно)624
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 219–221.
(обратно)625
Там же, с. 265–283; Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 560 и далее; Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 250–257: Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 430–451.
(обратно)626
Советско-английские отношения… Т. 1, с. 277–279; Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 440 и далее. Объявление «Торча» вторым фронтом, между прочим, освобождало англичан и американцев от необходимости выполнять в полном объеме свои обязательства по поставкам в СССР оружия и материалов.
(обратно)627
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 569 и далее.
(обратно)628
Переписка… Т. 2, с. 29.
(обратно)629
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 355.
(обратно)630
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 583 и далее.
(обратно)631
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 602 и далее.
(обратно)632
Секретная переписка… Т. 1, с. 291.
(обратно)633
Переписка… Т. 1, с. 88; т. 2, с. 32–33.
(обратно)634
Churchill Winston, The Second Word War, Vol. IV, с. 510–513.
(обратно)635
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 381–387.
(обратно)636
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 268.
(обратно)637
Там же, с. 269.
(обратно)638
См. запись беседы Сталина с Бредли 6 октября 1942 года в: Советско-американские отношения… Т. 1, с. 246.
(обратно)639
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 233, 235.
(обратно)640
Секретная переписка… Т. 1, с. 251.
(обратно)641
Меморандум оперативного управления от 21 августа 1942 года.
(обратно)642
Секретная переписка… Т. 1, с. 322–324.
(обратно)643
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 643.
(обратно)644
Эйзенхауэр: положение «даже отдаленно не соответствует нашим прежним оценкам» (Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 297). Черчилль поспешил отмежеваться: «Ни в военном, ни в политическом отношении мы не осуществляем прямого контроля за ходом событий» (там же, с. 300).
(обратно)645
Секретная переписка… Т. 1, с. 324–325.
(обратно)646
Там же, с. 329–330.
(обратно)647
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 262–263; Robin Edmonds. Die Großen Drei. Berlin, Siedler, 1992, с. 268 и далее.
(обратно)648
Лебедева H. Безоговорочная капитуляция агрессоров. М., 1989, с. 70.
(обратно)649
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 492–495.
(обратно)650
Типпельскирх К. Указанное сочинение, с. 256.
(обратно)651
Мартин Дж. Братство бизнеса (Почетные все люди…). М., 1951.
(обратно)652
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 123.
(обратно)653
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 158–160, 239–242, 358.
(обратно)654
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 274 и далее; В. Eberhardt. Указанное сочинение, с. 811, 848, 860 и далее; Gerhard Ritter. Указанное сочинение, с. 343.
(обратно)655
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 266 и далее, 274.
(обратно)656
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 342 и далее.
(обратно)657
Brown A. C. Указанное сочинение, с. 271.
(обратно)658
Brown A. C. Указанное сочинение, с. 271.
(обратно)659
Советско-английские отношения… Т. 1, с. 294.
(обратно)660
The Memoirs of Cordell Hull. Vol. 2. New York, 1948, с. 1465.
(обратно)661
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 362.
(обратно)662
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 423. Для сравнения несколько оценок немцев. На совещании в Полтаве 9 мая 1942 года Гитлер заявил: «Мне нужны нефть Кавказа и Волга, иначе я могу списывать войну как проигранную». 1943 год объявлялся годом «стиснутых зубов», стратегической обороны на всех фронтах. В связи с наметившимся ударом Красной армии на южном фланге Гитлер прогнозировал: если будет потерян Донбасс, «война окончится через одиннадцать месяцев».
(обратно)663
Kimball W. F. Correspondence. Vol. 1, с. 668 и далее.
(обратно)664
Mэтлофф Μ., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 434–439.
(обратно)665
Мэтлофф М., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 434–439.
(обратно)666
Яковлев Н. Указанное сочинение, с. 425.
(обратно)667
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 234.
(обратно)668
Там же, с. 357.
(обратно)669
Джордан В. М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918–1939 гг. М., 1945, с. 23, 31.
(обратно)670
ADAP. Serie Ε, Bd. 3, Dok. 233.
(обратно)671
См.: Heideking Jürgen, Mauсh Christof (Hrsg.). USA und deutscher Wiederstand (далее – USA und Widerstand). Tübingen, 1993, с. 141.
(обратно)672
Widerstand, с. 746, 985, 1004.
(обратно)673
Директива президента А. Гарриману (см.: Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 543).
(обратно)674
Churchill Winston. The Second World War. Vol. IV, с. 614.
(обратно)675
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 70, 72–74.
(обратно)676
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 70, 72–74. См. также: Эρман Дж. Большая стратегия. Август 1943 – сентябрь 1944. М., 1958, с. 42.
(обратно)677
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 80–81, 88.
(обратно)678
Полный текст телеграммы японского посла доложен разведкой Главному комитету обороны (ГКО) 9 марта 1943 года (см.: Очерки РВР, т. 4, с. 597–599).
(обратно)679
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 115, 156–169.
(обратно)680
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 274–276.
(обратно)681
Там же, с. 283.
(обратно)682
Там же, с. 285.
(обратно)683
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 286–287.
(обратно)684
Секретная переписка… Т. 1, с. 361, 363.
(обратно)685
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 296–297.
(обратно)686
Секретная переписка… Т. 1, с. 363.
(обратно)687
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 296–297.
(обратно)688
К концу 1943 года в консультативном комитете, изучавшем по заданию администрации вопросы послевоенной политики США, возобладало мнение, что расчленение Германии на ряд независимых государств нецелесообразно (см.: Ilse Pautsch. Die territoriale Deutschlandplanung des amerikanischen Aubenministeriums 1941–1943. Frankfurt/Main, 1990, с. 111, 273).
(обратно)689
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 376–377.
(обратно)690
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 314–316.
(обратно)691
Запись У. Леги. Как отмечает М. Мэтлофф, в официальных документах и бумагах Рузвельта и Гопкинса содержание обсуждений в Белом доме 2 и 8 мая 1943 года не отражено (Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 171–172).
(обратно)692
Секретная переписка… Т. 1, с. 375–378.
(обратно)693
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 328–329.
(обратно)694
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 330–331.
(обратно)695
Секретная переписка… Т. 1, с. 386.
(обратно)696
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 386–387.
(обратно)697
См. записку Бивербрука Гопкинсу (июнь 1943 года): Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 412–416.
(обратно)698
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 300 и далее.
(обратно)699
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 210.
(обратно)700
Вrоwn A. C. Указанное сочинение, с. 293.
(обратно)701
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 213 и далее; Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 276.
(обратно)702
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 215; Brown A. C. Указанное сочинение, с. 276; USA und Widerstand, с. 70–80.
(обратно)703
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 349–351.
(обратно)704
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 351 и далее.
(обратно)705
Там же, с. 354; Анатомия войны. Под ред. Д. Эйххольца и В. Шуманна. М., 1971, док. 236.
(обратно)706
См.: Pautsch Ilse. Указанное сочинение, с. 270–278.
(обратно)707
Типпельскирх К. Указанное сочинение, с. 346–347.
(обратно)708
Секретная переписка… Т. 1, с. 405. Не быть «особенно разборчивым, – писал Черчилль, – в отношении установления контакта с любым нефашистским правительством, даже и с таким, которое не вполне отвечает нашим желаниям… Теперь, когда Муссолини смещен, я готов вести дела с любым нефашистским правительством, которое способно выполнить взятые на себя обязательства». Любым, кроме, разумеется, правительства левого толка.
(обратно)709
Сhurсhill Winston. The Second World War, Vol. V, с. 52 и далее.
(обратно)710
Согласно Р. Шервуду, госсекретарь К. Хэлл хотел распространить на Италию курс, ранее проводившийся Вашингтоном в отношении Виши (Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 443).
(обратно)711
Сhurсhill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 50.
(обратно)712
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 360, 491.
(обратно)713
FRUS. Diplomatie Papers. 1943. Vol. II, с. 335.
(обратно)714
Сhurсhill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 51.
(обратно)715
Предвидя нелестные для него параллели, Черчилль заявил в палате общин 21 сентября 1943 года, что к Германии будет проявлен более строгий подход. Однако и здесь объектом преследований будет не народ, а нацистская тирания и прусский милитаризм (Churchill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 141 и далее).
(обратно)716
См.: National Archives of USA. File YCS, USSR 9-13-43.
(обратно)717
См.: Ржешевский О. Война и история. М., 1984, с. 41–42.
(обратно)718
Brown A. C. Указанное сочинение, с. 354; Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 219–222, 231.
(обратно)719
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 236–237, 274, 277, 279.
(обратно)720
Секретная переписка… Т. 1, с. 415–416.
(обратно)721
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 363–364.
(обратно)722
Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939–1945. Стратегический и тактический обзор. М., 1956, с. 343.
(обратно)723
Ржешевский О. Указанное сочинение, с. 162–166.
(обратно)724
Секретная переписка… Т. 1, с. 420–422.
(обратно)725
Churchill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 190–200.
(обратно)726
М. Мэтлофф. Указанное сочинение, с. 351–353.
(обратно)727
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 351–352.
(обратно)728
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 359.
(обратно)729
Секретная переписка… Т. 1, с. 394.
(обратно)730
О настроениях, вызревавших в Вашингтоне, говорит обращение Стимсона к Рузвельту 10 августа 1943 года: «Мы, как и Великобритания, дали ясное обязательство открыть второй фронт. Не следует думать, что хотя бы одна из наших операций, являющихся булавочными уколами, может обмануть Сталина и заставить его поверить, что мы верны своим обязательствам» (Stimsοn Henry, Bundy M. On Active Service in Peace and War. New York, 1949, с. 438).
(обратно)731
Переписка… Т. 1, с. 170–171; т. 2, с. 86.
(обратно)732
Секретная переписка… Т. 1, с. 438–441. В мемуарах эта телеграмма Черчилля приведена в «смягченной» редакции (Winston Churchill. The Second World War. Vol. V, с. 277 и далее).
(обратно)733
Секретная переписка… Т. 1, с. 443–444.
(обратно)734
Churchill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 279 и далее.
(обратно)735
Мысль о возможности выхода СССР из войны с Германией – сначала вследствие относительной слабости, а после Сталинграда – обретенной силы – буквально преследовала американские штабы. Если обобщить документы, главный мотив озабоченности звучал так: «советские военные усилия были критически важны» для нанесения поражения Германии; выпадение СССР из войны, независимо от причин, делало бы рейх неуязвимым, а исход всей войны неопределенным (см.: Stоlpеr Mark A. The Soviet Union and the Second Front in American Strategic Planning, 1941–1942. Department of History, University of Vermont. Oktober 1986, с. 5, 11, 13). По оценке Дж. Маршалла, Советский Союз может счесть сепаратный мир «оправданным», если союзники «не начнут широкомасштабного наступления на Западе» (ICS 4th meeting, March 7, 1942, CCS 381 (3-5-42) (2), Record Group 218, National Archives).
(обратно)736
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 371.
(обратно)737
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. 1. Московская конференция (далее – Московская конференция). М., 1978.
(обратно)738
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 368.
(обратно)739
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 372, 403.
(обратно)740
Московская конференция, с. 299, 316, 343–344.
(обратно)741
Этот план с особой тщательностью оберегали от русских глаз.
(обратно)742
Секретная переписка… Т. 2, с. 449; Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 406–413; Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2 с. 381.
(обратно)743
Churchill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 297–300.
(обратно)744
Churchill Winston. The Second World War. Vol. V, с. 332–339. Это предупреждение Сталина и дало, очевидно, повод Стимсону считать, что русские, выйдя на свою старую границу, могут остановиться, так как «главная стратегическая цель их обороны будет достигнута» (см.: Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 472).
(обратно)745
Советско-американские отношения… Т. 1, с. 453–454, 459.
(обратно)746
Операция «Энвил» – высадка союзников на юге Франции.
(обратно)747
FRUS, 1943, Vol. 1, с. 490.
(обратно)748
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 279, 283, 294, 309–310, 313, 327–329, 350–352; Smith R. H. Указанное сочинение, с. 202; Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 448; Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 449; Stehle H. Geheimdiplomatie im Vatican. Zürich, 1993, с. 224–228.
(обратно)749
В документах УСС абвер проводился под кодовым названием «организация 659». Иногда под цифрой 659 имелся в виду лично В. Канарис. Управлению было известно, что абвер прикрывал большинство заграничных связей оппозиции, и участие абвера в таких акциях рассматривалось как своего рода рекомендация.
(обратно)750
Heideking Jürgen, Mauch Christof (Hrsg.). Geheimdienstkrieg gegen Deutschland (далее – Geheimdienstkrieg). Göttingen, 1993, с. 18.
(обратно)751
Там же, с. 22, 47. «Мы ни в коем случае не покажем русским переписку, касающуюся „взломщиков“» (письмо Донована Брюсу от 26 июля 1944 года).
(обратно)752
Там же, с. 16, 21–22.
(обратно)753
Geheimdienstkrieg, с. 22.
(обратно)754
USA und Widerstand, с. 91.
(обратно)755
Там же, с. 24. Телеграмма Аллена Даллеса в адрес Управления стратегических служб США от 19 августа 1943 года.
(обратно)756
Geheimdienstkrieg, с. 24.
(обратно)757
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 278 и далее; USA und Widerstand, с. 52–61.
(обратно)758
Von Mоltke Freya, Balfour Michael, Frisby Julian. Helmuth James von Moltke 1907–1945. Stuttgart, 1975, с. 264 и далее.
(обратно)759
Вrоwn A. C. Указанное сочинение, с. 364; Von Moltke Freya и другие. Указанное сочинение, с. 268; Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 278 и далее, 743.
(обратно)760
Записка У. Лангера от 15 марта 1944 года (USA und Widerstand, с. 62 и далее).
(обратно)761
Von Mоltke Freya и другие. Указанное сочинение, с. 268.
(обратно)762
В декабре 1941 года, когда у девяти десятых политиков и генералов в Вашингтоне каждое утро открывалось вопросом: не рухнул ли Советский Союз, – Адольф Берле, заместитель госсекретаря, ответственный за разведывательные акции, записал в свой дневник: «…Поражение Германии сделает Россию единственной значительной силой на континенте, и она в полной мере воспользуется этой позицией». И далее предсказание: коммунизм в Европе станет «хозяином положения» (Рautsсh Ilse. Указанное сочинение, с. 273–274).
(обратно)763
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 279–281.
(обратно)764
Секретная переписка… Т. 2, с. 7. До этого «Правда» подпортила настроение А. Даллесу, предав гласности факт его встречи с агентом СД Максимилианом фон Гогенлоэ, рекомендовавшим сделать ставку на Гиммлера как политика, ищущего мира с англосаксами. В декабре 1943 года Гиммлер переправил через Швецию сообщение в Лондон и Вашингтон, в котором просил принять офицера армии и функционера партии для бесед с британскими (американскими) представителями, чтобы получить лучшее представление о формуле «безоговорочной капитуляции». Этот факт упоминает К. Хэлл в своих мемуарах, добавляя, что Гиммлеру было отказано. Насколько известно, Советский Союз не был информирован об этом «пробном шаре». О реакции Англии сведений нет, если она вообще ставилась о нем в известность (The Memoirs of Cordell Hull. Vol. 2, с. 1573).
(обратно)765
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 549.
(обратно)766
Xилсмэн Р. Стратегическая разведка и политические решения. М., 1957, с. 27.
(обратно)767
Московская конференция, с. 198–201.
(обратно)768
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 489.
(обратно)769
Западные державы не распространяли на базы ВВС и ВМС пункт 6 Декларации четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности: «… По окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой Декларации» (см.: Московская конференция, с. 198, 347).
(обратно)770
Секретная переписка… Т. 2, с. 13.
(обратно)771
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 354–355.
(обратно)772
См.: Очерки РВР, т. 4, с. 599–600.
(обратно)773
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 562.
(обратно)774
FRUS. The Conferences at Malta and Yalta, 1945, с. 107 и далее.
(обратно)775
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 567.
(обратно)776
«Классовая борьба» в стиле британских тори.
(обратно)777
Бaтлeр Дж., Гуайер Дж. Указанное сочинение, с. 395–408; Ваlke Ulf. Luftkrieg in Europa. Koblenz, 1990, Teil 2.
(обратно)778
Мэтлофф M., Снелл Э. Указанное сочинение, с. 415–416.
(обратно)779
The US Strategy. Bombing Survey. Overall Report (European War). Washington, 1947, с. 23.
(обратно)780
Xайэм Ч. Указанное сочинение, с. 139–153. Турция, наряду со Швецией, являлась важным плацдармом разведывательной активности США против Советского Союза.
(обратно)781
Секретная переписка… Т. 2, с. 101–102.
(обратно)782
Там же, с. 101.
(обратно)783
Forstmeier F., Wolkmann Η.Ε. (Hrsg.). Kriegswirtschaft und Rüstung. 1939–1945. Düsseldorf, 1977, с. 382.
(обратно)784
Xайэм Ч. Указанное сочинение, с. 89–92, 236.
(обратно)785
См.: Trepp G. Bankgeschäfte mit dem Feind. Zürich, 1993; M. Durrer. Die schweizerisch-amerikanischen Finanzbeziehungen im Zweiten Weltkrieg. Bern, Stuttgart, 1984.
(обратно)786
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 117–118.
(обратно)787
Geheimdienstkrieg, с. 15. В этом сообщении говорится не о прозападном и провосточном течениях, а совсем о другой конфигурации. Даллесу (после публикации в «Правде») было указано на желательность еще большей конспирации канала, выводившего на Гиммлера и его окружение.
(обратно)788
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 380 и далее. Точку зрения Герделера не обязательно следует принимать буквально. Согласно донесению британского посланника из Стокгольма (30 ноября 1942 года), прикидки сходного плана имелись значительно раньше (см.: Очерки РВР, т. 4, с. 593–596, а также с. 600–602).
(обратно)789
Gräfin Dönhoff Marion. Um der Ehre willen. Berlin, Siedler, 1994.
(обратно)790
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 406 и далее.
(обратно)791
Вrоwn A. C. Указанное сочинение, с. 527 и далее. Между прочим, термин «черная капелла» гестаповского происхождения. Так называлась операция по выявлению и обезвреживанию противников режима из консервативного лагеря.
(обратно)792
Операция «Нептун» – военно-морская часть «Оверлорда» – высадка на севере Франции.
(обратно)793
Brown A. C. Указанное сочинение, с. 527–532.
(обратно)794
См.: Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 284, 291, 427; Finker Kurt. Graf Moltke und der Kreisauer Kreis. Berlin, 1993, с. 195 и далее.
(обратно)795
Widerstand, с. 1047.
(обратно)796
Smith H. Указанное сочинение, с. 220.
(обратно)797
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 412.
(обратно)798
А. Кельтеннакер полагает, что это донесение Гизевиуса являлось продолжением и дополнением плана Бека (Widerstand, с. 1048).
(обратно)799
Очерки РВР, т. 4, с. 420–421, 617. Имя Браухича в списке контактов А. Даллеса до недавнего времени не всплывало.
(обратно)800
Впервые такого рода рекомендация была доведена до сведения В. Канариса в конце 1943 – начале 1944 года (Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 295).
(обратно)801
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 216.
(обратно)802
Widerstand, с. 725; USA und Widerstand, с. 81 и далее.
(обратно)803
Gisevius Hans Bernd. То the Bitter End. Boston, 1947, с. 49.
(обратно)804
См.: Dulles Allan. Verschwörung in Deutschland. Kassel, 1949, с. 217, 222, 224.
(обратно)805
Запись К. Штауффенберга в июне 1944 года (см.: Ζеllеr Eberhard. Oberst Claus Graf Stauffenberg. Paderborn, 1994, с. 88).
(обратно)806
Делестрен и Мулен на встречах с представителями союзного командования отклонили требования передать руководимые ими отряды французского Сопротивления под начало штаба Эйзенхауэра. По возвращении на континент оба были арестованы и погибли в застенках гестапо.
(обратно)807
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 530. Доклады Кальтенбруннера от 17 августа 1944 года и 7 сентября 1944 года; согласно другим сведениям, А. Даллес шел в своих обещаниях заговорщикам еще дальше. В частности, на встречах 15 и 18 июля 1944 года со связниками из Берлина он заявлял о возможности признания западными державами правительства, которое сменит Гитлера (Widerstand, с. 1048).
(обратно)808
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 317, 340.
(обратно)809
Irνing David. Hitler und seine Feldherren. Frankfurt/Main, 1975, с. 587–596, 622; Braun Anthony. Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Bd. 5. Berlin, 1984, с. 517. Обозначение Эльбы как рубежа вызывает сомнения. В тот период заговорщики настраивались держать оборону против Красной армии по линии советско-польской границы на 1 сентября 1939 года.
(обратно)810
Гитлер правильнее Рундштедта и Роммеля (на совещании 4 марта 1944 года) назвал Нормандию и Бретань вероятным районом вторжения и указал на Шербур как первоочередную цель операции союзников. Оба фельдмаршала полагали, что основные силы вторжения высадятся в устье Соммы.
(обратно)811
Секретная переписка… Т. 2, с. 104–107. В телеграмме Черчилля Рузвельту (7 мая 1944 года) отмечалось, что планы бомбардировок французской территории в связи с высадкой строились на расчете 80 тысяч жертв среди местного гражданского населения, в том числе 20 тысяч убитых. «Уточненный» план брал за ориентир 10 тысяч убитых. Рузвельт, отвечая премьеру, писал 11 мая 1944 года: «Я не собираюсь, находясь на таком отдалении, налагать какие-либо ограничения на операции, осуществляемые ответственными командующими, если это, по их мнению, может отрицательно сказаться на операции „Оверлорд“ или увеличить потери наших союзнических войск вторжения».
(обратно)812
Von Hammerstein Kunrat. Spahtrupp. Stuttgart, 1963, с. 252; Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 415 и далее; Ζеllеr Eberhard. Указанное сочинение, с. 218.
(обратно)813
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 418 и далее.
(обратно)814
Ζеllеr Eberhard. Указанное сочинение, с. 223.
(обратно)815
Там же, с. 201.
(обратно)816
Ζеllеr Eberhard. Указанное сочинение, с. 203; Geheimdienstkrieg, с. 34, 103.
(обратно)817
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 221.
(обратно)818
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 221. В. Хегнер – бывший депутат рейхстага от СДПГ. Эмигрировал в Швейцарию, где установил связь с А. Даллесом. После войны министр-президент в правительстве Баварии.
(обратно)819
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 427 и далее.
(обратно)820
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 541.
(обратно)821
Widerstand, с. 151, 779.
(обратно)822
Сhurсhill Winston. The Second World War, Vol. VI, с. 25.
(обратно)823
Мировая экономика и международные отношения. М., 1984, № 7, с. 17.
(обратно)824
Irνing David. Hitler und seine Feldherren, с. 628, 630, 638.
(обратно)825
Hoffmann Peter. Указанное сочинение, с. 518 и далее; Geheimdienstkrieg, с. 48.
(обратно)826
Irνing David. Hitler und seine Feldherren, с. 677.
(обратно)827
Военно-исторический журнал. M., 1961, № 9, с. 80–81. Допрос Кайтеля; Smith Bradley, Agarossi Elena. Unternehmen «Sonnenaufgang» (далее – «Sonnenaufgang»). Köln, 1983, с. 86.
(обратно)828
«Sonnenaufgang», с. 84, 88.
(обратно)829
Что касается контактов западных союзников с нацистской стороной, то в них недостатка не было. Назовем, к примеру, визит А. Даллесу генерала Гляйзе-Хорстенау с идеей открыть англо-американским войскам ворота в Австрию; зондаж советником посольства Германии при Ватикане А. фон Касселем готовности англичан вступить в политические переговоры, поскольку «для всей западной цивилизации полезно, чтобы Германия избежала полного разрушения»; оферту начальника полиции безопасности в Италии генерала В. Харстера – нацисты организованно уходят с Апеннин, чтобы использовать эвакуированные войска против Красной армии. С бывшим послом США в Берлине X. Вильсоном, Донованом, епископом Спелманом (через посредников) общался германский представитель при Ватикане Э. Вайцзеккер, добивавшийся «сокращения сроков войны» политическими средствами (см.: «Sonnenaufgang», с. 86, 90 и далее; Ernst von Weizsäcker. Erinnerungen. München, 1954, с. 584).
(обратно)830
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 527.
(обратно)831
Секретная переписка… Т. 2, с. 161–162.
(обратно)832
Секретная переписка… Т. 2, с. 163–164.
(обратно)833
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 525.
(обратно)834
Там же, с. 542–544, 549.
(обратно)835
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 545.
(обратно)836
Шервуд Р. Указанное сочинение, с. 531.
(обратно)837
См.: Niedhart Gottfried. Указанное сочинение, с. 185 и далее.
(обратно)838
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 224.
(обратно)839
Там же, с. 230–231.
(обратно)840
Цитируются следующие слова Сталина: «…Мне кажется, Вы требуете слишком много прав для Соединенных Штатов, оставляя их слишком мало Советскому Союзу и Великобритании, которые, между прочим, имеют договор о взаимной помощи» (см.: Niedhart Gottfried. Указанное сочинение, с. 185 и далее).
(обратно)841
Шервуд Р. Указанное сочинение, т. 2, с. 520.
(обратно)842
Секретная переписка… Т. 2, с. 190.
(обратно)843
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 131, 133.
(обратно)844
Там же, с. 137, 139 и далее.
(обратно)845
Там же, с. 137.
(обратно)846
Как поведал послу СССР в США А. Громыко Г. Моргентау, план «аграризации» Германии возник по контрасту к инструкции американского военного министерства, предписывавшей «мягкое обращение» с немцами. Рузвельт узнал о существовании инструкции из доклада министра финансов и отменил ее (Советско-американские отношения… Т. 2, с. 262). Это, вместе с тем, – одно из свидетельств того, какие серьезные дела обделывались за спиной президента.
(обратно)847
Сhurсhill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 180.
(обратно)848
Секретная переписка… Т. 2, с. 188–189.
(обратно)849
Там же, с. 187.
(обратно)850
Там же, с. 180.
(обратно)851
Там же, с. 189.
(обратно)852
На эту передачу ссылался в телеграмме Рузвельту (18 августа 1944 года) Миколайчик в оправдание авантюры, выношенной в Лондоне (там же, с. 179).
(обратно)853
В английских документах Армия крайова проводится под различными названиями: «Home Army», «Underground Army», «Secret Army».
(обратно)854
Очерки РВР, т. 4, с. 464, 609–610. О диверсионной и подрывной активности Армии крайовы и ее наследниц против советских вооруженных сил и сотрудничестве АК с немецкими спецслужбами в 1944–1945 годах см. там же, с. 466–467.
(обратно)855
Такого рода операции в помощь Советскому Союзу поляками в 1941–1944 годах не планировались и не проводились. Летом 1944 года диверсии на железных дорогах должны были затруднить переброску частей вермахта с Восточного фронта на запад.
(обратно)856
Телеграмма Форин офис послу А. Керру от 16 августа 1944 года: восстание призвано содействовать успеху переговоров Миколайчика в Москве.
(обратно)857
Докладная записка К. Рокоссовского Сталину 2 октября 1944 года.
(обратно)858
Во время внезапного налета 200 самолетов 4-го воздушного корпуса из Восточной Пруссии было уничтожено на земле 43 американских В-17, 15 британских «Р51-Мустанг», несколько десятков советских самолетов, 450 тысяч галлонов бензина.
(обратно)859
Опрос лейтенанта И. Колоса 5.10.1944 г. Документ составлен по возвращении Колоса с задания в штаб 1-го Белорусского фронта.
(обратно)860
Докладная военному совету 1-го Белорусского фронта от 18 января 1945 года.
(обратно)861
Автор первым из советских исследователей обратил внимание на взаимосвязь плана «Рэнкин», покушения на Гитлера и варшавского восстания. Эта в середине 80-х годов еще гипотеза была принята Л. Безыменским за отправной момент при изучении британских архивов. Итоги своих поисков Л. Безыменский опубликовал в «Neue Zeit». Moskau, 1988, № 33–36.
(обратно)862
Очерки РВР, т. 4, с. 480–484.
(обратно)863
Секретная переписка… Т. 2, с. 191–193.
(обратно)864
Gregg H. The Winning Weapon. New York, 1982, с. 105 и далее.
(обратно)865
Gregg H. Указанное сочинение, с. 106. См. также: Leslie Groves. Now it Can Be Told. New Jork, 1962.
(обратно)866
Там же, с. 101 и далее, 104, 108 и далее, 359.
(обратно)867
Groves Leslie. Указанное сочинение, с. 132.
(обратно)868
Сhurсhill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 463 и далее.
(обратно)869
Grооm A. British Thinking about Nuclear Weapon. London, 1974, с. 9.
(обратно)870
Иногда Гровс откровенничал с находившимися в его подчинении учеными. В марте 1944 года он заявил физику Дж. Ротблэту: «Вы, конечно, понимаете, что настоящая цель создания бомбы в том, чтобы подчинить нашего главного врага – русских».
(обратно)871
Секретная переписка… Т. 2, с. 250–251, 258–259, 262, 287.
(обратно)872
Секретная переписка… Т. 2, с. 221, 222.
(обратно)873
Там же, с. 223–226.
(обратно)874
Мэтлофф М. Указанное сочинение, с. 561–562.
(обратно)875
Соll Н. The Ardennes Battle of the Bulge. Washington, 1965, с. 13.
(обратно)876
Πогью Ф. С. Верховное командование. М., 1959, с. 264.
(обратно)877
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 226 и далее.
(обратно)878
Там же, с. 229.
(обратно)879
Von Manteuffel Hasso. Entscheidungsschachten des Zweiten Weltkrieges, с. 537.
(обратно)880
Роковые решения. М., 1958, с. 265.
(обратно)881
Секретная переписка… Т. 2, с. 260.
(обратно)882
Переписка… Т. 1, с. 341–342. Сравните с контрзапиской Черчилля от 14 августа 1942 года, переданной при встрече со Сталиным.
(обратно)883
Там же, с. 187.
(обратно)884
Секретная переписка… Т. 2, с. 267.
(обратно)885
The Papers of Dwight Eisenhower. The War Years. Baltimore, 1970, Vol. 4, с. 2410.
(обратно)886
Переписка… Т. 1, с. 348–349.
(обратно)887
Там же, с. 349–350.
(обратно)888
The Papers of Dwight Eisenhower, Vol. 4, с. 2412.
(обратно)889
Переписка… Т. 1, с. 358.
(обратно)890
Секретная переписка… Т. 2, с. 121.
(обратно)891
Розанов Г. Л. Конец Третьего рейха. М., 1985, с. 109–110. Не это ли имелось в виду под «большими» и «важнейшими решениями», о которых говорилось в послании британского премьера от б января 1945 года?
(обратно)892
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 400.
(обратно)893
См.: Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 315 и далее. Между прочим, госсекретарь США Хэлл был ознакомлен с материалами Тегеранской конференции где-то в июле 1944 года, то есть на полгода позже Риббентропа.
(обратно)894
К трем державам присоединился затем Китай.
(обратно)895
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 493 и далее.
(обратно)896
FRUS. The Conferences of Cairo and Teheran, 1943, с. 773 и далее, 793; Woodward Ernest Llewellyn. Указанное сочинение, Vol. 2, с. 447 и далее.
(обратно)897
Там же, с. 774.
(обратно)898
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 358.
(обратно)899
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 135, 544 и далее.
(обратно)900
Там же, с. 188 и далее.
(обратно)901
Цитируется по: Лебедева Н. Безоговорочная капитуляция агрессоров. М., 1989, с. 225–226.
(обратно)902
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 190, 194 и далее.
(обратно)903
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 172 и далее. Рузвельт и «его люди» в Вашингтоне находили проект «русских» чем-то вроде британского: излишне пространным и исчерпывающим (послание Черчиллю от 29 февраля 1944 года).
(обратно)904
Там же, с. 198 и далее.
(обратно)905
Там же, с. 165 и далее, 210; Советско-английские отношения… Т. 2, с. 22–23.
(обратно)906
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов. Т. 4. Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании, 4-11 февраля 1945 г. М., 1984, с. 61–64.
(обратно)907
Крымская конференция, с. 20–21.
(обратно)908
FRUS, 1945, Vol. 3, с. 206.
(обратно)909
Указание комитета начальников штабов США Вайнанту (март) и согласие Рузвельта на разграничение зон оккупации (сентябрь 1944 года) нужно соотносить с приливами и отливами в политическом и военном руководстве Соединенных Штатов по части иллюзий и попеременно разочарований касательно внутреннего развития в самой Германии.
(обратно)910
FRUS, 1944, Vol. 1, с. 176, 206, 329, 341, 422.
(обратно)911
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 297. Сравните с посланиями премьера тех же дней Сталину, в которых он взывал о помощи.
(обратно)912
Mоran Charles. Winston Churchill: The Struggle for Survival. 1940–1965. London, 1966, с. 173.
(обратно)913
Очерки РВР, т. 4, с. 423, 640–647.
(обратно)914
Speer Albert. Erinnerungen. Frankfurt/Main, 1969, с. 431.
(обратно)915
Там же, с. 430 и далее.
(обратно)916
Ritter Gerhard. Указанное сочинение, с. 458 и далее.
(обратно)917
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 351–360.
(обратно)918
Крымская конференция, с. 64, 67.
(обратно)919
Формула 1940 года: Лондон не признает демократическим правительство, которое включало бы в свой состав кого-либо из членов тогдашнего нацистского кабинета.
(обратно)920
Советско-английские отношения… Т. 2, с. 319, 331–332.
(обратно)921
Там же, с. 455.
(обратно)922
Irving David. Hitler und seine Feldherren, с. 688. Налеты стратегической авиации Великобритании и США на Дрезден 13 февраля 1945 года имели прагматической задачей уничтожение мостов через Эльбу, которыми не должны были воспользоваться части Красной армии. Разрушение Дрездена – одного из красивейших городов мира – должно было маскировать истинный смысл «операции». Кроме того, как гласил заключительный абзац британского приказа – приговора Дрездену, этот варварский акт – превращение за несколько часов в груду развалин большого города – должен был показать «русским», на что способны тяжелые бомбардировщики западных держав.
(обратно)923
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 289.
(обратно)924
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 317–322.
(обратно)925
Roosevelt Papers, Vol. XIII, с. 585.
(обратно)926
Безыменский Л. Разгаданные загадки Третьего рейха. Т. 2, с. 255–327.
(обратно)927
Smith Bradley, Agarossi Elena. Unternehmen «Sonnenaufgang». Frankfurt/Main, Berlin, Wien, 1988.
(обратно)928
Geheimdienstkrieg.
(обратно)929
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 327–329.
(обратно)930
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 329.
(обратно)931
Там же, с. 331–332.
(обратно)932
Советско-американские отношения… Т. 2, с. 332–333, 337–347, 350–352.
(обратно)933
Секретная переписка… Т. 2, с. 341; FRUS, 1945, Vol. III, с. 741.
(обратно)934
«Sonnenaufgang», с. 193.
(обратно)935
См.: «Sonnenaufgang», с. 63, 65, 68 и далее, 76.
(обратно)936
Geheimdienstkrieg, с. 138.
(обратно)937
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 233.
(обратно)938
Безыменский Л. Указанное сочинение, т. 2, с. 309. См. также: Geheimdienstkrieg, с. 152 и далее.
(обратно)939
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 409.
(обратно)940
Там же, с. 420.
(обратно)941
Smith R. H. Указанное сочинение, с. 232 и далее.
(обратно)942
Там же.
(обратно)943
См.: Очерки РВР, т. 4, с. 416–423. Примем к сведению, что российская внешнеполитическая разведка лишь приоткрыла свой ларчик, а военная разведка еще вообще не брала слово.
(обратно)944
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 351.
(обратно)945
Schellenberg Walter. Указанное сочинение, с. 352 и далее.
(обратно)946
Там же.
(обратно)947
Там же, с. 363.
(обратно)948
Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу: Военные мемуары. М., 1980, с. 482. Подход Эйзенхауэра близок к позиции Кессельринга (в описании К. Вольффа) в конце марта 1945 года.
(обратно)949
Leahy William D. I Was There. New York, London, Toronto, 1950, с. 354 и далее.
(обратно)950
1945: Das Jahr der endgültigen Niederlage der faschistischen Wehrmacht. Dokumente. Berlin, 1975, с. 327.
(обратно)951
Churchill Winston. The Second World War. Vol. VI, с. 442.
(обратно)952
Советско-английские отношения… Т. 2, с. 362, 370.
(обратно)953
История дипломатии. M., 1975, т. 4, с. 629.
(обратно)954
Разумеется, в этот общий контекст должны быть включены также двухмесячные переговоры Вольффа и других на предмет капитуляции итальянской группировки.
(обратно)955
См.: Лебедева Н. Указанное сочинение, с. 265.
(обратно)956
Там же, с. 266.
(обратно)957
Dönitz Karl. Zehn Jahre und Zwanzig Tage. Bonn, 1958, с. 453.
(обратно)958
Ambrose S. E. The Supreme Commander: The War Years of General Dwight D. Eisenhower. London, 1971, с. 661.
(обратно)959
Lüdde-Neurath Walter. Regierung Dönitz: Die letzten Tage des Dritten Reiches. Göttingen, 1955, с. 137.
(обратно)960
Документы из Потсдамского архива. Воспроизведены Н. Лебедевой (указанное сочинение, с. 272–276).
(обратно)961
Murphy Robert. Diplomat Among Warrios. New York, 1964, с. 290.
(обратно)962
Benett John Wheeler, Nicholls Anthony. The Semblance of Peace: The Political Settlement after Second World War. New York, 1972, с. 262.
(обратно)963
Там же, с. 263.
(обратно)964
Ρautsсh Ilse. Указанное сочинение, с. 276 и далее. С кончиной Ф. Рузвельта этот подход стал профилирующим.
(обратно)965
Alperovitz G. Hirosima. Hamburg, 1995, с. 199.
(обратно)966
Strang William. Home and Abroad. London, 1956, с. 222 и далее.
(обратно)967
Сообщено автору B. C. Семеновым, присутствовавшим на названном совещании.
(обратно)968
Πогью Ф. Указанное сочинение, с. 498.
(обратно)969
Woodward Ernest Llewellyn. Указанное сочинение, Vol. 5, с. 395.
(обратно)970
См.: Alperovitz G. Указанное сочинение.
(обратно)971
Численность вооруженных формирований, руководимых И. Тито, равнялась в 1943 году 320 тысячам человек, в 1944 году она превысила 400 тысяч человек.
(обратно)
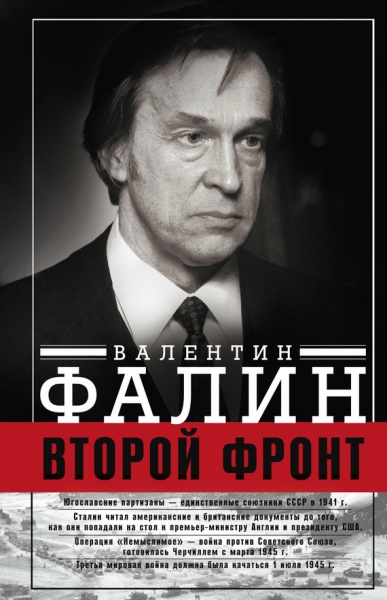


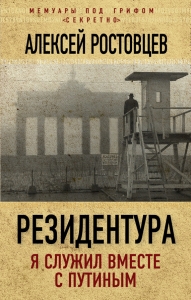

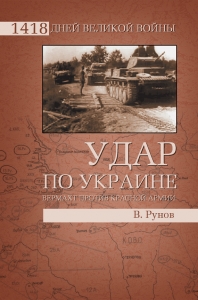

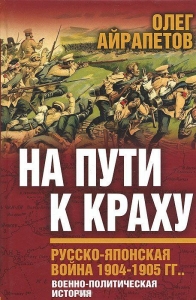



Комментарии к книге «Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов», Валентин Михайлович Фалин
Всего 0 комментариев