Николай Лузан Между молотом и наковальней
Глава 1
Густой и липкий, словно кисель, туман фантастическими клубами поднимался над свинцово-сизыми водами Темзы и, подобно морскому прибою, накатывал на погружавшийся в холодный мрак Лондон. Вечерние сумерки быстро сгущались. Свет фонарей и блеск неоновых огней рекламы оказались бессильны перед натиском природы. Мрачный Тауэр, Вестминстерское аббатство и Трафальгарская площадь утратили привычные очертания и теперь напоминали сюрреалистические пейзажи с полотен знаменитого испанского художника Сальвадора Дали.
Бронзовый адмирал Нельсон напрасно напрягал единственный глаз, пытаясь разглядеть с гранитной колоннады — своего последнего капитанского мостика — извечного соперника по бессмертной славе сэра Уинстона Черчилля. На этот раз «железный» премьер предпочел не заслонять горизонт грозному морскому волку и на время ушел в тень с подмостков истории. Нахохлившись, он кутался в воротник длиннополого пальто и пытался укрыться от порывов пронизывающего ветра, который, подобно пьяному дворнику, разметал по сторонам мусор и пригоршнями беззастенчиво швырял в лица редких прохожих.
Туман бисеринками оседал на, казалось, сросшейся с плечами и походящей на огромный бильярдный шар голове сэра Черчилля, его покатых плечах, курносом лице и холодными струйками скатывался на постамент. Площадь перед памятником и мостовые покрылись скользкой пленкой и напоминали зимний каток. Лондонцы призрачными тенями скользили у стен и торопились поскорее нырнуть в темный зев подземки.
С приближением ночи город все больше походил на громадную подводную лодку, медленно погружающуюся в удушающую пелену из выхлопных газов и тумана. Едкий смог смел с улиц не только лощеных денди и светских львиц из Сити, но и тусовку байкеров. На мраморных ступенях перед «Асторией», «Бристолем» и даже «Плазой» было непривычно тихо и пустынно. Застывшие у входа каменные львы с холодным презрением наблюдали за торопливо шмыгающими в зеркально-стеклянную пасть ресторана прожигателями жизни, для которых любая непогода нипочем, если в кармане раздается манящий звон монет.
Даже в Сохо — этом «лондонском дне», где за один шиллинг или косо брошенный взгляд легко было угодить под нож, в такие часы могли чувствовать себя в полной безопасности и сэр, и пэр, и последний деревенский простак из богом забытого Пензанса. Вместе с «опущенными» бродягами из «ямы» и проститутками «последней надежды» с площади «падшей любви» ненастье загнало под крыши шустрых карманников и немногословных громил. Эти «аристократы лондонского дна» предпочли перебраться к стойкам баров и там, потягивая виски, коротали время за байками о лондонском садисте Джеке— потрошителе и Неуловимом Джо, которого, собственно, никто и не ловил, так как он никому не был нужен.
Замерла жизнь и в учебных корпусах Лондонского университета. В опустевшем спортзале, сердито посвистывая, по-хозяйски разгуливали сквозняки, и лишь в студенческом общежитии кое-где подслеповато светились окна. Несмотря на поздний час, абитуриенты подготовительного отделения филологического факультета Ибрагим, Гум и Эндер не спали. Закутавшись в плотные шерстяные свитера, они согревались обжигающим кофе и уныло листали монографию по английскому языку профессора Джона Пристли. Дремучие дебри из инфинитивов, причастных и деепричастных оборотов нагоняли смертную тоску и клонили в сон. Но предстоящий зачет у зануды «Некролога», «похоронившего» не одного ушлого студента, заставлял друзей предпринимать очередное титаническое усилие, чтобы осилить еще одну страницу из пудового труда профессора.
Эндер в последней и безуспешной попытке не смог осилить замысловатую конструкцию деепричастного оборота и в сердцах захлопнул монографию на семнадцатой странице. Окончательно вывел его из себя ликующий голос теледиктора ночных новостей. Величественной походкой герцога Йоркширского тот поднялся на трибуну палаты лордов и с пафосом, не меньшим, чем когда-то его великий предок, объявивший о победе под Ватерлоо над ненавистным для британцев Наполеоном, поведал замершим у экранов слушателям о принятии «судьбоносного» закона о запрете верховой охоты на лис по всей территории графства. В ответ ярые поборники защиты животных грянули восторженным ревом.
В приступе ненависти к диктору и всем англичанам с их причастиями и деепричастиями, лисами и охотниками Эндер схватился за пульт, но в последний момент палец застыл на кнопке. Яркие краски на экране потускнели, затем исчезли ликующий диктор, палата лордов и вся остальная ухоженная, как газон в Кембриджском университете, Англия. На нем суматошно задергались совершенно другие кадры.
Узкая полоска земли, зажатая между морем и горами, как клокочущая лава в вулкане, вздыбилась и черными зловещими тюльпанами выплеснулась в безоблачное бирюзовое небо. Яркое южное солнце поблекло и съежилось. Грохот артиллерийской канонады и разрывов авиационных бомб слились в одну чудовищную какофонию звуков. Черно-багровые языки пламени стелились по улицам и жадно облизывали распластанные на мостовой тела людей и животных. По склонам гор, на приморской набережной тут и там вспыхивали гигантскими шарами горящие кроны столетних гималайских и ливанских кедров, средиземноморских сосен и тропических пальм.
Сквозь рев артиллерии и злобный лай пулеметов с трудом прорывались охрипшие голоса оператора и корреспондента. В их скороговорке чаще всего слышалось непривычное и труднопроизносимое для англичанина слово — «Абхазия».
Оно заставило Ибрагима с друзьями напрочь забыть о монографии профессора Пристли, зануде «Некрологе» и предстоящем зачете. Прильнув к экрану телевизора, они ловили каждую фразу диктора и каждый жест.
Сухум, Гагра, Лыхны, Моква — эти названия абхазских городов и поселков, чаще всего звучавшие в репортаже, ничего не говорили лондонцу, а в сердцах ребят отзывались щемящей болью. Для них и тысяч потомков махаджиров они все еще оставались далекой и несбыточной мечтой. Мечтой о возвращении на родину прадедов, с которой в Стамбуле, Анкаре, горах Сакарии и Болу родилось и умерло не одно поколение абхазов, убыхов и садзов. Полтора столетия назад им, ставшим заложниками в борьбе за Кавказ двух великих империй — Российской и Османской, пришлось одним — смириться, чтобы выжить, а другим — искать спасения на дальних берегах.
С тех пор по обе стороны Черного моря существовало как бы две половинки Абхазии, которую остальной мир вскоре забыл. Но наперекор всему и всем она не исчезла и не растворилась в пыли веков. Несмотря на кровавые сталинские репрессии 30-х и удушающую, словно удавка, ползучую грузинскую этническую аннексию 40-х и 70-х годов XX века, Абхазия сохранилась и выжила. Подобно эдельвейсу, который, невзирая на жуткие февральские холода, с приходом весны упрямо пробивается к теплу и свету, народ Абхазии все эти годы упорно стремился к свободе и независимости.
Рухнувшая в августе 1991 — го советская империя, казалось бы, открыла путь к свободе. Но нашлись новые охотники на этот райский уголок земли, и в очередной раз в своей истории народу Абхазии пришлось платить за нее самую высокую цену. 14 августа 1992 года правители из Тбилиси обрушили на беззащитную республику бомбовые удары. К полудню в горящий Сухум вползла бронированная колонна, и опьяненные кровью безвинных жертв банды уголовников и националисты из отрядов «Мхедриони» уже торжествовали победу. Но их радость была недолгой, горстка храбрецов заблокировала Красный мост и сорвала блицкриг.
В тот день, подобно пожару, партизанская война охватила Абхазию. Ежедневно она уносила десятки человеческих жизней, но остальной сытый и благополучный мир предпочитал не замечать этого. Шло время и, несмотря на информационную блокаду, под напором неслыханной жестокости одних и несгибаемого мужества других правда о войне прорвалась в эфир. Все чаще в информационных сводках звучали — Абхазия и фамилия ее лидера — Ардзинба.
И сейчас он крупным планом появился на экране телевизора. Ребята впились в него глазами, пытаясь прочесть по лицу, что же на самом деле происходит на далекой родине. Лицо лидера абхазов дышало неукротимой энергией, а в яростном взгляде читалась несокрушимая воля. Ноздри тонкого носа раздувались от гнева, брови сурово сошлись на переносице, а непокорная прядь волос никак не хотела ложиться под армейскую кепку.
Ибрагим, Гум и Эндер, как завороженные, смотрели на Владислава Ардзинбу и ловили каждое слово. Голос того, с кем они здесь — в Лондоне и друзья, и родные там — в Турции связывали надежду на будущее Абхазии, тонул в реве мотора танка и скороговорке переводчика. Они сердцем и душой понимали то, о чем он говорил, и каждой своей клеточкой стремились к нему и тем, кто сейчас бился за свободу далекой родины.
Очередной раскат взрыва расплылся по экрану телевизора черными ошметками. Камера резко ушла в сторону, и в кадре возник подорванный танк. Пулеметная трескотня заглушила голос корреспондента, и диктор из лондонской студии вынужден был скороговоркой сообщить об очередной вооруженной вылазке «абхазских сепаратистов». Затем экран окрасился радужными красками и на нем снова появились идиллические пейзажи средней Англии.
Эндер в сердцах хлопнул рукой по пульту, и в комнате воцарилась пронзительная тишина, а потом все и сразу заговорили наперебой. После увиденного и услышанного завтрашний зачет у «Некролога», предстоящая встреча по баскетболу с командой исторического факультета и намечавшаяся крутая тусовка на вечеринке в ночном клубе неподалеку от станции метро «Ремскейт» стали чем-то мелким и несущественным. Теперь их объединяла и жгла только одна мысль: «Чем помочь Абхазии и Владиславу Ардзинбе? Чем?!»
За окном давно сгустилась тьма. В ту ночь им так и не удалось уснуть. Ибрагим, чтобы отвлечься от тревожных мыслей об Абхазии, снова взялся штудировать монографию профессора Пристли, тем же пытался занять себя и Эндер. У Гума нервы оказались покрепче, он забрался в кровать, с головой накрылся одеялом, но, поворочавшись с боку на бок, через полчаса поднялся, босиком прошлепал в коридор и загремел дверцами шкафа.
— Что с тобой, Гум? — насторожился Ибрагим.
— Не могу! Еду, — обронил он.
— Куда?
— Домой! А потом в Абхазию!
— Куда-а-а?!
— В Абхазию.
— Как?!
— Как-нибудь доберусь.
— И я с тобой! — после секундного замешательства решительно заявил Ибрагим и обернулся к Эндеру.
На его немой вопрос тот кивнул головой и слегка охрипшим голосом произнес:
— Я, конечно, с вами, ребята!
Не сговариваясь, они принялись перетряхивать шкафы и паковать спортивные сумки. Гум, фанатик-яхтсмен, с грустью выложил на стол ставший теперь ненужным пригласительный билет на открытие весенней регаты. Ибрагим избегал прикасаться к новенькой форме, ему уже не суждено было сыграть в баскетбольной команде подготовительного отделения. У Эндера на глаза навернулись слезы, когда в руках оказалась фотография Ясмин. Далекая война в Абхазии безжалостно вторглась в их привычный мир и разрушила его.
Едва забрезжил рассвет, они, забросив сумки за спины, спустились в холл, проскользнули мимо дремавшей консьержки и выскочили на улицу. Дальше события развивались с калейдоскопической быстротой. По пути к метро под руку подвернулось такси, а спустя час в аэропорту «Хитроу» решительный Гум, работая локтями, прокладывал в толпе дорогу к билетным кассам. Регистрация пассажиров на прямой рейс до Стамбула уже подходила к концу, и им с боем удалось взять билеты. Дыхание они перевели, лишь когда оказались в ядовито-зеленой туше боинга.
Комфортабельный лайнер авиакомпании «Бритиш эйрлайн» легко оторвался от бетонки, пробил густую пелену тумана, совершил разворот над устьем Темзы и взял курс на юго-восток. Прошла минута-другая — и рев турбин сменился тихим шорохом вентиляции, в проходах появились стюардессы и предложили легкий ланч. Ибрагим вяло прожевал бутерброд, выпил кофе, устало откинулся на спинку кресла и под убаюкивающий гул турбин не заметил, как уснул.
Разбудил его Эндер. Сладко потянувшись, Ибрагим повернулся к иллюминатору и не мог сдержать восхищения:
— Ну и красотища!
— Не то слово! — согласился Эндер.
В бирюзовом небе ярко светило южное весеннее солнце. Внизу серебрилась гладь Черного и Мраморного морей, усыпанная разноцветным бисером десятков судов, выстроившихся в бесконечную очередь перед Босфорским проливом. Здесь, на юге Европы, о прошедшей зиме напоминали лишь осевшие на вершинах хребта Кероглу снежные шапки и мрачная темень лесов предгорий.
Через мгновение горы, море и город смешались в причудливом калейдоскопе. Боинг резко накренился, турбины пронзительно взвыли, и под крылом возникли, заполняя весь горизонт, каменные джунгли Стамбула. Ибрагим приник к иллюминатору и с жадным любопытством рассматривал, узнавал и не узнавал родной город, поражавший своим размахом и красотой самое буйное воображение.
В нем самым невероятным образом переплелись эпохи и цивилизации. Подобно тетиве гигантского лука, арка подвесного моста султана Мехмеда Фатиха накрепко связала два берега Босфора. За ней на левом, обрывистом берегу застыли в вечном карауле сторожевые башни неприступной крепости Румелихисар. На седых руинах бывшего римского города широко и привольно раскинулся волшебными садами новой Семирамиды и архитектурными шедеврами Мехмедаги, Синана и Бальяна знаменитый дворец Топкапы — сердце некогда могущественной Османской империи и главная сокровищница великих султанов. Самыми ценными «бриллиантами» в этой величественной «короне» Стамбула были неповторимая мечеть Ахмедие, нацелившаяся в небо шестью гигантскими стрелами-минаретами, и знаменитая христианская святыня — церковь Айя-Софья.
Вскоре эта живая сказка исчезла из виду, лайнер накренился на левое крыло, двигатели взревели, и он начал снижаться. Навстречу стремительно приближалась земля, кварталы Стамбула слились в пеструю стену из стекла и бетона. Справа промелькнула гигантская арка над дорогой к аэропорту, и спустя минуту внизу серой лентой вспучилась посадочная полоса. Корпус боинга сотрясла судорожная дрожь, и в ушах заломило. Прошла минута-другая — и тупой удар шасси о бетонку вызвал общий вздох облегчения. По салону прокатилась дружная волна аплодисментов. Повизгивая двигателями, самолет вырулил на стоянку и замер перед пассажирским терминалом.
После промозглой лондонской погоды стамбульский аэропорт встретил пассажиров рейса «Бритиш эйрлайн» настоящим вавилонским столпотворением и весенним теплом. В воздухе уже ощущалось дыхание приближающегося знойного лета, и, подобно стаям перелетных птиц, десятки тысяч туристов из Европы и России потянулись к югу, на курорты Антальи, Алании, Искендерона и Мерсина.
Разноязыкий гул голосов оглушил будущих добровольцев, они с трудом продрались сквозь толпу встречающих, выбрались на площадь и взяли такси. По пути к дому решили не пугать родителей своими планами, а неожиданный приезд объяснить досрочной сдачей зачетов. И, когда окончательно были обговорены последние детали придуманной на ходу легенды, договорились встретиться в пять часов у офиса «Абхазского комитета». Там у Ибрагима работал дальний родственник Владимир Авидзба, через которого можно было узнать о положении Абхазии и потом попытаться попасть в группу добровольцев-махаджиров.
За разговором они не заметили, как оказались в центре Стамбула. Первым вышел Эндер, живший неподалеку от площади Таксим, следующим был Гум, последним добрался до дома Ибрагим. Он стремительно поднялся по ступенькам крыльца и с волнением взялся за ручку двери, в душе опасаясь, что под проницательным взглядом отца их так, казалось, тщательно продуманный план отъезда на войну в первую же минуту разговора рассыплется, словно карточный домик. Но его дома не оказалось, по делам фирмы он уехал в Измит, а мама с сестрой, ничего не заподозрив, были только рады неожиданному приезду и принялись обхаживать со всех сторон.
После бессонной ночи и сытного обеда усталость дала о себе знать. С трудом осилив еще один хрустящий хачапур, которые старательно подкладывала на тарелку мама, и выпив еще одну чашку чая, Ибрагим поднялся к себе в комнату. Здесь все, как четыре месяца назад, лежало на своих местах. В углу, в сетке, напоминая огромные апельсины, лежали три баскетбольных мяча. На столике, около учебника по английскому, стояла фотография баскетбольной команды. Он с грустью просмотрел на нее, воспоминание о той прощальной игре отразилось на лице печальной улыбкой, затем прошел к кровати, не раздеваясь, прилег и не заметил, как уснул.
Пронзительный вой автомобильной сирены поднял его на ноги. С трудом продрав глаза, Ибрагим глянул на часы — стрелки перевалили за пять — и ужаснулся от мысли, что могли подумать о нем друзья. На ходу набросив на плечи куртку, скатился по лестнице и помчался в «Абхазский комитет». У входа, нервно переминаясь с ноги на ногу, ждали Гум с Эндером. Его всклокоченный вид говорил сам за себя, и они, забыв про упреки, собравшись с духом, перешагнули порог.
Несмотря на поздний час, в тесном коридоре и крохотных кабинетах «Комитета» было не протолкнуться. Абхазы, адыги, убыхи из Турции, Сирии, Ливана и даже Ирака говорили только об одном — об Абхазии. Ребята бросали растерянные взгляды по сторонам, не зная, куда и к кому обратиться. Среди этого гама Ибрагиму послышался знакомый голос, и он обернулся.
Навстречу из толчеи вынырнул Володя Авидзба, с удивлением посмотрел на него, Гума, Эндера и воскликнул:
— Ибо, ты?! Какими судьбами?
— Да вот… — не знал он с чего начать.
— Я думал, ты в Лондоне?!
— Это было вчера.
— Вчера?! — недоумевал Владимир.
Ибрагим переглянулся с друзьями и внезапно осипшим голосом произнес:
— Нам надо в Абхазию!
Добродушная улыбка слетела с лица Владимира. Он подхватил их под руки, отвел к окну, испытующим взглядом заглянул в глаза и затем спросил:
— Вы хоть понимаете, что там идет не голливудская, а настоящая война?!
Ибрагим, вслед за ним Гум и Эндер дружно закивали головами.
— Там убивают! — Голос Владимира дрогнул, и он горестно обронил: — За последнюю неделю потеряли шестерых наших ребят.
— Мы не боимся и все уже решили! Скажите, как туда добраться? — торопил с ответом Гум.
— Значит, решили?!
— Да! — в один голос подтвердили ребята.
Владимир снова пристально посмотрел на них, они не отвели глаза, и потеплевшим голосом сказал:
— Молодцы! Кто, если не мы, поможет нашим братьям в Абхазии!
— Конечно! Мы свой выбор сделали еще в Лондоне! — горячо поддержал его Эндер.
— Когда готовы ехать? — деловито заговорил Владимир.
— Чем быстрее, тем лучше! — решительно заявил Гум.
— Сегодня, в крайнем случае завтра, а то дома догадаются. Я уже сказал матери, что поеду в Анталью, — присоединился к нему Ибрагим.
— Говорите — быстрее?.. — Владимир задумался, а потом спросил: — Ибо, помнишь Эндера Козбу?
— Эндера?.. Козбу? — напряг тот память.
— Прошлым летом я тебя с ним познакомил. Его дядька с твоей матерью работает в университете.
— А-а. Помню, но смутно.
— Ладно, ничего страшного. Пиши телефон!
Ибрагим достал из кармана ручку, записал номер в блокнот и по первым цифрам догадался, что он не стамбульский. На его немой вопрос Владимир пояснил:
— Эндер сейчас в Трабзоне. Отправляет в Абхазию группу добровольцев. Если поторопитесь, то можете еще успеть.
— Что — вот так просто позвоним, и он все сделает? — усомнился Гум.
— Да! Скажете, что от меня, остальное дело техники. Вы едете Абхазию, а это слово, поверьте мне, надежнее любого пароля! В общем, ребята, не волнуйтесь, все будет нормально!
— Вы не сомневайтесь, мы не подведем! — заверили они.
Владимир ответил им грустной улыбкой и на прощание предупредил:
— Только зря под пули не лезьте и живыми возвращайтесь!
— Все будет нормально! За нас не беспокойтесь! — дружно ответили они и направились на выход.
В первом подвернувшемся по пути баре остановились и еще не меньше часа обсуждали детали предстоящей поездки. Только когда отпали последние вопросы, а от выпитого кофе начало сохнуть во рту, договорились встретиться утром в аэропорту и разъехались. Ибрагим не спешил возвращаться домой и еще долго бродил по улицам, боясь признаться себе в том, что, возможно, больше никогда не увидит их.
Поздним вечером со свинцовой тяжестью в ногах и пустотой в душе он вернулся домой. В столовой уже заждались мать с сестрой, отец так и не возвратился из Измита. Но и без него ужин превратился в настоящее испытание нервов. Ибрагиму казалась, что придуманная им с Гумом и Эндером легенда о досрочной сдаче зачетов и поездке в Анталью вот-вот лопнет и тогда маме станет все ясно. Избегая ее испытующего взгляда, он выкручивался, как мог, и при первой возможности улизнул к себе в комнату. Закрыв дверь на щеколду, достал из шкафа спортивную сумку и принялся паковать вещи. Последней легла в нагрудный карман куртки бережно завернутая фотография Владислава Ардзинбы. Осталось самое трудное — написать то, что он не решился сказать на словах. Рука долго теребила ручку. Строчки никак не хотели ложиться на лист, наконец тяжелые, будто камни, слова свалились с пера.
«Милые, — зачеркнул он и продолжил: — Мои самые дорогие: мама, папа и сестренка, простите, что так вышло. Сказать это у меня не хватило сил. Я с ребятами еду в Абхазию. Папа, ты сам говорил, что настанет день, когда мы вернемся домой. Он пришел. Сегодня, когда нашей Абхазии тяжело, если я буду отсиживаться, то никогда не прощу себе. Я должен быть там. Все будет нормально. Скоро вернусь.
Ваш Ибо».
Положив записку под настольную лампу, он выключил свет и лег спать. Долго ворочался с боку на бок и лишь перед рассветом забылся в тревожном сне. Разбудил его яростно трезвонивший на прикроватной тумбочке будильник. Мама к этому времени была уже на ногах и приготовила завтрак. Сполоснувшись под холодным душем, он быстро оделся, отказался от вареников с мацони и медом, на ходу проглотил бутерброд и, пряча от матери навернувшиеся на глаза слезы, крепко обнял ее и, боясь оглянуться, сбежал по ступенькам во двор.
От утренней прохлады перехватило дыхание, сердце снова бешено заколотилось, а предательский голос принялся нашептывать: «Зачем тебе это? Там и без тебя хватает. А если убьют?.. А Гум?.. Эндер?» «Как ты будешь смотреть им в глаза?» — возражал другой. «Как?!» — И, отбросив сомнения, Ибрагим энергично махнул рукой проезжавшему таксисту.
По дороге в аэропорт он ничего не замечал и не слышал. В голове билась и пульсировала одна мысль: «Все решено! Все будет нормально!»
— Парень, проснись! Приехали! — напомнил о себе таксист.
Ибрагим встрепенулся и, расплатившись, на непослушных ногах вышел на площадь. Разлившаяся по ней людская река подхватила и внесла его в зал ожидания. У билетных касс мелькнуло осунувшееся за ночь лицо Гума, и на душе отлегло. Тот ответил вымученной улыбкой, бедняге тоже непросто далось решение. Эндер опаздывал, молчал и его домашний телефон. Время шло, а он никак не напоминал о себе, и они, не сговариваясь, решительно подали деньги и паспорта в кассу.
Посадка на рейс до Трабзона подходила к концу, но Эндер так и не появился. Бросив тоскливый взгляд на вход в аэровокзал, Ибрагим и Гум, помявшись, последними ступили на ленту эскалатора. И когда за спинной захлопнулась дверь, они с пронзительной остротой ощутили, что потеряли нечто большее, чем юношескую дружбу. Эндер навсегда остался в прошлом, к которому уже не было возврата. Все их мысли теперь занимала война. Ее леденящее дыхание они по-настоящему ощутили в «Абхазском комитете». Всего сутки, а может, того меньше оставалось до встречи с ней, и им было трудно признаться себе в том, хватит ли у них мужества не дрогнуть и в последний момент не уйти в сторону, как это произошло с Эндером.
Портовый Трабзон, ставший в эти месяцы перевалочной базой для тысяч российских «челноков» и сотен абхазских добровольцев, встретил их палящей жарой и с первых минут закрутил в водовороте событий. Эндер Козба не заставил себя ждать. Полный энергии жизнерадостный крепыш сразу же отозвался на звонок, тут же примчался в аэропорт и отвез в портовую гостиницу, напоминавшую больше караван-сарай времен султана Ахмеда. Здесь им предстояло провести ночь, так как катамаран на Сочи отплыл несколько часов назад, а следующий рейс ожидался не раньше чем на следующий день.
Ибрагим с Гумом не горели желанием провести все сутки в захудалой портовой гостинице, кишевшей «челноками», проститутками, полицейскими, и, бросив вещи в номер, отправились в город убить время. После чопорного Лондона и яркого, многоликого Стамбула он производил удручающее впечатление. Со времен Оттоманской империи в нем мало что изменилось. Узкие улочки представляли собой сплошной базар, забитый, как бочка сельдью, русскими «челноками». Уже через полчаса голова пошла кругом, и они, не сговариваясь, отправились на городской пляж. Там, провалявшись до вечера, перекусили в кафе, возвратились в гостиницу, поднялись в номер и пораньше легли спать.
Но о сне им пришлось только мечтать. Едва погас свет, как на них набросились злющие, как янычары, гостиничные клопы, а потом дали о себе знать безбашенные, в стельку пьяные русские «челноки». От истошных воплей и топота потолок и стены номера ходили ходуном, и временами казалось, что гостиница вот-вот рухнет, как когда-то рухнули крепостные стены трабзонской цитадели от орудийных залпов русского флота адмирала Ушакова.
Этот кошмар закончился лишь с наступлением утра и появлением в номере Эндера. Он принес хорошую новость: через несколько часов на морском вокзале должна начаться посадка на катамаран, отплывающий в Сочи. Не мешкая Ибрагим с Гумом отправились к кассам, но к ним было не пробиться. Галдящая очередь из «челноков» держала их в плотной осаде. Неугомонного Эндера это не смутило, по каким-то только ему известным закоулкам складской зоны он пробрался к причалу, но и там они натолкнулись на плотно сбитую толпу. Первая и последняя их попытка продвинуться на несколько метров вперед натолкнулась на упорное сопротивление разъяренных женщин-«челноков». Эндер не стал понапрасну терять время и, оставив Ибрагима с Гумом на причале, снова пропал в чиновничьих лабиринтах.
Время шло, а он все не возвращался. На катамаране дали сигнальный гудок. Ибрагим с Гумом сникли, жалея не столько о потерянных деньгах, сколько о срывающейся поездке, и с грустью посматривали на катамаран. На нем готовились убрать трап, и они в душе смирились с мыслью провести еще одну ночь в пропахшей дешевым табаком и русской водкой портовой гостинице. И тут из-за горы грузовых контейнеров показался весь взъерошенный Эндер. Похоже, схватка с портовой «мафией» далась ему нелегко.
— Все, ребята, плывем! — потрясая билетами, широко улыбнулся он.
— Сегодня?! — не мог поверить Гум.
— Сейчас! Бегом! — торопил Эндер.
Перебросив сумки за спину, Ибрагим с Гумом поспешили присоединиться к нему. Козба, мощным плечом растолкав «челночниц», протиснулся к трапу, наклонился к уху таможенника и что-то сказал. Тот бросил короткий взгляд на Ибрагима с Гумом, кивнул головой и отступил в сторону. Эндер торопливо подтолкнул Ибрагима к трапу. Тот, все еще не веря в удачу, не чуя под собой ног, поднялся на борт катамарана. Следом за ним, весело постукивая каблуками по ступенькам трапа, спешил Гум.
Еще один шаг на пути к Абхазии ими был сделан. То, что он будет нелегким, они почувствовали сразу. О месте в каюте не приходилось даже мечтать, на верхней палубе негде было упасть яблоку. «Челноки» — молодые русские девчата, навьюченные как ишаки огромными и неподъемными тюками, торопились застолбить себе места. Ибрагим и Гум с трудом протиснулись на правый борт, нашли крохотный пятачок и, сбросив с плеч сумки, уселись прямо на них.
Билеты оказались бесполезными, но им не приходилось обижаться на Эндера. В последний момент он все-таки ухитрился посадить их на борт. Не успели они осмотреться по сторонам, как прозвучал прощальный гудок катамарана. Недовольно ворчавший дизель взревел в полный бас, и за кормой вспенились седые буруны. Катамаран, перегруженный так, что легкая волна захлестывала ватерлинию, с трудом отчалил от пирса и, глубоко зарываясь тупым носом в волну, взял курс на Сочи.
Ибрагим поднялся, и сердце внезапно защемило. Справа грустно подмигнул рекламой плавучий ресторан, в вечернем полумраке растаяли башни портовых кранов. И лишь пульсирующие вспышки трабзонского маяка напоминали о турецком береге, который — и об этом ему не хотелось думать — он, возможно, видит в последний раз. Война в Абхазии зачастую выписывала добровольцам-махаджирам билет только в одну сторону.
Вцепившись в поручни, он с тоской смотрел на мерцающую тусклыми огнями бухту и ту мирную жизнь, что уже не принадлежала ему и Гуму. Их мысли были там — за мерно вздымающейся безбрежной громадой Черного моря, рядом с Владиславом Ардзинбой и теми первыми добровольцами из Турции, Сирии, Иордании и Ливана, которые уже прошли этим путем.
Пронизывающий до костей северный ветер и гудящие от усталости ноги заставили вспомнить о ночлеге. Ибрагим с Гумом потерянно осматривались по сторонам. Повсюду вповалку лежали «челноки», обложенные горами сумок и мешков. Их посиневшие лица и полупустые бутылки колы тронули трех девчат. Ольга, немного говорившая по-турецки, предложила кофе. Обжигаясь, Ибрагим пил большими глотками и ловил на себе любопытные, волнующие молодую кровь взгляды девчат. Впервые за последние дни испытывал настоящее блаженство. К полуночи холодная апрельская ночь сурово напомнила о себе. В модных, купленных еще в Лондоне куртках они с Гумом вскоре почувствовали себя, как в холодильнике. Согрели их турецкие дубленки, которые не пожалели Ольга и ее подруги. А затем, прижавшись друг к другу, они уснули крепким сном.
Рев сирены катамарана поднял на ноги команду и пассажиров. Наступило утро. Солнце поднялось над горизонтом, сквозь утреннюю дымку проступил гористый берег, по которому бело-розовыми айсбергами высоток раскинулся Сочи. Палуба содрогнулась от мощного гула турбин, винты вспенили воду за кормой. Катамаран совершил поворот, вошел в узкое, зажатое бетонными волнорезами горло бухты. «Челноки» оживились и потянулись в сторону левого борта.
С капитанского мостика прозвучала команда, и матросы изготовились к швартовке. Катамаран последний раз сердито заурчал двигателем, и в воздух взвились канаты. Вода под винтами перестала бурлить, и судно замерло у причала. Палуба взъерошилась сумками, баулами «мечта оккупанта», и радостно галдящий людской ручей начал стекать с трапа на пирс. Когда подошла очередь Гума с Ибрагимом, им пришлось пережить несколько тревожных минут, но пограничник и таможенник лишь бегло просмотрели паспорта, сумки и освободили проход. Словно на крыльях, они слетели с трапа и тут же попали в объятия нахрапистых таксистов. После двух слов — «Абхазия» и «Гудаута» их как ветром сдуло, и Гуму пришлось пустить в ход все свое обаяние, чтобы уломать водителя-армянина. Тот долго мялся, в конце концов согласился за двести долларов довезти до Псоу. Через сорок минут они уже были на пограничном переходе.
Плотная цепь пограничников с трудом сдерживала рвущуюся из-за реки толпу беженцев. В воздухе стоял невообразимый гвалт, в нем слились мольбы и проклятия. Первым собрался с духом и решился действовать Гум. Нацелившись на сержанта и выставив вперед, как автомат, кинокамеру, он двинулся вперед. Тот шагнул навстречу и перегородил проход на мост. Гум шел напролом, вытащил из кармана куртки студенческую книжку и, размахивая перед его носом, нахально заявил:
— We journalist!
— We journalist! — вторил ему Ибрагим и тряс своей клубной картой.
— Журналисты? — спросил сержант. В его глазах появился алчный огонь и, когда в руке Ибрагима появились доллары, переспросил: — Значит, журналисты?
— Yes! Yes! — дружно закивали они.
Сто долларов рассеяли последние сомнения, сержант сгреб их в кулак и отступил в сторону. Ибрагим с Гумом, все еще не веря в удачу и опасаясь услышать команду «Стой!», неуверенно ступили на мост. Первые метры дались с трудом.
«Один, два, три, четыре, пять… — мысленно считал эти самые важные в своей жизни шаги Ибрагим. — Все! Все! Я дома! Я в Абхазии!» — эти слова замерли на губах.
Вязкая, гнетущая тишина, царившая на левом берегу реки, оглушила и расплющила его. В глаза бросилась проутюженная гусеницами танка стоянка для автобусов и такси, исковерканная миной деревянная повозка. Растерянность и ужас были написаны и на лице Гума. На чужих, ставших ватными ногах они прошли еще сотню метров и опустились на поваленный ствол платана. Прошла минута, за ней другая, а у них все не хватало сил сдвинуться с места.
И здесь земля, которая для сотен тысяч махаджиров все еще оставалась несбыточной мечтой, заговорила с ними веселым журчанием горного ручья, задорным пересвистом перепелов, задумчивым шепотом листьев гигантских платанов, выстроившихся, будто в почетном карауле, по обочинам дороги. Ее могучий и неподвластный времени зов проснулся в их крови и заставил трепетать каждую клеточку тела.
Ибрагим гладил ствол платана, касался рукою земли и не мог поверить, что заветная мечта отца, деда и прадеда после стольких лет наконец сбылась. Он боялся сделать шаг, страшась, что это чудо в следующий миг исчезнет и растворится в этом хрустально-чистом воздухе. Те же чувства отражались и на лице Гума. А через мгновение неподвластная им сила подбросила вверх, и они, обнявшись, закружили в каком-то немыслимом танце, а потом рухнули на колени.
Колючки, камни царапали руки и ранили губы, но Ибрагим не чувствовал боли и исступленно целовал каменистую, разбитую колесами артиллерийских тягачей, бэтээров землю и рыдал навзрыд. Земля родной Абхазии, память о которой передалась ему с кровью далеких предков и приходившая к ним во снах в суровых горах Сакарии и Болу, в фешенебельных кварталах Стамбула, в тесной комнатушке лондонского общежития, спустя сто с лишним лет встречала его.
И когда этот сумасшедший взрыв чувств и эмоций утих, они, поднялись с земли, отряхнули пыль, перебросили за спину сумки и поспешили вперед, туда, где их ждала полная неизвестность и изменчивая на войне судьба. Дорога нырнула вниз, и Ибрагим невольно замедлил шаг. Леденящий холодок вновь когтистой лапой сжал сердце. Большая беда, обрушившаяся на землю Абхазии, кричала во весь голос.
Ноги спотыкались об исклеванную минами и осколками авиабомб серую ленту асфальта. По ее обочинам тут и там валялись обгоревшие остовы машин и истерзанные туши животных. Посеченные осколками белые стволы платанов и эвкалиптов вздулись сочащимися коричневыми язвами и напоминали собой тела зараженных чумой. Развалины домов смотрели закопченными глазницами-окнами на безлюдные улицы и пустынные «золотые» пляжи. Порой казалось, что смертельное дыхание войны убило все живое, и лишь порывы ветра, налетавшего с гор, отзывались тоскливым воем в печных трубах и закручивали на дороге печальный хоровод из обрывков одежды, полиэтиленовых кульков и бумаги.
Звенящая, отравленная смрадом тишина оглушала и плющила к земле. Внутри Ибрагима все заледенело, он уже не шел, а бежал, пытаясь спастись от кошмара войны, пока не споткнулся и не рухнул на землю. Руки погрузились в зловонную лужу, в лицо ударил тошнотворный запах гниющего тела. Он в ужасе отпрянул от трупа лошади. Из распоротого осколком брюха внутренности вывалились на землю и, облепленные мухами, шевелились, словно змеи. Удушающая рвота сотрясала и выворачивала его наизнанку, рядом корчился Гум. Потом трясущимися руками они долго смывали в придорожном ручье остатки рвоты. Родниковая вода отрезвила и вернула силы. Выбравшись на дорогу, они, стиснув зубы, продолжали упорно идти вперед.
Безлюдная лента шоссе то закручивалась в тугую спираль, то раздваивалась змеиным языком и скатывалась к морю, а потом опять круто уходила в гору. Вечерние сумерки застигли их на окраине безлюдного поселка. Усталость все сильнее давала о себе знать. Гум первым заметил среди развалин маняще мигнувший слабый огонек. Через груды битого кирпича они пробрались во двор чудом уцелевшего дома и постучали в дверь. Прошла минута, когда наконец за ней раздался шорох шагов и настороженный голос спросил:
— Кто?
— Journalist! — первым нашелся что ответить Ибрагим и потом повторил это на ломаном русском.
В ответ громыхнул засов, и дверь приоткрылась. Свет керосиновой лампы ослепил глаза, а когда они освоились, то Ибрагим увидел перед собой бородача с охотничьим ружьем в руках. Он прощупал их с Гумом оценивающим взглядом и только тогда впустил в дом. Кроме него в комнатах находились женщина, четверо ребятишек и светловолосый, с огромными усищами здоровяк — как оказалось, доброволец с Кубани, из города Белореченска, по имени Саша.
Рафик, так звали хозяина, провел их на кухню, и, пока жена хлопотала у плиты, они с грехом пополам, где жестами, а где на дикой смеси абхазского и английского, пытались объясниться. Разговор продолжился за ужином и шел в основном о войне. Вскоре от навалившейся свинцовой усталости и пережитого у Ибрагима и Гума начали заплетаться языки и слипаться глаза. Рафик не стал больше донимать вопросами и провел в дальнюю комнату. В ней была всего одна кровать, но они не стали делиться и вместе с Сашей, подложив под головы сумки, улеглись на полу и через мгновение уснули мертвецким сном.
Проснулись они рано. Солнце только поднялось над горизонтом, а вся семья Рафика уже была на ногах. Из кухни потягивало запахом мамалыги и свежеиспеченного хлеба. Сполоснувшись холодной водой, Гум, Ибрагим и Саша не стали отнекиваться от приглашения хозяйки и сели за стол. Острая турша — соленье из стручковой фасоли — обожгла язык и прогнала остатки сна. Спеша погасить полыхавший во рту пожар, Ибрагим и Гум большими кусками глотали рассыпчатую мамалыгу. Черноглазая Наринэ только успевала подкладывать добавку в тарелки, а Саше подливать в рюмку забористую чачу.
После завтрака, собрав сумки, они спустились во двор. Там у странной, напоминающей нечто среднее между консервной банкой от шотландского печеночного паштета и броневиком времен британского короля Георга IV машины суетился Рафик. Десятипудовый Саша, чертыхаясь и проклиная «горбатого», наотрез отказывался сесть в этот «гроб», затеял с Рафиком перепалку. Из нее Ибрагим и Гум с трудом поняли только одно — что имя у хозяина хорошее, а «гроб» — дрянь, но не могли взять в толк, при чем тут бывший советский президент Горби, от которого вся Британия сходила с ума, и какой-то Рафик с его «горбатым». Тот, обиженный на кубанского казака, пытался растолковать им разницу, чем только развеселил Сашу. Посмеиваясь над честным армянином, скопившим всего на «запорожец», и недобрым словом поминая Горбачева, он с трудом втиснулся в «горбатого».
Под тяжестью ста с лишним килограммов тот просел до земли, затем сдавленно чихнул и, выпустив облако сизого дыма, выкатился со двора. Дорога шла под гору, и «запорожец», набрав скорость, на удивление резво катил вперед. На первом крутом подъеме Ибрагим с Гумом уже подумали о том, что дальше им предстоит идти пешком, но это советское автомобильное чудо снова удивило их.
Пыхтя и испуская клубы сизого дыма, «горбатый» упорно брал один подъем за другим, и когда горный серпантин закончился, то перед ними открылась захватывающая дух панорама гагринской бухты. На склонах гор привольно раскинулась некогда знаменитая советская курортная столица. Жемчужной нитью пенилась кромка прибоя. На нее из буйных субтропических зарослей, подобно океанским лайнерам, белоснежными айсбергами наплывали корпуса санаториев и пансионатов.
Рафик отпустил тормоза, и «горбатый», весело погромыхивая железными внутренностями, покатился к Гагре. Вблизи ее окраины производили удручающее впечатление и напомнили об ожесточенности недавних боев. Ибрагим и Гум вертели по сторонам головами, и к горлу опять подкатил горький ком. Красно-серым оскалом развалин на них снова вызверилась война. Ближе к центру города эти ее уродливые отметины были не так заметны. О былом величии курортной столицы напоминал некогда знаменитый приморский бульвар. Его красоту не смогла разрушить даже война. Сразу за ним началась зона санаториев. Впереди показалась монументальная колоннада времен сталинского ренессанса, и Рафик сбросил скорость. Проехав еще сотню метров, свернул на стоянку и остановился. Бедный «горбатый» жалобно застонал, когда из него, чертыхаясь, выбрался Саша. Вслед за ним вышли Гум с Ибрагимом и потянулись к кошелькам. Но Рафик не хотел даже слышать о деньгах и, прощаясь, попросил:
— Ребята, поскорее прогоните этих гадов.
— Прогоним! — заверил его Саша.
— Только под пули не лезьте. Вам еще жить и жить, — пожелал им вдогонку Рафик и направился к машине.
Проводив его благодарными взглядами, Ибрагим и Гум присоединились к Саше, решительно шагнувшему под арку бывшего санатория «Семнадцатого партсъезда». После освобождения города от грузинских гвардейцев он превратился в пункт сбора и перевалочную базу для сотен добровольцев, стекавшихся в Абхазию со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Теперь в его элитных номерах вместо ухоженных и холеных партийцев из ЦК КПСС жили пропахшие дымом костров и пороха, решительные и немногословные бородачи.
Часовой на входе наметанным глазом определил в новичках своих и после короткого разговора с Сашей вызвал дежурного. Тот, несмотря на отговорки, проводил их в столовую и после завтрака развел по номерам. Ибрагим с Гумом поселились в правом крыле второго этажа, где жили добровольцы-махаджиры.
Распаковав сумки, они, подгоняемые любопытством, вышли в коридор и постучали в соседнюю дверь. Никто не ответил. В следующем номере тоже никого не оказалось, и только в холле им встретилась шумная компания добродушных бородачей. Не понимая по-турецки, они лишь разводили руками и ободряюще похлопывали по плечам. Неугомонный Гум на этом не успокоился и спустился вниз, рассчитывая найти того, кто бы мог помочь. Ибрагим, побродив по пустынным коридорам, возвратился в номер и сел за письмо домой, но так и не нашел нужных слов. Перед глазами стояли разрушенные дома, искромсанные гусеницами машины, детские коляски и расстрелянные памятники. Уверенный стук в дверь заставил его встрепенуться. И когда она распахнулась, то он невольно приподнялся.
Перед ним стоял в ладно пригнанной камуфляжной форме рослый капитан. Под ней угадывалось крепкое и хорошо тренированное тело. В горделивой посадке головы и выверенных движениях чувствовались достоинство и скрытая внутренняя сила. Большая часть лица пряталась за осанистой, отливающей бронзой бородой, а из-под шапки густых и кудрявых русых волос на Ибрагима пытливо смотрели поразительной синевы глаза.
«Даже шведы здесь!» — с удивлением подумал он и еще больше изумился, когда «швед» заговорил на чистейшем турецком со стамбульским диалектом.
— Кавказ Атыршба, — представился капитан, и его суровое лицо согрела теплая и по-детски открытая улыбка.
— Ибо… Ибрагим Авидзба.
— Ты откуда?
— Из Стамбула!
— Значит, земляки! — оживился Кавказ и засыпал Ибрагима вопросами. Несколько минут между ними шел сумбурный разговор, в конце его капитан стал все чаще поглядывать на часы, а затем, бросив оценивающий взгляд на крепкую спортивную фигуру молодого добровольца, пытливо заглянул в глаза и вслух каким-то своим мыслям произнес:
— Говоришь — спортсмен! Мечтаешь увидеть Владислава Григорьевича? — И ошеломил неожиданным вопросом: — А в охрану к нему пойдешь?
— Я… — только и нашелся что ответить Ибрагим.
— Понятно! Тогда собирайся! Я еду в Гудауту, — не стал дожидаться очевидного ответа Кавказ, поднялся из кресла и двинулся на выход.
Потрясенный новостью, Ибрагим не помнил, как спустился во двор, сел в армейский уазик и потом по дороге к Гудауте невпопад отвечал на вопросы Кавказа. Все это время он думал только о том, что скажет при встрече с Владиславом Ардзинбой.
В те апрельские дни штаб председателя Государственного комитета обороны Абхазии напоминал растревоженный муравейник, и им пришлось буквально продираться через «лес» ополченцев. Пропахшие запахом костра и пороха камуфляжки красноречиво говорили о том, что они приехали с фронта. В своих модных джинсах и кроссовках, стильной куртке, купленной в фирменном лондонском магазине, Ибрагим чувствовал себя среди них белой вороной и старался не отстать от Кавказа.
Внушительная фигура нового друга, как ледокол, легко прокладывала путь наверх. На втором этаже стало заметно просторнее, в самом конце коридора их остановил часовой, но, узнав Кавказа, отступил в сторону. Он прошел к двери, обитой коричневой кожей, и оглянулся назад. По его лицу Ибрагим догадался, что сейчас встретится с ним — Владиславом Ардзинбой! Внутри него все затрепетало, а слова, которые еще несколько минут назад он повторял про себя, напрочь вылетели из головы. Кавказ догадался о владевших им чувствах, ободряюще кивнул головой, закинул за спину автомат и постучал в дверь.
— Войдите! — прозвучало в ответ.
Ибрагим на ставших вдруг ватными ногах вошел в кабинет и застыл у порога. Он не замечал ни спартанской обстановки, ни автомата, валявшегося на кресле, ни карты, занимавшей весь стол, и склонившегося над ней высокого, худощавого полковника. Его глаза пожирали того, чей портрет лежал в кармане куртки на сердце, а оно так молотило, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Тот, о встрече с которым три дня назад он даже не смел мечтать, стоял живой — из плоти и крови — всего в нескольких метрах.
Председатель Государственного комитета обороны Абхазии Владислав Ардзинба оторвал взгляд от карты, поздоровался и спросил:
— Как дела, Кавказ?
— Все нормально, Владислав Григорьевич! Прибыл еще один доброволец, земляк из Стамбула Ибрагим Авидзба! — представил тот своего нового друга.
Председатель распрямился, его лицо просветлело, и, не скрывая радости, произнес:
— Доброволец! Из Турции? Молодец! — Энергично пожал руку Ибрагиму и затем поинтересовался: — Аттила Авидзба тебе не родственник?
— Брат! — выпалил Ибрагим.
— Брат! Да, тесен мир! Я с ним познакомился на конференции в Лондоне. Отличный парень и настоящий абхаз!
— Атти тоже много рассказывал о вас, — постепенно приходил в себя Ибрагим.
— Значит, приехал помогать Абхазии? — вернулся к началу разговора Председатель, скользнул цепким взглядом по ладной спортивной фигуре нового добровольца и спросил: — Спортсмен?
— Да! — ответил Ибрагим и поспешил пояснить: — В основном баскетбол и немного волейбол.
— Волейбол!.. — задумчиво произнес Председатель, на его посеревшем от усталости лице промелькнула грустная улыбка, и продолжил: — Хорошая игра, когда-то сам играл, но сейчас, как видишь, у нас здесь другие игры — смертельные игры, но те, кто их затеял, рано или поздно доиграются. Уж что-что, а воевать абхазы умеют!
— Гагра — только начало! — поддержал его седоусый полковник.
— Не сомневаюсь, Султан Асламбеевич, — согласился с ним Председатель и, задержав взгляд на Ибрагиме, неожиданно спросил: — Говоришь, в баскетбол играл? А где?
Он растерянно захлопал глазами, не зная, что сказать. Первым нашелся Кавказ и с жаром заговорил:
— Владислав Григорьевич, Ибо отличный парень! Я из него настоящего воина сделаю!
— Так все-таки где играл? В защите или в нападении? — допытывался тот.
— В нападении! — ничего не мог понять обескураженный Ибрагим.
— В нападении — это хорошо, скоро пригодится! Но сейчас нам нужны защитники. Как, справишься? — И на лице Председателя снова появилась лукавая улыбка.
— Да! — выпалил Ибрагим.
— А оружие в руках держал?
— Приходилось.
— Так… Понятно… — протянул Владислав Ардзинба, и его лицо погрустнело.
— Владислав Григорьевич, научим! — пришел на выручку другу Кавказ и предложил: — Пока пусть со мной побудет и в обстановку войдет.
Тот ничего не ответил и еще раз внимательно посмотрел на друзей. Ибрагим под этим пронзительным взглядом почувствовал себя так, будто его положили под стекло большого микроскопа, и нервно повел плечами. Затянувшейся паузе, казалось, не будет конца, но завершилась она совершенно неожиданным образом.
— Повезло тебе, махаджир, был бы спринтер — ни за что бы не взял, — сказал Председатель, и в его глазах опять заскакали лукавые чертики.
Друзья не знали, что сказать, и растерянно смотрели друг на друга. Первым нашелся Кавказ и с недоумением спросил:
— Это почему же, Владислав Григорьевич?
— Как — почему?! А если придется отступать? Мне же за ним, молодым, не угнаться, — уже откровенно потешался он.
Ибрагим вспыхнул как спичка и с жаром заговорил:
— Я… побегу?! Да я умру за Абхазию! Я…
— Верю! Верю! Но умирать не надо. Абхазии ты нужен живым! — остановил Председатель, сделал шаг навстречу и крепко обнял.
У Ибрагима все поплыло перед глазами. Он уже не помнил, как под руку с Кавказом вышел из кабинета, как спускался по лестнице и оказался во дворе. Всем своим существом будущий телохранитель продолжал оставаться там, в тесном, заваленном картами кабинете Председателя, крепкое рукопожатие которого согревало ладонь. На его лице продолжала гулять блаженная улыбка, а каждая клеточка молодого и сильного тела пела от радости. В Лондоне и Стамбуле о таком счастье он не смел даже мечтать. Все происходящее казалось каким-то фантастическим сном. Ему предстоит стать «тенью» самого Председателя!
Он все еще не мог поверить, теребил Кавказа за рукав и повторял как заведенный:
— Я буду рядом с ним?! Это правда?!
— Правда! Правда! — заверил Кавказ и, мягко подтолкнув к машине, поторопил: — Садись! Сейчас проедем в одно интересное место.
— Какое?!
— Скоро узнаешь, — загадочно улыбнулся он, втиснулся на переднее сиденье УАЗа и спросил: — Эрик, помнишь то место, где на прошлой неделе брали диверсантов?
— Да! — подтвердил тот.
— Тогда чего ждешь? Заводи!
Трудяга армейский уазик сердито фыркнул изношенным двигателем и, выпустив клуб сизого дыма, выехал со двора. Ибрагим откинулся на спинку заднего сиденья и ушел в себя. Он все еще жил впечатлениями от встречи с Председателем и, закрыв глаза, вспоминал каждый жест, каждое произнесенное им слово.
Позади остались окраины Гудауты, и УАЗ, вырвавшись на приморское шоссе, на удивление резво покатил вперед. Перед Новым Афоном они свернули на проселочную дорогу и по разрушенному бомбежками и оползнями серпантину добрались до горной долины. После крутого спуска, сразу за мостом над горной рекой Кавказ распорядился:
— Тормози, Эрик! Приехали!
Взвизгнув тормозами, УАЗ остановился, Кавказ первым вышел на поляну и по едва заметной тропке стал спускаться к реке. Ибрагим с любопытством оглядывался по сторонам и едва поспевал за ним. Попадавшиеся на глаза источенные дождями и ветрами развалины домов говорили о том, что когда-то на этом месте находилось горное село, и вскоре эта догадка подтвердилась.
Кавказ вышел к кладбищу, обогнул свежую воронку и остановился у потемневшей могильной плиты. Ибрагим вопросительно посмотрел на него, а он, ничего не сказав, смахнул с нее опавшие листья и отступил в сторону.
Под лучами солнца проступили едва заметные буквы, и Ибрагим остолбенел. Не веря собственным глазам, он осторожно опустил руку на плиту. Под дрожащими пальцами буквы ожили и заговорили: «Апсар Атыршба, Коса и Арсол Авидзба».
Старые предания, передававшиеся из поколения в поколение в роду Авидзба, сегодня самым непостижимым образом пришли к нему наяву.
Ибрагим, словно живую, нежно погладил плиту и тихо прошептал:
— Я вернулся к вам. Я… Я дома! — А через мгновение из его груди вырвался пронзительный вскрик: — Ты слышишь, даду? Я вернулся! Я вернулся!!!
Суровые горы ожили и ответили на этот зов потомка махаджира раскатистым эхом. Оно еще долго гуляло по склонам Химса, на которых полтора столетия назад стояли насмерть Арсол, Коса Авидзба и Апсар Атыршба, защищая свою землю, свой дом и свою Абхазию.
Глава 2
Вершина горы Химс терялась в густых облаках, а у ее подножия тут и там яркими всполохами разрывали кисельную пелену тумана выстрелы артиллерийских батарей. После двух дней непрерывных и ожесточенных боев с отрядом убыхов, отступившим из урочища в верховьях Большой Лабы, и присоединившимися к ним абхазам войскам экспедиционного корпуса полковника Коньяра в рукопашной схватке удалось выбить их из передовых укреплений и захватить господствующие высоты над селением Гума — этим последним оплотом повстанцев в высокогорной долине реки Гумиста.
С наступлением темноты обе воюющие стороны взяли временную передышку, и лишь артиллеристы капитана Чугунова вместе с саперами не сомкнули глаз. За ночь они успели перетащить горные орудия со старых позиций на новые, и, едва за снежными вершинами Бзыбского хребта забрезжил хмурый рассвет, хрупкую утреннюю тишину взорвали громовые раскаты. Артиллерия прямой наводкой принялась методично бить по сторожевым башням, мельнице и древней крепости, расположенной в центре селения.
Раскатистое эхо выстрелов и разрывы ядер слились в одну зловещую какофонию, заглушавшую рев, рвущийся из каменных теснин непокорной Гумисты. Опытные наводчики знали свое дело, каждый новый выстрел находил очередную цель — и селение на глазах превращалось в руины. Последней пала крепость: ядро угодило в пороховой погреб, заряды сдетонировали — и от чудовищного взрыва, казалось, раскололись сами горы.
Клубы сизого дыма плотным покрывалом окутали объятые пламенем развалины и, подгоняемые порывами ветра, поползли вниз по долине. Чудом оставшиеся в живых жители выбрались из завалов и бросились к реке, ища спасения под ее скалистыми берегами и в лесах у подножия Химса. Вслед им и по восточной окраине селения, где еще продолжали отстреливаться последние защитники, батарея Чугунова дала залп картечью, после которого в нем, казалось, перестало существовать все живое.
Полковник Коньяр, наблюдавший за обстрелом селения с выступа, нависавшего над долиной, резво спустился на поляну и махнул рукой ординарцу. Разбитной боец метнулся в заросли орешника и вывел буланого жеребца. Тот нетерпеливо перебирал передними ногами и яростно грыз мундштук. Коньяр потрепал ухоженную гриву, ординарец подсуетился и подставил под блестящий зеркальным блеском сапог стремя, полковник оперся на плечо и, надсадно крякнув, на удивление легко для своего тучного тела взгромоздился в седло. Вслед за ним к лошадям бросились начальник штаба майор Вронский, начальник разведки ротмистр Блюм, полковой лекарь Федотов и вся остальная полковая верхушка.
Едкий запах пороха и пролитой крови кружил головы и нездоровым румянцем полыхал на щеках офицеров и солдат. В эти последние минуты перед решающей атакой их взгляды сошлись на командире. Опытный вояка, за спиной которого был не один поход под командованием «грозы Кавказа» генерала Ермолова на чеченские и дагестанские аулы и усмирение мятежных убыхов с абхазами в Дале и урочище Мзымты, Коньяр знал, как подавить страх у подчиненных и затем повести на смерть.
Его грузная фигура подобралась, слилась с лошадью и на фоне величественной панорамы гор напоминала Георгия Победоносца. Выдержав паузу, он опустил руку на рукоять сабли и молниеносным движением выхватил из ножен. Отточенный, словно бритва, клинок грозно полыхнул в лучах восходящего солнца. Коньяр приподнялся в седле, его лицо побагровело, и через мгновение из луженой глотки раздался воинственный рык:
— Братушки, я с вами! Разобьем басурмана! Вперед!
— Ура-а-а! — покатилось в ответ.
И еще не успело затихнуть эхо, как над долиной поплыл заливистый, зовущий на смерть звук горна. Вслед за ним под дробный перестук барабана двинулась пехота. Ее тесно сомкнутые цепи сначала медленно, а затем набирая скорость, подобно морским волнам, покатили вниз к объятому пламенем селению.
Не встречая сопротивления, рядовые шли в полный рост, а офицеры, бравируя храбростью, опустили сабли на плечи и не вынимали пистолеты из-за пояса. Перед окраиной селения неумолимое движение хорошо отлаженной военной машины замедлилось и в цепях наступающих стали возникать зияющие провалы. Это чудом уцелевшие после залпов картечи защитники Гума выбрались из-под развалин и, прикрывая бегство женщин, стариков и детей, принялись отстреливаться.
Их слабый ружейный огонь не мог остановить неумолимый накат «русского вала». Артиллерийская батарея капитана Чугунова снова прошлась свинцом по оборонительным позициям и подавила оставшиеся очаги сопротивления. Развалины навсегда погребли под собой последних защитников, и в наступившей пронзительной тишине слышался лишь треск пламени и мерный, неумолимо приближающийся шаг русской пехоты.
Прошла минута-другая — и чуткое ухо Коньяра уловило зарождающийся в глубине западного ущелья грозный гул, на его лице появилась победная улыбка, и он придержал коня. Эта новая и напоминающая сход горной лавины угроза горцам клубами бурой пыли наплывала на долину, а через мгновение лихой свист и рев сотен глоток заглушили все остальные звуки.
Эскадрон есаула Найденова, находившийся в засаде, дождался своего часа и теперь, разлившись лавой по берегу реки, несся на перехват тех, кто уцелел после последнего артналета и искал спасения в лесу за рекой. Впереди, слившись с лошадьми, скакали известные своей удалью казаки из станиц Абинской и Крымской. В развевающихся на ветру бурках они, подобно гигантским птицам, черной стаей стелились над землей.
Расстояние неумолимо сокращалось, и казалось, что ничто и никто не в силах остановить этот безжалостный галоп смерти. Каких-то две сотни саженей оставалось до беспощадной резни, и здесь из теснин южного ущелья вырвался отряд горских всадников. Их было намного меньше казаков, но отчаяние и безумство храбрых множили силы. На полном скаку с поразительной точностью и синхронностью они, перестроившись клином, нацелились на острие «казацкой пики», грозящей метавшимся в панике по берегу реки женщинам, старикам и детям.
Эта захватывающая дух картина стремительно надвигающейся развязки боя заставила Коньяра осадить лошадь и вскинуть к глазам бинокль. Вслед за ним офицеры приникли к подзорным трубам, а пехота сбавила шаг. Вот-вот на их глазах должен был развернуться заключительный и самый кровавый акт драмы человеческой жизни и смерти.
Отряды конников, подобно двум горным потокам, неслись навстречу, чтобы через мгновение схлестнуться в бешеном и безжалостном водовороте сабельной рубки. Топот копыт, храп лошадей, свист рубящих воздух сабель и шашек стоял в ушах прильнувших к холкам всадников. Все они: русские, абхазы, убыхи в эти последние мгновения атаки жили только одним: разорвать, затоптать и изрубить ненавистного врага.
За сотню саженей до казацкой лавы отряд горцев разделился. Первая группа — сабель в двадцать, которую вел за собой Арсол Авидзба, принялась забирать вправо. Его младшие братья Гедлач и Коса старались не отстать от командира отряда убыхов Апсара Атыршбы — эта группа уходила влево. Найденов быстро оценил маневр: своей «вилкой» они пытались разорвать казацкую лаву, задержать наступление и дать уйти за реку тем, кто уцелел после огня артиллерии.
Горцы использовали свой единственный шанс и с презрением к смерти готовы были пожертвовать собою. Их искаженные лютой ненавистью и неимоверным напряжением лица говорили сами за себя. Есаулу уже ничего другого не оставалось, как только положиться на сметку и боевой опыт своих бойцов. В следующее мгновение казаки и горцы сшиблись в устрашающем ударе, обрушившем на землю первую цепь и исторгнувшем из сотен глоток дикий вопль. Он заглушил звон клинков, треск костей, предсмертные стоны раненых и ржание лошадей. Началась отчаянная сабельная рубка.
Первыми схлестнулись с казачьим арьергардом воины Апсара Атыршбы и в считаные минуты изрубили его. Второй отряд горцев ударил в середину лавы и попытался рассечь ее надвое. Арсол Авидзба, напоминая стенобитный таран, саблей и кинжалом прокладывал себе путь к есаулу Найденову. Судороги сводили его побагровевшее от напряжения лицо и выдавливали глаза из орбит. Правая рука, сжимавшая тяжелую самурзаканскую саблю, пошла узлами вздувшихся вен, левая взметнула кинжал. Казацкая шашка с пронзительным визгом скользнула по лезвию кинжала и отлетела в сторону. Испытанным приемом Арсол обезоружил бородатого урядника и со всего плеча одним ударом сабли раскроил надвое.
До Найденова оставалось несколько саженей, и здесь сокрушительный удар грудью громадного жеребца в бок легкого кабардинца чуть не вышиб Арсола из седла. Он выронил кинжал и едва успел ухватиться за луку седла. Этого хватило на то, чтобы казаки взяли его в кольцо. Острие пики, разодрав черкеску и оцарапав правый бок, прошло мимо. Краем глаза он заметил сверкнувшую справа шашку и, изогнувшись в немыслимом прогибе, в последний момент вскинул саблю. Сталь о сталь брызнула искрами, и острая боль, полоснувшая по левому плечу, замутила глаза Арсола. В меркнущем сознании оскаленным пятном возникло чье-то белобрысое лицо, и в последнем отчаянном броске он вонзил саблю во вдруг ставшее мягким и податливым, будто тесто, чужое тело.
Рядом, окруженный со всех сторон, отчаянно рубился Дженгиз Гума. Подняв коня на дыбы, он, извиваясь, как угорь, уклонялся от тычков пик и бешено вертел саблей, пока ее не вышибли из руки. Оставшись с одним кинжалом, продолжал биться до тех пор, пока три пики не пронзили его и не вырвали из седла. Окровавленное и изрубленное тело зависло в воздухе, а затем рухнуло под копыта лошадей.
Осатанев от ярости и боли, казаки и горцы кололи и рубили по чему попало: по спинам, рукам, головам и лошадям. Рычащий и хрипящий клубок из человеческих тел и туш лошадей скатывался все ниже к реке. Силы были явно неравны, горстке горцев, продолжавшей оказывать отчаянное сопротивление, ничего другого не оставалось, как только умереть стоя, и они сомкнули каре. Найденов, решивший понапрасну не терять казаков — от эскадрона осталось уже меньше половины, крикнул:
— Хлопцы, в круг!
Казаки отхлынули назад и ощетинились остриями пик. Прошла секунда-другая. В наступившей тишине были слышны лишь предсмертные стоны раненых и тяжелое дыхание живых. Десяток горцев плотнее сомкнул свои ряды. С одними кинжалами и изломанными саблями, едва стоящие на ногах, они стойко держались до конца и, кажется, готовы были драться голыми руками. Их мужество тронуло каменное сердце Найденова. Он опустил шашку и коротко обронил:
— Вы заслужили жизнь. Сложите оружие и можете идти!
Но никто из горцев не шелохнулся.
— Сложите оружие и можете идти! — повторил есаул.
— Идти? Куда? — прозвучал гневный выкрик.
— Собака, ты убил наших детей!
— Ты растоптал нашу землю!
— Кто вернет моего брата?!
— Кто?!!
Размахивая обломками сабель и кинжалами, горцы бросились в свою последнюю атаку.
— Поднять басурманов на пики! — взорвался Найденов.
С криками «Смерть шакалам!» те искали смерти на своих и чужих штыках.
Отчаянная попытка спасти их, предпринятая отрядом Апсара Атыршбы, не успев начаться, провалилась. Подоспевшая на помощь казакам пехота встретила их ураганным огнем, и, потеряв шестерых убитых, они вынуждены были отступить к реке. Вслед им один за другим следовали ружейные залпы. Пули с пронзительным визгом крошили гранитные берега и со змеиным шипением шлепались в кипевшую пенными бурунами Гумисту. Река, словно живая, рыдала и стенала по своим погибшим сыновьям, столетиями оберегавшим ее и покой величественных гор…
Рев воды на порогах вышедшей из берегов Гумисты вернул Ибрагима и Кавказа из далекого прошлого к настоящей действительности. Они молча возвратились к машине и потом всю дорогу до Гагры были погружены в мысли об удивительных поворотах судьбы в жизни собственной и своих далеких предков. Обычно разговорчивый и не лезущий за словом в карман Эрик понимал их состояние и не стал донимать вопросами.
В Гагру они въехали, когда на улице сгустились вечерние сумерки и серая громада бывшего санатория «Семнадцатого партсъезда», ставшая перевалочной базой для добровольцев, напоминала собой затаившийся в засаде морской рейдер. Лишь кое-где пробивавшиеся из-за неплотно задернутых штор слабые полоски света от керосиновых ламп и самоделок, собранных из отстрелянных гильз пулемета ПКТ, говорили опытному взгляду, что эта тишина обманчива и в любой момент может взорваться боевыми командами, лязгом затворов и кинжальным автоматным огнем.
Обжигающее дыхание близкой передовой ощущалось во всем. В наглухо заблокированных ломом чугунных воротах. В стволе пулемета, хищно нацелившемся из укрытия на стоянку и дорогу. Во внимательном взгляде часового, пропустившего их через КПП лишь после того, как Кавказ показал «пропуск-вездеход». Время ужина подходило к концу, и они не стали подниматься в номер, а направились в столовую.
В этот поздний час в ней было немноголюдно. В углу, сбившись в кучку, о чем-то оживленно говорили четыре бородача. За стойкой устало погромыхивала посудой повариха. Ибрагим вслед за Кавказом и Эриком прошел к раздаче, взял хачапури, акуд и, налив стакан обжигающего чая, подсел к ним за столик. Ужин ему пришлось заканчивать в одиночестве: едва они склонились над тарелками, как в дверях появился дежурный и, отыскав взглядом Кавказа, махнул рукой. Его срочно вызывали в штаб, в Гудауту. Разговор о предстоящей службе в охране Владислава Ардзинбы, на который рассчитывал Ибрагим, так и не состоялся. Проглотив на ходу по куску хачапури, Кавказ с Эриком поспешили к машине.
Проводив их, Ибрагим не стал возвращаться в столовую — поднялся в номер, и здесь его ждал очередной, на этот раз горький сюрприз. Сумки Гума на месте не оказалось, в стенном шкафу тоже было пусто. Его растерянный взгляд пробежал по кровати, стулу и остановился на столе. На нем белел клочок бумаги, вырванный из блокнота. Он склонился над ним, и перед глазами заплясали строчки, написанные торопливой рукой:
«Ибо, извини, что не смог дождаться. Уезжаю под Верхнюю Эшеру. До встречи на фронте! Гум».
«До встречи на фронте!» — эта короткая фраза друга подняла в душе Ибрагима бурю противоречивых чувств.
«Как?!.. Почему без меня?» — терзался он, и в разыгравшемся воображении рисовалась картины одна ужаснее другой.
Добродушный балагур Гум, до этого дня не державший в руках даже рогатки, оказался в самом пекле войны. Верхнюю Эшеру день и ночь «утюжила» грузинская авиация и артиллерия. После налетов там, казалось, не могло уцелеть ничего живого. Война никому не делала снисхождения, и на ее безжалостных весах жизни обстрелянного бойца и зеленого новобранца имели одну и ту же цену. Кровавый Молох безжалостно пожирал и тех и других.
Ибрагиму уже чудился выматывающий душу и вгоняющий в землю вой мин. В ушах зазвучали стоны и крики раненых и умирающих. Не находя себе места, он метался по комнате и всем своим существом рвался туда — к Гуму, на обрывистые берега Гумисты.
«А если тебя убили?!» — От одной этой мысли ему стало не по себе, и нервный спазм перехватил горло. Холодные, мрачные стены давили подобно невидимому прессу, ему было невыносимо оставаться здесь. Горечь и обида гнали вперед и, поддавшись порыву, он выскочил в коридор, скатился по лестнице и остановился на берегу, когда волна окатила фонтаном соленых брызг.
У ног тревожно рокотал морской прибой, пронизывающий северный ветер наотмашь хлестал по лицу, в кроссовках хлюпала вода, но он ничего не чувствовал и не замечал и, словно лунатик, метался по набережной. Ему приходилось разрываться между жестоким выбором: службой в охране Владислава Ардзинбы — того человека, к кому стремился, с кем мечтал быть рядом, и верностью старой дружбе.
В номер он возвратился с твердым намерением при первой же встрече с Кавказом сообщить о своем решении — немедленно отправиться на фронт и там присоединиться к Гуму. Но на следующий день ни утром, ни в обед Кавказ не появился, тогда он решил действовать сам. Комендант, немало повидавший на своем веку, в глубине глаз которого пряталась затаенная грусть, терпеливо выслушал. Он не знал ни турецкого, ни абхазского, но по горящим глазам Ибрагима понял, чего тот хочет, и пообещал включить в ближайшую команду добровольцев, отправляющуюся на гумистинский фронт. Приободрившись, Ибо возвратился в номер и принялся паковать сумку. За этим занятием его и застал Кавказ. Пришел он не с пустыми руками, за плечами висел туго набитый рюкзак. Ибрагим вяло пожал ему руку и, пряча глаза, не решался сказать главного. От проницательного взгляда Кавказа не укрылось его состояние.
— Ибо, что случилось? — насторожился он.
— Я… Я решил… — пытался тот найти нужные слова.
— Чего решил?! Все уже решено!
— Гум ушел на фронт, — убито произнес Ибрагим.
— С кем?
— Не знаю.
— Куда?
— Под Верхнюю Эшеру.
— В чей батальон?
— Если бы я знал, — глухо произнес Ибрагим и положил на стол записку Гума.
Кавказ прочитал, все понял и, смягчившись, сказал:
— Не переживай, с ним все будет нормально, там сейчас тихо. Завтра узнаю, где воюет.
— Вот-вот! Он воюет! А я… — И тут Ибрагима прорвало: — Он на Гумисте, а я здесь в столовке подъедаюсь!.. Я… Я трус!
— Трус?! Перестань молоть ерунду! Трус сидит у камина, а ты здесь! Ты настоящий боец! — пытался переубедить его Кавказ.
— Боец!.. Боец — это Гум, а я… — Ибрагим потерянно махнул рукой и отвернулся к стене, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы.
Кавказ нахмурился и решительно отрезал:
— Все, Ибо, хватит сопли распускать! Война еще не закончилась и на твой век хватит!
Сбросив с плеч рюкзак, он распорядился:
— Переодевайся, и поживее! Через пять минут жду в машине! Пора начинать службу!
— Ибрагим не шелохнулся и с трудом выдавил из себя:
— Я… Я, наверное, не смогу.
— Что-о?! Ты что несешь?! Что я скажу Владиславу Григорьевичу?! — опешил Кавказ.
Ибрагим страшился оторвать взгляд от пола и упрямо твердил:
— Я решил. Я еду на фронт к Гуму! Я еду…
— На фронт?.. А мы что, по-твоему, здесь штаны протираем?!
— Прости, Кавказ, но я… — лепетал Ибрагим.
Тот сурово сдвинул брови, ничего не сказал и тяжело опустился на жалобно скрипнувший стул. В наступившей, казалось, звенящей от напряжения тишине стало слышно, как под порывами ветра в соседнем номере жалобно дребезжала распахнутая форточка, а неисправный кран в душевой отзывался приглушенным клекотом.
Ибрагим съежился, ожидая град упреков, но прошла секунда, за ней другая — и ничто не нарушило этой, вдруг ставшей для него невыносимо долгой паузы. Он вздрогнул, когда рука Кавказа коснулась плеча, и поднял голову. Их взгляды встретились, и из груди Ибрагима вырвался вздох облегчения. В печальных глазах друга не было и тени упрека. Потеплевшим голосом он сказал:
— То, что на фонт рвешься, молодец! Значит, я в тебе не ошибся. Повоевать ты всегда успеешь, а теперь поговорим спокойно.
Ибрагим обмяк и присел кровать. Кавказ пробежался по нему внимательным взглядом и, словно примеряясь к разговору, спросил:
— Ибо, ответь, нет, не мне, а самому себе на один вопрос: почему ты рвешься на фронт?
— Как — почему?! Я приехал воевать, а не в тылу отсиживаться!
— Та-а-ак. А мы что, по-твоему… — и здесь глаза Кавказа потемнели, — в охране Владислава Григорьевича с жиру бесимся?
— Ну что ты! У меня и в мыслях такого не было! — смешался Ибрагим.
— Было или не было — не в том дело. Ты полагаешь, что только Гум жизнью рискует, а в тылу, в охране, жизнь — малина: жрать от пуза и пить в три глотки. Так ведь? Говори как есть!
— Ну зачем так, Кавказ?!
— И все-таки считаешь, что тут «теплое место», — с горечью произнес он, его лицо затвердело, а в голосе появился металл: — Да, на фронте смерть ходит рядом! Да, каждый день на Гумисте умирают ребята. Но не только там, а и в Афоне и Ткуарчале гибнут люди.
— Но на фронте я хоть какую-то пользу принесу, а тут что?! — выдавил из себя Ибрагим.
— Пользу, говоришь? А какая польза от смерти? Разве сюда едут умирать?
— Нет, конечно, но если надо, то продать жизнь подороже, а не подохнуть, как баран, под дурной бомбой.
— Продать жизнь? А кто знает ей цену? Кто?!
Вопрос, похоже, Кавказ задавал больше самому себе. Годы службы в турецком спецназе для капитана Атыршбы сложились в одну бесконечную череду боевых операций и боев в Ираке и Афганистане, которые оплачивались только одной ценой — жизнями врагов и товарищей. Он давно уже мыслил сухими цифрами безвозвратных потерь и невосполнимого ущерба противнику. Но здесь, на родине предков, рядом с наивными романтиками и необстрелянными мальчишками, готовыми без колебаний умереть только за одно слово — «Абхазия», он, давно задолжавший смерти, может быть, впервые за все время так остро ощутил цену жизни и с непривычной мягкостью произнес:
— Ибо, с жизнью, а тем более своей, нельзя легко расставаться. Никому не дано определять ее цену!
Ибрагим молчал, не зная, что ответить, и за него сказал Кавказ:
— Нет и не будет таких весов, на которых можно измерить пусть одну, даже самую маленькую человеческую жизнь. Господь так устроил мир, что мы приходим в него для того, чтобы, когда придет время, передать ее другому. Мы даем жизнь детям, а они — нашим внукам. Но сегодня, — и в его глазах появился стальной блеск, — мы не вольны распоряжаться своими жизнями, они принадлежат только ей — Абхазии!
— За нее я и приехал воевать, и потому… — снова оживился Ибрагим.
— Говоришь, за Абхазию? А чем она является для тебя? — перебил Кавказ.
И этот, казалось бы, простой вопрос, на который Ибрагим давно дал себе ответ, здесь, в самом сердце Абхазии, где полтора столетия назад Арсол, Коса и Гедлач Авидзба, не щадя себя, сражались за ее свободу, снова поднял в душе юноши бурю чувств. За два последних дня ему пришлось пережить столько, сколько не выпадало за предыдущие девятнадцать с половиной лет. В них спрессовались вся его жизнь и память сотен тысяч махаджиров. Он задумался, пытаясь найти ответ: «Действительно, чем там, в далеком Стамбуле и Лондоне, была для него Абхазия?.. Печальной старой сказкой, передававшейся из поколения в поколение?.. Терра инкогнита?.. Прекрасной и несбыточной мечтою?.. Мечтою?!»
— Мечтою! Именно мечтою! — вслух произнес Ибрагим.
— Пожалуй, так! — согласился Кавказ, суровая складка на его лбу разгладилась, а в голосе опять зазвучали теплые нотки. — Недавно для меня, так же как вчера для тебя, она была несбыточной. Но сегодня мы здесь. И пусть мы вернулись не под звуки фанфар, а под грохот разрывов, это уже не важно. Мы дома!
— Дома! — повторил Ибрагим.
— И кто нам его вернул?
— Кто?! Владислав Григорьевич! — вырвалось у Ибрагима, и дальше, не стесняясь своих чувств, он с жаром заговорил: — В Стамбуле и потом в Лондоне мы молились на него. Перед тем как поехать на учебу, я зашел в «Абхазский комитет» и выпросил у Володи Авидзбы портрет Владислава Григорьевича. Потом, в Лондоне, повесил у себя в комнате. Что тут творилось! Ребята к нам, как в мечеть, ходили. Он стал для нас всем!
— Для меня тоже! — живо поддержал Кавказ и продолжил: — Время и Господь избрали его для Абхазии. Вместе с ним мы победим или умрем! Кто раньше знал или слышал про Абхазию? Да никто, кроме самих абхазов, а сейчас про нее говорит весь мир. Для тебя, меня и всех нас Владислав Григорьевич больше, чем отец и мать, — он для нас все! Не защитим его — потеряем себя и Абхазию!
— Я это понимаю, Кавказ! Но что я умею?.. Да ничего! Если и держал винтовку в руках, то только в тире, — с горечью произнес Ибрагим.
— Винтовка, пистолет… Разве в них дело?
— Я и приемов не знаю.
— Приемы? На войне быстро учатся и не такому! В тебе есть другое — дух, а это самое главное. Я уверен, ты не дрогнешь и пойдешь под пулю, если какая-то сволочь поднимет на Владислава Григорьевича руку. А принять смерть в глаза — это потяжелее, чем пойти в атаку. На фронте даже в самом безнадежном бою есть шанс уцелеть, а у телохранителя Владислава Григорьевича его нет и не может быть. Жизнь телохранителя принадлежит только ему! Ты понял — только ему!
— Я… Я постараюсь! — дрогнувшим голосом произнес Ибрагим.
— Вот и договорились! — закончил этот необычный разговор Кавказ, дружески потрепал по плечу, а затем, загадочно улыбнувшись, развязал тесемки на рюкзаке и предложил: — Примерь гардеробчик!
Ибрагим подхватил с пола рюкзак и вывалил содержимое на кровать. В нос шибануло резким запахом нафталина и вещевого склада. Не обращая внимания, он сбросил на стул куртку, стащил джинсы и принялся примерять на себя новенькую военную форму.
Десантная камуфляжка сидела на нем как влитая, правда, ботинки-берцы оказались великоваты, а кепка едва держалась на гриве волос, но эти мелочи мало смущали. Он уже чувствовал себя военным, сгреб в кучу куртку с джинсами, запихнул на верхнюю полку шкафа и повернулся к зеркалу. На него смотрел настоящий боец, который не выглядел бы белой вороной среди обстрелянных ополченцев. Кавказ тоже остался доволен, но легкая тень на лице не укрылась от Ибрагима.
— Что-то не так? — насторожился он.
— Сам не пойму. С размером вроде не ошибся, но вот кепка и…
— Все нормально! У тебя глаз — алмаз.
— Алмаз, говоришь? Как бы этот глаз не подбил Владислав Григорьевич!
— …Владислав Григорьевич?! За что?
— Будет за что! У меня самого руки чешутся твою гриву «под ноль» вывести.
— Какая грива?! — оскорбился Ибрагим (в Лондоне она была предметом его гордости) и с возмущением воскликнул: — Посмотри вокруг! У некоторых бороды длиннее!
— Борода?.. М-да. Не знаю, не знаю, но твоя грива… — Кавказ с сомнением покачал головой и уже серьезно сказал: — Пойми, Ибо, охрана Председателя — это лицо Абхазии, а оно, сам понимаешь, должно внушать уважение!
Ибрагим снова посмотрел в зеркало, провел рукой по пышной копне волос и с грустью произнес:
— Сегодня не будет!
— Тогда все в порядке! — подвел итог «строевого» смотра Кавказ.
— Ну нет, так не пойдет! А где пистолет, где автомат? — расхрабрился Ибрагим.
— Ишь какой шустрый, не все сразу.
— Интересно получается, как под бритву пустить — так пожалуйста. Нет, я на такое не согласен!
— Потерпи, палить — дело нехитрое, — и, улыбнувшись, Кавказ распорядился: — Ладно, собирайся, может, успеем на склад, там получишь свой автомат.
— Едем! Я готов! — загорелся Ибрагим и первым шагнул к двери.
На стоянке перед санаторием их поджидал уазик с Эриком. Поздоровались они как старые приятели, но поговорить не успели, Кавказ поторопил с отъездом:
— Эрик, гони на оружейный склад, но сначала к Ирфану!
Это имя ничего не говорило Ибрагиму, а помрачневшие лица Кавказа и Эрика не располагали к расспросам. Он забрался на заднее сиденье и, забившись в угол, молча наблюдал за дорогой. Они выехали из центра, и война вновь напомнила о себе. По сторонам мелькали изрешеченные пулями и осколками снарядов стены заброшенных домов. Подобно гнилым зубам торчали из густых зарослей инжира и орешника обугленные остовы торговых палаток, ближе к окраине все чаще попадались искореженные и смятые, словно консервные банки, бэтээры, легковушки и бочки из-под кваса. Порой трудно было определить, где начинались одни и заканчивались другие улицы, но Эрик как-то ухитрялся находить проходы в этом лабиринте смерти.
Очередной завал преградил дорогу, и дальше пришлось идти пешком. Метров через шестьдесят они выбрались на небольшой пятачок. Кавказ остановился перед воронкой, пригнул колено, сдернул с головы кепку и поник в поклоне. Ибрагим понял все без слов и опустился рядом.
— Здесь мы потеряли Ирфана. Накрыло снарядом, — дрогнувшим голосом произнес Кавказ и, справившись с минутной слабостью, с ожесточением произнес: — Мы отомстим этим сволочам! Будем бить, пока их поганого духа не останется! — И его кулак погрозил невидимым врагам.
— Я все… — задохнулся Ибрагим от переполнявших его чувств.
— Мы никому не отдадим нашу Абхазию! Она будет свободной! — принял у него эту необычную присягу Кавказ, поднялся с колена и направился к машине.
Всю дорогу до оружейного склада Ибрагиму не давали покоя мысли о судьбе Ирфана. Война безжалостно оборвала жизнь махаджира, и, как бы горько это ни было осознавать сегодня, завтра она возьмет еще не одну и, возможно, его жизнь. Проницательный Кавказ догадывался, что творилось в душе друга, не тревожил вопросами и хранил молчание.
Тем временем Эрик, продравшись через очередной завал, остановился перед наспех сооруженным из проволочных ежей заграждением и нажал на сигнал. Из покосившейся деревянной будки, будто черт из табакерки, выскочил часовой, угрожающе повел стволом автомата, но, увидев в руке Кавказа «пропуск-вездеход», раздвинул ежи и запустил машину во двор.
На входе в склад их встретил его хозяин, по-приятельски поздоровался с Кавказом и без лишних слов повел в подвал. В тусклом свете керосиновых ламп сиротливо лежало на стеллажах не больше трех десятков автоматов. В деревянных и картонных коробках горками «маслят» были насыпаны патроны, отдельно россыпью валялись гранаты.
Кавказ поскучневшим взглядом пробежался по ним и с разочарованием произнес:
— Да, Зурик, сегодня у тебя негусто.
— Все, что осталось! — развел руками тот.
— И в заначке нет?
— Клянусь, Кавказ. До вас были ребята из Адыгеи и выгребли все подчистую.
— Ладно, посмотрим, что есть, — оставил он Зурика в покое и принялся осматривать оружие.
Свой выбор остановил на стареньком, с деревянным прикладом автомате Калашникова. Повертел в руках, щелкнул затвором, потом заглянул в ствол и предложил:
— Бери, Ибо, и не смотри, что не новый, зато надежный. В нужную минуту не подведет.
— Хорошая машина! Я сам пристреливал. Кладет все в десятку, — подтвердил Зурик.
— Но магазин мне не нравится, — поморщился Кавказ и отложил в сторону.
— Магазин как магазин.
— Тебе что, жалко? Дай другой!
Зурик пожал плечами, заглянул под стеллаж и вытащил коробку с магазинами. Кавказ склонился над ней, а Ибрагим уже ничего, кроме автомата, не видел. Впервые в своей жизни он держал в руках знаменитый «калаш». Холод металла будоражил и волновал кровь, палец лег на спусковой крючок, но бдительный Эрик предостерег:
— Стой, Ибо! А если патрон в патроннике?
Он поспешно отдернул руку. Кавказ снисходительно улыбнулся и спросил:
— Ну что, берем?
— Да!
— А на кого записать? — снова оживился Зурик и потянулся к журналу регистрации.
— Ох и бумажная ты душа, Зурик! Пиши на меня! — распорядился Кавказ и затем поинтересовался: — А пистолеты подходящие есть?
— Для тебя — нет. Четыре «макарова» и один ТТ — все, что осталось, и те в хреновом состоянии…
— Нам хлам не нужен! — отказался Кавказ, решительно расстегнул кобуру, достал пистолет и предложил: — Забирай, он твой, Ибо! Итальянская «беретта» — безотказная машина.
— Я… Я не могу! А ты? — замялся тот.
— Бери-бери! На мой век их хватит.
— Ему еще «ручник» — и настоящий Рэмбо, — хмыкнул Зурик.
— Без америкосов обойдемся. В Голливуде пусть сами воюют! — отрезал Кавказ и потребовал: — А теперь сыпь патроны и не жмись!
— Для тебя, Кавказ, ничего не жалко! Бери, сколько унесешь! — расщедрился Зурик.
Эрик не стал дважды ждать приглашения и принялся горстями пересыпать патроны из ящика в рюкзак.
— Хватит, оставь другим! — остановил его Кавказ и, перекинувшись на прощание парой шуток с Зуриком, двинулся на выход.
Ибрагим, не чуя под собой ног от радости, шел за ним и потом в машине не выпускал из рук свое первое боевое оружие. Его пальцы касались ствола, затвора. Холод металла будоражил кровь, которая ярким румянцем проступала на щеках.
— Что, Ибо, не терпится проверить? — понял Кавказ его состояние.
— Если можно, — живо откликнулся он.
— А ты как считаешь, Эрик?
— Надо, чего мучить парня! — поддержал тот.
— Тогда ищи место.
Эрик завертел головой по сторонам и, недолго думая, свернул в первый попавшийся проулок и проехал на пляж.
— Хорош, тормози! — остановил его Кавказ.
Они вышли из машины. Кавказ пробежался взглядом по берегу, остановился на рекламном щите метрах в тридцати, взял автомат у Ибрагима, отсоединил магазин и распорядился:
— Эрик, тащи патроны!
Тот не стал размениваться на мелочи и принес рюкзак.
— Тебе дай волю — целый склад припрешь, — пошутил Кавказ и, зачерпнув горсть патронов, принялся снаряжать магазин.
Ибрагим с завистью следил за тем, как сноровисто работали его руки, и сгорал от нетерпения повторить все сам. Наконец магазин с сухим лязгом проглотил последний патрон. Кавказ одним неуловимым движением примкнул его к автомату, передернул затвор и коротко обронил:
— Запомни первое правило, Ибо: на операции в патроннике всегда должен быть патрон.
— А какое второе? — торопил со следующим Ибрагим.
— Второе?.. Сейчас увидишь!
Руки Кавказа взлетели вверх, и автоматная очередь взорвала сонную тишину пляжа. Щит брызнул фанерными щепками и на нем серой сыпью проступила латинская «V».
— Здорово! — восхитился Ибрагим и поспешил с ответом: — Теперь знаю второе правило: надо стрелять лучше, чем враг!
— И главное — первым! — поправил Эрик.
— «Первым» годится на фронте — там ты сам за себя, но не в охране. Здесь все иначе: надо хоть на секунду, но опередить врага, — не согласился Кавказ.
— Так и я о том же. С покойником оно как-то спокойнее разговаривать, — отшутился Эрик.
— Не совсем так.
— А как еще?
— Вычислить киллера раньше, чем он подумает стрельнуть, — опередил Кавказа с ответом Ибрагим.
— Молодец! — похвалил он и продолжил: — Но прежде чем палить, надо успеть прикрыть того, кого охраняешь. А это даже самому смелому сделать непросто. Все мы из крови и плоти, а когда смерть смотрит в лицо, то тут работают рефлексы. Сумеешь их победить — и тогда твое место в охране.
— Кто с этим спорит. Но дохляки с железной волей в охране тоже не нужны, — гнул свое Эрик.
— Если думаешь, что размер бицепса на скорость пули влияет, то ошибаешься, — усмехнулся Кавказ и затем сказал как отрезал: — Запомни, Ибо, для телохранителя главное — мозги и воля!
— Уже запомнил! — заверил он и, помявшись, спросил: — Кавказ, а мне можно пострелять?
— Попробуй, — великодушно разрешил он и распорядился: — Эрик, отсыпь десяток и снаряди магазин.
— Я сам, — вызвался Ибрагим.
— Валяй! — махнул рукой Кавказ.
Эрик достал из рюкзака горсть патронов, и Ибрагим, обдирая пальцы об острые края магазина, вложил в него патроны, примкнул к автомату и вскинул к плечу. От волнения рекламный щит поплыл перед глазами, но холод металла вернул спокойствие и уверенность. В прицеле появилась буква «V», стараясь не сорвать курок, он плавно выбрал свободный ход и нажал на спуск. Автомат содрогнулся и норовил вырваться из рук. Плотнее прижав его к плечу, Ибрагим не терял цели и плавно давил на спусковой крючок. Затвор лязгнул, под ноги шлепнулась последняя гильза, и на рекламном щите вокруг буквы «V» образовался неровный круг.
Эрик присвистнул, а Кавказ с удивлением произнес:
— Ну ты даешь! А чего прибеднялся?
— Случайно, — скромничал Ибрагим и, не скрывая радости, попросил: — Можно еще?
— На сегодня хватит, а то у Эрика глаза на лбу так и останутся, — пошутил Кавказ.
Тот добродушно рассмеялся и, затянув лямку на рюкзаке с патронами, понес к машине. Ибрагим, гордый от похвалы, чувствовал себя на седьмом небе и потом в машине, блаженно улыбаясь, поглаживал, как живого, автомат. Невольная вина, которую до сегодняшнего дня он испытывал перед Гумом, ушла из сердца, и в нем заговорила гордость за то, что в ближайшее время ему предстоит защищать самого Владислава Ардзинбу.
Весь следующий день он провел за тем, что разбирал и собирал автомат и пистолет. К вечеру ему уже не составляло большого труда проделывать все это с завязанными глазами. Строгий экзаменатор Кавказ остался доволен результатом, и два следующих дня учил премудростям профессии телохранителя.
В среду, как обычно, после завтрака Ибрагим спустился к морю, забрался в дальнюю беседку и принялся штудировать написанный от руки и затертый до дыр конспект — пособие для телохранителя. Здесь его и нашел Кавказ. Он был немногословен и, коротко поздоровавшись, спросил:
— Ты готов ехать?
— Куда?
— На полигон!
— Прямо сейчас?! — обрадовался Ибрагим.
— Да! Считай, что теория закончилась! — подтвердил Кавказ и поторопил: — Только шустрее, одна нога здесь, а другая там. У меня мало времени.
— Я сейчас, только сбегаю за автоматом.
— Он не нужен, возьми только пистолет! — крикнул вдогонку Кавказ.
Ибрагим, как на крыльях, влетел в номер, схватил пистолет, кубарем скатился по лестнице и понесся к стоянке. Там поджидал УАЗ, за рулем находился Эрик.
— Привет, утюг не надоело держать? — начал он разговор с шутки.
— Тоже мне снайпер, давай на стрельбище! — оборвал его Кавказ.
— В корову, тем более соседа, точно попаду, — беззлобно огрызнулся Эрик и тронул машину.
Ехать пришлось недолго, и то, что Кавказ назвал стрельбищем, оказалось полуразрушенным то ли спортзалом, то ли клубом. Повсюду в коридорах и комнатах валялись поломанные стулья, обрывки волейбольных сеток и куски ваты. Не без труда они добрались до главного зала, служившего тиром. Об этом говорили противоположная стена, вся исклеванная пулями, и десяток наспех сколоченных фанерных щитов. На них неумелой рукой были намалеваны цветным мелом уродливые рожи, круги и квадраты.
Эрику не требовалось давать команды, он знал, что делать, и вывалил из сумки на чудом сохранившийся колченогий стол пачки с патронами. Кавказ не стал ждать, когда он их распакует, и распорядился:
— Заряжай сам! Шестнадцать выстрелов на шестнадцать секунд! Стреляешь только по круглым мишеням и рожам!
Ибо взял горсть патронов и принялся загонять в магазин, но они выскальзывали из пальцев и никак не хотели попадать в гнездо.
— Легче, не дави так! — посоветовал Кавказ.
Ибрагим ослабил нажим, и дело пошло быстрее. Второй магазин без задержек один за другим проглотил все восемь патронов и легко вошел в рукоять пистолета. Большой палец лег на предохранитель, а глаз нашел мушку.
— Огонь! — хлесткая команда подбросила его руку.
Гулкое эхо выстрелов пошло гулять по залу, и, когда последний раз лязгнул затвор, стрелка часов отсчитала тринадцать секунд. Все пули легли в цель.
— Молодец! Продолжай в том же духе! — остался доволен результатом Кавказ и решил усложнить упражнение.
Он потянул истрепанную веревку — и следующие три мишени суматошно задергались. Ибрагим повел пистолетом и нажал на спусковой крючок, фанерная щепа и кирпичная крошка пыльным облаком окутали стену, и, когда оно рассеялось, все увидели, насколько плачевен был результат.
— Не суетись. Суета нужна при ловле блох. Пошли на следующий круг, — не давал передышки Кавказ.
Ибрагим снова и снова повторял упражнение, но с каждым разом «беретта» становилась все более непослушной, а пули все чаще уходили «за молоко». Вскоре от напряжения глаз начал замыливаться, указательный палец не чувствовал ход спускового крючка, а ствол «клевал» при каждом выстреле. После очередной «пустой» серии он с грустью посмотрел на почти целехонькие мишени, потом на посуровевшего Кавказа, и с горечью произнес:
— Совсем не идет!
— Спуск не ловишь, — заключил он.
— Сам чувствую, но ничего поделать не могу! Палец как деревянный!
— Тогда перерыв! — остановил тренировку Кавказ.
Передернув затвор, Ибрагим нажал на спусковой крючок и, убедившись, что в патроннике не осталось патрона, поставил пистолет на предохранитель, опустил в кобуру и потянулся к новым мишеням.
— Оставь, мы с Эриком справимся! Пойди на улицу проветрись! — предложил Кавказ.
Через пролом в стене он выбрался во двор, поискал подходящее место, остановился на штабеле досок и прилег на них. Шершавая поверхность слегка покалывала тело через летнюю камуфляжку, но Ибрагим не обращал внимания, закрыл глаза и попытался расслабиться. Но круглые и квадратные силуэты мишеней по-прежнему крутились перед глазами в нескончаемом калейдоскопе, а указательный палец продолжал давить на спусковой крючок. Конец этому положил Эрик.
— Ибо, иди! У нас все готово! — позвал он.
Вслед за ним из пролома в стене показался Кавказ. Ибрагим спрыгнул на землю, потер виски, прогоняя усталость, и подошел к ним. Эрик подал пистолет со снаряженным магазином. Он загнал его в рукоять, передернул затвор и вопросительно посмотрел на Кавказа.
— Новое упражнение. Пять мишеней. Все в разных местах. Действуй быстро и, главное, без суеты! Даю семь секунд! — пояснил он и дал команду: — Пошел!
Ибрагим выбросил руку с пистолетом вперед, метнулся в проем и, уходя от выстрелов воображаемого противника, прижался к выступу в стене. В запасе оставалось чуть больше четырех из отпущенных семи секунд. Палец начал выбирать свободный ход курка и остановился. Ему стало не по себе, поверх одной мишени был наклеен портрет. С него строго смотрел Кавказ.
— Плохо! Очень плохо! — раздался за спиной его недовольный голос.
— Ты что?! Стрелять в тебя? — оторопел Ибрагим.
— Не в меня, а в бумажку!
— Все равно как-то это не по-человечески.
— Не по-человечески? А если киллер будет стоять за твоей матерью, ты что, станешь его уговаривать?
— Ну, это же совсем другое дело!
— Нет, не другое! Если рука не дрогнет уложить гада за спиной матери, тогда и можешь считать себя настоящим телохранителем! — сказал как отрезал Кавказ.
Ибрагим поник. Последние фразы прозвучали как приговор.
— Ладно, не убивайся, не все потеряно! — сменил тот гнев на милость. — Это нормальная реакция нормального человека. Но ты не просто человек или боец на передовой. Ты телохранитель! Понимаешь, те-ло-хранитель! А это значит, когда рядом с Ним, для тебя нет ни друзей, ни родных! Никого, Ибо!!!
— Я понимаю, но сразу себя не переделаешь. Тебя вон сколько учили.
— Учили? — горько усмехнувшись каким-то своим мыслям, Кавказ сухо обронил: — В тех классах двоек не ставили. В них была другая арифметика.
— Извини! Я постараюсь! — смутился Ибрагим.
— Стараться надо, но одного этого мало! Запомни раз и навсегда! Не та угроза смертельна, которую ждешь. Сто раз опаснее та, что смотрит на тебя преданными глазами, а в ухо льет приторный елей. Предают не враги, а друзья, те, кто рядом! Это говорю не я, а суровая статистика. Кто убил Юлия Цезаря?
— «И ты, Брут?!» — вспомнил Ибрагим известную фразу римского императора, когда предательская рука вонзила в него меч.
— Видишь, какой оказался друг! — с иронией произнес Кавказ и затем спросил: — А знаешь, кто убил индийского премьера Индиру Ганди?
— Откуда? Я тогда под стол пешком ходил.
— Убийца тоже оказался «свой»! Личный телохранитель. Еще нужны примеры?
— Хватит! Без них понятно. Я научусь, Кавказ! — заверил Ибрагим.
— Надеюсь. Голова у тебя варит, рука твердая и глаз острый, — смягчился он.
— Спасибо! — Ибрагим зарделся от похвалы.
— Не спеши с благодарностями, за сегодняшнюю стрельбу тебе надо шею намылить.
— Готов хоть сейчас от позора отмыться.
— Тогда вперед! — приказал Кавказ.
В тот раз Ибрагим израсходовал весь боезапас, а следующие два дня занимался тем, что разбирал и собирал автомат и пистолет. Очередные сутки начались для него с изучения пособия для телохранителя, а после обеда он снова взялся за автомат. Но тренировка не заладилась, все мысли занимал Кавказ, казалось, что тот забыл про него. И словно прочитав их, он собственной персоной появился в номере. Один его вид: старенькие разношенные берцы, потертая камуфляжка и портупея, обвисшая под тяжестью двух пистолетов, говорили о многом.
— Собирайся! Учеба закончилась, пора сдавать экзамен! — коротко распорядился он.
Ибрагим в душе ликовал и не скрывал этого. Зубрежка и стрельба вхолостую порядком осточертели, он жаждал настоящего дела, и, судя по поведению Кавказа, оно было не за горами. По пути к машине и потом всю дорогу до Гудауты тот не обмолвился ни словом о предстоящем задании, и ему ничего другого не оставалось, как только теряться в догадках.
Позади остались поворот на Мысру и военная столица Абхазии — Гудаута, впереди ждал Новый Афон, от которого было рукой подать до линии фронта. И уверенность Ибрагима в том, что наконец он сможет проявить себя в бою, окончательно окрепла. Подтвердил эту догадку сам Кавказ, приказавший водителю:
— Миро, сначала на базу, заберем группу, а потом на Гумисту!
Проехав несколько километров, они свернули налево и через сотню метров притормозили перед шлагбаумом. Часовой, узнав Кавказа, не стал проверять пропуска, дернул за веревку, и жердь взлетела вверх. Они въехали во двор и остановились на площадке у летних коттеджей, их было не больше десятка. Здесь, неподалеку от Гудауты, на бывшей профсоюзной базе отдыха «Амра», больше известной в народе как «Звиздец здоровью», ставшей одним из центров подготовки разведчиков и диверсантов, формировались спецгруппы для рейдов в тыл противника. Сегодня предстоял очередной выход за линию фронта, в котором, как уже догадался Ибрагим, предстояло принять участие и ему.
Вслед за Кавказом он поднялся по шаткой деревянной лестнице в коттедж. В тесной, освещенной слабым светом керосиновой лампы комнате находилось трое бойцов, переодетых в форму грузинских гвардейцев. Все они были под стать друг другу — рослые, худощавые, привычные к жизни в горах. В их мягких, кошачьих движениях и цепких пронзительных взглядах читались скрытая сила и мертвая хватка.
Настоящие волкодавы, им было не привыкать вести в одиночку охоту на языка и проводить дерзкие диверсии.
Кавказ представил их Ибрагиму только по именам — разведка не любит лишнего — и затем поинтересовался:
— Как настроение, ребята?
— Боевое, — ответил за всех Ахра.
— А желудки?
— Заправлены под завязку и работают как часы! — хмыкнул Масик.
— Тогда вперед! С нами Абхазия и Владислав! — без тени пафоса произнес эту клятву разведчиков Кавказ.
— С нами Абхазия и Владислав! — дружно повторили они и потянулись к плотно набитым патронами и взрывчаткой рюкзакам. На войне их и водки никогда не бывает много.
Ибрагиму достался рюкзак размером поменьше, правда, весил он около двух пудов, но проснувшиеся в нем азарт и жгучее желание поскорее проверить себя в настоящем деле удвоили силы. Легко, будто и не было этих смертоносных килограммов, он спустился по лестнице, догнал разведчиков, скорым шагом направлявшихся к стоянке.
Там их поджидал затянутый брезентовым тентом ГАЗ-66. В этой проверенной не одним рейдом команде каждый знал свое место. Кавказ сел в кабину к Миро, остальные, и вместе с ними Ибрагим, забрались в кузов. Армейский «ишачок» тронулся с места, легко взял крутой подъем, выехал на трассу и шустро покатил в сторону Нового Афона. Ибрагим вполуха прислушивался к разговору разведчиков, и ему казалось странным, что они говорили не о войне или предстоящей операции, а вспоминали прошлые времена и жили теми мирными воспоминаниями.
Прошло чуть больше двадцати минут, и машину, словно щепку на морской волне, начало бросать из стороны в сторону. Двигатель взревел на полную мощь, колеса яростно заскребли по щебенке. Ибрагим догадался, что дорога пошла горами и, вцепившись в деревянный борт, думал только о том, чтобы не уронить рюкзак с взрывчаткой. Наконец «газон» взял последний подъем, Миро заглушил двигатель и, притормаживая на поворотах серпантина, начал спуск к реке. То, что это была Гумиста, Ибрагим догадался по грозному реву реки на перекатах.
За полкилометра до реки Кавказ распорядился:
— Все, Миро, тормози! Приехали!
Тот ударил по тормозам, и «газон», пропахав по сырой земле еще с десяток метров, остановился. Разведчики выбрались из кузова и собрались вокруг Кавказа. Он был немногословен, на прощание пожал Миро руку и предупредил:
— Жди здесь послезавтра, на рассвете!
— Не волнуйся, не подведу! — заверил тот и пожелал: — Ни пуха ни пера, ребята!
— К черту! — дружно ответили разведчики и сплюнули через левое плечо.
Проверив еще раз оружие и рюкзаки с взрывчаткой, они построились в цепочку. Ибрагим оказался в середине, за ним на подстраховку стал Кавказ, и по его команде группа бесшумной змейкой начала спуск к реке. Несмотря на царивший полумрак и поднявшийся туман, Ахра ни разу не сбился и вышел прямо к перекату. Притаившись в кустах, разведчики выждали минуту-другую. Кавказ первым опустился на землю и ящерицей соскользнул к реке. Один за другим к нему перебрались разведчики и, настороженно вслушиваясь и всматриваясь во вражеский берег, залегли в секрете. Опытный взгляд Кавказа не заметил опасности, и он собрался дать команду к переправе, но она оборвалась на полуслове. За рекой в орешнике мелькнули серые тени, а через мгновение грохот камней под неосторожно ступившей ногой заставил разведчиков схватиться за автоматы…
Глава 3
Беззаботно поигрывая хрустальными струями среди каменных россыпей, пока еще робкая Гумиста, напитавшись талой водой из ледников, весело плескалась на перекатах и торопилась в зовущую загадочной неизвестностью голубую даль. Среди полыхающих разноцветьем альпийских лугов десятки новых родников и ручьев щедро одаривали ее энергией, и она уже играючи переворачивала голыши, самоуверенно похлестывала по ребристым щекам суровые скалы, снисходительно с высоты водопадов поглядывала на скованные порыхлевшим льдом озера и легкомысленно звала за собой. А они не спешили выбраться из временного зимнего плена, осуждающе перешептывались звоном ключей и терпеливо ждали, когда весеннее тепло растопит лед.
Наступил апрель. И в благодарность за долготерпение озер небеса распахнули перед ними свои иссиня-фиолетовые дали. Ласковое солнце отогрело бездонные глубины, а его лучи нарисовали на безмятежной глади фантастические картины, неподвластные кисти самого гениального художника. Эта их кроткая красота заставила склоняться в восхищении величественные вершины Химса и Дзыхвы. Их изумрудные отражения нежились в воркующей волне, и, когда выпадало засушливое лето, ледники щедро делились с ними своими талыми водами.
Так продолжалось из года в год, из века в век, и в этом незыблемом постоянстве гор, озер и ледников заключалась гармония жизни. И они, познавшие ее великую мудрость, пытались остановить набравшую силу и упорно стремящуюся покинуть родные места Гумисту. Но своенравная гордячка не желала их слушать и с остервенением набрасывалась на скалы, как на самого заклятого врага. Сокрушив очередную преграду, она продолжала нестись вперед. Терпеливые горы снова смыкали свои каменные объятия, и тогда река пускалась на хитрости. Она смиряла гордый норов, покорной волной подкатывала к берегам и печально нашептывала о своих невзгодах. И они, простив ей былые сумасбродства, расступались просторными долинами и укрывали тонким покрывалом цветущих садов.
Казалось, Гумиста окончательно смирилась и уже не помышляла покидать родные края. Но когда впереди возникло мрачное Бзыбское ущелье, она восстала и опять проявила свой неукротимый характер. Собравшись с силами, река, рыча и яростно вскипая на порогах, обрушилась на скалы. От чудовищного рева содрогнулись вершины Химса и Дзыхвы. Потрясенные ее безумством, горы снова расступились. Расшвыряв по берегам камни и деревья, Гумиста безоглядно устремилась к манящему коварным миражом свободы морскому побережью.
Выйдя победительницей из очередной схватки, она уже была глуха к тревожному шепоту лесов предгорий и слепа перед тем бескрайним морским простором, который звал и манил к себе переливающейся на солнце серебром гладью. Спеша слиться с ним, Гумиста беспечно растеклась по равнине десятками мелких речушек и ручейков. Теперь на пути к морю перед ней лежала лишь узкая полоска песка. Она играючи разметала его по сторонам и, счастливо журча, бросилась к нему в объятия. Но оно холодно отнеслось к ее бурному порыву и продолжало шаловливой волной перешептываться с берегом. Гумиста опешила, и гневная рябь тысячами морщин покрыла ее зеркальную гладь. Вскипев от ярости, она наотмашь хлестанула упругой струей по прибою.
Оскорбленное море глухо зарокотало, но река, уверенная в своей силе, бушующим валом покатила вперед. Казалось, и на этот раз ей удастся выйти победительницей.
Море отхлынуло от берега, и Гумиста, радуясь столь легкому успеху, безоглядно бросилась вдогонку. Но с каждой секундой ее могучее течение слабело. Почувствовав надвигающуюся опасность, река попыталась собраться с силами, но коварное море все глубже влекло ее в свою холодную бездну, из которой уже невозможно было ни выбраться, ни повернуть вспять. Прошло несколько минут, и о некогда своенравной и непокорной Гумисте напоминала едва заметная желто-зеленая полоска на бескрайней морской глади…
В конце XVIII века и сама Абхазия походила на Гумисту. Она и ее владетельный князь Келешбей Шервашидзе (Чачба) пытались уцелеть между молотом и наковальней в соперничестве за Кавказ двух великих империй — Российской и Османской. В те годы Абхазия оказалась им не по зубам. Несмотря на мощь флота и свирепость янычар, Турция так и не смогла стать ее полновластным хозяином, а Россия пока только прощупывала «южную жемчужину» своими экспедиционными отрядами.
Воинственные горцы в родных краях походили на сущих дьяволов и каждый раз давали жесткий отпор завоевателям. И тогда как в холодном Санкт-Петербурге, так и прокаленном солнцем Стамбуле прибегли к испытанному и проверенному за столетия методу — «кнута и пряника». Посланцы русского царя и турецкого султана при княжеском дворе в Лыхнах, а потом в Сухум-Кале, куда Келешбей перенес свою резиденцию, плели тайную паутину, доглядывали за ним, друг за другом и, норовя склонить на свою сторону, нашептывали ему про вечный союз, суля за то неслыханные благодеяния.
Келешбей, властный и решительный, одаренный от природы острым умом, отточенным в придворных интригах и самой жизнью, вел себя осторожно и терпеливо выжидал, на чью сторону склонится чаша весов в битве двух гигантов.
Турция пока еще крепко стояла на Южном Кавказе, но чуткое ухо владетельного князя уже улавливало тяжелую поступь русской пехоты в Кабарде, Чечне и Дагестане. Окончательно его сомнения рассеяли появившиеся на морском рейде перед сухумской крепостью корабли с Андреевским флагом на корме.
Для князя настало время выбора, но его цена была невероятно велика. В случае ошибки он терял не только голову, но и ввергал Абхазию в кровопролитную войну с предсказуемым концом. И потому Келешбей не торопился с окончательным решением, а поступил как истинный царь Соломон.
Старший сын — Асланбей принял ислам и был направлен ко двору турецкого султана. После этого в Стамбуле на абхазского владетельного князя стали смотреть как на своего, рассчитывая при удобном случае запустить, подобно ежу, в «штаны» России, которая по-хозяйски «села» передовыми отрядами в Грузии и теперь упорно пробивалась к Карсу — этим воротам, открывавшим прямой путь к сердцу Османской империи.
В Санкт-Петербурге также имели свои виды на владетельного князя и его воинственных горцев. С их помощью император Александр I рассчитывал малой кровью отвоевать у турок весь Южный Кавказ. Хитрый Келешбей искусно подогревал эти ожидания как у одних, так и у других. По его настоянию младший сын Сефербей был тайно крещен и получил христианское имя Георгий, а затем женился на мингрельской княжне Тамаре Дадиани. Через некоторое время внимательные наблюдатели стали замечать его с красавицей женой при дворе Кавказского наместника. Свое появление среди русской и грузинской знати юный и не по годам разумный князь объяснял родственными связями жены.
Так продолжалось до начала XIX века. К тому времени Россия твердо заявила о себе в Западной Грузии, и свирепые турецкие янычары уже не отваживались, как прежде, открыто появляться в горной Абхазии и только время от времени совершали пиратские набеги на побережье. Чаша весов в битве за Южный Кавказ начала клониться в пользу России, и в 1803 году первым под русское покровительство перешло терзаемое со всех сторон Мингрельское царство. Спустя год его примеру последовало Имеретинское. В 1806 году сам владетельный князь Келешбей обратился с просьбой к русскому императору о принятии Абхазии в подданство России.
Специальный курьер под надежной охраной доставил его прошение в сиятельный Санкт-Петербург. Император Александр I медлил с «высочайшим повелением», зато при дворе султана не дремали и развили бурную деятельность. В Абхазию зачастили турецкие эмиссары и принялись мутить народ, подстрекая против владетельного князя. Не прошло и месяца, как у него под боком — в Эшерах заговорщики свили себе гнездо и взялись плести сети заговора, нити которого тянулись в Цебельду и Псху. Дальше медлить было нельзя, и Келешбей поступил, как всегда, — решительно подавил заговор, а главных смутьянов — эшерских князей Дзяпшипа казнил. Старшего сына Асланбея, стоявшего за спиной заговорщиков, лишил всех прав, но сохранил жизнь, и эта жалость вскоре обернулась трагедией не только для самого Келешбея, но и для всей Абхазии.
Асланбей с кучкой заговорщиков 2 мая 1808 года неподалеку от сухумской резиденции подкараулил отца, жестоко расправился и занял княжеский трон. Его власть оказалась недолгой и непрочной. В течение двух лет, опираясь на турецкие штыки, он пытался усидеть на троне. Но отцеубийца ничего, кроме ненависти, у подданных не вызывал, и Абхазия, словно лоскутное одеяло, стала расползаться под власть местных вождей. Попытки Асланбея подчинить себе вышедших из повиновения цебельдинских и далских князей потерпели поражение, а после неудачного похода на садзов он уже не высовывал носа из Сухумской крепости.
Тем временем младший сын Келешбея Георгий, чудом избежавший смерти от наемных убийц, подосланных неугомонным дядей, нашел убежище в России и спустя два года, в 1810-м, вернулся в Абхазию. На рейде перед Сухумской крепостью 10 июля появился русский военный фрегат, и после мощной бомбардировки ее фортов высадившийся на берег десант разгромил турецкий гарнизон. Среди пленных Асланбея не оказалось — воспользовавшись суматохой, он скрылся. Победителю Георгию было не до него: он вернулся домой, и не просто вернулся, а вернулся, как ему тогда казалось, с вечным миром.
За несколько месяцев до освобождения Сухума, 17 февраля 1810 года, император Александр I наконец утвердил обращение владетельного абхазского князя с «просительными пунктами» о принятии Абхазии в подданство России. В нем он признал Георгия «наследным князем абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи».
Однако то, что когда-то удалось совершить отцу: недюжинным умом, железной волей и булатной саблей сохранить единство Абхазии, оказалось не по силам сыну. Горная Абхазия с ее воинственными псхувцами, далцами и цебельдинцами отказывалась кому бы то ни было повиноваться и продолжала жить жизнью вольных обществ. Георгий правил там, где стояли русские гарнизоны, но не властвовал, его влияние распространялось не дальше крепостных стен.
В 1821 году, после смерти владетельного князя, одержимый жаждой власти Асланбей снова поднял голову. Поддерживаемый Турцией, не смирившейся с потерей влияния на Абхазию, он возмутил садзов, псхувцев и убыхов против нового владетельного князя Дмитрия, назначенного на смену Георгию по высочайшему повелению русского императора.
С малых лет воспитывавшийся в России и не знавший родного языка, Дмитрий был никто и ничто для своевольных горцев, и потому многоопытному, коварному Асланбею не составило большого труда за несколько месяцев поднять Абхазию на дыбы и наглухо запереть владетельного князя вместе с русским гарнизоном в Сухумской крепости. И только войска князя Горчакова, вовремя подоспевшие на помощь, спасли их от полного разгрома, но не уберегли Дмитрия от смерти. Спустя год, в октябре 1 822-го, он был отравлен, и в Абхазии с прежней силой разгорелась междоусобная война.
На этот раз «гроза Кавказа» генерал Ермолов, у которого уже в печенках сидела «абхазская вольница», не стал церемониться и немедленно послал в мятежную провинцию вооруженную до зубов военную экспедицию. Регулярные войска вместе с терскими казаками жестоко подавили восстание, но не волю к сопротивлению и свободе абхазов и убыхов. Назначенный русским императором в феврале 1823 года новый владетельный князь Абхазии малолетний Михаил, брат Дмитрия, продержался на троне чуть больше года. Первой восстала Цебельда, затем, подобно лесному пожару, заполыхало от Мзымты до Ингура. Почувствовав запах вожделенной власти, тут как тут объявился Асланбей, а вместе с ним турки, и Михаилу пришлось спасаться бегством.
Прошло шесть долгих лет, и только в июле 1830 года он, под защитой экспедиционного корпуса генерала Гессе, смог возвратиться в Сухум. На этот раз русские войска пришли в Абхазию всерьез и надолго. Подчиненные Гессе принялись срочно возводить береговые укрепления в Гагре, Пицунде, Бомборе, Квитауле и Илоре, рассчитывая завязать их в единую линию с гарнизонами, уже твердо ставшими крепостями на побережье Новороссии.
К середине тридцатых годов власть возмужавшего владетельного князя настолько укрепилась в прибрежной Абхазии, что он решился перенести резиденцию в Лыхны, во дворец своего знаменитого деда Келешбея. Но это не объединило абхазов, Михаил княжил, но… по-прежнему не правил. Свободные горские общества псхувцев, далцев и цебельдинцев не признавали ничьей власти, кроме власти всевышнего и своего кинжала.
Походы войск генерала Розена в урочища Дал и Псху ненадолго приводили их к повиновению. Проходило время, и горная Абхазия снова выходила из подчинения. Одна за другой военные экспедиции отправлялись в горы подавлять восстания. После них на местах селений оставались обугленные развалины и опустошенные языческие святыни горцев. Те, кто уцелел, вынуждены были уходить все дальше и выше — в недоступные для артиллерии места или пробиваться к морю, где курсировали турецкие суда, и искать спасения в Турции. Так начался исход — махаджирство абхазов, убыхов и садзов, их свежая кровь еще на полвека продлила существование дряхлеющей Османской империи.
В 1856 году после унизительного и позорного поражения России в Крымской войне Турция снова предприняла попытку восстановить свое влияние в Абхазии. В октябре многотысячный десант Омер-паши высадился в Сухуме, штурмом взял крепость и, не встречая на своем пути серьезного сопротивления, двинулся в сторону Мингрелии. У реки Ингур их пытался остановить Гурийский отряд князя Багратиона-Мухранского, усиленный ополченцами-абхазами, но в коротком и кровопролитном бою они потерпели поражение и вынуждены были отступить.
Это были последние успехи Омер-паши. Кавказский наместник Муравьев, собрав в один кулак все военные силы, принялся мозжить им бритые черепа янычар. Турки не устояли, начали отступать, и к лету следующего года русские войска при поддержке ополченцев владетельного князя Михаила выбили их отовсюду и возвратились в столицу — Сухум— Кале. Это был последний бросок Османской империи на Абхазию, в дальнейшем она лишь короткими пиратскими набегами на побережье продолжала досаждать России.
К тому времени в другой непокорной части Кавказа царские войска после более чем двадцати пяти лет непрерывной войны с имамом Шамилем в Чечне и Дагестане наконец— то в августе 1859-го зажали остатки его отряда в ауле Гуниб и в ожесточенном бою пленили своего главного противника на Северном Кавказе.
За поражением Шамиля и усмирением Чечни наступил черед Западного Кавказа. Разрозненные отряды убыхов, дахов, абадзехов, кабардинцев и шапсугов не смогли устоять под натиском хорошо вооруженной, закаленной в боях и намного их превосходящей по численности русской армии. Они оставляли одно за другим разоренные селения и откатывались все дальше на юг, в высокогорную Абхазию. Теперь только она на всем Кавказе оставалась единственным оплотом отчаянного сопротивления горцев могущественной Российской империи.
Последним и самым трагическим в той великой драме, что разыгрывалась на Кавказе, стал 1864 год. Пятьдесят с лишним лет заигрывания с владетельными князьями показали русским императорам и их кавказским наместникам, что рано или поздно в горцах просыпался дух вольницы и Абхазия снова принималась жить сама по себе, по своим древним и неписаным законам.
На этот раз империя навалилась на последние свободные горские общества всей мощью своей военной махины. В ожесточенных боях с превосходящим противником отряды убыхов, абхазов и садзов все чаще терпели поражения. Некогда богатые и цветущие горные селения превратились в пустыню, где хозяйничали лишь ветер и дикие звери. Абхазия приходила в полное запустение, десятки тысяч беженцев-махаджиров искали спасения на южных берегах Черного моря. Османская империя, хорошо познавшая на себе силу горцев, охотно давала им приют, рассчитывая в дальнейшем использовать против своего заклятого врага — России.
К началу весны 1864 года в Абхазии непокоренными остались лишь свободное общество псхувцев и присоединившиеся к нему остатки племен убыхов и садзов. Последней защитой им служили неприступные горы Бзыбского хребта, но с приходом тепла, когда вскрылись южные перевалы и караванные тропы, русская пехота при поддержке казаков с упорством стенобитного тарана принялась долбить оборону горцев.
Экспедиционный корпус полковника Коньяра первым сумел пробиться в верховья реки Западная Гумиста, к селению Гума, и, несмотря на тяжелые потери, понесенные пехотой и казаками в только что закончившемся бою, с ходу ринулся форсировать реку. Коньяр спешил до наступления темноты добить остатки отряда абхазов и убыхов, чтобы не дать им уйти вглубь гор и там соединиться с псхувцами.
Стремительные воды Гумисты гневными бурунами вскипели у ног лошадей эскадрона есаула Найденова. Изрубив отряд Арсола Авидзбы, казаки в боевом запале бросились безоглядно преследовать горцев, отходивших за реку. Те, отстреливаясь, уносили с собой тела Арсола и еще троих воинов, которые его родному брату Гедлачу с уцелевшими воинами удалось отбить в последней отчаянной атаке.
Сотник Хоперсков с десятком казаков первым прискакал к броду и начал переправу, но лошади оседали на задние ноги и испуганно храпели перед ревущим потоком. Он дико гикнул и, пришпорив жеребца, направил к темневшему среди бурунов порогу. Вслед за ним ринулись в стремнину и остальные, но выбраться на противоположный берег им не удалось.
Плотный ружейный огонь горцев заставил остановиться казаков. Злым осиным роем над головами загудели пули. Справа от Хоперскова вскрикнул урядник Астахов и, бросив поводья, схватился за холку, но не удержался и пополз вниз. Лошадь, не чувствуя твердой руки раненого хозяина, рванулась к спасительному порогу, но задние ноги заскользили на отдраенных течением, словно зеркало, камнях и через мгновение, подняв фонтан брызг, она и всадник рухнули в злобно загудевший поток. Их головы промелькнули в водовороте и исчезли в воронке под скалой. Новый залп опрокинул в воду еще двоих казаков. На этот раз зацепило и самого сотника. В глазах Хоперскова потемнело от боли, нестерпимым огнем растекшейся по левому бедру. Горцы усилили стрельбу, в ответ по ним начала палить подоспевшая русская пехота. Под прикрытием ее огня казаки, потеряв еще двоих убитыми, начали отход к берегу.
Больше охотников преследовать отряд убыхов и абхазов не нашлось. Лишь есаул Найденов порывался отомстить «басурманам» за загубленных хлопцев, но полковник Коньяр решительно остановил эту отчаянную попытку, которая могла обернуться еще большими потерями. Опытный командир, он понимал, что сегодня его войска сделали больше своих сил. Противник оказался не настолько ослаблен, как это казалось в конце боя, и потому преследовать его в горах, тем более в ночь, было делом не только крайне опасным, но безнадежным. Этот жестокий урок Коньяр, тогда еще подпоручик, усвоил раз и навсегда двадцать лет назад — во время войны в Дагестане. Там он познал на собственной шкуре, что на Кавказе воюют не числом, а умением, и решительно приказал:
— Прекратить атаку!
Горнисты затрубили отбой.
По цепям атакующих прокатилось:
— Прекратить атаку!
Вслед за ней изнуренные непрерывными трехдневными боями офицеры и солдаты услышали долгожданный приказ:
— Привал! Разбить лагерь!
Горестно вздохнув, полковник Коньяр распорядился:
— Оказать помощь раненым! Захоронить погибших!
Похоронная команда, санитары и лекари разошлись по полю боя, чтобы собрать скорбные плоды войны. В лагере тем временем быстро налаживалась походная жизнь. У излучины реки квартирьеры и обозные команды принялись ставить палатки, разжигать костры и готовить в котлах неприхотливую пищу. Но едкий запах гари, исходивший от развалин догорающего селения, а еще больше удушающий смрад разложившихся от нестерпимого жара человеческих тел и трупов животных вынудили перенести лагерь выше, на поляну, где когда-то был выгон для овец.
Прошло несколько часов, и привычные к походной жизни пехотинцы артиллеристы и казаки закончили его оборудование. К этому времени повара приготовили пищу, и шеренги бойцов выстроились у полевых кухонь. Рассевшись у костров, они молча поедали запоздалый ужин. Горечь понесенных утрат не могли смягчить ни обилие мяса, ни пузатые бутыли со спиртом, из которых щедрой рукой разливали по оловянным кружкам расторопные интенданты. В тот вечер в лагере не было слышно ни песен, ни смеха. Помянув погибших и выпив за здоровье раненых, офицеры, солдаты и казаки разошлись по палаткам.
Полковник Коньяр, перекусив у походного котла, вместе с начальником штаба майором Вронским проверил ближние посты и возвратился к себе в палатку. В ней, за пологом, ординарец Спиридон подготовил дубовую бочку с горячей водой. Коньяр стащил с себя пропыленный, отдающий кислятиной мундир и с головой окунулся в пахнущую луговыми травами воду. Вместе с грязью, сошедшей с измочаленного тела, ушла и горечь от потерь — это извечное проклятие командира.
В соседней палатке, где располагались офицеры штаба, какое-то время раздавался монотонный гул голосов и лязг оружия, но вскоре и там наступила тишина. Лагерь забылся в крепком сне, и лишь в двух местах еще продолжали копошиться людские тени. У дальнего, вынесенного за пределы лагеря и наспех огороженного плетнем из орешника навеса десяток мрачных и неразговорчивых бойцов в свете факелов долбили кирками неподатливую каменистую землю, роя братскую могилу. В сотне метров от них, у горного разлома, под охраной караула другая похоронная команда засыпала камнями трупы горцев.
В центре лагеря тоже все еще напоминало о недавно закончившемся бое. В свете чадящих фитилей хирурги, забрызганные с головы до ног гноем и кровью, кромсали изболевшуюся от страданий человеческую плоть. Пронзительные крики и мучительные стоны, мольба и плач раненых разносились далеко за пределы лагеря, но на них мало обращали внимания те, кому сегодня повезло больше. Офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, не один год варившиеся в безжалостном котле Кавказской войны, давно сжились со смертью и воспринимали ее как неизбежное зло. Они знали, что за их жизни, здесь в горах, где стрелял каждый камень, а за поворотом тропы подстерегала засада, не могли поручиться ни полковник Коньяр, ни Кавказский наместник, ни сам Господь, и потому были рады одному тому, что остались живы.
Густая ночная мгла опустилась в долину, лагерь ненадолго забылся в коротком сне, и только часовые продолжали нести службу на постах и в дальних секретах перед перекатом реки и на горных тропах. Их напряженный слух ловил каждый подозрительный звук, каждый шорох. Но сумрачные горы и леса, уставшие от орудийного грохота и вида смерти, витавшего над лагерем, хранили скорбное молчание.
Луна выплыла из-за снежной шапки на вершине горы Химс, тусклым светом осветила узкую, местами разрушенную сходами лавин и камнепадами единственную дорогу. По ее туго закрученному серпантину медленно, напоминая огромную черную гусеницу, двигались колонна беженцев из селения Гума и остатки смешанного отряда убыхов и абхазов. Они отходили к высокогорному селению Псху — последнему оплоту сопротивления горцев в Западной Абхазии.
Скрип колес телег, плач детей и стоны раненых задолго до появления у передовых постов перед селением предупредили часовых о приближении страшной беды. Она подняла на ноги всех от мала до велика и объединила в безутешном горе. Женщины делились последним, а мужчины готовы были стоять насмерть, но не дать врагу захватить Псху. То, что бой был неизбежен, подтвердили и разведчики, вернувшиеся утром с берегов Гумисты. Передовые отряды полковника Коньяра пока еще не перешли реку, но приготовления, что шли в лагере полным ходом, не оставляли сомнения в предстоящем наступлении.
Дальше медлить было нельзя, и командиры псхувцев, убыхов и абхазов собрались на военный совет. В небольшой комнате дома Уруса Отырбы было не повернуться, но никто не роптал и не жаловался. Опытные и умудренные жизнью воины ясно представляли, что на этот раз матерый вояка Коньяр не отступит и сделает все, чтобы не дать им вырваться из кольца окружения. Обменявшись молчаливыми взглядами, они сошлись на самом опытном из них — это Коса Авидзба. Тот встал из-за стола, протиснулся на середину и, положив руку на рукоять старинного кинжала, перешедшего ему от отца, обвел взглядом притихших воинов и печально произнес:
— Братья! Будем смотреть правде в глаза! Коньяр наглухо закупорил ущелье и не сегодня, так завтра появится здесь.
— Проклятый пес! — процедил сквозь зубы Гедлач Авидзба.
— Пусть только сунется! Вышибем из него все потроха! — угрожающе зарычал Зафас Гума.
— Легко сказать — вышибем. А чем? У нас всего две пушки и меньше трехсот сабель. У Коньяра их в два раза больше и целая батарея, — остудил его пыл Коса.
— А что, лучше сидеть и ждать, когда нас перережут, как баранов?! — в сердцах воскликнул Зафас.
— Если умирать — так с честью! — присоединился к нему Апсар Атыршба.
В ответ послышался одобрительный гул. Самые горячие схватились за кинжалы, и проклятия посыпались на Коньяра и его солдат.
— Эти собаки захлебнутся в крови!
— Шакалы!
— Они здесь найдут свою могилу!
Коса сохранял выдержку и, дождавшись, когда погас гнев, продолжил:
— Я еще не закончил. Сидеть сложа руки никто не предлагает, но идти в лоб на Коньяра — это самоубийство. Зря положим себя и отдадим под нож детей и жен. Надо искать другой выход.
— А какой, если обложили со всех сторон? — кипятился Зафас.
— Еще остался Адзагшыпский перевал!
— Перевал?! — переспросил Апсар и, покачав головой, с сомнением произнес: — В апреле через него не пробиться. Там снега выше головы.
— Это наш единственный шанс, — стоял на своем Коса.
— А старики, дети, раненые?! — напомнил Зафас.
— С таким обозом от казаков не оторваться, — заключил Гедлач.
И этот последний убийственный довод, казалось бы, похоронил все надежды вырваться из капкана, в который их загнали войска Коньяра. Гнетущее молчание вновь воцарилось в комнате. Коса нервно теребил рукоять кинжала и напряженно искал выход. В их положении рассчитывать на чью-либо помощь уже не приходилось, а с теми силами, что остались, пробиться к морю было невозможно — он, как опытный воин, хорошо это понимал. Оставалось полагаться только на чудо.
— Коса, а если ударить с двух направлений? — нарушил затянувшееся молчание Апсар.
— А что это даст? Они легко перебьют нас поодиночке! В одном кулаке есть еще какой-то шанс, — возразил Гедлач Авидзба.
— Стоп! Не спеши! — остановил брата Коса и потребовал: — Апсар, продолжай!
— Надо собрать ударный отряд, зайти Коньяру в тыл и отвлекающим ударом оттащить от ущелья, — пояснил тот.
— А в это время основные силы, раненые, женщины и дети выскользнут из западни! — ухватился за мысль Коса.
— Так и надо сделать!
— Это выход!
— Если не себя, так детей и жен спасем! — дружно поддержали Апсара другие воины.
Общий вздох облегчения прошелестел в комнате. Это был призрачный, но все-таки шанс, и воины оживились, теперь все внимание заняла подготовка ударного отряда. От добровольцев не было отбоя, но Коса Авидзба и Апсар Атыршба оставались неумолимы. Они строго выполняли старый, установленный далекими предками закон — тот, кто был единственным в роде, не мог себе позволить чести умереть за других.
На следующий день восемьдесят бойцов были готовы пожертвовать собою и с наступлением сумерек выступили в поход. По тайной горной тропе, известной лишь абреку Абзагу Гумбе, отряд, которым командовал Коса Авидзба, стремительным маршем преодолел семнадцать верст и на рассвете вышел на правый берег Гумисты. Коньяр, видимо, был уверен в себе, и те редкие секреты, что стояли на основных тропах, горцы без труда обошли стороной. До лагеря оставалось еще около двух верст, но Коса решил не рисковать, и отряд, укрывшись в ущелье, сосредоточился для решающего ночного броска…
Спустя сто двадцать девять лет на тех же самых берегах все повторялось вновь. Разведгруппа Кавказа Атыршбы затаилась среди камней перед бродом через Гумисту. Он и с ним Ибрагим, Ахра, Окан и Масик напряженно вслушивались и всматривались в ночную тишину, пытаясь обнаружить вражескую засаду.
После минутного затишья подозрительный шум на противоположном берегу повторился, и в нем ухо опытного охотника Ахры различило характерный всхрап дикого кабана. Он перевел дыхание и шепотом передал по цепочке:
— Все нормально, ребята! Кроме нас и кабанов, никого нет.
— Отлично! Это хороший знак! — оживился Кавказ и распорядился: — Приготовиться к переправе! Ахра, разведай подходы к перекату и как следует проверь кусты!
— Может, заодно и раков пошарить? — хмыкнул тот. — Я…
— Шарить будем в другом месте! — оборвал Кавказ и приказал: — Масик, прикрываешь! Все, ребята, разговоры закончились, вперед!
Две серые тени разведчиков бесшумно соскользнули с крутого берега и растаяли в белесом тумане, поднимавшемся над рекой. Прошло несколько томительных минут, и из-под скалы с противоположного берега дважды ухнул «филин».
— Пошли, ребята, наша очередь! — позвал за собой Кавказ и первым спустился к реке.
Разведчики сняли ботинки с брюками, свернули в охапку и, страхуя друг друга, двинулись на перекат. Ледяная вода обожгла икры, и через мгновение Ибрагим от холода не чувствовал под собой ног. Подошвы скользили, словно по мылу, на обросших мхом камнях, а стремительное течение грозило опрокинуть в реку. Он старался не отстать от необъятной спины Масика, маячившей перед глазами, и, не обращая внимания на ссадины, пытался устоять, чтобы не свалиться в воду.
До берега оставались считаные метры, и тут непослушные ноги потеряли опору, но крепкие руки Кавказа не дали упасть. С трудом выбравшись на берег, Ибрагим кулем свалился на землю. От озноба зуб не попадал на зуб, а тело задеревенело.
— Это тебе не Анталья, — посочувствовал Ахра.
— Чего зубы скалишь! Лучше бы дал согреться! — цыкнул Масик, снял с пояса фляжку и предложил:
— Ибо, глотни, полегчает! Потом разотри ноги.
— Я… Я не… не пью, — стуча зубами, пролепетал тот.
— Аллах или кто там у вас главный, он все простит. Здоровье дороже, пей! — поддержал Ахра.
Ибрагим воротил голову от фляжки. От запаха спирта его тошнило.
— Пей! Нам не нужен паровоз под носом у гвардейцев! — насел Кавказ и силой затолкал в рот горлышко фляжки.
После второго глотка Ибрагим едва не задохнулся. Рот и горло обожгло нестерпимым огнем, а из глаз брызнули слезы. Кружка с водой, которую он опустошил одним махом, притушила заполыхавший внутри огонь. Прошла секунда— другая — и грудь обдало приятным теплом, голова закружилась. Ему стало тепло и легко. Он вскочил на ноги, и здесь его повело.
— Ибо, ты можешь идти?! — всполошился Кавказ.
— Э-э д… — заплелся язык у него.
— Похоже, лишку дали, — с тревогой произнес Окан.
— Закосел парень. Мусульманин, ну что с него возьмешь, — посочувствовал Ахра.
— Помолчи! — оборвал Кавказ и, подтолкнув Ибрагима в спину, подбодрил: — Держись! В дороге разойдешься.
Он спешил поскорее покинуть опасную зону. Разведчикам это не требовалось объяснять. Придерживая оружие, чтобы оно не громыхало, они старались не отстать от Ахры. Опытный охотник, он только по известным ему одному приметам находил тропу и уверенно вел группу к цели. Долгий и затяжной подъем — по обрывкам фраз Ибрагим догадался: это была гора Ахбюк — измотал разведчиков. Здесь, на высоте, еще чувствовалось дыхание прошедшей зимы. Ноги скользили по затянутым льдом лужам и плотной корке прошлогоднего снега. После перевала стало легче, но Кавказ не делал передышек, рассчитывая до рассвета выйти на место.
Они прошли еще около десяти километров и к восходу солнца добрались до высотки, нависавшей над районом села Ачадара и западной частью Сухума, более известными в народе как Лечкоп. Где-то в этих местах, по данным разведки, гвардейцы зарыли танки и установили артиллерийские батареи. Они сидели как кость в горле у ополченцев. Их огонь не только накрывал передовую на Гумисте, но и наносил немалый урон тыловым порядкам. Под дулами грузинских батарей в дневное время нечего было даже думать о переброске подкрепления и боеприпасов на линию фронта.
Кавказ дал команду залечь, а сам, маскируясь за кустарником, внимательно осмотрел из бинокля склон, с которого открывался вид на Лечкоп. Его взгляд привлекла сторожка пастухов, не заметив ничего подозрительного, он решил, что более подходящего места для отсидки группы не найти, и распорядился:
— Ребята, короткими перебежками к кошаре!
Рассыпавшись веером, разведчики подобрались к ней и стали наблюдать. Время шло, но никаких признаков жизни глазастые Масик с Ахрой так и не заметили. Тем не менее опытный и осторожный Кавказ не спешил идти под крышу кошары и послал Окана проверить ее. Тот беззвучно растаял в кисельной пелене, а когда вернулся, то на его лице играла довольная улыбка.
— Командир, шашлык не гарантирую, бараны все разбежались, но крышу над головой обещаю! — бодро доложил он.
— Я не привередливый, согласен и на кофе! — оживился вечно голодный Масик.
— Тебе как — с лимонкой или…
— Хватит болтать, Цицероны! Пошли разбивать лагерь! — поторопил Кавказ.
Разведчики смолкли и, подхватив с земли рюкзаки с взрывчаткой, поспешили за ним. На этот раз им повезло — война обошла стороной кошару. Внутри было сухо, в дальнем углу валялись охапки прошлогоднего сена, а капитальные стены надежно защищали от пронизывающего ветра. Привычные к походной жизни, они быстро обжились и после завтрака все, кроме Масика, заступившего на пост, улеглись отдыхать.
Ибрагим пристроился рядом с Кавказом и едва закрыл глаза, как тут же провалился в бездонную черную яму. Проснулся он, когда солнце перевалило зенит. К этому часу все уже были на ногах и собрались вокруг походного стола. Дразнящий запах лаваша и мяса будили зверский аппетит, и, позабыв про обычаи, голодный Ибрагим набросился на китайскую свиную тушенку.
У Ахры брови поползли вверх, а в глазах заскакали веселые чертики. Он подмигнул Масику, тот хитровато улыбнулся в усы и мрачно обронил:
— Ребята, нам с Ибо крупно не повезло.
Тот от неожиданности поперхнулся и, когда кусок проскочил горло, растерянно спросил:
— Э-э… Почему?!
— Еще и спрашивает? Весь спирт выпил.
— А сейчас последнюю нашу китайскую свинью доедает, — присоединился к нему Ахра.
— Какая еще свинья?!
— А в руках у тебя что?
Ибрагим растерянно вертел в руках банку с китайской тушенкой.
— Вон как вцепился. Нет, Ибо, точно, ты не мусульманин, а китаец, — продолжал подкалывать Ахра.
— Какой еще китаец?! Я абхаз!.. — вспыхнул он как спичка и швырнул на пол банку.
— Абхаз-абхаз! На, выпей! — поспешил успокоить Кавказ и сунул ему кружку с чаем.
Ибрагим насупился и отодвинулся в дальний угол. Масик с Ахрой, тихо посмеиваясь, занялись взрывчаткой. Кавказ, перекинув через плечо автомат, взял с собой Ибрагима, и они отправились на пост к Окану.
Среди густого кустарника его не так-то просто было обнаружить, но опытный следопыт Кавказ безошибочно вышел на место. Окан, подстелив под себя куртку, через бинокль наблюдал за тем, что происходило на позициях гвардейцев. Они прилегли рядом, и Кавказ спросил:
— Ну что, нашел?
— Нет! Зараза, как сквозь землю провалилась! — в сердцах произнес Окан.
— Плохо смотришь.
— Куда уж лучше? Все глаза проглядел! — с обидой произнес тот и махнул рукой — луч солнца попал на окуляры и отразился яркой вспышкой.
— Ты что! Засекут! — всполошился Кавказ, забрал бинокль и принялся сам высматривать батарею.
Ему повезло больше. Он задержал взгляд на развалинах в верхней части района «Лечкоп» и с облегчением произнес:
— Никуда она не делась. Сидит на месте. Правее кирпичной трехэтажки.
— Не может быть! — не мог поверить Окан, потянулся к биноклю, навел фокус и с изумлением воскликнул: — Слепой индюк! Ну и хитрые же, сволочи!
— А ты как думал.
— А можно мне? — порывался к биноклю Ибрагим и, когда получил в руки, принялся вглядываться в район, куда тыкали пальцами Окан и Кавказ.
Перед ним крупным планом проплыли развалины, брошенный дом, но ничего похожего на орудие он так и не заметил.
— Ты на пацху смотри! — подсказал Окан.
Ибрагим навел бинокль на пацху. Все оказалось до банальности просто. Крыши над ней не было, а над стеной торчало напоминающее почерневшую от времени стропилину жерло орудия.
— Вижу! Вижу! — обрадовался он.
— Надо искать другие! — подвел итог наблюдений Кавказ.
После этого первого успеха Окан и Ибрагим принялись тщательно просматривать каждый дом и каждую пацху. Их старания не пропали даром: отыскались еще три орудия и два зарытых по башню танка. Кавказ нанес их на планшет, после этого они сосредоточили внимание на подходах к позициям артиллеристов. Через час для них не составляли никакого секрета места расположения постов. Теперь им оставалось ждать, когда наступит самый надежный союзник разведчиков — ночь.
С наступлением сумерек Кавказ распорядился всем, кроме часового, лечь отдыхать. Ибрагим снова забрался в сено, но так и не смог уснуть, волнение и тревога изнутри точили его. Конец им положила команда Кавказа:
— Ребята, подъем! Пришло наше время!
Было далеко за полночь, и разведчики, где перебежками, а где ползком, начали подбираться к батарее. Каждый имел свою цель, до которой оставались считаные метры и минуты. Ибрагим не замечал боли в оцарапанных руках и старался не отстать от Кавказа. Широкая спина друга, как щит, надежно прикрывала его. Неожиданно она провалилась вниз, он тоже приник к земле, потом приподнял голову и осмотрелся по сторонам. Перед ними возникали хорошо знакомые за долгие часы дневных наблюдений очертания позиции батареи.
— Окан, Масик, снять часовых! — тихо произнес Кавказ.
Бестелесные тени разведчиков исчезли в развалинах.
Кавказ, Ибрагим и Ахра замерли и ловили каждый шорох и каждый звук, но напряженный слух ничего, кроме унылого посвиста ветра в разрушенных печных и водопроводных трубах, не улавливал. В эти последние секунды до встречи с настоящим врагом время для Ибрагима словно остановило свой бег. Сердце бешено молотило, будто кузнечный молот, а в груди леденящим холодом разлилась пустота. Наконец раздался долгожданный крик «филина».
Кавказ поднялся из укрытия и напомнил:
— Взрывчатку под замки!
Вслед за ним разведчики поднялись на ноги и короткими перебежками стали подкрадываться к орудиям. Ибрагим старался не отстать от Кавказа. Теперь все страхи остались позади, и он жил только одной мыслью — поскорее добраться до орудия и взорвать. Впереди на фоне звездного ночного неба прорезался мрачный силуэт пацхи, и тут со стороны, где должен был действовать Окан, тишину ночи вспорола автоматная очередь. В ответ громыхнул разрыв гранаты, справа из кустов со змеиным шипением взвилась ракета — и окрестности залил блеклый свет.
Кавказ шарахнулся под защиту пацхи. Ибрагима как парализовало, он не слышал ни грохота автоматной очереди, ни его крика, побелевший от напряжения палец вместо курка давил на спусковую скобу. Пули гвардейцев крошили над головой кирпичную кладку, едкая пыль ела глаза.
— Ложись! Ложись! — надрывался Кавказ.
Но Ибрагим ничего не слышал и как завороженный смотрел на показавшихся из кустов гвардейцев. Кавказ, выпустив в них автоматную очередь, взвился над землей и в прыжке сбил его на землю. Через мгновение в том месте, где он стоял, пули взрыли землю.
— Уходим! Уходим! — перекрывая шум перестрелки, кричал Кавказ и, схватив Ибрагима за руку, потащил в сад.
Они бежали, пока хватало сил, и перевели дыхание только у сторожки. В ней уже находились Ахра с Масиком, последним к ним присоединился Окан. Его одного зацепило в перестрелке, пуля навылет прошла через мышцу левой руки, но, к счастью, не задела кость. Перевязку пришлось делать на ходу, гвардейцы быстро пришли в себя и спешили отрезать группе путь отхода к Гумисте.
По нижней дороге пронесся БТР, а на ближнем склоне послышался грохот камней и зазвучали отрывистые команды. Это автоматчики разворачивались в цепь, стремясь замкнуть кольцо окружения. Кавказ недолго думал и принял решение — прорываться не к линии фронта, а уходить вглубь гор, за Сухум. Его расчет оправдался: шум погони все больше отдалялся на запад, к линии фронта, и вскоре стих совсем.
Опасность миновала, разведчики сбавили шаг и принялись искать подходящее укрытие, чтобы отсидеться днем.
Глазастый Ахра первым увидел в предрассветном полумраке разлом в скале. Но прежде чем разбить лагерь, Кавказ с Масиком поменяли повязку на ране Окана: старая плохо держалась и рукав куртки набух от крови. Потом, перекусив, они по очереди несли службу и набирались сил для нового перехода.
День начался спокойно, гвардейцы никак себя не проявили, а появившиеся над ущельем вражеские вертушки явно прилетали не по их души. Прозвучавшие спустя время разрывы ракет вблизи фронта у Гумисты подтвердили это предположение. Погоня безнадежно потеряла след, и они теперь могли спокойно коротать время, дожидаясь наступления темноты.
Стрелки часов медленно тащились по циферблату. Уставшее за день солнце зацепилось за мохнатую макушку горы, и по дну ущелья заскользили зубастые тени. Стылым холодом потянуло от ледников, а над ручьями заклубился туман. Разведчики оживились и все чаще бросали нетерпеливые взгляды на Кавказа. Тот тянул до последнего и, только когда серая мгла опустилась на долину, распорядился покинуть укрытие.
Ахра привычно занял место впереди, вслед за ним выстроились в цепочку остальные и скорым шагом двинулись на запад. С короткими остановками шли всю ночь. Рассвет застал их на вражеской территории, и Кавказ, не желая рисковать, собрался разбить новый лагерь, но Ахра убедил продолжить марш, и они прибавили шаг.
Близость к своим придала дополнительные силы, и оставшийся километр разведчики пробежали на одном дыхании. Первым шум большой воды уловил Масик, затем его отчетливо услышали остальные. Нарастающий рев Гумисты звучал самой приятной музыкой, и, уже не обращая внимания на опасность, они стремительным рывком форсировали реку и без сил свалились на землю.
Отдышавшись, Кавказ попытался связаться по рации с базой, но сигнал оказался настолько слаб, что надежды быть услышанным не было никакой, и он решил добираться своим ходом. Путь домой оказался намного короче и быстрее, уже к полудню усталые разведчики вышли на окраину Нового Афона. Там подвернулась попутная машина, через полчаса они были на базе и сразу попали в объятия друзей. Окана, едва державшегося на ногах от потери крови, пересадили в «санитарку» и отправили в госпиталь. И когда машина с ним скрылась за поворотом, усталость и напряжение последних дней дали о себе знать.
Пот, грязь, кровь и пережитое, как стальной панцирь, давили на Ибрагима. Не сговариваясь, они вместе с Кавказом отправились купаться на море. Бодрящая апрельская вода как рукой сняла усталость и пробудила волчий аппетит. По возвращении в лагерь в крохотной столовой их ожидал по— настоящему царский обед. Хохотушка Амра не поскупилась и выложила на стол свои лучшие припасы. Ибрагиму казалось, что в своей жизни ничего более вкусного, чем обжигающий губы хачапур-лодочка с плавающим в настоящем масле здоровенным желтком куриного яйца, он еще не ел.
После сытного обеда его быстро разморило, и, засыпая на ходу, он прошел в соседнюю комнату, рухнул как убитый на кровать и проспал остаток дня и всю ночь. Бодрый голос и скрип ступенек подняли его на ноги. В дверях стоял Кавказ, наглаженный и затянутый в ремни, он лучился энергией и уверенностью в завтрашнем дне. Они невольно передались Ибрагиму. Теперь ему все было в охотку — и едкие шутки за ужином новых друзей, и горький перец, подсыпанный Масиком в солянку.
Покидал он базу спецназа с тихой грустью. Война, обжигающее дыхание которой опалило его там, за Гумистой, с пронзительной остротой открыла ему цену жизни и дружбы. УАЗ потряхивало на ухабах дороги, но Ибрагим не замечал ушибов и мыслями продолжал оставаться рядом с Оканом, Масиком и Ахрой, ставшими для него больше чем просто товарищами. Кавказ тоже был немногословен и мало говорил о прошедшей операции. Но его короткие реплики говорили Ибрагиму о том, что прошедший экзамен сдан успешно и вопрос о службе в охране председателя Владислава Ардзинбы был делом решенным. Но когда впереди показались пригороды Гудауты, он снова ощутил волнение. И чем меньше оставалось до штаба, тем сильнее начинало колотиться сердце. Новая встреча с Владиславом Ардзинбой занимала все его мысли.
Машина въехала во двор Государственного комитета обороны, и он, сгорая от нетерпения, первым выскочил из нее. Сегодня здесь было непривычно тихо, лишь небольшая группа бойцов о чем-то оживленно переговаривалась у входа. Кавказ, поздоровавшись с двумя бородачами, дружески кивнул часовому и поднялся на крыльцо. Вслед за ним Ибрагим шагнул на ступеньку, но ствол автомата перекрыл дорогу.
— Зурик, он со мной! — распорядился Кавказ, и часовой отступил в сторону.
Ибрагим, стараясь не отстать от друга, с любопытством смотрел по сторонам и приглядывался к своему будущему месту службы. Перед лестницей их перехватил крепкий, невысокого роста, лет двадцати двух — двадцати пяти боец. Из-под шапки густых и кудрявых волос на Ибрагима задорно поблескивали черные, как маслины, глаза.
— Привет, Кавказ! — живо приветствовал он.
— Здравствуй, Лаврик. Как дела? — скорее из вежливости, чем из любопытства спросил тот.
— Тихо.
— Правильно. Поспешишь, людей насмешишь.
— Слышал, были на операции? — допытывался Лаврик.
— Было дело, — уклончиво ответил Кавказ.
— И как?
— Все вернулись!
— Слава богу! — бодро произнес Лаврик и, бросив на Ибрагима быстрый взгляд, поинтересовался: — Новое пополнение?
— Да, в охрану.
— О, такие нам нужны! — остался он доволен внушительным видом нового бойца.
Кавказ посмотрел на часы и заторопился:
— Извини, Лаврик, мне срочно к Владиславу Григорьевичу.
— Конечно-конечно! — И отступил в сторону.
— Слушай, будь другом, пока я буду у него, познакомь Ибо с Емельянычем и личниками, — уже на ходу бросил Кавказ.
— Никаких проблем, — заверил Лаврик.
Они остались одни, Ибрагим не удержался и полюбопытствовал:
— А кто такие личники?
От удивления брови у Лаврика поползли вверх, и после выразительной паузы он снисходительно ответил:
— Самые крутые ребята!
— И что они делают?
— Охраняют Владислава Григорьевича.
— Здорово! Значит, я тоже буду личником! — с гордостью произнес Ибрагим.
— Ты?! — И тут лукавое лицо Лаврика затвердело.
Он посмотрел на самоуверенного новобранца так, будто увидел впервые, в его глазах вспыхнул и погас задорный огонек, и строго спросил:
— Ты все зачеты сдал?
— Зачеты?!.. Какие еще зачеты? — растерялся Ибрагим и неуверенно ответил: — Да, стрелял, разные там приемы учил, а сегодня вернулся с операции…
— Операция — это, конечно, не стрельба по перепелам, но она в зачет не идет! — перебил Лаврик.
— Как так?! Кавказ сказал, что после нее меня точно возьмут, — потерянно произнес Ибрагим.
— Кавказ, конечно, супер, но зачет есть зачет!
— И что, без него никак?
— Да ты что?! Самого Председателя собрался охранять, а хочешь на халяву проскочить! — Лицо Лаврика стало еще мрачнее, но через секунду оно приняло заговорщицкое выражение, и он заявил: — Ладно, так и быть, из уважения к Кавказу помогу.
— Правда?! А что для этого надо? — оживился Ибрагим.
— Ничего! Тебе просто крупно повезло: Емельяныча нет на месте.
— И что?
— А ты что, про него ничего не слышал? — Глаза у Лаврика округлились, и, понизив голос, он сказал: — Настоящий зверюга! Таких крутых парней заваливал!
— Так что же мне делать? — снова сник Ибрагим.
— Сдавать зачет Джону!
— …Американцу?!
— Он такой же американец, как я китаец! Настоящий абхаз! Жди здесь, я с ним переговорю, и, думаю, все решим, — решительно заявил Лаврик и, крутнувшись волчком, исчез за обитой железом дверью.
Ибрагим нервно сглотнул, бросил тоскливый взгляд на лестницу, но Кавказ не появился, и принялся крупными шагами измерять коридор. Прошла минута, за ней другая, показавшиеся ему вечностью, когда наконец дверь распахнулась и в полумраке белым пятном возникло озабоченное лицо Лаврика. Он энергично махнул рукой и пригласил:
— Заходи!
Собравшись с духом, Ибрагим шагнул в комнату, будто в ледяную воду. В ней находилось четверо. Трое, увешанные оружием, сидели на ободранном диване у стены. Четвертый — настоящий громила, на груди которого с трудом сходился бронежилет, как рождественская елка был усыпан гранатами. За его спиной, на стуле, болтались подствольник и ручной пулемет. Под свирепым взглядом громилы растерявшийся Ибрагим не знал куда деваться.
— Джон, это Ибрагим — доброволец из Турции, — представил его Лаврик.
— Из Турции, говоришь? — сурово переспросил тот и тяжелым взглядом окинул с головы до ног новобранца.
— Из Стамбула, — уточнил Ибрагим.
— Из Стамбула, говоришь? — с разочарованием произнес громила и переглянулся с телохранителями. Их физиономии стали такими кислыми, будто им вместо чачи пришлось выпить уксус.
— Я… Я спортом занимался! В тире стрелял и… потом вчера ходил на операцию.
— Значит, приехал драться за Абхазию?
— Да! Да!
— И хочешь в охрану к Владиславу Григорьевичу?
— Если, конечно, можно… Я не подведу! — поспешил заверить Ибрагим.
— Джон, хватит! Чего тянуть резину! Он что, соловей, чтобы слушать? Пора проверять, и по полной программе! — потерял терпение усатый с короткой стрижкой под ежик телохранитель.
— Как скажете, можно и по полной. Только смотрите, чтобы после нее не задохнулись! — с кривой ухмылкой ответил тот.
А дальше произошло то, что в первую секунду парализовало Ибрагима. Правая рука Джона сорвала с ремня гранату, левая выдернула чеку, и через мгновение она оказалась на ладони остолбеневшего новобранца. Телохранители шарахнулись к стенам, и в его ушах печальным эхом прозвучало:
— Сейчас посмотрим, какой ты телохранитель и абхаз!
В следующую секунду Ибрагим, сам того не ожидая от себя, совершил молниеносный бросок вперед, и граната провалилась за «броник» шутника. Джон, а вместе с ним остальные телохранители онемели от такой прыти новичка, а спустя секунду громовой хохот потряс стены дежурки. Оконфузившийся Джон с трудом выгреб лапищей из-за пазухи гранату, уважительно посмотрел на Ибрагима, дружески похлопал по плечу и сказал:
— Молодец, такие нам подходят! Настоящий абхаз!
— Какой он настоящий, посмотрим, когда дадим одну гранату и пустим против грузинского танка, — язвительно заметил рыжий, со щеголеватой бородкой телохранитель.
— А тебе как — только танк нужен или водила тоже? — нашелся осмелевший Ибрагим.
— Лучше сразу с Шевой.
— С Шевой?.. А это кто?
— Есть такой пес поганый — Шеварднадзе!
— Сволочь!
— Гад! — принялись дружно склонять его телохранители.
— Ну ничего, рано или поздно и до него доберемся! — с ожесточением произнес рыжебородый и, подав руку, представился: — Гембер.
Ибрагим ответил порывистым рукопожатием. Гембер широко улыбнулся, затем обернулся к Джону — его лицо внезапно сморщилось, а губы брезгливо искривились — и с иронией спросил:
— Джон, я что-то не понял, так кому штаны менять надо?
И снова дружный смех сотряс стены дежурки, а когда стих, все вместе они взялись накрывать на стол. Невесть откуда появились лук, петрушка, засохшая, словно деревяшка, колбаса. Позже, когда подошел Кавказ, подоспели дымящаяся мамалыга и трехлитровая бутыль, в которой плескалась обжигающая горло чача, добытые неугомонным Лавриком. Второй раз в своей жизни Ибрагим пил, но крепкий градус не брал. Голова кружилась, но не от выпитого, он был пьян от счастья, что стал своим в этом лихом и бесшабашном воинском братстве!
Глава 4
После изнурительного перехода по горным тропам, размытым весенними паводками, отряд Коса Авидзбы пробрался незамеченным в тыл лагеря военной экспедиции полковника Коньяра. Теперь их разделяла лишь одна неприступная горная гряда, и здесь опять на помощь пришел абрек Абзагу Гумба. Только по одному ему известным приметам нашел среди каменных разломов вход в пещеру и, соорудив факел из коры березы, решительно шагнул в пахнувший сыростью мрак подземелья. Вслед за ним, выстроившись в цепочку, двинулись остальные. Идти пришлось недолго, впереди светлым пятном замаячил выход, они ускорили шаг и вышли на склон, густо поросший молодым ельником.
Коса остался доволен местом — лагерь Коньяра лежал перед ним как на ладони — и объявил привал. Воины, накормив лошадей, спрятали их подальше от чужого глаза перед входом в пещеру и сами легли спать. На ногах остались лишь часовые и Коса Авидзба. С пятью разведчиками, прихватив с собой пистолеты и ружья, он отправился на разведку. Выбравшись из пещеры, они где короткими перебежками, а где ползком стали подбираться к лагерю. За версту до него Зафас Гума первым заметил дозор, и Коса распорядился залечь. Играть с казаками, выросшими среди гор и чувствовавшими себя здесь как дома, было рискованным занятием. Прячась за скалами, разведчики принялись вести наблюдение за лагерем, пытаясь найти слабые места в обороне.
Коньяр остался верен себе, успех недавнего боя не вскружил ему голову, и действовал по всем правилам военной науки. За сутки, прошедшие после боя, солдаты обнесли лагерь трехметровой стеной из деревянного частокола, а по углам укрепили сторожевыми вышками. Артиллерийскую батарею опытные канониры расположили на двух холмах, с которых простреливались все подступы и единственная дорога, ведущая к селению Псху. Во всем, что сейчас наблюдали перед собой Коса и разведчики, чувствовалась основательность и тонкий расчет. «Армейские аристократы» — артиллеристы и те, чтобы не попасть под огонь снайперов, не поленились отрыть для орудий капониры в полный профиль. Предусмотрительный Коньяр не дал свободы даже казакам и посадил их на короткий поводок, а горные тропы дополнительно перекрыл секретами. Глазастые Талах Маршания и Камшиш Джелкан насчитали их целых шесть.
— Шакалы! Ощетинились — и не подобраться! — с ожесточением произнес Талах.
— А если сесть на хвост разъезду и за ним прорваться в лагерь? — предложил Камшиш.
— Легко сказать! А как? — усомнился Кясоу Отырба.
— Вон за тем лесочком спрятаться, а потом рвануть к воротам.
— Толку не будет. Батарея как кость в горле! Заметят и одним залпом накроют! — отмел это предложение Зафас Гума.
— Остается бить на марше, — заключил Кясоу.
— На марше?! А как? — Вопрос Камшиша повис в воздухе.
— Братцы! Смотрите, они зашевелились! — всполошился Талах.
И снова внимание Коса и разведчиков сосредоточилось на лагере. Монотонное течение его жизни нарушила оживленная суета в расположении эскадрона есаула Найденова. Сам он на гарцующем жеребце, в окружении десятка казаков легким аллюром проскакал по полю. Коса внимательно наблюдал за ними и, судя по тому, что сейчас происходило, догадался — казаки готовились к джигитовке, и, чтобы лишний раз убедиться в своем предположении, навел подзорную трубу на центр лагеря.
Перед глазами крупным планом возникла штабная палатка, у входа в нее не было заметно той суматошной беготни вестовых и ординарцев, что предшествует выступлению в поход. Так же неспешно протекала жизнь и на позициях артиллерийской батареи. Канониры, раздевшись до пояса, лениво чистили банниками стволы орудий. Последние опасения, что Коньяр в ближайшие часы может двинуть свои штурмовые роты на Псху, у Коса рассеялись, после того как он увидел у реки десяток солдат, разделывавших туши коров. Все, вместе взятое, говорило о том, что у него впереди были еще полдня и ночь. Он пока не знал, как подступиться к лагерю, но для себя уже решил и объявил:
— Атаку будем готовить в ночь!
— А если Коньяр двинется сейчас, тогда что? — все еще сомневался Талах.
— За хвост хватать! — мрачно обронил Зафас.
— За какой?! — с ожесточением произнес Кясоу.
— Хватит причитать! — с раздражением оборвал Коса и решительно объявил: — Все решено! Будем готовить атаку.
— Какую?! Забор головой не прошибешь! — буркнул Камшиш.
— А если и прошибешь, что толку?! Они нас, как капусту, покрошат! — вторил Талах.
— Надо выманивать в поле, — предложил Зафас.
— Ночью?.. Коньяр не идиот! Он и носа за забор не высунет, — с ходу отмел его предложение Кясоу.
— Значит, днем, — вяло стоял на своем Зафас.
— Бесполезно, артиллерия от нас одно мокрое место оставит, — уныло заключил Камшиш.
— Выходит, все напрасно? — И этот горестный возглас Талаха посеял еще большее уныние в душе Коса и его товарищей.
Они, не раздумывая, готовы были заплатить своими смертями за жизни тех, кого больше всего любили, но оборона лагеря не имела уязвимых мест. Опытные воины, они прекрасно понимали, что вряд ли могут рассчитывать на то, что в бою с почти тысячью хорошо вооруженных солдат, засевших за стенами прочного забора, им удастся оттащить противника от ущелья и дать прорваться в долину отряду Гедлача. Бой на открытой местности, под стволами пушек был равносилен самоубийству.
«Коньяр — не голодный пес и не станет бросаться на кость! Тут прав Камшиш, он первым делом пустит в ход артиллерию, а затем двинет кавалерию. Так где же выход? Где?» — терзался Коса в поисках ответа.
— Чтоб их, шакалов, на куски разорвало!
Яростный возглас Зафаса заставил его встрепенуться. Сам того не подозревая, он дал подсказку. Спеша ее подтвердить, Коса схватил подзорную трубу и навел на лагерь. Перед глазами проплыли часовые, застывшие на сторожевых вышках, шеренга солдат, раз за разом протыкающих штыками соломенные чучела, группа офицеров у входа в штабную палатку. Все это было не то.
«Куда же вы его спрятали?.. Куда?!» — пытался Коса найти ключ к успеху будущей атаки и снова приник к подзорной трубе.
На этот раз он старался не упустить мелочей, которые дали бы подсказку, и внимательно осматривал каждый клочок местности вблизи артиллерийской батареи. И его настойчивость была вознаграждена. Солдат, застывший, как свечка, под кустом орешника, и утоптанная дорожка, обрывавшаяся у зарослей терновника, заставили учащенно забиться сердце. Он нашел то, что искал, и, чтобы проверить догадку, сунул подзорную трубу Абзагу Гумбе, ткнул пальцем правее последнего капонира и предложил:
— Посмотри! Если не ошибаюсь, там пороховой погреб.
— Точно! — подтвердил он. Через мгновение его лицо просветлело, и он воскликнул: — Коса, ты гений! Теперь они наши!
Это был тот единственный шанс, позволявший не только взломать неприступную оборону лагеря, а и надолго вывести из строя войска Коньяра. Абзагу снова приник к подзорной трубе и вскоре помимо основного порохового погреба обнаружил еще один — расположенный у самого крепостного забора. Удача наконец сама шла им в руки.
— О чем вы?
— Чего там увидели?
— Дайте посмотреть! — теребили их вопросами и рвали из рук подзорную трубу Камшиш с Зафасом.
— Ну ты и голова, Коса! Если удачно рванет, то батарею и пол-лагеря снесет! — не мог сдержать восхищения Абзагу.
— Половину не половину, но дорогу точно себе проложим, — скромничал тот.
— Предлагаете рвануть пороховой погреб? — сообразил Камшиш.
— Теперь мы им покажем! — оживился Зафас.
Перебивая друг друга, они дополняли деталями план предстоящей ночной атаки на лагерь Коньяра.
— А если еще лошадей угнать?! — пошел дальше Талах.
— Запросто! Охрана там хилая, — поддержал его Кясоу.
— Стреножим казаков, а с пехотой как-нибудь справимся! — согласился с ними Камшиш и довольно потер руки.
— Про артиллерию не забывайте, — напомнил Кясоу.
— Это если от нее что-то останется! — отмахнулся Талах.
— Рано радуемся! К погребам и лошадям еще надо подобраться, — пытался остудить пыл Коса.
— Подберемся! — не терял уверенности Камшиш.
— Еще бы Коньяра на кинжал взять, и тогда… — размечтался Зафас.
— Заодно офицерье подрезать, и потом с этим стадом делай что хочешь! — присоединился к нему Камшиш.
Коса слушал, не перебивал и на невидимых весах взвешивал все предложения. К приходу Апсара с новой сменой разведчиков план ночной атаки на лагерь Коньяра был уже готов. С полуслова он оценил его преимущества и безоговорочно принял. Теперь им оставалось только одно — молить Всевышнего о том, чтобы эту ночь русские провели в лагере. Судя по тому, что происходило в долине, они не собирались в ближайшие часы идти походом на Псху. Коньяр, видимо, полагал, что ему удалось надежно запереть горцев в ловушке, и не спешил сломя голову нестись вглубь гор, а по всем правилам военного искусства готовился к решающему штурму. Он дожидался возвращения лазутчиков, посланных под Псху, и потому отложил выступление еще на сутки.
Для Апсара, Коса и остальных семидесяти восьми воинов, в руках которых находилась судьба тысячи двухсот женщин, стариков и детей, начался свой отсчет времени. Оставив Кясоу и Камшиша наблюдать за перемещениями в лагере, они возвратились к пещере и занялись подготовкой к ночной атаке. Коньяр ничего не подозревал о близости противника и, убаюканный донесениями лазутчиков, ослабил «вожжи службы». В передовых секретах не особенно заботились о маскировке: на солнце то и дело поблескивали линзы биноклей и подзорных труб. Казачьи разъезды, не таясь, патрулировали единственную дорогу, ведущую в Псху, и горные тропы. На дальнем выпасе под присмотром всего нескольких сторожей пасся табун лошадей. Все, вместе взятое, убеждало Коса в том, что в голове Коньяра, видимо, даже не возникало и мысли о присутствии под боком отряда горцев.
Прошел час, за ним другой, ничто не нарушило размеренной жизни в лагере, и это укрепляло уверенность Коса в успехе задуманного. Он торопил приход ночи. Наконец солнце нехотя скатилось к горизонту, длинные зубастые тени гор заскользили по долине, а из ущелий косматыми языками потянулся туман. Подошло время ужина, и в лагере стало заметно оживленнее. К котлам с наваристой кашей выстроились очереди солдат, а под навесом за походным столом собрались офицеры. Продолжался он недолго, и с наступлением темноты солдаты и офицеры отправились спать.
Пришло время действий для Коса и его воинов. Часы отсчитывали последние минуты их жизни и жизни русских солдат. Но ни он сам, ни другие воины не испытывали страха смерти. Они переступили через него еще в Псху и готовились встретить ее так, как подобает настоящему воину. Булатная сталь клинков печально повизгивала под точилами. Сухо лязгали затворы ружей и пистолетов. Новые глубокие зарубки покрывали древко пики, чтобы в решающий момент рука не соскользнула с него. Их верные и испытанные боевые соратники — кони тоже чувствовали приближение боя, яростно грызли мундштуки и нетерпеливо перебирали ногами.
Коса последний раз прошелся точилом по лезвию кинжала, оно холодно блеснуло в тусклом лунном свете, и, вложив в ножны, отправился обходить воинов. Все они, так же как и Коса, жили предстоящей схваткой. Кясоу, примеряясь к будущему врагу, со свистом рассекал саблей воздух. Камшиш в стремительном выпаде раз за разом выбрасывал вперед руку с пикой и вышибал из седла казака. Зафас с двумя кинжалами в руках с невероятной скоростью раскручивал «вертушку» и врубался в ряды пехоты. Спустившись ниже, Коса невольно замедлил шаг и подошел к племяннику. Тот приподнялся.
— Сиди, сиди, Аслан! — положил он руку ему на плечо и присел рядом.
Через месяц Аслану исполнилось бы только семнадцать, но на войне быстро взрослеют, за его спиной был уже не один бой. Сын Арсола, он во всем походил на отца, но ему не хватало его опыта и выдержки. Дерзкий и стремительный Аслан был хорош в лихой атаке, однако в вязком бою эти качества и жажда мести являлись только помехой. Коса мягко опустил руку на его плечо и спросил:
— О чем думаешь?
— Об одном. Отомстить за отца! — с ожесточением ответил он.
— Мой брат и твой отец был достойным человеком и настоящим воином, — печально произнес Коса.
Плечо Аслана дрогнуло и с губ сорвалось:
— Проклятые гяуры! Они дорого за него заплатят!
— Месть — дело святое, но ты молод и должен думать о жизни.
— Какой?! Вчера они забрали отца, сегодня — землю, и что остается?! — У Аслана больше не нашлось слов, ярость и гнев душили его.
— Остаются дети и вера, — напомнил Коса.
— Дети?.. У меня?!
— Да, у тебя.
— Но оттуда не возвращаются!
— Возвращаются, если не умерла вера.
— Вера?.. Во что?!
— В то, что мы вернемся домой.
— Домой?!
— Да! И потому ты должен жить!
— Я?.. А разве мы не пришли умирать?!!
— Не ищи смерти, Аслан! Придет время, она сама тебя найдет. Думай о жизни! — обронил Коса и, пожав руку, продолжил обход воинов.
Они, так же как и Аслан, были там, среди крови и смерти. А она уже готовила поле для своей страшной жатвы. Луна спряталась за облака, внизу плотная пелена тумана укутала лагерь, а Коса все медлил с командой и ждал, когда крепкий сон притупит бдительность часовых, а еще больше — сигнала от Гедлача Авидзбы. Его отряд вот-вот должен был появиться у переправы через Гумисту, но восточный склон горы безмолвствовал.
Прошло около часа, когда наконец глазастый Кясоу заметил слабую вспышку, и это не был обман зрения — с коротким перерывом она повторилась трижды. Гедлач дал о себе знать, и отряд Коса пришел в движение. Первыми к лагерю двинулись девять воинов, их вел Апсар. Им предстояло уничтожить пороховые погреба. Сразу за ними тронулась вторая группа. В нее Талах Маршания отобрал лучших угонщиков, ухитрявшихся уводить лошадей даже из-под носа кавказской овчарки.
Они беззвучно растворились в темноте, а для Коса и остальных воинов потянулись минуты томительного ожидания. Напряжение нарастало, нетерпеливые начали поторапливать с выступлением, но он оставался непреклонен и, когда по его расчетам группы Апсара и Талаха должны были подобраться к своим целям, взял под уздцы коня и первым шагнул к лощине.
Серыми призраками горцы подкрадывались к лагерю. Поднявшийся ветер шелестел прошлогодними листьями и скрадывал неосторожные шаги. Лошади будто понимали своих хозяев, и ни один камень не скатился из-под копыт, предусмотрительно обернутых шкурами. Саженей за четыреста до лагеря Коса распорядился укрыться в густом орешнике. Воины и послушные руке хозяина лошади распластались на земле, готовые в любую секунду сорваться в бешеном галопе и обрушиться на неприятеля.
Теперь все зависело от удачливости Апсара и его воинов. Никем не замеченные, они подобрались к забору, залегли в десяти саженях от сторожевой вышки и стали прислушиваться к тому, что происходило в лагере. В нем царил покой, изредка нарушаемый перекличкой часовых, в которой чуткое ухо Апсара не уловило опасности. Тот, что стоял над ними на вышке, борясь со сном, то приседал на корточки, то подтягивался на стропилине, и эта возня им была только на руку.
— Кясоу, Камшиш, пришло ваше время! — тихо произнес Апсар.
— Его тоже, — процедил Камшиш и подался вперед.
— Подожди, Кам, если что…
— Я ему, как барану, башку сверну! — отрезал тот.
— Не первый раз. Мы его снимем, Апсар! — заверил Кясоу и вслед за Камшишем растворился в темноте.
Одним стремительным броском они подобрались к забору и затаились. Их перемещение осталось незамеченным, часовой продолжал упражняться, и скрип досок под ногами скрадывал остальные звуки. Камшиш не стал больше ждать, поднялся с земли и распрямился во весь рост. Кясоу кошкой вскарабкался ему на плечи и, перемахнув забор, замер у сторожевой вышки.
Прошла секунда-другая, сверху по-прежнему доносились сопение и треск досок, ходивших ходуном под ногами часового. Кясоу перевел дыхание и шагнул на ступеньку. Она предательски скрипнула, но на вышке не обратили внимания, и он, припадая на каждом шаге, все ближе подбирался к нему. Пальцы коснулись деревянного настила смотровой площадки, и перед глазами серыми колодками-тумбами возникли сапоги. В нос шибанул прогорклый запах дегтя, и рука Кясоу легла на рукоять кинжала. В следующее мгновение он взвился в воздух и обрушился на плечи часового. Левая рука зажала раскрывшийся во вскрике рот, а правая в коротком замахе взметнула кинжал. Холодная сталь рассекла горло, и обмякшее тело кулем рухнуло на помост. Путь в лагерь был открыт, и Кясоу дал сигнал.
На плач «сыча» отозвался Апсар и вслед за Камшишем перебрался через забор. Через минуту уже все разведчики собрались под сторожевой вышкой. Такой быстрый и легкий успех кружил головы, и радостный шелест голосов вкрался в ночную тишину.
— Тихо! — цыкнул Апсар и спросил: — Ты как, Кясоу?
— Нормально! — коротко ответил тот.
— Хорошо! Я, Кам и Зафас займемся погребами, а ты бери остальных — и к Коньяру!
— Может, еще кого-то себе возьмешь? — предложил Кясоу.
— Хватит! Справимся! — отказался Апсар и уже вслед предупредил: — Только тихо, не вспугните!
— Мы, как мыши, никто не услышит, — заверил Кясоу и, распластавшись на земле, исчез в темноте.
Вместе с ним еще шестеро воинов, прячась от часовых за палатками и возами, шаг за шагом приближались к центру лагеря. За время дневных наблюдений Кясоу изучил его как свои пять пальцев и, ни разу не сбившись, вышел прямо к тарантасу, в котором Коньяр перевозил свой походный скарб. Забравшись под него, они дождались, когда луна вышла из-за туч, и осмотрелись по сторонам. Единственный часовой, описывавший круги вокруг штабных палаток, не был серьезной помехой, и Кясоу ждал только одного — сигнала от Апсара: взрыва пороховых погребов.
У него возникли проблемы. К погребам, оказалось, не так-то просто подобраться. Ночью их охраняли спаренные часовые. Редкий кустарник у патрульной тропы служил слабым прикрытием, а высокая прошлогодняя трава была лишь помехой. Каждое неосторожное движение в ней отзывалось треском и настораживало часовых. До них оставалось не больше десяти саженей, но Апсар с Камшишем и Зафасом вынуждены были залечь. Время шло, приближалась смена часовых, а они ничего не могли поделать.
— Может, рискнем, Апсар? — потерял терпение Камшиш.
— Шум поднимется, — отказался он.
— Я успею ему заткнуть рот.
— А если… Нет, не пойдет. Давай к основному — глядишь, там получится, а мы тут с Зафасом как-нибудь справимся, — решил Апсар.
— Как скажешь, — не стал больше спорить Камшиш и отполз к скале.
Зафас выждал и, когда стихли шорохи, ящерицей заскользил ко второму часовому, маячившему перед входом в пороховой погреб. Апсар, оставшись один, так и не дождался, когда первый изменит свой маршрут, и решил действовать. Старый трюк сработал, шум от брошенного камня привлек его внимание. Шорох травы становился все ближе, Апсар вытащил кинжал из ножен и приготовился к прыжку. Часовой появился неожиданно и в блеклом лунном свете выглядел чуть ли не великаном. Разжавшись, как пружина, Апсар взвился над землей и обрушился на него. Лезвие легко вошло в обмякшее тело, и они оба рухнули на землю.
Несколькими мгновениями раньше с другим часовым покончил Зафас, и путь к резервному пороховому погребу теперь был открыт. Оставив его готовить подрыв, Апсар отправился на помощь Камшишу. Здесь им повезло меньше. Первого, задремавшего на посту часового они сняли без помех, а со вторым пришлось повозиться. Кинжал Камшиша защепил ствол ружья и лишь поранил ему руку. Сдавленный крик нарушил ночную тишину и тут же оборвался — после второго удара Апсара голова часового слетела с плеч, будто кочан капусты.
С охраной было покончено, к этому времени Зафас подготовил к взрыву резервный пороховой погреб и ждал команды Апсара. Тот, взломав дверь, за которой хранились сотни пудов зарядов, швырнул один конец запального шнура Камшишу, а сам нырнул в темный зев хранилища. Штабеля деревянных ящиков с порохом занимали все свободное пространство. Он сорвал кинжалом крышку с первого попавшегося под руку и воткнул в него конец запального шнура, а выбравшись из погреба, на ходу бросил:
— Все, Камшиш, они наши! Запаливай — и к Зафасу!
Тот поджег запальный шнур и вслед за ним где ползком, а где короткими перебежками возвратился к резервному пороховому погребу и скатился в яму, где их ждал Зафас.
— У тебя готово? — спросил Апсар.
— Да, — ответил он.
— Поджигай!
И через мгновение еле заметный в траве, сердито шипящий огонек устремился к пороховому погребу, резво перепрыгнув земляной валик перед входом, последний раз ярко пыхнул и нырнул вниз. Апсар, Камшиш и Зафас прикрыли головы руками и сжались в комок. Один за другим два мощных взрыва сотрясли горы и долину. Чудовищная взрывная волна, словно спички, смела восточную часть крепостной стены вместе со сторожевой вышкой и, увлекая за собой груды камней, обрушилась на палатки со спящими солдатами и офицерами.
Не успели затихнуть раскаты взрыва и осесть пыль, как Кясоу, а с ним еще семь воинов, выхватив сабли и кинжалы, ринулись вырезать офицеров. Сам он, перемахнув через повозку, первым оказался у палатки Коньяра, саблей располосовал полог и ворвался внутрь. Слабый свет оплывшей свечи выхватил из полумрака метнувшуюся навстречу серую тень. Подчиняясь инстинкту, Кясоу совершил нырок влево. Перед глазами тускло блеснуло лезвие штыка, холодная сталь обожгла плечо, а в следующее мгновение рука вонзила кинжал в живот навалившегося на него тела. Сбросив его на землю, он ринулся к ширме, сорвал ее и оказался перед пустой постелью. Кто был тот нападавший — Коньяр или ординарец, уже некогда было разбираться. Из соседней — офицерской палатки доносились яростные крики, стоны, и он бросился на помощь. К его появлению там было все кончено. Потеряв двоих убитыми, Кясоу с оставшимися воинами двинулся навстречу основным силам.
Полыхавшее над лагерем зарево на фоне суровой панорамы гор придавало развалинам устрашающий вид. Восточная его часть была стерта с лица земли, а на месте пороховых погребов зияли гигантские провалы. Выжившие после взрывов и растерявшиеся без офицеров солдаты превратились в неуправляемую толпу, суматошно мечущуюся среди пожарищ, и стали легкой добычей для отряда Коса. Ворвавшись через провал в крепостной стене, горцы безжалостно рубили саблями и кололи пиками всех, кто попадался на пути. Не встречая серьезного сопротивления, они сокрушительным ураганом промчались через лагерь, перед западными воротами развернулись и повторили атаку.
К этому времени пришли в себя казаки Найденова. Потеря лошадей — об этом есаулу сказал топот копыт уносящегося вглубь ущелья табуна — их не деморализовала, сбившись в круг, они ответили ружейным огнем. Коньяр, ускользнувший от кинжала Кясоу, собрал вокруг себя уцелевших от резни офицеров, и вместе они принялись решительно наводить порядок в потерявших управление ротах. Это ему удалось, новая атака горцев натолкнулась на упорное сопротивление. Потеряв шестерых убитыми, Коса, сам раненный в левую руку, перегруппировал силы и, чтобы не дать Коньяру замкнуть оборону, обрушился на ее левый фланг.
На этот раз пехотинцы не только устояли, а и сами перешли в контратаку. Выстроив роты полумесяцем, Коньяр старался отрезать пути отхода горцев и теснил к уцелевшей после взрыва западной крепостной стене. А они кинжальными выпадами обрушивались то на один, то на другой фланг и, не жалея своих жизней, терзали противника, чтобы дать возможность отряду Гедлача Авидзбы и семьям вырваться из западни.
С каждой новой атакой ряды горцев редели, пространство для маневра сокращалось, пехота и казаки сжимали вокруг них кольцо окружения. Потеряв коня и расстреляв заряды, Кясоу Отырба, поднятый на штыки, все еще тянулся кинжалом к врагу. Камшиш Джелкан уже ничем не мог помочь старому другу Абзагу Гумбе. Тот, оставшись без оружия, с голыми руками кинулся на казацкие шашки. Сам он, прижатый к стене, продолжал отчаянно отбиваться сломанной саблей, пока казацкая пика не пронзила его.
Инициатива в бою полностью перешла к Коньяру, и он, не желая понапрасну терять солдат в рукопашной с осатаневшими горцами, выставил перед цепью стрелков телеги с повозками и ружейным огнем методично уничтожал их. Горцы же и не помышляли, как вырваться из окружения, но и не собирались оставаться живыми мишенями. Пешие, конные с яростными криками «Смерть гяурам! Смерть шакалам!» ринулись в свою последнюю атаку.
Первая шеренга всадников, послужившая живым щитом, полегла под пулями, но те, кто был за ней, вломились в оборону и бросились в сабельную рубку. Лошади, люди — все смешалось в один грохочущий выстрелами, взвизгивающий сабельными ударами и отзывающийся предсмертными стонами и нечеловеческими воплями кровавый клубок тел, катившийся по склону горы к реке.
Коса чудом еще держался в седле, левая рука обвисла бессильной плетью, а бежавшая ручьем из раны на голове кровь заливала глаза. Отбивая саблей удары штыков и казацких пик, он рвался к есаулу. В эти мгновения для него, кроме Найденова, никого другого не существовало, жгучая ненависть к нему была сильнее боли и давала силы. Их разделяло всего четыре сажени, Коса вонзил шпоры в бока коня, поднял на дыбы и бросил вперед. Но верный Химс так и не смог их преодолеть. Штык вонзился ему в брюхо, и оба — всадник и конь — рухнули на землю, а через мгновение две казацкие пики пригвоздили Коса к земле.
С его смертью бой распался на отдельные очаги сопротивления. Ожесточившись после чудовищных потерь, пехотинцы и казаки не собирались брать пленных. О плене не помышляли и сами горцы и потому дрались с яростью и упорством обреченных. Апсар вместе с Асланом и молочным братом Адгуром, потеряв коней, стали в круг и продолжали рубиться до тех пор, пока их не подняли на штыки. Последние восемь израненных и еле державшихся на ногах горцев были зажаты между сторожевой вышкой и крепостным забором и уже не могли оказать сопротивления. Но Коньяр с Найденовым не пытались остановить остервеневших от вида крови солдат и казаков. Они продолжали рубить, колоть и стрелять в корчившиеся в предсмертной агонии тела.
Прошло несколько минут, и отряд Коса Авидзбы перестал существовать, но Коньяру рано было торжествовать победу. Его чуткое ухо уловило в наступившей тишине еле слышный гул, доносившийся из западного ущелья. С каждой секундой он становился все сильнее, и вскоре земля задрожала от топота сотен несущихся в бешеном галопе лошадей. Отряд под командованием Гедлача Авидзбы, с ходу форсировав Гумисту, спешил на выручку тем, кому уже ничем нельзя было помочь.
Эта новая и неожиданная угроза застигла Коньяра врасплох и заставила похолодеть. В тусклом лунном свете ревущая лавина всадников, накатывавшая на лагерь, выглядела устрашающей. Офицеры надрывались, стараясь хоть как-то организовать оборону, но их попытки не смогли остановить стремительного натиска горцев. Они смели передовые цепи, и только упорство казаков Найденова приостановило атаку, тут «коса нашла на камень». Есаул, собрав вокруг себя четыре десятка испытанных бойцов и построив их клином, все глубже вгрызался в ряды горцев. Коньяр тут же воспользовался моментом и бросил на их левый фланг то, что осталось от самого боеспособного батальона капитана Румянцева.
Опытный Гедлач, почувствовав грозящую опасность, не стал ввязываться в позиционный бой, в котором численное превосходство было не на его стороне, и дал команду к отходу. Сиплый зов трубы проплыл над долиной, и отряд горцев, так же неожиданно, как и появился, исчез в густом тумане, клубившемся у реки. Но Коньяр не питал иллюзий в отношении своей победы, так как хорошо знал излюбленную тактику горцев: «наскок — отход». В отсутствие артиллерии и устойчивой линии обороны преимущество было на их стороне, и они, в чем он ни на секунду не сомневался, непременно воспользуются этим и постараются измотать его кавалерийскими наскоками.
От ярости Коньяр заскрипел зубами. Под закат военной карьеры так глупо угодить в мышеловку, которую сам готовил другим, — большего позора, чем этот, он представить себе не мог. Его, как зеленого юнкера, обвели вокруг пальца, и теперь ничего другого не оставалось, как только поскорее унести ноги, чтобы избежать полного разгрома или того хуже — плена. Понимали это и Найденов с Вронским и Румянцевым, но молчали, оставив последнее слово за ним.
Оно давалось Коньяру нелегко, он все еще надеялся переломить ход боя в свою пользу. Но новая волна горцев, накатившая на левый фланг обороны и смявшая его, еще больше усилила панику. Солдаты больше думали о спасении, чем о сопротивлении, медлить дальше было нельзя. Горцы вновь, как привидения, возникли из предрассветного полумрака, с диким гиканьем налетели на правый фланг и, оставив после себя десяток порубленных тел, исчезли во тьме.
— Отходим к восточному ущелью! — выдавил из себя Коньяр.
Команду подхватили Вронский с Найденовым, и она пошла по цепям. Воспользовавшись короткой передышкой, они вместе с Коньяром, собрав оставшиеся силы в один кулак, стали пробиваться к Сухуму — под защиту артиллерийских батарей Розенкранца. Каре из остатков пехотных рот и эскадрона казаков, огрызаясь залпами на атаки горцев, все дальше откатывалось к восточному ущелью. Узкая, сжимающаяся, будто бутылочное горлышко, долина лишала Гедлача маневра, и, не желая понапрасну терять воинов, он применил испытанную тактику — трепать врага с расстояния ружейного выстрела. Летучие группы в десять — пятнадцать всадников одна за другой с разных сторон подскакивали к противнику и, дав залп, уносились обратно. Так продолжалось до тех пор, пока последний солдат Коньяра не скрылся в темном провале ущелья.
Бой закончился, и потом еще долго в разгромленном лагере и у реки продолжали звучать одиночные выстрелы — пленных в этой безжалостной бойне не брали ни те ни другие. И когда они стихли, то над долиной поплыл, выворачивающий душу и слившийся в один мучительный стон плач женщин и детей. Несчастные матери и безутешные жены бросились искать среди погибших и раненых своих сыновей и мужей.
На село Гума опустилась траурная ночь, и оно покрылось одним — черным — цветом. Живые поминали павших, и, когда земля приняла их, на поляне, под гигантским дубом, где не одно столетие проходили народные сходы, собрались все. Предстояло решить, что делать дальше и где искать спасения. Победа над экспедиционным корпусом полковника Коньяра и его отступление к Сухуму означали лишь временную передышку. Это понимали все, и здесь ни у кого не возникало сомнения в том, что пройдет время — и он вернется, чтобы не оставить от села камня на камне. Они оказались перед неразрешимым выбором: умереть или пробиваться к морю и там искать спасения на дальних берегах. Принять его здесь, у могил близких, среди родных гор, обильно политых собственной кровью и кровью предков, было выше человеческих сил. Никто не решался первым произнести слово, все ждали, что скажут мудрые старики…
Спустя столетие переменчивая военная судьба, как когда-то Гедлача Авидзбу и его земляков, испытывала Ибрагима и его друзей. В тесной комнатенке комендатуры стало вовсе не повернуться, когда вслед за Кавказом, занявшим половину свободного пространства, в нее с трудом втиснулись Окан с Гумом. Они час назад выписались из госпиталя, о чем красноречиво говорили их бледные лица. Окан держался бодро, у Гума время от времени левая щека подергивалась от нервного тика — это давала о себе знать перенесенная контузия.
Ибрагим освободил место на кровати и потянулся к чайнику, но Окан отказался от чая. Едва оправившись от ранения, он уже не мог валяться на больничной койке и рвался в бой. Об этом напоминали настойчивые гудки «газончика» за окном.
— Подожди, не рвись! Выпей хоть чаю! — пытался уговорить его Ибрагим.
— Не могу, Ибо! Я и так сел ребятам на хвост, — мялся Окан.
— Какой еще фронт?! Вы хоть на себя посмотрите! На Гуме лица нет! Ему не на фронт, а обратно в госпиталь надо, — пытался удержать их Кавказ.
— Я… не на фронт! — тихо обронил тот.
— И правильно! Поживешь у меня, — поддержал Ибрагим.
Гум страдальчески поморщился и, пряча глаза, с трудом выдавил из себя:
— Я. Я домой.
— В Турцию?! — опешил Ибрагим.
И в комнате воцарилось тягостное молчание. Для бедняги Гума оно было хуже пытки. Он нервно кусал губы и не мог найти нужных слов.
— Конечно, лучше в Стамбул. Подлечишься и через месяц будешь как огурчик, — первым нашелся Окан.
— Как раз к победе успеешь! — присоединился к нему Кавказ.
— К победе?! — И здесь Гума прорвало: — Вы думаете, я бегу?! Нет! Я не трус!.. Я…
Его худенькое тело сотрясали глухие рыдания. Друзья прятали глаза, даже Кавказ, повидавший всякого на своем военном веку, растерялся и не знал, что сказать. Прошла секунда-другая — и они наперебой принялись его утешать:
— Все нормально, Гум.
— Выбрось это из головы!
— Какой трус — три недели в окопах!
Но он их не слышал. В нем с новой силой ожили прошлые жуткие видения. Обхватив голову руками, Гум раскачивался из стороны в сторону и как заведенный твердил:
— Мы были рядом!.. И потом — все!.. Все!!! Ничего не осталось!.. Понимаете — ничего!
Кавказ, как ребенка, гладил его по голове и тихонько приговаривал:
— Что поделаешь, это война, но и она закончится. Вот увидишь, все будет хорошо. Все будет хорошо.
— Нет! Нет!.. Я не могу! Эта кровь! Эти.
Пальцы Гума скребли по груди так, словно сдирали с себя останки растерзанного взрывом мины ополченца. Кавказ стрельнул взглядом на Ибрагима, он понял все без слов, метнулся к тумбочке, в которой всегда имелась дежурная бутылка, содрал пробку, налил в кружку водки и протянул Гуму. Он сделал глоток, потом другой и зашелся в кашле. Кавказ плеснул из чайника воды в стакан, сунул ему в руку и, похлопывая по спине, повторял:
— Пей-пей, сейчас пройдет! Все пройдет.
— А теперь закуси, — предложил Ибрагим лепешку, когда Гум перевел дыхание.
Он отломил кусок, откинулся к стене, закрыл глаза и принялся вяло жевать. Окан, помявшись, поднялся со стула и, глядя в сторону, невнятно произнес:
— Вы извините, ребята, мне пора.
— Я провожу, — подхватился Ибрагим.
— Не надо! Лучше присмотри за Гумом, — отказался Окан, кивнул на прощание и вышел из комнаты.
— Окан, прости! — крикнул вдогонку Гум, и его голова упала на грудь.
— Пожалуй, и я пойду, — стал собираться Кавказ.
— Может, перекусишь, — снова предложил Ибрагим.
— Нет, спасибо. Меня ждут в штабе.
— Кавказ, прости, если можешь? — снова ожил Гум.
— За что?! Ты свой долг исполнил. Главное — здоровье, — грустно произнес он и на прощание попросил: — Будешь в Стамбуле, передай нашим привет.
— Я не трус! Я вернусь, Кавказ! Обязательно вернусь! — продолжал твердить Гум и стыдился поднять голову.
С уходом Кавказа в комнате стало и вовсе тоскливо и неуютно. Ибрагим чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, с чего начать разговор. За него это сделал Гум. Он поднялся со стула, на нетвердых ногах прошел в угол, поднял сумку и, обернувшись, еле слышно сказал:
— Пора и мне.
— Может, заночуешь, — скорее из вежливости предложил Ибрагим.
— Нет, надо ехать.
— Своим ходом?
— На попутных доберусь.
— Подожди, я что-нибудь придумаю.
— Оставь, Ибо, у тебя и так дел по горло.
— Жди, я сейчас! — решительно заявил он и отправился в комендатуру — искать свободную машину.
Ему повезло — заместитель начальника охраны Владислава Ардзинбы подполковник Владимир Жулев, среди своего брата просто Емельяныч, встретился по дороге. Немногословный в разговорах и конкретный в делах (десяток лет службы — и не где-нибудь, а в КГБ — говорил сам за себя), он с полуслова понял молодого телохранителя и разрешил не только взять УАЗ, а и проводить друга до границы. Этот жест со стороны Емельяныча поднял Гуму настроение. Он был не прочь сходить в столовую, но время поджимало — в девять граница на Псоу закрывалась, и они не мешкая тронулись в дорогу. Сорок пять минут пролетели, как миг, и растворились в сумбурном разговоре. В нем переплелись детские воспоминания, время учебы в лицее и университете. Не сговариваясь, оба избегали затрагивать тему войны, она и без того на каждом шагу напоминала о себе.
Последняя ее отметина — изрешеченная осколками будка ГАИ — осталась позади, и дорогу перегородила черно-белая зебра пограничного шлагбаума. Там, за ним, начиналась иная жизнь, в которой не было ни бомбежек, ни артобстрелов, ни крови, ни человеческих страданий. От нее их отделял десяток метров невзрачного моста, нависшего над обмелевшей рекой. По нему полтора месяца назад они, не чуя под собой ног от радости и счастья, пронеслись на одном дыхании, чтобы наконец прикоснуться к земле, о которой мечтали их отцы и деды. Теперь им казалось, что с того дня прошла целая вечность. Война жестоко и безжалостно, не спрашивая разрешения, кроила их жизнь на свой лад. И сегодня она снова вмешалась в судьбу старых друзей, чтобы развести по разные стороны моста, ставшего для одних дорогой в бессмертие, а для других — тернистым путем к будущей победе.
Проходила минута за минутой, а они все не решались сказать последнего слова, каждый раз оно камнем застревало в горле. Пограничник бросал на них нетерпеливые взгляды — приближалось время закрытия границы, понимал, что творилось в душах друзей, и ждал до последнего. Гум ответил ему благодарным взглядом и, подавшись к Ибрагиму, порывисто обнял и торопливо произнес:
— Я вернусь, Ибо! Я вернусь! Ты веришь?
— Да, да! Все будет хорошо! — сбивчиво отвечал Ибрагим, и в этот миг ему казалось, что вместе с Гумом уходило нечто большее, чем просто память о прошлом.
— Ребята, время! — поторопил пограничник.
— Еще минуту, — попросил Ибрагим и, сунув в руки Гума конверт, пояснил: — Передай моим.
— Конечно, Ибо! — заверил он и шагнул к пограничному переходу.
Сержант поднял шлагбаум, бегло просмотрел паспорт и освободил проход. Гум ступил на мост и тяжело, будто на его ногах висели пудовые гири, двинулся к русскому берегу. Пограничник опустил шлагбаум, и он, словно бритва, безжалостно отрезал Ибрагима от той мирной жизни, что веселыми огоньками плескалась за рекой, и от самого Гума. Зеленая рубаха друга уже растворилась в вечернем полумраке, а он все не мог двинуться с места.
— Отвоевался парень, — с сочувствием произнес пограничник.
— Он еще вернется, — тихо обронил Ибрагим и направился УАЗу.
Рука, будто чужая, повернула ключ зажигания, двигатель сердито заурчал, и, выпустив клуб сизого дыма, машина скатилась со стоянки на дорогу. Объехав ежи из колючей проволоки, Ибрагим прибавил скорость, надеясь до наступления ночи возвратиться в Гудауту. Приближался комендантский час, шоссе на глазах пустело, и он за двадцать минут добрался до Гагры. Город встретил хрупкой тишиной и редкими патрулями, лишь в центре, у бывшего санатория «Семнадцатого партсъезда» и горотдела милиции, теплилась жизнь. На посту перед эстакадой у него проверили документы, теперь до поворота на Пицунду можно было выжимать все, что можно. Но, не проехав и километра, двигатель зачихал и затем безнадежно заглох.
Ибрагим чертыхнулся, вышел из машины и поднял капот. На этот раз барахлило не зажигание, все было гораздо хуже — похоже, вышел из строя бензонасос. Ибо с тоской оглянулся по сторонам. Пустыми глазницами выбитых окон на него смотрели брошенные дома. В одном из дворов послышался шум и за забором мелькнул седой ежик волос. Ибрагим шагнул к воротам и постучал. Хозяин обернулся, настороженным взглядом стрельнул из-под кустистых бровей и, помедлив, вышел на улицу. Старательно подбирая слова, Ибрагим пытался объясниться, тот догадался, в чем дело, заглянул под капот и заключил:
— Бензонасос полетел.
— Ес, — подтвердил Ибрагим и, мешая русский с английским, зачастил: — Ай эм… фаст… бистро. Гудаута… Бодигард Владислав Григорьевич.
— Боди? И что?! А я Павел Николаевич, только давай не дави, парень.
— Ес-ес! Бодигард! — И Ибрагим энергично закивал головой.
— Ладно, чего с тебя возьмешь, — добродушно произнес Павел Николаевич и спросил: — Звать-то как? Ну нэйм?
— Ибо! — оживился Ибрагим.
— Ибо так Ибо. Давай налегай! — И Павел Николаевич первым навалился на задний борт УАЗа.
Поднатужившись, они вкатили машину во двор. Павел Николаевич прошел в гараж, вернулся с инструментом и уже вместе они занялись ремонтом. Подгоняемый временем, Ибрагим мало обращал внимания на то, что происходило вокруг, пока не почувствовал на себе чей-то любопытный взгляд и не поднял голову.
С летней террасы на него смотрела высокая, большеглазая, с тонкими чертами лица девушка лет семнадцати.
— Дочь моя, Лика, — перехватив его взгляд, сказал Павел Николаевич.
— Бютифул! — обронил Ибрагим.
— Что? Что ты сказал?!
Он замялся, за него все сказали глаза. Павел Николаевич внезапно помрачнел и с ожесточением произнес:
— С этим, как ты говоришь, бьютифул мы с Анной Ивановной такого страха натерпелись, что не приведи господи. Звери! Детей и стариков не жалели. Выродки! Как таких земля носит? Вынесли из дома все, что можно. Лику. — Больше у Павла Николаевича не нашлось слов, и, погрозив кулаком далекому врагу, он снова склонился над двигателем.
— Папа!.. Ну что ты такое говоришь?! — вспыхнула Лика и, смутившись, скрылась в доме.
Ибрагим, позабыв про гаечный ключ, буравил взглядом захлопнувшуюся дверь.
— Ты что, заснул? Давай крути! — возглас Павла Николаевича заставил его встрепенуться.
Он склонился над двигателем, руки продолжали делать свое дело, а глаза невольно искали Лику. Несколько раз за окном в глубине комнат мелькнула ее стройная фигурка, и его снова охватило будоражащее душу томление. И когда ремонт подошел к концу, у него не хватило сил отказаться от ужина. Хозяйки были искренне рады гостю. Анна Ивановна все норовила подложить ему на тарелку самые лакомые кусочки. Ибрагим отнекивался, но и не спешил выходить из-за стола. Тусклый свет нещадно чадившей керосиновой лампы не мешал ему исподволь любоваться Ликой. Легкие, теплые тени, скользившие по ее лицу, придавали еще большую пикантность ямочкам на щеках, а мелодичный, напоминающий журчание ручейка голос ласкал слух. Многое из того, что говорили она, Павел Николаевич и Анна Ивановна, он плохо понимал, но это не имело значения. К нему вновь возвращалась нормальная жизнь с ее маленькими человеческими радостями и уже позабытыми чувствами.
За окном давно наступила ночь, а он все откладывал отъезд в Гудауту, и когда Павел Николаевич предложил заночевать, скорее из вежливости стал отказываться. Все решил один взгляд Лики, в нем была не просто просьба, а нечто большее, и ему страстно хотелось, чтобы она еще и еще раз так посмотрела на него. Но, наградив мимолетной улыбкой, Лика поднялась из-за стола и ушла в свою комнату.
Они остались одни. Павел Николаевич снова предложил «накатить» по маленькой, но, натолкнувшись на вежливый отказ, не стал настаивать и, докурив сигарету, проводил Ибрагима в его комнату. Цветок на подоконнике, сверкающие белизной простыни, настоящая пуховая подушка — эти трогательные мелочи вновь напомнили ему о доме, и дрогнувшим голосом он произнес:
— Спасибо!
— Чего там! Мы что, не люди? Устраивайся как дома! — И, пожелав спокойной ночи, Павел Николаевич закрыл дверь.
Впервые за последнее время Ибрагим спал безмятежным сном. Разбудил его звон посуды, доносившийся из кухни. Он протер глаза и, бросив взгляд на часы, ужаснулся — стрелки показывали шесть сорок. До заступления в смену по охране Председателя оставалось чуть больше часа. Одевшись на ходу, он ринулся к выходу, тут его перехватил Павел Николаевич и, несмотря на возражения, усадил за стол.
Торопливо глотая куски горячего хачапура и запивая его кофе, Ибрагим бросал короткие взгляды на дверь спальни. Но Лика не появилась, и он тяжело, словно на ногах висели гири, поднялся из-за стола и шагнул на террасу. И тут хрупкую утреннюю тишину нарушил стук каблучков. Его сердце радостно встрепенулось, он оглянулся. На террасу вышла Лика. Легкое летнее платье плотно облегало ее стройную фигурку, а на лице после сна играл нежный румянец. Ему казалось, что она не шла, а плыла в этом пьянящем и кружащем голову хрустально-чистом воздухе. Смущенный взгляд прятался за длинными ресницами, а робкая улыбка звала к себе. Он сделал шаг навстречу. Лика разжала кулачок, и на его ладонь опустился серебряный крестик.
— Ибо, пусть он хранит тебя, — тихо произнесла она и зарделась от смущения.
— Ай кам бэк!.. Я туморроу здесь! — запутался он в русском и английском.
Трепетное тепло ладошки Лики согрело его руку, и потом, когда машина выехала со двора, он продолжал чувствовать ее нежное прикосновение и не отрывал глаз от бокового зеркала, пока девичья фигурка не растаяла в зыбкой утренней дымке. Наперекор войне, несущей страдания и смерть, в его жизнь ворвалось и властно завладело им глубокое чувство. Снова и снова в памяти возникали мимолетный, таящий невысказанную загадку взгляд Лики, ее манящая улыбка и волнующие кровь движения гибкого и сильного тела. Нога невольно отпустила педаль газа, и неподвластная ему сила позвала под крышу уютного домика. Он остановил машину.
«Вернись только на минуту и скажи, что лучше ее никого нет! Если что, Джон подстрахует», — уговаривал один голос.
«Ты что?! Там Емельяныч с ума сходит! А что подумает Владислав Григорьевич?!» — возмутился другой. От одной этой мысли ему стало не по себе.
«Сейчас в Гудауту! А завтра к Лике!» — решил Ибрагим и нажал на газ.
Перед глазами снова замелькали развалины, на выезде из Гагры дорогу перегородил нещадно чадивший грузовик — след недавнего авианалета, но все это не омрачило настроения. В мыслях он жил будущей встречей с Ликой, но этого будущего, как часто случается на войне, у них не было. Она жестоко и безжалостно вмешивалась в жизнь людей и на свой лад кроила их судьбы. Через три дня на месте домика с красной черепичной крышей Ибрагим нашел воронку от взрыва авиабомбы.
А пока он жил теми счастливыми мгновениями, что подарила ему Лика, перебирал в памяти каждое произнесенное ею слово, каждый жест и не заметил вынырнувший из-за облаков вражеский штурмовик. Серая крылатая тень, слившись с горами, заходила на атаку. Руки сами рванули руль вправо, а нога ударила по тормозам. УАЗ крутнулся волчком, едва не опрокинулся и слетел на обочину под крону платана. Пулеметная очередь запоздало хлестанула по асфальту. Он выпрыгнул из кабины, кубарем скатился в кювет и, вжавшись в землю, ждал взрыва, но его не последовало. Летчик решил не размениваться по мелочам и выбрал более подходящую цель. Прошло несколько секунд — и со стороны Гудауты донесся залп зенитной батареи.
Выбравшись из кювета, Ибрагим отряхнул с себя пыль и сел за руль. Надежный трудяга уазик, послушный его руке, выжимал из себя все, что можно. До заступления на главный пост в республике — по охране председателя Государственного комитета обороны Абхазии — оставалось около двадцати минут. Сегодняшняя смена должна была стать седьмой по счету в его службе, но все могло закончиться еще на первой. При воспоминании о ней на лице Ибрагима невольно появилась улыбка. Сейчас произошедшее казалось забавным эпизодом, а тогда, полторы недели назад, ему было вовсе не до смеха.
В ту первую смену на пост номер один он заступил сам не свой. От волнения в памяти перепутались все инструктажи, которые в него усилено «закачали» Гембер с Емельянычем, и если бы не напарник — Джон Хутоба, то к концу дежурства можно было сойти с ума. От нервного напряжения к обеду голова трещала, как переспевший арбуз, а глаза слезились так, будто он часами смотрел на сварку. К концу дня в каждом входящем ему чудился замаскировавшийся террорист, и только присутствие добродушного Джона успокаивало разгулявшиеся нервы.
Смена подходила к концу, Емельяныч вызвал к себе Джона, и тут все завертелось. За воротами требовательно зазвучал сигнал, и через секунду во двор влетел заляпанный грязью по самую крышу ГАЗ-66. Он еще не остановился, а из него посыпались, как горох, бойцы в камуфляжке. Впереди всех несся квадратный, словно шкаф, подполковник с бульдожьей физиономией. Ибрагим решительно преградил путь и потребовал пропуск. Тот зыркнул на него, будто на пустое место, и лапищей попытался отодвинуть в сторону. Но не тут-то было, и тогда на Ибрагима обрушился такой рев, что заложило уши.
Он, за полтора месяца выучивший не больше сотни слов по-русски, из всего сказанного с грехом пополам понял, что кроме подполковника в штаб рвалась еще какая-то мать с кучей непонятных родственников, и продолжал упрямо твердить про пропуска. Тот взбеленился, и Ибрагиму уже ничего другого не оставалось, как применить не раз испытанный в уличных драках прием. Короткий удар коленом в пах — и подполковник, закрутившись волчком, затянул хорошо понятную даже немому букву «У-у-у». И только появление Джона остановило готовую вот-вот вспыхнуть перестрелку.
Ибрагим с теплотой вспомнил о Джоне, в душе надеясь, если опоздает — тот найдет что сказать Гемберу и Емельянычу. Но помощь не понадобилась, он успел вовремя. Во внутреннем дворе Государственного комитета обороны у двух УАЗов суетилась группа «личников». Первым Ибрагиму попался Емельяныч, но ничего не сказал, а только сердито нахмурил брови и постучал по часам. Он виновато понурил голову, с облегчением вздохнул и присоединился к телохранителям. Они готовились к выезду Председателя на фронт, на этот раз в район Гумисты. Судя по тому, что он, Султан Сосналиев и офицеры штаба зачастили на передовую, можно было догадаться, что новое наступление, о котором никто не говорил, но его ощущение уже витало в воздухе и читалось в глазах Гембера, не за горами. Попытка Джона разузнать у него что-то ни к чему не привела, тот многозначительно подмигнул и исчез за дверями штаба.
Обиженный Джон, бурча под нос:
— Некоторые сами ничего не знают, а только надувают щеки, — побрел к машинам.
Ибрагим перебросил через плечо подствольник с «ручником» и отнес в уазик. В это время на крыльце появился Владислав Ардзинба, и «личники» тут же замкнули вокруг него круг. Ибрагим, Джон и Гембер заняли места рядом с ним. Под весом «малыша» Джона УАЗ жалобно всхлипнул и просел на рессорах. Владислав Григорьевич, улыбнувшись каким-то своим мыслям, промолчал и решительно махнул рукой вперед.
От Гудауты до Нового Афона они промчались без остановок, при ясном небе грузинская авиация не рисковала появляться в воздухе. Но на горной дороге водителям поневоле приходилось притормаживать на крутых виражах и перед воронками. О близости передовой все чаще напоминали разрушенные бомбежками и артобстрелами дома, обгоревшие остовы машин на обочинах и особенная, гнетущая тишина. Телохранители подобрались и теперь внимательно смотрели по сторонам. Развалины в любой момент могли взорваться огнем автоматных и пулеметных очередей диверсантов, которые в последнее время все чаще появлялись в этом районе. Пока им везло, до передовой было рукой подать, когда в шум двигателей вкрался зловещий вой, от которого даже у бывалых фронтовиков невольно сжималось сердце. Через мгновение он оборвался, и впереди, метрах в сорока, дорога вспучилась рыжим фонтаном.
Ибрагим вжался в сиденье. Эхо взрыва звоном тысяч невидимых молоточков отозвалось в ушах и окатило спину холодным потом. Второй снаряд едва не накрыл УАЗ, взрывной волной его накренило на левый борт, камни и осколки забарабанили по обшивке. Третий разрыв отсек путь назад. Вражеская артиллерия брала их в «вилку».
— Владислав Григорьевич, не проскочим! Надо… — воскликнул Гембер, и его голос потонул в грохоте нового взрыва.
— Стоп! — приказал водителю Председатель.
Тот ударил по тормозам, и УАЗ скатился на обочину.
— Владислав Григорьевич! Владислав Григорьевич! Надо под скалы! Там не достанут! — торопил Гембер.
Война и смерть не разбирают ни чинов, ни званий, и они, подчиняясь инстинкту, бросились прочь от машин. Вдогонку громыхнул разрыв очередного снаряда. Воздух зло зашипел от осколков, накатившая взрывная волна повалила их на землю, а через мгновение камни и земля обрушились на спины. Ибрагим дернулся от боли, полоснувшей по правой руке, и, похолодев, бросил на нее взгляд. На этот раз пронесло, осколок, порвав рукав камуфляжки, слегка зацепил локоть. Гемберу досталось больше других — на правом плече сквозь камуфляжку проступало бурое пятно. Кусая губы от боли, он подхватился с земли и, прикрывая Председателя со спины, старался не отстать от Джона с Ибрагимом, приникших к нему с двух сторон.
До скалы оставалось совсем ничего. Позади снова раздался зловещий вой, на этот раз это был «их» снаряд. Сердце Ибрагима бухнуло, как молот, и стремительно взлетело к горлу. В голове билась одна-единственная мысль: «Накрыть его!»
В отчаянном броске он кинулся к Председателю, но Гембер опередил и все вместе они рухнули на землю. Ибрагим наткнулся на его локоть, но не почувствовал боли. Сверху их надежно припечатал своей сотней с лишним килограммов Джон. Вой сорвался на визг, и через мгновение глухой взрыв подбросил их над землей. Осколки, просвистев над головами, посекли кустарник и фонтаном каменных брызг отразились от скалы. Им повезло, ударная волна ушла вниз по лощине. Не успело затихнуть эхо разрыва, как очередной снаряд упал слева, земля снова заходила ходуном. Ибрагим насчитал еще девять взрывов, и потом наступила та особенная, пронзительная тишина, когда смерть на время вынуждена была отступить. Но они все еще боялись пошелохнуться и ловили дыхание того, за которого не раздумывая готовы были отдать жизни.
— И долго мне так валяться? — с трудом вымолвил из-под пресса трехсот с лишним килограммов Владислав Григорьевич.
— Вы… Вы живы? — вернулся дар речи к Гемберу.
— Пока да, но еще немного — и от меня одна лепешка останется, — ворчливо ответил он.
Через мгновение они были на ногах и, потирая ушибленные места, радостно похлопывали друг друга по плечам. Еще один день войны был благополучно пережит.
Глава 5
Сход селян из Гума и Псху начался с поминальной молитвы, и, когда она закончилась, еще долго над притихшей толпой был слышен только по, свист ветра и печальное журчание реки. Живые, помянув мертвых, теперь решали собственную судьбу, но никто не отважился заговорить первым, все ждали веских слов мудрых стариков. Столетний Чич Чамба и его ровесник Абзагу Цымба, повидавшие всякого на своем долгом веку, понуро смотрели в землю. Им нечего было сказать землякам.
Сотни новых могил и угрюмые лица воинов красноречивее всего говорили о том, что ни сыновья, ни внуки, ни тем более они, убеленные сединами и покрытые ранами старики, уже ничего не могли противопоставить властной и несокрушимой силе, пришедшей в горы. Неприступные скалы и бездонные ущелья, на протяжении многих веков служившие им надежной защитой от римских легионов, когорт византийских императоров и полчищ грузинских царей, на этот раз не устояли.
Уже мало кто сомневался в том, что не сегодня, так завтра здесь появится полковник Коньяр, и тогда под жерлами его пушек им ничего другого не останется, как только умереть или покориться. Это был невыносимо трудный выбор, и тогда первым решился нарушить гнетущее молчание Сейдык Куджба. Ему, тридцать лет не выпускавшему из рук кинжала и ружья, повидавшему Турцию и Россию, хлебнувшему там как своего, так и чужого горя, было что сказать.
Окинув печальным взором притихших односельчан, Сейдык заговорил, и его негромкий голос был слышен в самых дальних рядах. Он рассказывал о той России, которая простиралась за Кавказским хребтом, и ужас сжимал сердца земляков от одного того, что конца и края ее границам не ведал никто. Словно грозная горная лавина, она наползала на Кавказ и сметала на своем пути одно за другим свободные горские общества. Перед ней не устояли воинственные вайнахи, и гордый имам Шамиль вынужден был склонить голову перед русским царем. Лихие шапсуги, не знающие страха смерти абадзехи не захотели покориться, и теперь на месте их аулов прорастал бурьян, а те, кто уцелел, на утлых фелюгах искали спасения у турецких берегов.
Путь к ним обернулся немыслимыми страданиями и неисчислимыми потерями. Тысячи немощных стариков, старух и детей так и не увидали берегов Османской империи. Одни тонули во время штормов, другие умирали от голода, жажды и болезней, а те, кому «посчастливилось» доплыть до Стамбула, Трабзона, Синопа и Самсуна, завидовали мертвым. Там их поджидали алчные ростовщики и свирепые янычары. Тут же от причалов караваны подневольных кавказских красавиц отправлялись в гаремы Багдада, Дамаска и далекой Александрии. «Золотой век» переживали торговцы самым ходовым товаром — будущими воинами. За бесценок у изголодавшихся убыхских и шапсугских семей они покупали крепких мальчиков и продавали свирепым янычарам. Там, в казармах, опытные, прошедшие огонь, воду и медные трубы воины готовили из них себе смену. Дряхлеющая Османская империя нуждалась в свежей крови, и эти новые тысячи горцев, влившись в ее вены, вернули ей прежнюю мощь.
Наместник Великого Аллаха на земле султан Абдул-Азиз не мог смириться с потерей Абхазии — одной из самых драгоценных «жемчужин» в своей «короне». С помощью цепляющихся за ускользающую власть продажных удельных князьков и жаждущих вернуться на родину махаджиров турецкие лазутчики и английские шпионы, которым не важно где, но только бы насолить России, подбивали абхазов и убыхов на новую смуту. Не проходило и нескольких лет, как очередной мирный договор между вождями Абжуйской, Бзыбской Абхазии и Наместником на Кавказе, скрепленный бессмысленно пролитой кровью русских солдат и горцев, превращался в пустую бумагу.
Отряды не подвластных никому абреков и мирных крестьян, «смущенные» лазутчиками, принимались за старое — совершали дерзкие набеги на дальние гарнизоны, казачьи разъезды, угоняли в горы скот, а захваченных в плен перепродавали на невольничьи рынки в Стамбул, Трабзон и Самсун. В ответ военная махина Российской империи приходила в движение и наваливалась на непокорных всей своей мощью. И они, зажатые между «молотом» и «наковальней» двух империй, вынуждены были выживать кто как мог.
Об этом напомнил землякам Сейдык и, горестно вздохнув, закончил:
— Россия и Турция — это бездна, в которой мы растворимся! Но что делать и как жить дальше, я не знаю. Может, наши мудрые старейшины найдут путь к спасению, а я молю Всевышнего защитить Абхазию.
Низко поклонившись притихшим односельчанам, он тяжело опустился на лавку. Чич Чамба посмотрел на Абзагу Цымбу, и тот предложил:
— Уважаемые, давайте послушаем Исмаила Дзагана. Он недавно вернулся из Турции, и ему есть что сказать.
Над поляной прошелестел легкий шепоток, и все взгляды сошлись на высоком, одетом в синюю черкеску воине лет тридцати — тридцати пяти. Раздвинув плечом толпу, Исмаил вышел в круг и, положив руку на рукоять кинжала, заговорил с надрывом:
— Пять лет назад в мой дом, как сегодня в ваш, пришла беда! Собака Лорис-Меликов и его шакалы окружили нас! Их было в десять раз больше. Под дулами пушек он предъявил ультиматум — сложить оружие и покориться. Взамен обещал сохранить жизнь и не тронуть село. Лживый пес! Те, кто поверил, потом кусали себе локти, но было поздно, их, как стадо баранов, погнали в Сибирь, а от домов не оставили камня на камне. Я и еще сорок воинов не стали дожидаться рассвета и, прорвав окружение, пробились к морю. Слава Великому Аллаху и султану, они услышали о нашей беде и прислали корабль. В Турции нас встретили как родных братьев и…
— Не верьте! — перебил Сейдык Куджба и с негодованием воскликнул: — У турецкого султана, как и у русского царя, вас ждет аркан на шею, только поводок будет длиннее.
— Это не так! В Турции нашим братьям дали землю! — вспыхнул оскорбленный Исмаил.
— Какую землю?! Голые скалы Болу и Сакарии, чтобы не подохнуть с голоду! — возмутился Сейдык.
— Я, как видишь, живой!
— Живой, потому что башку побрил и колени в мечети истер!
— И что?!
— А то! Дали тебе ятаган и прислали, чтобы подбить нас резать горло русским.
— Это лучше, чем подставлять под их хомут шею! — вскипел Исмаил.
— Хватит! — остановил перепалку Чич Чамба и объявил: — Теперь пусть скажет слово уважаемый Смел Авидзба.
Сейдык Куджба и Исмаил Дзаган подчинились и уступили место в круге старому воину. Следы сабельных шрамов на лбу и правой щеке, пустой левый рукав черкески говорили сами за себя. Смерть сыновей Арсола и Коса начертила темные круги под глазами и иссушила губы, но он не потерял присутствия духа, его голос был, как всегда, тверд, а речь нетороплива.
— Шестьдесят лет мы ведем войну с русским царем и турецким султаном, — тихо обронил Смел Авидзба и, прокашлявшись после внезапно перехватившей дыхание спазмы, печально произнес: — С каждым днем нас становится все меньше, а у гяуров сил все больше.
— Так что нам делать?
— Что?! — торопили нетерпеливые.
— Что?.. Вспомните, когда вы слышали голоса наших братьев дахов и абадзехов?..
В ответ прозвучал лишь горестный вздох и Смел продолжил:
— Они бились до последнего. Их аулы разорены, над могилами не рыдают вдовы, а плачет один лишь ветер. Уже не слышны голоса абхазов в самом ее сердце…
— В Дале и Цабале никого не осталось!
— Как жить дальше?
— Что делать, Смел?! — терзали его вопросами односельчане.
— Что делать?! — повторил он, его лицо искривила гримаса, и затем ответил: — Научиться терпеть. Ураган вырывает с корнем вековые дубы, но ничего не может поделать с травой. Мы должны стать травой и ждать, когда он потеряет силу, чтобы потом распрямиться.
— Травой, которую будет топтать враг! — с горечью произнес Джелкан Бутба.
— Тогда уж лучше смерть, чем такая жизнь! — горячился Шмаф Квадзба.
— Умереть?.. Жить?.. Но где и как?.. Сегодня враг, а завтра друг? Кто может сказать, что будет с нами, когда из обессилившей руки выпадет кинжал? Что?!! — скорее самому себе, чем односельчанам, задавал эти вопросы Смел.
— Здесь могилы наших предков.
— Может, остаться?
— Как-нибудь проживем, — пытались убедить себя и других односельчан те, кто решил положиться на судьбу и милость победителя.
— Русский царь обещал не трогать семьи, а мужчинам оставить оружие, если мы покинем горы и уйдем в степи Кубани, — напомнил Сейдык о последнем обращении к восставшим горцам кутаисского генерал-губернатора Святополка-Мирского.
— Нашли кому верить! Этому лживому псу! Он камня на камне не оставил от моего дома! Надо уходить в Турцию! Великий султан милостив и даст каждому по буйволу и мешку риса, — снова принялся убеждать земляков Исмаил.
— Как же, наслышаны о его милостях!
— Жен в гарем, а сыновей — янычарам. Не слушайте этого турецкого прихвостня!
— Он зарабатывает свои тридцать сребреников! — неслись в ответ презрительные выкрики.
— Что-о?! — вскипел Исмаил и выхватил кинжал.
Кровь на этот раз не пролилась. Те, кто был рядом, схватили его за руки и оттащили в сторону. И когда шум стих, мудрый Чич Чамба снова повторил свой вопрос:
— Так что же будем делать, братья?
В ответ звучали лишь посвист ветра и треск костра. Первым решился нарушить молчание Сейдык и предложил:
— Может, послушаемся русского царя и уйдем в степи Кубани?
— Чтобы там сдохнуть от голода? Вспомните, Муравьев многое обещал шапсугам, и где они сейчас? — с негодованием воскликнул Шмаф Квадзба.
— Лучше смерть у могил отцов, чем такая жизнь, — с горечью произнес Кайногу Гумба.
Спор разгорелся с новой силой. Одни предлагали остаться на месте и покориться силе, другие — пробиваться к морю и искать спасения на турецком берегу. Время шло. Сгустились сумерки. Над рекой поднялся туман и, выплеснувшись за берега, белесыми языками пополз по поляне. На чернильном небе проступили холодно мерцающие звезды, а сход все продолжался. Слово опять взял Чич Чамба.
— Братья!.. — Его голос дрогнул. — Наши деды и отцы, кровью которых полита эта земля, смогли защитить ее от врага, но сегодня… — он горестно вздохнул и продолжил: — У нас не осталось сил, чтобы победить. Мы можем остаться и с честью умереть, но будет ли это правильно? Разрушенные дома можно построить заново, заросшие бурьяном поля — распахать и засеять, но дух отцов, который живет в ваших сердцах, если они перестанут биться, уже никогда не возродить.
— Никогда!.. — выдохнули сельчане.
— Ни-ко-гда! — печальным эхом прошелестело над поляной.
Еще не остывшее пепелище и сырая земля на могилах взывали сердца воинов к мести, но трезвый рассудок говорил обратное. Испуганные, молящие глаза детей искали у них защиты, и это было то последнее, ради чего требовалось жить, чтобы потом, когда придет время, они могли принести горсть родной земли на могилы предков и разжечь огонь в потухшем очаге. Время и судьба поставили всех перед жестоким выбором. Даже самые отчаявшиеся, цепляясь за последнюю соломинку, надеялись, что мудрые старики найдут выход из положения и, как уже не раз бывало, отведут беду. В их глазах теплилась робкая надежда, и они, затаив дыхание, ловили каждое слово Чича Чамбы.
— Уйти в Турцию, где султан обещает жизнь и дает землю? — размышлял он. — Но если взамен заберут веру и имя, то что тогда останется? Что?!
— Что-о?! — как стон, прозвучало в ответ.
— Если покориться русскому царю? Но хватит ли у нас терпения дожить до того дня, когда у этого дуба, под которым сотни лет звучали голоса наших славных дедов, мы снова будем говорить о мире и сами решать свою судьбу? Настанет ли тот час, когда в наших разоренных дворах опять зазвучит счастливый смех внуков? Когда это будет? Когда?.. Если бы я знал ответ!..
«Если бы?..» — замерло на устах сотен, а затем на Чича обрушились молящие и вопрошающие голоса:
— Как же быть?
— Где искать спасения?
— Где?..
— Не знаю! Не знаю, братья!.. Впереди ночь, и пусть каждый выберет тот путь, что подскажет ему сердце! — закончил говорить Чич Чамба и устало опустился на лавку.
Воцарилась мертвая тишина, казалось, наступившему невыносимо долгому молчанию не будет конца. Все от мала до велика с пронзительной остротой ощутили, что этого завтра у одних может просто не быть, а другим о родных горах и очагах будет напоминать лишь горсточка закаменевшей серой земли. И потом, на дальних турецких берегах, шумом лесов, звоном ручьев они будут приходить к ним в мучительных снах и бередить души.
В ту ночь так никто и не заснул. Склон горы покрылся сотнями трепетных огней, и они, будто живые, в прощальном объятии тянулись друг к другу. Безутешное горе и печаль вошли в каждый дом и сердце каждого горца. В загонах жалобно блеял скот — это в жертву приносились бычки и козы. Из дальних углов подвалов выкатывались потемневшие от времени дубовые бочки со старым, темно-красным, напоминающим загустевшую кровь вином. Ему уже не суждено было радовать сердца за свадебным столом и у колыбели первенца. Суровые воины, стиснув зубы, под плач детей и стенания жен поминали погибших и просили Всевышнего о милости и прощении.
В родовом доме Авидзба, на испаханном шрапнелью дворе, собрались все, кто уцелел. Женщины молча готовились к дальней, страшащей своей неизвестностью дороге, заливали в бурдюки родниковую воду и вино, в переметные сумки складывали вяленое мясо, сыр и хлеб. Гедлач Авидзба, пряча глаза, на которые наворачивались слезы, готовил оружие к своему последнему бою.
Отец, застыв как изваяние перед домашним очагом, непослушными пальцами то разглаживал несуществующие складки на черкеске, то трогал рукоять старинного кинжала, ножны которого украшала потемневшая от времени и истертая руками далеких предков тонкая вязь из серебра. Племянник Мыстафа, закончив строгать рогатину из ветки ореха, поглядывал в котел, где варились печень и сердце бычка — жертвы Всевышнему. И когда подошло время молитвы, вся семья Авидзба вышла во двор и расположилась за спиной Смела. Он стал лицом к восходу солнца, нанизал на рогатину сердце и печень бычка, окропил вином из медного кувшина, вознес к небу и начал читать молитву:
— О, Всевышний, да ниспошли свою милость и сохрани огонь в нашем очаге. Пусть беды обойдут наш дом. Пусть древний род Авидзба никогда не покроет бесчестие и позор…
Негромкий голос Смела проникал в израненные болью утрат сердца близких и порождал надежду, что наступившее лихолетье минует, род Авидзба сохранится и снова станет хозяином на своей земле. И когда закончилась молитва, каждый снова остался один на один со своими мыслями. Женщины и дети, укутавшись одеялами, забрались в телеги, а мужчины подсели к огню.
Гедлач поправил поленья. Пламя сердито зашипело и косматыми языками суматошно заплясало по стенам и понуро склонившимся фигурам. На бескровном, словно маска, лице отца замерла гримаса страдания, и Гедлач не решился первым начать разговор. Прошедший сход только еще больше усилил смятение в душе, горевшей жаждой мести врагу за Арсола и Коса. Собственная смерть не страшила его, но разум подсказывал другое. Мертвых было не воскресить, но попытаться спасти живых — отца, жен братьев и детей — он еще мог.
Смел будто прочел мысли сына, и узловатая отцовская рука легла ему на плечо. Загрубевшие от труда и покрытые рубцами от сабельных ударов пальцы нежно тронули его густые волосы, и из груди вырвался не то стон, не то плач. Старый воин, не раз смотревший в глаза смерти, с трудом сдерживал свои чувства, и первые слова горьким комом застряли в горле:
— Сынок…
Гедлач встрепенулся, так отец называл его только в далеком детстве. От внезапно нахлынувших чувств на глаза навернулись слезы. Они катились по щекам и солеными ручейками стекали по подбородку.
— Сынок! — повторил Смел и затем тихо обронил: — Ты у меня последний, тебе надо уходить!
— А ты, даду?!
— Я остаюсь. Я слишком стар для дальней дороги.
— Нет!.. Нет!!! Мы пойдем вместе! — воскликнул Гедлач.
— Погоди и послушай меня! Ты должен думать не обо мне и себе, а о детях!
— Отец! Я не могу оставить тебя одного!
— Я буду не один. Здесь Арсол. Здесь Коса.
— Тогда мы тоже остаемся!
— Нет, вам надо уходить! Ты обязан сделать это ради детей, ради того, чтобы сохранился род Авидзба. Одному Всевышнему известно, что вас ждет в Турции, но.
— Отец! Я. Я не могу!.. — терзался Гедлач.
— Оставим это! И будем говорить как мужчины. Я свое отжил, а тебе надо думать о детях! Я не верю всему тому, что говорил Дзаган. Но там уже живут наши. Будет на то воля Всевышнего, обживетесь и вы. Я тебя об одном прошу: сделай все, но чтобы мои внуки остались абхазами. И когда придет время — а я верю, оно наступит, — они вернутся сюда и дадут новую жизнь нашему роду, нашему дому и на этом дворе снова зазвучат детские голоса, а в очаге опять возгорится огонь.
— Отец! Я не могу… Не могу! — твердил Гедлач.
— Все! Закончим на этом! Вам пора собираться, сынок! — был непреклонен Смел.
Гедлач молча склонил голову, поднялся с лавки и направился к семье. Жена, так и не сомкнувшая глаз, по его виду поняла все и принялась складывать в телегу последние узлы с нехитрыми пожитками. На ее почерневшем от страданий и иссушенном слезами лице, казалось, навсегда застыла гримаса боли. Потревоженные шумом сыновья и дочка сонно зачмокали губами. Гедлач склонился над младшим, дрогнувшей рукой погладил по вихрастой голове и, поправив сползшую бурку, возвратился к потухшему очагу, отгреб золу, достал кинжал, несколькими ударами вырыл ком земли и сложил в холщовый мешочек. Там, в далекой Турции, она будет напоминать ему и семье о родине и станет первым кирпичиком в фундаменте нового дома.
В ту ночь в соседних дворах, так же как и в доме Авидзба, горевали все от мала и до велика. И когда над зубчатой стеной Бзыбского хребта показалось солнце, все пришло в движение. Скрип колес телег, ржание лошадей, лязг металла нарушили утреннюю тишину. Печальный караван махаджиров покинул Гума. Вслед ему неслись стоны, плач и звуки медных родовых труб. На протяжении столетий они извещали соседей о радости и беде в доме. Сегодня они звучали как никогда пронзительно и скорбно, порой напоминая то крик раненой птицы, то плач ребенка. Подхваченные ветром звуки труб уносились вдаль, в горы, и там умирали. Они терзали сердца и души невыносимой печалью как тех, кто остался, так и тех, кто под скрип колес телег и повозок скорбной рекой стекал в долину.
Более тысячи жителей селений Псху и Гума двинулись к морю, где, как заверял Исмаил Дзаган, у устья реки Моква их должны были поджидать турецкие корабли. Сам он и с ним еще трое воинов отправились вперед, чтобы предупредить турок. Тайными горными тропами, избежав встреч с казачьими разъездами, беженцы на четвертые сутки вышли к морю и на левом берегу реки разбили лагерь.
Прошел день, за ним другой, к концу подходила неделя, но ни сам Исмаил, ни турецкие корабли, о которых он говорил, так и не появились. К тому времени закончились и без того скудные припасы, а начавшаяся малярия принялась валить с ног стариков и детей. В лагере нарастал глухой ропот, одни предлагали возвратиться обратно и там положиться на судьбу и милость Всевышнего. Другие, таких становилось все меньше, стояли на том, чтобы оставаться на месте и дожидаться турецких кораблей.
Конец спорам положило появление убыхского князя Ноурыза Барака с остатками своего отряда. Вместе с ним в лагерь пришли два его молочных брата с семьями, а в конце обоза тащились изможденные долгим переходом пленники: пятеро адыгейцев, один русский солдат и две горянки из рода лезгин. Его рассказ о жестокостях казаков и царских солдатах, уничтоживших его родовой аул, укрепил решимость одних, связывавших свое будущее с Турцией, и рассеял сомнения у тех, кто подумывал отказаться от обещанных милостей султана и собрался возвратиться обратно.
Очередной сход закончился тем, что, послав проклятия гяурам, абхазы, псхувцы и убыхи разошлись по палаткам и шалашам, построенным из камыша. Барак расположился в центре лагеря, по соседству с абхазским князем Решидом Гечем. Рядом бил родник и приносил желанную прохладу, а широкая крона могучего дуба защищала от палящего солнца и дождей. Жизнь лагеря возвратилась в прежнее русло, и снова потянулись дни томительного ожидания.
Наступившая невыносимая жара и начавшиеся ливневые дожди усилили и без того свирепствовавшую в лагере малярию. С каждым новым закатом на краю каштановой рощи рос скорбный ряд могильных холмиков. Смерть в первую очередь забирала самых слабых — стариков и детей. Траурный цвет платков, подобно вороньему крылу, все чаще покрывал головы женщин и скорбным серебром осыпал виски мужчин. В лагере среди крестьян и простых воинов снова начал нарастать глухой ропот. Смерть была наиболее безжалостна к их семьям, и они все чаще подумывали о возвращении домой, но князья продолжали убеждать в том, что единственный для всех выход — это искать спасения в Турции.
Появление на горизонте турецких кораблей положило конец спорам. Впереди плыли два фрегата, за ними, подобно мелким хищникам, тащились четыре утлые фелюги торговцев. Боевые корабли строго держали дистанцию, готовые в любой момент дать отпор русским судам. Об этом красноречиво говорил багрово-бурый оскал распахнутых артиллерийских портов и выстроившиеся на корме и носу шеренги аскеров. Над их головами белоснежными пузырями вздувались паруса, на которых в лучах солнца отливали золотом огромные полумесяцы, лишний раз напоминая о могуществе турецкого султана.
Кайногу Гумба, Гедлач Авидзба, Джамал Бутба и Шмаф Квадзба не мешкая зажгли костры и, когда пламя набрало силу, принялись швырять в него охапки травы. Два столба густого дыма поднялись высоко в небо. Сигнал заметили на кораблях, поменяли курс и метров за сто до берега бросили якоря. На воду одна за другой шлепнулись шлюпки, первой плыла та, над кормой которой полоскал на ветру капитанский штандарт. Вслед за ней, хлюпая плоскими днищами на легкой волне, тащились купеческие фелюги. Они вплотную подплыли к берегу, и под грохот якорных цепей на песок опустились трапы. По ним, потрясая оружием, сбежали аскеры и, угрюмо поглядывая на прихлынувших к морской кромке беженцев, выстроились в цепь.
Наступившее тягостное молчание нарушали то жалобный плач ребенка, то тревожное ржание лошадей. Животные, словно предчувствуя скорое расставание с хозяевами, яростно грызли мундштуки и нетерпеливо били копытами по земле. В задних рядах нарастал глухой ропот, затем послышались гневные выкрики, и аскеры угрожающе забряцали оружием. Остановило готовую вот-вот вспыхнуть стычку появление капитана. Его шлюпка ткнулась носом в песчаную отмель, он легко спрыгнул на берег и, набычившись, уставился на толпу. Тут же словно из-под земли появился Исмаил Дзаган. Его высокая и стройная фигура будто стала меньше и согнулась в спине. Из-за них выглянул мулла и похотливым взглядом зашарил по красавицам горянкам.
Капитан сделал несколько шагов к цепи аскеров и остановился. Властным взглядом прошелся по рядам горцев и задержался на князьях, выделявшихся дорогими черкесками, богато украшенным оружием и величавой осанкой. Гордые сыны гор, подчиняясь его взгляду, шагнули навстречу, но он не сдвинулся с места, будто перед ним находились простые крестьяне. Молча проглотив обиду, Геч и Барак, пытаясь сохранить достоинство, поклонились. В ответ капитан надменно кивнул головой и заговорил низким гортанным голосом.
Дзаган выскочил вперед и, преданно заглядывая ему в глаза, принялся переводить:
— Капитан Сулейман объявляет вам о величайшей милости посланника Аллаха на земле и повелителя половины мира великого султана Абдул-Азиза. С этого часа вы становитесь его счастливыми подданными.
— Э… Передай ему, — и, справившись с нанесенной обидой, Геч выдавил из себя: — Мы благодарны великому султану и…
Сулейман, не дослушав до конца, заявил:
— У нас мало времени! На подходе отряд гяуров.
— Наши воины их задержат, — дружно заверили князья.
— Хорошо! — согласился Сулейман и развернулся к шлюпке.
Барак замялся и внезапно осипшим голосом спросил:
— Господин капитан, мы можем рассчитывать на ваше гостеприимство?
На лице Сулеймана появилась недовольная гримаса, и он холодно обронил:
— У меня нет свободных кают.
— Как?! — в один голос воскликнули князья.
С лица Геча схлынула кровь. Под его бешеным взглядом Дзаган съежился и пролепетал:
— Надо… отблагодарить.
— Что-о?! — больше у князя не нашлось слов.
— Э-э… заплатить.
— И сколько этот пес хочет? — процедил Геч.
Дзаган изменился в лице, но Сулейман, похоже, не понял. Нервно сглотнув, Исмаил склонился к его уху и зачастил на турецком. Князья не находили себе места, их руки яростно теребили рукояти кинжалов. Капитан, не дослушав Дзагана, коротко что-то сказал, тот, пряча глаза, перевел:
— Шесть.
— Шесть?! — прорычал Геч.
— Серебром, за каждого, — промямлил Дзаган.
У Геча больше не нашлось слов, а Барак поигрывая желваками на скулах, с презрением бросил:
— У меня семь пленных, он может взять их себе.
Дзаган снова склонился к уху Сулеймана и перевел. Он снисходительно кивнул головой и поднялся в шлюпку. Аскеры столкнули ее в море, гребцы дружно налегли на весла, и еще не успела она отплыть от берега, как хозяева фелюг, торговцы и аскеры, подобно стервятникам, накинулись на нехитрый скарб махаджиров. Взамен за место в каюте и пищу из судового котла за бесценок отдавалось то, что в каждой семье держали на черный день.
В эти последние минуты на родной земле, они, эти дети суровых гор, более полагавшиеся на верность слову и твердость булата, оказались бессильны перед коварством и властью злата. Шел жестокий и унизительный торг за место на судне, за будущий глоток воды и саму жизнь. Закаленные в боях воины с окаменевшими лицами смотрели в небо и не замечали, как чужие, жадные руки рылись в сундуках, выискивая золото и серебро. Жены, дочери с глухими рыданиями срывали с себя и швыряли под ноги алчным торговцам кольца и браслеты. Между берегом и судами челноками сновали навьюченные узлами турки. На палубах росли горы из сундуков, ковров и прочего скарба горцев.
Другие, и таких было немало, расседлав своих любимцев, не раз спасавших жизнь в бою, прощались с ними, как с близкими друзьями. Безмолвными обелисками они высились над рыдающим и стенающим от горя людским морем. Затем всадники и кони, прильнув друг к другу, печальными вереницами уходили к лесу, и спустя время оттуда доносились звуки выстрелов. Звучали они и на берегу — это седовласые старики расставались со своим оружием. С каким— то немым отчаянием старые воины стреляли из пистолетов и ружей в воздух, а потом бросали в море.
Выстрелы, проклятия и мольба горцев слились в один рвущий душу невыносимый стон. Казалось, что вместе с ними рыдает сама Абхазия. И когда началась посадка, тут и там у трапов и шлюпок начали вспыхивать стычки. Несчастные всеми правдами и неправдами пытались пронести на борт то последнее, что удалось уберечь от алчных торговцев. Аскеры безжалостно вырывали из рук узлы и швыряли в воду, строптивых подгоняли в спину прикладами ружей. Капитан Сулейман спешил покинуть берег, опасаясь скорого появления русского отряда. О нем напоминало облако пыли на западном склоне предгорий, оно на глазах разрасталось до грозовой тучи.
Она стремительно наползала на берег. В подзорную трубу были уже видны несущиеся в лихом галопе всадники. Это эскадрон казаков есаула Найденова разворачивался в атаку. Капитан Сулейман не стал медлить и дал команду артиллеристам открыть огонь. Правый борт фрегата оскалился багрово-алым цветом распахнувшихся портов, и мощный залп сотряс корабль. Прошло несколько мгновений, и склон горы, по которому, распластавшись в лаве, скакали казаки, усеяли черные «тюльпаны». Осколки и камни брызнули под копытами передовой цепи эскадрона.
— Стой, хлопцы! — зычно крикнул Найденов.
Казаки остановились в четырехстах саженях от берега и, нетерпеливо поигрывая шашками, ждали новой команды. Но Найденов медлил и хмуро наблюдал за тем, что творилось у шлюпок и фелюг. Появление эскадрона еще больше усилило суматоху. Брань, плач и пальба слились в одну ужасающую какофонию звуков. Несколько десятков махаджиров, прорвав цепь аскеров, бросились искать спасения в ближайшем перелеске. Те, пальнув им вслед, не решились преследовать и начали спешно грузиться в шлюпки.
Хорунжий Белодед, с трудом удерживая рвущегося с поводьев горячего кабардинца, предложил Найденову:
— Антоныч, пишлы на перехват, пока воны як зайцы по кущам не поховалысь.
— Пидожды, Пэтро!
— А чего ждаты? Балочкой мимо пушек бусурманив проскочимо.
— За бабами гоняться — цэ нэ казцкэ дило, — мрачно обронил Найденов.
— Антоныч, яки ж там бабы? Абрэкив тэж жвае! — не унимался Белодед.
— Пэтро дило говорыть!
— Сэгодня воны тэплэньки, а завтра нам кровь пущать будуть!
— Антоныч, надо рубать пока нэ поздно! — загомонили казаки.
Найденов насупился и, поиграв желваками на скулах, вдруг объявил:
— Шабаш, хлопцы! Вэртаемся до сэбэ!
— Як же так, Антоныч?! — оторопел Белодед.
— А ось так! У тебэ, Пэтро, шо, глаз нэмае? Подывысь, шо проклятый бусурман с людыною творыть!
— Так воны же сами напросылысь?!
— Я сказав — вэртаемся! — отрезал Найденов и рванул поводья.
Жеребец покосился на хозяина и, обиженно всхрапнув, с места взял в карьер. Вслед за есаулом, гикая и подхлестывая лошадей, поскакали остальные. Паника, возникшая было на берегу, после того как казаки скрылись за пригорком, улеглась, и погрузка махаджиров на фрегаты и фелюги продолжилась. К этому времени свободных мест на палубе не осталось, и последних беженцев аскеры, словно скот, загоняли в грузовые отсеки. Кромешная тьма слепила глаза, а зловоние, казалось, навсегда въевшееся в доски, выворачивало наизнанку желудки несчастных.
Князь Геч с семьей с трудом втиснулся в крохотную темную каюту на баке. За эту милость ему пришлось расстаться с частью фамильного золота и серебра. По соседству расположился Барак, семерых его пленников, ставших добычей капитана Сулеймана, поместили в отдельный отсек грузового трюма. Потом, на четвертые сутки, те, кому достались места на верхней палубе, завидовали им. Палящее солнце превращало ее в раскаленную сковороду, и к мукам душевным добавились страдания физические.
Все эти испытания ждали несчастных горцев впереди. А пока перегруженные суда, поймав в паруса попутный ветер, взяли курс в открытое море. Гедлач Авидзба, Кайногу Гумба, Шмаф Квадзба, Джамал Бутба и другие воины прихлынули к правому борту. Аскеры что-то зло кричали, но они словно прикипели к нему. Там, на берегу, ржали и метались лошади. Надежные в бою, они до конца остались верны своим хозяевам, бросались в море и плыли вслед за ними. Суровые воины, кусая губы в кровь, не могли сдержать слез. Их сердца терзала невыносимая боль и тоска.
Кайногу Гумба побелевшими от напряжения пальцами вцепился в борт и уже ничего другого не видел, кроме своего Алмаза. Его задранная кверху голова мелькала среди волн. Вслед за ним, выстроившись косяком, плыл еще десяток лошадей. Ржание любимца сотрясло судорогой тело Кайногу, и неподвластная воле сила подняла его над палубой и опрокинула в море. Через мгновение еще несколько фонтанов взметнулось за кормой фрегата. Толпа махаджиров пришла в движение, и аскеры угрожающе забряцали оружием. Но они не обращали на это внимания, их взгляды были прикованы к тем, кто был в море и выбрал другую, чем у них, судьбу.
— Храни вас Всевышний! Храни… и… — слившись в один, повторяли сотни голосов.
Давно уже в голубом мареве растаяли снежная шапка на горе Чумкузба и колючий ежик из могучих сосен на прибрежных высотах. Но никто так и не отошел от борта.
Несчастные горцы будто окаменели. Их взгляды были прикованы к зеленой полоске, напоминавшей об Абхазии, а с дрожащих губ срывался не то стон, не то молитва:
— Мы вернемся! Мы вернемся…
— …Вернемся. Вер-нем-ся… — печально плыло над морской волной, а порывы южного ветра подхватывали эти слова и несли к пустынным берегам Абхазии.
Спустя сто с лишним лет, в 1993 году, трагедия махаджирства могла повториться вновь. Закончилась зима, к середине марта снег сошел с предгорий, дороги быстро подсохли, и едва зазеленела листва, как бои между абхазскими и грузинскими войсками на Гумистинском фронте вспыхнули с новой силой. В Тбилиси и Гудауте даже те, кто был далек от военной стратегии и тактики, хорошо понимали, что путь к будущей победе для одних и к новому махаджирству для других зависел от исхода операции за Сухум.
В те дни не только столица Абхазии, но и ее безмолвные стражи, господствующие над городом высоты Ахбюк, Гвадра, Цугуровка и Апианда, находились в руках оккупантов. Их вершины опоясывали густые полосы заграждений из колючей проволоки и минные поля, за которыми в глубоких капонирах прятались хищно нацелившиеся стволами в небо минометные и артиллерийские батареи. Подступы к ним, подобно глубоким шрамам, уродовали вырытые в полный профиль окопы, а на направлениях главных ударов земля бугрилась нарывами мощных дзотов и дотов.
Но и этого оккупантам казалось мало, из Грузии в Сухум срочно перебрасывали дополнительную авиацию, бронетехнику и боеприпасы. На побережье в срочном порядке сооружались дополнительные артиллерийские позиции, в море круглые сутки шныряли сторожевые катера. В воздухе витал запах большой крови, а в душах заклятых врагов нарастало ощущение близкой развязки. Грузинская армия готовилась к отражению наступления абхазских ополченцев и отрядов добровольцев, слухи о нем еще в начале июня начали будоражить армейский и штаб головорезов из «Мхедриони».
Приближение решающих боев особенно остро ощущали на собственной шкуре те, кто сидел в передовых окопах. На Гумистинском фронте чуть ли не каждую ночь абхазские разведчики выкрадывали очередного языка. На другом — Восточном — положение было не лучше. Разведывательно-диверсионные группы «сепаратистов» уже средь бела дня совершали дерзкие нападения на патрули и стационарные посты, наносили удары по транспортным коммуникациям и серьезно затрудняли снабжение грузинских войск из Зугдиди и Тбилиси. К концу июня даже неискушенные в разведке и контрразведке понимали, что наступление часа икс не за горами. В министерстве обороны Грузии терялись в догадках, где и когда ожидать наступления «сепаратистов». Поступавшая развединформация носила противоречивый характер. Абхазы что-то замышляли, но вот что — это оставалось загадкой для грузинских генералов.
Султан Сосналиев, Сергей Дбар и узкий круг офицеров Генерального штаба министерства обороны Абхазии, привлеченных к подготовке наступательной операции, наученные горьким опытом прошлого мартовского наступления, закончившегося полным провалом и обернувшегося тяжелейшими потерями, разработали два плана. Один — фронтального наступления на Сухум — предназначался для глаз и ушей грузинских шпионов и тех «советников», кого подозревали в том, что они «слили» прошлый замысел освобождения Сухума.
Тогда, 16 марта 1993 года, части абхазской армии, поднявшись в атаку, неожиданно напоролись на кинжальный огонь вражеской артиллерии и понесли тяжелейшие потери. Горький урок пошел впрок, и на этот раз основной план наступления, о котором знали всего несколько человек в министерстве обороны и руководстве Абхазии, носил многоходовый характер. На первом его этапе предусматривалось нанесение нескольких отвлекающих ударов на вспомогательных направлениях, а затем, на втором, — завладение господствующими высотами над столицей с последующим ее штурмом.
Это был смелый, но крайне рискованный план. Захват высот, оборудованных мощными оборонительными укреплениями, в случае неудачи мог обернуться невосполнимыми потерями. Второе поражение абхазская армия, и без того сражавшаяся на пределе человеческих возможностей, вряд ли перенесла бы. Но и откладывать наступление было нельзя, каждый новый день войны истощал скудные людские и материальные резервы войск. Это хорошо осознавали как Владислав Ардзинба, так и Султан Сосналиев и Сергей Дбар.
Уже не один день они ломали головы над тем, как с меньшими потерями завладеть высотами, чтобы потом у армии остались силы для выполнения главной задачи — штурма и освобождения Сухума. Проведенные ими расчеты говорили одно и то же: без очистки от мин направлений главных ударов рассчитывать на успех операции не приходилось. Решить эту первостепенную задачу — и здесь они сошлись во мнениях — было под силу только тем, кто в тылу противника чувствовал себя как дома. И потому накануне наступления в штаб были вызваны командиры разведывательно-диверсионных групп и их заместители.
Ибрагим Авидзба в тот день дежурил в смене и был несказанно рад встрече с Кавказом. Последний раз они виделись полторы недели назад, а затем, по слухам, тот находился на задании. Но поговорить им не удалось. Кавказа вместе с командирами «сухумской», «пицундской» и «новоафонской» спецгрупп — Ардой Анквабом, Бесиком Губазом и Аликом Айбой пригласил к себе Владислав Ардзинба.
Перебросившись с ним парой фраз, Ибрагим проводил разведчиков до кабинета. Там, кроме самого Председателя, находился начальник Генерального штаба Сергей Дбар. Перед ними на столе лежала крупномасштабная карта, на ней в разводах красных, синих и черных линий бросались в глаза высоты Ахбюк, Гвадра, Апианда и села Шрома и Цугуровка.
Владислав Ардзинба, энергично пожав руки командирам, пригласил к столу и, когда они заняли места, поинтересовался:
— Как настрой, ребята?
— Боевой, Владислав Григорьевич! — бодро ответили они.
— Это хорошо! — оживился он и, пробежавшись пытливым взглядом по их лицам, остановился на Кавказе и спросил: — А что думает «главный махаджир», не засиделись ли мы в обороне? Может, пора наступать?
— Дайте только команду, Владислав Григорьевич! — живо откликнулся Кавказ.
— Мы готовы! — дружно поддержали его остальные.
— Раз так, тогда, Сергей Платонович, не будем терять времени, разъясни ребятам задачу! — распорядился Владислав Ардзинба.
Сергей Дбар склонился над картой, обвел карандашом вражеские позиции в районе высоты Цугуровка и, словно зачитывая приказ, заговорил рублеными фразами:
— Задача ваших групп состоит в следующем: обеспечить необходимые условия для нанесения внезапного удара основными нашими силами по позициям противника в районе населенного пункта и высоты Цугуровка! В этих целях необходимо: на первом этапе скрытно проделать проходы в минных полях, после чего, непосредственно перед наступлением, нейтрализовать часовых, а затем подавить опорные пункты!
Арда, Кавказ, Бесик и Алик внимательно слушали и не отрывали глаз от острия карандаша, под которым понятные только военному человеку условные знаки и обозначения оживали линиями окопов и сетками минных полей, наблюдательных пунктов и скрытых постов. В заключение, напомнив про особую важность и секретность задания, Сергей Дбар спросил:
— Вопросы есть?
— Нет! Все ясно! — ответил Арда и заверил: — Мы не подкачаем!
— Вопросы будем задавать на той стороне, — пошутил Бесик.
Сергей Дбар улыбнулся и продолжил:
— Если их нет, то какие будут просьбы?
— Помочь с минерами. Нам самим с такими мощными минными полями не справиться, — высказал опасение Алик.
— Дадим столько, сколько скажете! — заверил Сергей Дбар.
— Много не надо, достаточно двух-трех, но толковых и хорошо знающих тот участок, — ответил Бесик.
— Сергей Платонович, а мины там какие? — спросил Кавказ.
— В основном советские, но хватает и итальянских.
— Да-а, с ними придется повозиться, — посетовал Арда.
— Без спецов не обойтись, — поддержал его Бесик.
— Не волнуйтесь, будут вам спецы! — заверил Сергей Дбар.
— Тогда все. А когда приступать к заданию? — поинтересовался Арда.
— Сегодня!
— Сегодня?! А… сколько у нас на все времени?
Сергей Дбар переглянулся с Владиславом Ардзинбой, тот кивнул головой и ответил:
— Не больше трех ночей!
— А что, неплохая цифра! Бог любит троицу, может, полюбит и нас, — снова не удержался от шутки Бесик.
Председатель ответил мягкой улыбкой и подошел к командирам. Они невольно подтянулись. С этой секунды, с этого мгновения для них уже не существовало невыполнимых задач, так как это была задача самого Владислава! В том, что она будет исполнена, он тоже не сомневался. Арда, Бесик, Кавказ, Алик — их имена ему были известны не понаслышке. За время войны он не один раз имел возможность убедиться в их мужестве, профессионализме и удачливости, а удача ох как им всем была нужна.
И сейчас рядом с ними, к кому прикипел душою, Владислав Ардзинба думал не о Цугуровке, являвшейся ключом к освобождению Сухума, его терзали иные мысли. После 14 августа 1992 года, с первым выстрелом, унесшим первую жизнь, ему на плечи легло невыносимо тяжкое бремя ответственности за них — граждан новой Абхазии. Каждый новый день войны безжалостно забирал их жизни, и этому конвейеру смерти не было видно конца.
Он внимательно всматривался в полные жизни и энергии молодые лица Кавказа, Алика, Арды и Бесика, так, словно хотел запомнить их такими навсегда, и здесь болезненная гримаса искривила лицо. Пройдет всего несколько часов, и они, подчиняясь его воле, окажутся на передовой, на том ненавистном «поле смерти», где полегли за последние дни десятки ополченцев и добровольцев из Осетии. Перед глазами невольно возникло изрытое воронками минное поле и истерзанные осколками тела — тела его, Владислава Ардзинбы, солдат. Проклятая война, она снова заставляла его посылать их, к кому прикипел душой, на муки и на смерть!
Рука Председателя коснулась плеча Кавказа. То была редкая минутная слабости. Война не прощает слабины и потом жестоко мстит, забирая двойную цену. Владислав Ардзинба хорошо усвоил ее уроки, и потому вынужден был сказать то, что говорит командир бойцам перед решающим боем, но в конце не сдержался и дрогнувшим голосом произнес:
— Я приказываю! Нет, я прошу вас, ребята, вернитесь живыми! Вы нужны Абхазии! Хватит смертей! Мы и так заплатили слишком высокую цену!
Лица командиров дрогнули. Слова того, за кого они готовы были не задумываясь отдать жизнь, тронули сердца, и даже обычно скупой в чувствах Сергей Дбар не сдержался и воскликнул:
— Владислав Григорьевич, я… мы сделаем все, чтобы…
— Постой-постой, Сергей Платонович, — перебил он и с мягкой иронией продолжил: — Так ты что, тоже с ними собрался?
Тот смутился и не знал, что ответить.
— Нет, так не пойдет! А я тут с кем останусь? — уже откровенно подшучивал Председатель.
Последние фразы теплыми улыбками согрели суровые лица командиров. Они покидали кабинет Владислава Ардзинбы с непоколебимой верой в успех операции и потом еще долго ощущали на своих ладонях крепкое рукопожатие его руки. На выходе из кабинета Ибрагим перехватил Кавказа и набросился с вопросами:
— Вы на операцию? Скоро наступление?
— Ну, в общем. — замялся тот.
— А мне можно с вами?
— Поздно!
— Как?.. А если попросить Владислава Григорьевича, он тебе не откажет!
— Извини, Ибо, не могу, — старался, как мог, смягчить отказ Кавказ.
— Но почему?!
— У нас полный комплект.
— А в других группах?
— Им нужны только минеры.
— Кавказ, возьми! Я не подведу! — взмолился Ибрагим.
— В следующий раз обязательно, а сейчас, Ибо, прости, надо ехать, время поджимает, — свернул разговор Кавказ и направился к машине, у которой нетерпеливо переминались Арда, Бесик и Алик.
Ибрагиму ничего другого не оставалось, как смириться и проводить разведчиков до «газона». Потом еще долго, пока машина не скрылась в клубах пыли, он смотрел ей вслед.
Через пятнадцать минут армейский ГАЗ-66 с командирами разведывательно-диверсионных групп был на месте — бывшей базе отдыха «Амра», ставшей во время войны одним из центров подготовки спецназа. Там в полном составе их поджидали подчиненные. Опытные разведчики, они шестым чувством улавливали, когда наступал их час, и были одеты по-походному.
Алик Айба не стал подниматься в коттедж и собрал свою группу под летним навесом. Перед ним находились далеко не новички, а настоящие профи — такими их сделала война. В той, прошлой и уже кажущейся чужой, мирной жизни никто из них не был ни минером, ни снайпером. Гия Тория, Женя Сангулиа, Аслан Габуния, Эрдал Таркил — бывшие спортсмены, они на ходу освоили безжалостную азбуку разведки и диверсии, зачет у них принимал самый суровый экзаменатор — война.
Алик закончил инструктаж, и разведчики оживились. В углу жалобно скрипнула лавка под тяжестью тела. Кавказ перевел взгляд, и на его лице невольно появилась улыбка.
— Дизель?!
Ни Кавказ, ни, пожалуй, никто другой из группы не могли вспомнить его имя. С того дня, когда этот невозмутимый русский крепыш появился на базе подготовки спецназа, к нему намертво прикипело прозвище Дизель, хотя больше напрашивалось — Арбалет. За линией фронта в его ловких руках он превращался в страшное оружие. После каждой такой вылазки оккупантов еще долго будоражили леденящие душу слухи о том, что на помощь к абхазам из Америки прислали майора Чингачгука, капитана Соколиный Глаз и вместе с ними целое племя воинственных гуронов. Дизель на это лишь пожимал плечами и с каждой очередной операции возвращался с пустым колчаном.
Саша Солопов — вспомнил Кавказ имя добровольца, и теплая волна симпатии к этому добродушному парню поднялась в груди.
Шел третий месяц войны в Абхазии. В кубанскую станицу с этой второй родины Александра приходили вести одна хуже другой. Он больше не мог спокойно наблюдать за тем, что творилось за Псоу, и, пристроив жену-абхазку с двумя детьми у родственников, присоединился к добровольцам из майкопского отдела Кубанского казачьего войска. Вместе с ними, обходя стороной милицейские посты, горными перевалами пробрался в Абхазию.
То, что Александр увидел здесь, только укрепило его в своем выборе. Пустынная, истерзанная войной Абхазия взывала к справедливой мести тем, кто, подобно волчьей стае, подло набросился на нее и теперь алчно терзал беззащитные города и села. Для него, как и для сотен других добровольцев, она, как и все то, что раньше называлось одним словом — «Союз», продолжала оставаться родиной, которую они не желали отдавать циничным политикам, наплевавшим на все ради вожделенной власти.
Добравшись до Гагры, он не стал дожидаться, когда его распределят в батальон, и на второй день вместе с добровольцем из Ростова Вовой-папой ушел на передовую. Арбалет и колчан стрел за спиной не вызвал у обстрелянных бойцов ни удивления, ни улыбки, с врагом воевали всем, чем могли. Из того первого своего рейда за Гумисту Александр вернулся с пустым колчаном, зато за спиной висел автомат, а на поясе топорщилась кобура с пистолетом.
В пехоте Александр долго не задержался. Невысокого роста, ловкий и пластичный, как снежный барс, он был рожден для диверсий и разведки. Неизвестно откуда у него все бралось, но ему первому каким-то шестым чувством удавалось улавливать грозящую опасность и заметить ловко поставленную растяжку или засевшую в кустах засаду.
Поэтому сообщение Алика о рейде на Цугуровку на лице Дизеля и остальных ребят не вызвало эмоций. И без его пояснений опытные разведчики догадались: раз их посылают в эту мясорубку — значит, не за горами наступление, и молча отправились готовиться в рейд. Прошло чуть больше десяти минут, и во двор базы въехал старенький, но надежный ГАЗ-66. Без лишней суеты разведчики заняли в нем свои места и потом еще около часа добирались до расположения батальона, державшего рубеж обороны перед Цугуровкой.
Приказ, который озвучил Сергей Дбар, был выполнен точно и в срок. На подъезде к позиции их встретил начальник штаба батальона и проводил в блиндаж. Алик остался доволен. В углу весело потрескивала поленьями печка-буржуйка, которая оказалась весьма кстати. До этого накрапывавший дождь у Цугуровки перешел в ливень, и промозглая сырость заставила забыть о лете. Все остальное свободное пространство занимали стол, несколько колченогих табуреток и нары, устеленные соломой.
Сложив рюкзаки в угол и накинув на плечи плащ-палатки, разведчики вслед за начальником штаба по лабиринту ходов-сообщений добрались до передового поста, но там не задержались. Воспользовавшись непогодой, Алик, Кавказ и Дизель перебрались ближе к позициям противника, залегли за скалой и принялись вести наблюдение. Несмотря на то что полторы недели назад им здесь уже пришлось побывать, они внимательно всматривались в коварную зелень склона. Там под неприметными кочками таилась смерть. Алик с Кавказом вертели биноклями и пытались обнаружить за стеной дождя стальную паутину систем сигнализации. Это оказалось напрасным занятием, ливень не прекращался, им пришлось свернуть работу и вернуться в блиндаж.
В ту самую ночь, когда разведчики Алика Айбы и других спецгрупп начали выдвигаться на исходные рубежи, абхазская артиллерия открыла ураганный огонь по оборонительным позициям оккупантов на Гумистинском фронте и пунктам управления в Сухуме. Такого мощного обстрела город не видел и не слышал за все время войны. От грохота канонады в районе Синопа в домах вылетали стекла из окон, а в Кяласуре с потолков осыпалась штукатурка. В штабе грузинских войск его расценили как прелюдию к штурму и приготовились к отражению. Этот отвлекающий маневр, задуманный генералами Сосналиевым и Дбаром, позволил десятку малых катеров и баржам военно-морских сил Абхазии в ночь с 1 на 2 июля совершить смелый рейд из Гудауты к побережью Восточной Абхазии.
Пасмурная погода была только на руку отчаянно дерзкому командиру Гудаутского дивизиона военных катеров Александру Воинскому и его морякам. Несмотря на кромешную тьму, он уверенно держал нужный курс, и, оставшись не замеченными береговой охраной противника, катера и баржи на рассвете вышли в район села Тамыш. Здесь моряки и десантники столкнулись с, казалось бы, непреодолимым препятствием. Шторм к этому времени набрал силу и достиг трех баллов. Волны захлестывали палубы косматыми, пенистыми языками и затем ревущими валами обрушивались на едва видневшийся в блеклом лунном свете берег. В такую погоду о высадке десанта и выгрузке артиллерии не могло быть и речи. В грозно ревущем прибое тонули надежды командира десантников Заура Зарандиа.
Глава 6
Турецкие фрегаты до заката солнца продолжали строго держать боевой порядок. Артиллеристы дежурили у пушек, нукеры не зачехляли оружие, а Сулейман не покидал капитанского мостика. Он не исключал того, что вслед за казаками Найденова в море на перехват выйдут корабли русской эскадры. Но его опасения оказались напрасны, горизонт по— прежнему оставался чист, а впередсмотрящие проглядели глаза, пытаясь обнаружить русский парус.
Этот поход к берегам Абхазии для турецкой военной экспедиции сложился удачно. В море она вышла, не потеряв ни одного аскера, ни одного моряка. Погрузка махаджиров на борт прошла без большой пальбы и серьезных стычек, если не считать двух десятков потерявших головы и бросившихся в пасть к казакам Найденова и еще нескольких «сумасшедших», сиганувших в море к своим жеребцам.
Потом еще несколько часов на палубах царила обычная в таких случаях неразбериха, кое-где вспыхивали мелкие конфликты с аскерами, но вскоре все улеглось. От вида бескрайней громады моря, внушавшей большинству горцев суеверный ужас, даже самые воинственные присмирели. Жизнь постепенно брала свое, горцы принялись обустраивать свою походную жизнь. К вечеру у многих от былой гордости не осталось и следа. Самые ушлые быстро смекнули, что на раскаленной, подобно сковороде, палубе долго не продержаться, и, как только сгустились сумерки, начали тайком шмыгать в каюты. Там, вдали от чужих глаз, с их хозяевами шел циничный торг за место и будущую крышу над головой в Турции. Заносчивые гордецы князья Геч и Барак, оставшись без своих верных нукеров, сбросили спесь и, раскошелившись, перебрались в каюты второго класса.
«Море обламывало и не таких, как вы! — хмыкнул им вслед Сулейман и, покачав на руке увесистый кожаный мешочек с золотом, положил в сундук. — Через пару суток все станете как шелковые. За глоток воды отдадите не только последнее, а и своих жен! А с таким «приданым» можно подумать и об окончании службы», — тешил он себя надеждой.
В его памяти была еще свежа предыдущая вылазка в Абхазию, едва не обернувшаяся пленом. При одном воспоминании о ней Сулейман зябко повел плечами. В тот раз матросы еще не успели поднять паруса, как на горизонте появились три русских военных корабля и взяли фрегат в клещи. Лишая маневра, они теснили его к берегу, и экипажу ничего другого не оставалось, как принимать бой. Через час была потеряна половина парусов и половина команды. Русские артиллеристы знали свое дело и почти посадили его на «мертвый якорь», обрушив на палубу грот-мачту. Впереди ждали смерть или постыдный плен, но Великий Аллах смилостивился и пришел на помощь. Внезапно налетевший шторм и ночь спасли от позора. В порт Самсуна Сулейман возвратился с пустыми карманами и подмоченной репутацией. Две фелюги с махаджирами во время шторма пошли ко дну, а те, что уцелели после боя, — голые и босые — уже ничем не могли расплатиться.
Пока Сулейману везло. День прошел, и русские себя никак не проявили, их флот, похоже, так и остался стоять на рейде у Геленджика. Впереди была ночь, а в открытом море его резвую «Османию» не так-то просто было перехватить. Попутный ветер подгонял ее к берегам Турции и только «обоз» из тихоходных фелюг вынуждал держать средний ход. Этот рейд, после которого Сулейман решил больше не выходить в море, должен вернуть ему славу самого удачливого капитана, а к казенному жалованью дать весомый довесок. Восемьсот живых душ, за которых не щедро, но все-таки платила казна, семь рабов, из которых одна только горянка— красавица даже на таком захудалом невольничьем рынке, как в Самсуне, стоила целое состояние, могли обеспечить ему безбедную старость.
Глядя на сундук, доверху забитый серебряной утварью, Сулейман испытывал нечто большее, чем искушение грядущим богатством. Он упивался властью и не просто властью капитана корабля. Здесь, в море, у него, как у великого султана, было право миловать и даровать жизнь. Все они: князья и простолюдины зависели от его воли — воли непобедимого и беспощадного к врагу и человеческим слабостям капитана Сулеймана. Кое-кто еще продолжал хорохориться, не подозревая, что пройдет всего несколько дней — и им придется вымаливать у него глоток воды, кусок хлеба, а потом и саму жизнь.
Сулейман закрыл сундук, поднялся на капитанский мостик и полным презрения взглядом прошелся по копошившемуся на палубе людскому муравейнику. На ней негде было упасть яблоку. Все свободное пространство и даже спасательные шлюпки оказались заняты. Тут и там выросли шатры из накидок, бурок и женских платьев. Под ними искали защиты от палящего солнца дети, старики и больные. Мужчины и те, кто был покрепче, встали под тень от парусов и на ногах терпеливо переносили трудности.
Подходил к концу этот первый, показавшийся горцам бесконечно длинным, день. Зыбкую тишину изредка нарушали отрывистые команды, скрип руля и плач детей. Время от времени ее оживляли матросы, с ловкостью обезьян взлетавшие по канатам на мачты и реи, чтобы сменить паруса. Ближе к вечеру море покрыла мелкая рябь, солнце затянула сизая дымка, а в снастях сердито засвистал ветер. Фрегат прибавил скорость, седые барашки вспенились перед носом и, подхваченные потоками воздуха, живительной прохладой оседали на разгоряченных телах и лицах горцев. Они жались к бортам, чтобы попасть под свежую струю, те, кто оказался посноровистее, подвязывали к кувшинам веревки, черпали воду, а потом обтирали детей и себя.
Семье Гедлача Авидзбы повезло больше, чем другим. Ей досталось место по правому борту, у спасательной шлюпки. По другую сторону расположились Шезина Атыршба с двумя дочерьми, сыном и отцом. За ней ближе к фок-мачте разбила «табор» многодетная семья Астамура-кузнеца. И пока Гедлач помогал Шезине и ее детям укрыться от солнца под зыбким пологом, Амра со старшим сыном Дауром из старой черкески и своих платьев соорудили навес. Под него забрались младший сын — трехлетний Алхаз и племянник — сын Арсола — Аляс. Его еще на берегу начала изводить высокая температура, и он едва держался на ногах. Вскоре к ним присоединилась дочь Апра.
Амра была в ужасе: бедняжку от морской качки выворачивало наизнанку, и она не знала, что сделать, чтобы облегчить ее страдания. После каждого приступа рвоты ей приходилось тратить драгоценную воду и скоблить доски палубы, чтобы избавиться от удушающего запаха. Жара делала его невыносимым, и она невольно сжималась в комок, когда поблизости появлялись аскеры, те брезгливо морщились, но не трогали. Соседи бросали на Амру сочувствующие взгляды, но помочь ничем не могли. И только наступившие сумерки, принесшие долгожданную прохладу, облегчили страдания детей. Апра одну за другой выпила две кружки воды и, опершись о борт шлюпки, жадно глотала свежий воздух. Лучше стало Алясу: у него спала температура и впервые за последние дни проснулся аппетит. Оживились и соседи. Зашуршали переметные сумы, забулькала вода в бурдюках и баклажках.
— Пора и нам подкрепиться, — предложил Гедлач и достал из-под горки узлов переметную суму и бурдюк с водой.
— Есть еще сушеная хурма, — напомнила Амра.
— Оставим на черный день.
— А Аляс? У него не осталось сил.
— Не надо, тетя! Мне сегодня лучше, — тихо произнес он.
Гедлач бросил взгляд на его изможденное лицо и потянулся к холщовому мешочку. К скудному ужину — крохотным кусочкам кукурузных лепешек, копченого сыра и вяленого мяса — добавилась величиной не больше, чем грецкий орех, сушеная хурма.
— Бери, бери, Аляс! — подала ее Амра, а потом принялась из рук кормить малолетнего Алхаза.
Даур с Апрой медленно жевали высохшее, будто кость, мясо и избегали смотреть на Аляса. Последний раз им досталось по хурме четыре дня назад, еще на берегу. Тогда Алхазу исполнилось три годика — и глава семейства расщедрился. Вскоре на расстеленном матерью платке не осталось даже крошки. Отец снова достал бурдюк, и они, подолгу смакуя каждый глоток из скупо отмеренной им порции, пытались утолить жажду. Потом, отвалившись на спину и закрыв глаза, дети и взрослые постарались на время забыться.
Не спалось только Гедлачу. Остановившимся взглядом он смотрел на густо усыпанное звездами небо, и жгучая тоска сжимала сердце. Это было чужое небо и чужие звезды. Они равнодушно смотрели на него, и ему стало так пронзительно больно и горько, что на глазах навернулись слезы. В горле застрял горький ком, губы задрожали, и с них готов был сорваться крик:
«Зачем?!Зачем ты это сделал?
Прости, отец! Простите, Коса! Прости, Арсол!
Будь проклят тот день, когда я послушался этого шакала Дзагана!
За что нам такое наказание? За что?!
Господи, накажи меня, но пожалей Амру с детьми!»
Тихо шептал Гедлач и не чувствовал, как по щекам катились слезы. В его сумеречном сознании смешались жуткая явь и горячечный бред. В тусклом свете луны палуба напоминала собой тело больного чумой, на ней возились, стонали и всхлипывали сотни односельчан. Сердце Гедлача защемила смертельная тоска. Вдали от родных гор, затерянный среди бескрайнего простора, он чувствовал себя песчинкой, подхваченной бурным потоком и выброшенной в бескрайнюю громаду моря.
Оно тяжело ворочалось и вздыхало за бортом. Порывистый ветер то разбойничьим наскоком трепал паруса, то затихал — и тогда они бессильно обвисали. Перед рассветом установился полный штиль. Длился он недолго, вскоре горизонт на востоке посветлел, звезды последний раз трепетно мигнули и поблекли. Небо с морем потемнели и слились воедино, не стало слышно волны. Воздух застыл, все замерло в ожидании нового дня. Минуло мгновение — и первым ожило море, где-то в его глубине рождалось движение, слабая рябь сморщила зеркальную поверхность. Еще секунда-другая — и с востока на корабли покатилась бледно-розовая волна. Вслед за ней яркая вспышка разорвала полумрак, и над горизонтом показалась багрово-красная кромка солнца.
День вступил в свои права, но он не радовал горцев. Вокруг по-прежнему простиралось бескрайнее море. Солнце быстро разогнало утреннюю дымку, водная гладь покрылась слепящей глаза серебристой чешуей, и над палубой вновь поднялся удушающий смрад. К полудню пекло стало невыносимым, и все чаще то тут, то там звучали жалобный плач детей и приглушенные стоны стариков. Природа словно испытывала их на прочность. К вечеру ветер совсем стих, паруса обвисли, и корабли легли в дрейф.
Ночь не принесла облегчения, скудные запасы воды подходили к концу, и те крохотные ее порции, которыми горцы поддерживали себя, только распаляли жажду. И когда наступило новое утро, над палубой снова зазвучали детский плач и стенания женщин. Жара отбирала последние силы у самых слабых и больных. Мужья с потемневшими от горя лицами все чаще бросали гневные взгляды на аскеров и моряков, сытые физиономии которых будили у них ненависть и злобу.
Тертый калач капитан Сулейман почувствовал, что назревает бунт, и предусмотрительно выставил на корме и носу вооруженные команды. Но не это остановило отчаявшихся горцев, готовых было броситься в рукопашную, а появившиеся над мачтами птицы и обилие рыбы в море. Они воспрянули духом в надежде на скорый приход в порт. Прошел час, за ним другой, а берег так не появился. Наступила новая ночь, на смену ей пришел рассвет, а перед ними по-прежнему простиралось бескрайнее море. Их терпение иссякло, отчаяние переросло в ярость. Первая стычка с аскерами произошла на носу. Перебранка быстро переросла в драку. В ход пошли кулаки и кинжалы, но силы были явно неравны. Обессилевшие от голода и жажды горцы не устояли перед дружным натиском аскеров, пустивших в ход сабли и открывших огонь из ружей и пистолетов.
Сулейман действовал быстро и беспощадно: еще две группы аскеров рассекли остальных горцев на части, согнали в кучи и окружили плотным кольцом. Гедлачу, Астамуру-кузнецу и остальным ничего другого не оставалось, как, стиснув зубы, наблюдать за бойней на носу. Сопротивление было быстро подавлено, те из горцев, кто уцелел, под дулами и штыками аскеров принялись выбрасывать за борт раненых и убитых. Амра, Апра и Шезина пришли в ужас, когда глянули за борт. Вода вокруг кипела — это стаи рыб терзали и рвали на части человеческую плоть. Сверху над ними вились птицы. В течение еще десяти лет подобные «караваны смерти» прокладывали по Черному морю трагические маршруты исхода с родины убыхов, абхазов, шапсугов и адыгейцев. С тех дней для них и их потомков нет большего греха, чем употреблять в пищу морскую рыбу.
Потрясенные происшедшим, Гедлач, Джамал Бутба, Шмаф Квадзба с трудом пришли в себя и, не сговариваясь, вместе с князьями Гечем и Бараком двинулись к капитанскому мостику. Внизу у трапа их остановили аскеры. Грозно бряцая оружием, они ждали команды Сулеймана.
— Пусть поднимутся трое! — распорядился он.
Гедлач и князья поднялись на капитанский мостик, дальше им не дали пройти три амбала. Гора лоснящихся от пота мышц и обнаженные ятаганы надежной стеной оградили Сулеймана от любой выходки горцев. Они, постреливая исподлобья ненавидящими взглядами, не могли найти слов, их захлестывала ярость от презрения, сквозившего в глазах капитана и его переводчика.
— Так чего вы хотите? — начал терять терпение Сулейман.
— Облегчить страдания наших стариков и детей! — первым заговорил Барак.
— Чего?!
— Капитан, они умирают! — пытался пробудить в нем жалость Гедлач. — Зачем нас испытывать? Зачем?
— Это не я, а Великий Аллах испытывает вас, — процедил Сулейман.
— Мы многого не просим. Дайте воды, — старался смягчить тон разговора Геч.
— Воды?
— Да, детям! А мы потерпим.
— Она осталась только для воинов, и я…
Однако Сулейману не дали договорить, взорвался Барак:
— А мы кто? Я двадцать лет воевал с гяурами! И где эта милость вашего султана?!
— Что-о-о?! Ты что сказал, паршивый пес? — Злобная гримаса исказила лицо Сулеймана.
Он подался вперед, его унизанные перстнями пальцы сжались в кулак, и сокрушительный удар опрокинул князя на палубу. Вслед за ним амбалы обрушились на Гедлача и Геча. Избитые и раздавленные унижением, они возвратились к своим семьям и стыдились смотреть им в глаза. Они, никогда не клонившие головы перед сильным врагом, на этот раз оказались бессильны защитить их от других, незримых врагов — жажды и голода.
Пятый день хождения по мукам горцев подходил к концу. Штиль наконец сменился легким бризом, и басистый зов горна ворвался в монотонный шум моря. Сигнальщик, широко расставив ноги, бодро выдувал заливистые трели. Внизу захлопали двери кают, и топот десятков ног сотряс трапы. Через мгновение матросы подвахтенной команды высыпали на палубу. Вместе с вахтенными они, подчиняясь зычным командам капитана Сулеймана, подобно гигантским черным паукам, стремительно вскарабкались на мачты и рассыпались по реям. Ловко балансируя на головокружительной высоте, с поразительной скоростью и точностью они выполняли команды капитана.
Прошло несколько минут, и фрегат окутало белоснежное облако из парусов. Оно лучилось огромными полумесяцами, напоминавшими простым смертным о величии и могуществе наследника Аллаха на земле — турецкого султана. Он был далеко, а здесь, на корабле, владел жизнями и смертями горцев уже не столько суровый капитан Сулейман, сколько властелины более жестокие и безжалостные — голод, жажда и невыносимая жара. Они — сменяя друг друга, а в последнее время все вместе — изводили свои жертвы. И в этой бесконечной пытке лишь на короткое время наступали паузы.
К вечеру суровая природа ненадолго сжалилась над несчастными горцами и дала им передышку. Уставшее за день солнце нехотя скатилось к горизонту. Жара спала, и палуба, до этого походившая на раскаленную сковородку, начала остывать. Усилившийся ветер наполнил паруса, и они, вздувшись огромными белыми пузырями, накрыли ее сверху и закрыли от солнца. На его порыв фрегат отозвался крупной дрожью, затем дернулся и, погнав носом седую волну, резво поплыл вперед. Спасительная тень и движение воздуха на время облегчили страдания горцев.
С прохладой они медленно возвращались к жизни. Послышался звон посуды, зашуршали переметные сумы и те, кто еще был в силах двигаться, принялись извлекать из укромных мест последние скудные запасы пищи. Журчание воды и слабый запах кукурузных лепешек отзывались на иссушенных солнцем, жаждой и голодом лицах мучительными судорогами. Тут и там зазвучали детский плач и старческое причитание. Первые молили еще об одном глотке воды, а вторые, прикоснувшись к пище, в молитве просили Всевышнего облегчить их страдания.
Гедлач вытащил из-под горки узлов тощую переметную суму, развязал тугой узел и достал со дна затвердевшую, как камень, кукурузную лепешку. Амра постелила под нее платок. Гедлач, стараясь не потерять ни крошки, принялся ломать лепешку на части. Она с трудом поддавалась, ногти царапали затвердевшую корку — и крошки сквозь пальцы сыпались на платок. Затем он достал из бурки, сморщившийся, будто печеная груша, бурдюк с водой. Пальцы бережно, словно это была не пробка, а нежный персик, коснулись ее. Алхаз, потерявший голос от крика, жалобно запищал и исхудавшими ручонками потянулся к Гедлачу.
— Потерпи, малышик. Сейчас, сейчас, — пыталась унять его Амра.
Подсохшая на жаре пробка легко поддалась и вышла из горловины бурдюка. Осевшие на ней бисеринки воды вспыхнули на солнце алмазной россыпью и заставили всех судорожно сглотнуть. Стараясь не уронить и капли, Гедлач передал ее Дауру. Тот бережно принял и, не давая пропасть драгоценной влаге, припал к пробке растрескавшимися губами.
— Амра, возьми, — поднес ей бурдюк Гедлач.
— Сначала Аляс, — предложила она.
Тот вторые сутки лежал пластом.
— Он мужчина. Потерпит.
— Я… я потом, тетя, — еле слышно произнес юноша.
Амра приподняла бурдюк, сделала глоток, на втором остановилась и склонилась над Алхазом. Обхватив губами его почерневшие и превратившиеся в запекшуюся полоску губки, она капля по капле вливала в его рот живительную влагу. Мальчик широко распахнул глазенки, и его маленькое тельце затрепетало. Вода ненадолго возвратила малыша к жизни. Амра, сделав пять глотков, передала бурдюк дочери. Вслед за Апрой Аляс и Даур выпили по три глотка, это была та норма, которую с сегодняшнего утра четыре раза в сутки стал выдавать отец.
Сам он не стал пить, заткнул бурдюк пробкой и предложил:
— Теперь можно покушать.
Руки потянулись к серым кучкам на платке. Амра, облизнув пальцы, собрала крошки и поднесла к губам Алхаза. Тот силился их сглотнуть, но у него не хватало сил, и тогда она, разжевав кусочек лепешки, вложила ему в рот. Малыш сипел и никак не мог проглотить. Коричневая пена выступила на губах, и бедняжка зашелся в кашле. Мучения брата были невыносимы для Даура, он забился под корму шлюпки и принялся грызть свой кусок. Борясь с искушением проглотить целиком, он медленно рассасывал его, стараясь продлить эту иллюзию, заставлявшую на время забыть о голоде. Она длилась недолго, последний крохотный кусочек соскользнул в горло. Прошло некоторое время, и голод снова напомнил о себе, вместе с ним проснулась жажда. Язык опять превратился в терку, и каждое его движение отзывалось болью в горле.
Перед глазами Даура плыли и ломались мачта, фигуры матросов на реях, капитанский мостик с Сулейманом. Его взгляд упал на палубу, и он не поверил своим глазам. У ног сиротливо валялась баклажка для воды. Даур закрыл глаза, а когда открыл, то она не исчезла. Его обостренный жаждой слух улавливал слабое бульканье, и в воспаленном сознании возникали целые реки ледяной, сводящей судорогой зубы воды. Одно движение — и баклажка оказалась бы в его руках. Усилием воли Даур справился с искушением и опять закрыл глаза, но жажда не стала слабее. Горло горело так, будто в него залили свинец. С каждой минутой эта пытка становилась все более невыносимой. Десятки, сотни баклажек кружились журчащим калейдоскопом в горячечном сознании Даура, и рука сама потянулась к баклажке, но пальцы схватили воздух. Фрегат качнуло на крутой волне, и она закатилась под днище спасательной шлюпки. Он проводил ее тоскливым взглядом и, чтобы не искушать себя, перевел взгляд на капитанский мостик.
Ветер трепал разлохмаченную шевелюру капитана Сулеймана и надувал пузырем расстегнутую рубаху. Перед ним на подносе стоял глиняный кувшин с водой. Расплескивая ее, Сулейман налил полный стакан и принялся жадно хлебать. Даур тоскливым взглядом сопровождал каждый глоток, а рука сама поползла под днище шлюпки. Чужие, непослушные пальцы нащупали баклажку и выдернули пробку. Иссохшие губы припали к горлышку, и теплая с горьковатым привкусом жидкость хлынула в горло. Он поперхнулся и зашелся в кашле.
— Даур?!
Отчаянный крик Шезины заставил его оцепенеть.
Ее горестные стоны подняли на ноги соседей. Шезина силилась что-то еще произнести, но ее душили слезы, а с растрескавшихся губ срывались лишь обрывки слов. Все взгляды сошлись на Дауре. В одних он видел презрение, в других — укор, но ни у кого не находил сочувствия. В нем все помертвело. Рука, сжимавшая баклажку, безвольно разжалась, она упала на палубу, и слабая струйка пролилась на доски. Прошла секунда, другая — и от лужицы осталось лишь серое невзрачное пятно.
Шезина тихо всхлипнула, без сил опустилась на колени и, потрясая баклажкой, повторяла как заклинание:
— Вода! Вода!..
Первым не сдержался ее племянник Кемал и бросил в лицо:
— Ты не мужчина, Даур!
Его дед — старый воин — тяжело вздохнул, посмотрел исподлобья на Гедлача, но ничего не сказал. Тот потемнел в лице, и с его губ сорвалось:
— Шакал!
Даур был раздавлен и не находил сил поднять головы, чтобы посмотреть в глаза отцу.
— Гедлач, прости! Это же твой сын! — бросилась умолять мужа Амра.
— Кто?.. — больше у него не нашлось слов.
— Что нам делать? Что?! — причитала Шезина и потерянно вертела баклажку.
— Прости нас, если можешь, и возьми нашу воду, — прошептала Амра.
Гедлач запустил руку под узлы достал бурдюк и подал Шезине.
— Нет! Нет!.. А как вы? У вас же маленький, — возразила она.
— Отец, прости, я… — Даур осекся.
— Я тебе больше не отец! — бросил ему в лицо Гедлач и повернулся спиной.
— Гедлач!.. Даур!.. — разрывалась между мужем и сыном бедная Амра.
Даур поник и, сгорбившись, побрел на корму. Амра порывалась пойти за ним, но всякий раз гневный окрик мужа возвращал ее обратно. Безжалостный Молох Кавказской войны за сотни километров от поля боя продолжал пожирать свои жертвы. За весь день Гедлач больше не проронил ни слова, ничего не ел и не пил. В ту ночь ни он, ни Амра так и не уснули. Амра выплакала все слезы и терзалась мыслью о том, как уберечь от голодной смерти, сохранить Алхаза, когда ей почудился запах мяса. Она приподнялась над палубой и глубоко вдохнула. Нет, это не было обманом или галлюцинацией. Это действительно были запахи настоящей кукурузной лепешки и мяса! Амра тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения, но запахи не исчезли, а стали еще острее и доносились оттуда, где расположилась семья Астамура-кузнеца.
Их приглушенные голоса и загадочные шорохи будили в ней любопытство, а вкус мяса, который так явственно ощущался на губах и ломящей болью отзывался в висках, неудержимо влек к себе. Амра выбралась из-под бурки, приподнялась над бортом шлюпки и не поверила собственным глазам.
Перед Астамуром лежала стопка лепешек, а на листе капусты — кусок мяса. И это не было игрой воспаленного, голодного воображения Амры. В лунном свете в его руке тускло блеснуло лезвие ножа. Он торопливо кромсал мясо на куски, а жена раскладывала по кучкам. Голод и нетерпение оказались настолько сильны, что дети, не дождавшись дележки, тянулись к ним.
— Подождите, всем хватит! — зашипел на них Астамур.
— Папочка, я кушать хочу! — взмолился детский голосок.
— Тихо, доченька, тихо, — прошептала Асида и ладошкой прикрыла ей рот.
— Папа, а почему на пять? — спросил старший сын Шабад.
— Ты забыл про Айшу, — напомнила средняя дочь Айгюль.
— Она скоро придет! Кушайте! — торопил Астамур.
Дети жадно глотали пищу. Большие куски застревали в горле, Шабад поперхнулся и зашелся в надрывном кашле.
— Выпей, выпей, сынок, — послышался испуганный голос Асиды.
Обостренный жаждой и голодом слух Амры различил среди шорохов и шуршания журчание воды. Искушение оказалось сильнее стыда, и она подалась вперед. Шум шагов на трапе заставил ее отпрянуть назад. Из каюты выскользнула девушка, ее лицо закрывал надвинутый на самые глаза платок. Она поднялась на палубу, опустилась рядом с Астамуром, и из ее рук на палубу просыпались головка сыра и горсть сушеных фиников. Глухие рыдания сотрясли девушку. Асида обняла дочь и, поглаживая по голове, глотала слезы и повторяла:
— Прости, доченька, прости!
Платок спал с головы девушки, и Амра узнала в ней старшую дочь Астамура, пятнадцатилетнюю Айшу. В следующее мгновение ее пронзила страшная догадка, какой ценой Астамур спасал семью. Потрясенная, она не сдержалась и воскликнула:
— Господи, и за что нам такое наказание!
Ее возглас прозвучал для Астамура подобно удару грома. Он сгорбился и затем медленно обернулся. В блеклом свете луны его и без того изможденное лицо походило на безжизненную маску. Страдальческая гримаса искривила губы. Он силился что-то сказать, но с них срывались лишь невнятные звуки. Сколько длилась эта немая пауза, не могли сказать ни Амра, ни Астамур. Первой пришла в себя Асида, схватив лепешку и горсть фиников, принялась совать их ей в руки.
— Нет-нет! — отшатнулась Амра.
— Это детям.
— Я не могу. Я…
— Погоди, Амра! — сипло произнес Астамур, шагнул к ней и взял за руку.
Нервная дрожь, сотрясавшая его, передалась ей.
— Ты потеряла Даура. А мы… — больше ему не хватило слов.
Амра ничего не ответила. Это напоминание острой болью кольнуло сердце и страдальческой гримасой исказило ее лицо. Астамур судорожно сглотнул и с трудом выдавил из себя:
— А мы… потеряли дочь.
— Прости, Астамур.
— За что? Я сам виноват. Будь проклят тот час, когда я послушался этого шакала Дзагана!
— Кто знал, что так все обернется?
— Да, теперь нам остается одно — терпеть.
— Но какой ценой? — горестно выдохнула Амра.
В груди Астамура что-то екнуло, и он потерянно ответил:
— Но надо же как-то жить, Амра!
— Да, — прошептала она и развернулась, чтобы уйти.
— Погоди! — остановил он и распорядился: — Асида, дай еще мяса.
— Мясо?! Нам?.. — растерялась Амра.
— Бери, бери! Только не говори никому.
— Я… я не могу, — пыталась отказаться Амра, а руки сами тянулись к этому сказочному богатству.
— Возьми, возьми. У вас дети, — присоединилась к мужу Асида.
— Спасибо вам! Пусть Господь хранит вас и ваших детей. Мы этого не забудем, — прошептала Амра и возвратилась к себе.
Это нежданно свалившееся на нее богатство жгло руки. Она все еще не могла прийти в себя и не знала, что с ним делать. Ей приходилось разрываться между чужой страшной тайной и тем, что Гедлач мог не принять этот «дар» Астамура. Отбросив последние сомнения, Амра первой разбудила Апру.
— Где мы, мама? — не могла она понять спросонья.
— Тихо, доченька, тихо, — умоляла ее Амра и подала в руку кусочек лепешки и мяса.
— Что это? — растерялась Апра.
— Мясо, доченька.
— Мясо?! Откуда?..
— Кушай и не спрашивай, — торопила Амра.
— А Алхазик, Аляс?
— Им тоже будет.
— Хорошо, — больше Апра не задавала вопросов, под ее зубами захрустела корочка лепешки.
После того как она поела и легла спать, Амра покормила Алхаза с Алясом, потом сама съела кусочек лепешки, а то, что осталось, сложила в переметную суму, надеясь, что этот «подарок» Астамура примет и Гедлач. Теперь, когда дети поели, ей уже не так был страшен его гнев. Еще один день у подступившей было к ним смерти она сумела отвоевать.
Начался он, как обычно, со звука горна сигнальщика. Ничего, кроме ненависти, у горцев он не вызывал. С его звуками с прежней силой в них проснулись голод и жажда. Но на этот раз с утра солнце не так пекло, как вчера, а к обеду пепельная дымка затянула горизонт на севере. Прошло меньше часа, и его диск оранжевым пятном расплылся над головой и, подобно запылившейся керосиновой лампе, тусклым светом заливал фрегаты, фелюги и горцев.
Женщины и дети с ужасом смотрели на внезапно вспучившееся море, тут и там вскипавшее седыми бурунами. Волны росли на глазах и, наливаясь свинцом, жадными языками облизывали борт фрегата. Под их ударами корпус жалобно поскрипывал, а палуба отзывалась судорожной дрожью. Она передавалась и людям.
Плач детей, горестные возгласы матерей слились в один мучительный стон, терзавший сердца мужчин. Они отводили глаза в сторону, так как ничего не могли противопоставить той грозной стихии, что надвигалась на них. Неподвластная ни капитану Сулейману, ни экипажу, она набирала силу. Нос фрегата все глубже зарывался в волну, и потоки воды раз за разом обрушивались на палубу. Злобно шипящие языки извивались под ногами, забирались под шлюпки и, прихватив с собой нехитрый скарб горцев, скатывались в море.
Гедлач с тоской озирался по сторонам, ища защиты от слепой стихии. Выросший среди гор, он не знал, как уберечь от нее жену и детей.
— Рви все, что попадется под руки! — первым нашелся Астамур-кузнец, до этого не один раз выходивший в море.
— Зачем? — не сразу сообразил Гедлач.
— Плети веревки!
— И что…
— Когда начнется шторм, будем привязываться.
— Ясно.
— Детей вяжи тоже. Руками не удержать.
— Конечно! — оживился Гедлач и потянулся к узлу с вещами.
— И еще, когда волна накатит, надо сжаться в комок. И лицом, лицом к ней, — дал новый совет Астамур.
— Спасибо, брат, — поблагодарил Гедлач и вместе с Амрой и Апрой принялся рвать на полосы все, что попадалось под руку, вить веревки и готовиться встретить новую беду.
О том, что беды не миновать, говорило все вокруг. Серорозовые сумерки плотной пеленой окутали фрегаты и фелюги. Прошло еще какое-то время, и море слилось с небом. Первый громовой раскат, заглушая шум волн и свист ветра, пригнул всех к палубе. За ним последовал второй, третий, временами казалось, что небо вот-вот расколется и рухнет на палубу. Строй кораблей нарушился, их капитаны с экипажами теперь боролись каждый сам за себя. И без того перегруженные фелюги, все чаще черпая бортами воду, вскоре безнадежно отстали от фрегата и затерялись в сгустившемся мраке.
Сулейман, вцепившись мертвой хваткой в поручни капитанского мостика, сорвал голос, посылая матросов наверх крепить паруса. Они, рискуя сорваться в клокочущую морскую бездну, чудом держались на реях и вантах. Свирепый «крымчак» снова и снова с неистовой силой налетал на фрегат, рвал из их рук веревки и норовил сбросить вниз. Не выдержав его напора, с оглушительным треском разлетелись верхние паруса на грот— и фок-мачте и, подобно чайкам, взмахнув лоскутьями-крыльями, пропали во мраке.
Фрегат терял управление и, уже неподвластный руке рулевого, становился игрушкой волн. Они с торжествующим ревом обрушивались на него и, сметая все на своем пути, прокатывались по палубе. Гедлач едва успел глотнуть воздуха, как новый вал накрыл его с головой и, подхватив, перебросил через шлюпку. Веревка, привязанная к поясу, лопнула, и он взлетел над палубой. В последний момент правой рукой успел ухватиться за канат, а левая, не выдержав напряжения, разжалась.
— Ал-ха-аз! — дикий вскрик вырвался из груди Гедлача. Его мальчик, его Алхазик стал добычей волн. Дальше он делал все, как во сне, вцепившись в канат, с немым упорством продолжал бороться с морем. Оно, не насытившись, требовало себе все новых и новых жертв. Под ударами волн тяжелогруженое судно все глубже погружалось в воду. По команде Сулеймана лишний груз полетел за борт, когда и это не помогло, аскеры набросились на горцев. Спасая свою жизнь, они лишали ее других. Сабли и ятаганы безжалостно рубили по рукам, отчаянно цеплявшимся за канаты, шлюпки и борта фрегата.
Всю ночь шла эта схватка не на жизнь, а на смерть людей с людьми и с самим морем. Закончилась она с рассветом. Свирепый шторм стих так же внезапно, как начался. Море еще продолжало злобно урчать и пенистыми языками пытаться слизнуть с палубы фрегата очередную жертву. Она напоминала жестокое поле боя, устеленное обломками мачт, обрывками парусов и канатов. Среди них вперемешку лежали бездыханные и едва подававшие признаки жизни тела матросов, аскеров и горцев.
— Земля! Земля! — Слабый крик вернул их к жизни.
На горизонте, медленно вырастая из моря, появилась серая полоска земли. Сулейман оживился, и, подчиняясь его командам, матросы, цепляясь за обрывки канатов, забрались на реи и начали натягивать то, что осталось от парусов. Фрегат, как подраненная утка, вихляя из стороны в сторону и постанывая под ударами волн, медленно вползал в бухту Самсуна. Суета команды и запах дыма, доносившийся с суши, подняли на ноги тех горцев, кто еще мог двигаться. Дотащившись до борта, они истосковавшимися глазами всматривались в берега.
Из сиреневой дымки выплыла бесплодная, покрытая скудным кустарником земля. Серая, изрезанная оврагами, она напоминала лицо больного старика. Вдали гнилыми, почерневшими «зубами» проглядывали низкорослые «лысые» горы. У пристани, сбившись, словно стая диких гусей, теснились рыбацкие шхуны и лодки. У крепости, нависавшей орлиным гнездом над входом в бухту, стояли на якорях два трехтрубных военных корабля. От всего этого изболевшиеся сердца горцев снова сжала смертельная тоска.
Новая команда капитана Сулеймана заставила их встрепенуться. Поврежденные рули работали плохо, фрегат с трудом разминулся с болтавшимся на рейде, потрепанным штормом парусником. Он напоминал корабль-призрак. На капитанском мостике никого не было. Обрывки парусов обвисли тряпками, и никто не спешил их менять. На палубе тут и там валялись груды мусора, среди них в лохмотьях копошились какие-то существа. На уцелевшей грот-мачте зловеще реял черный флаг с красной кляксой посередине.
«Холера!» — кем-то произнесенное слово пошло гулять среди горцев. Еще один корабль с махаджирами стал на «мертвый якорь» в бухте Самсуна. Гедлач, Амра, Шезина, Астамур— кузнец остановившимися взглядами смотрели на парусник— призрак, приземистые домишки, разбросанные тут и там по берегу, и на их глаза наворачивались горькие слезы. Сотни километров разделили их с родиной. И вряд ли кто из них мог предположить, что только через сто с лишним лет их потомкам суждено будет увидеть берега родной Абхазии. Черное море равнодушно плескалось волной о борт корабля…
Могучий морской вал обрушился на баржу и, злобно шипя, прокатился по палубе. Спасаясь от него, десантники хватались за все, что попадалось под руку, и ждали решения командиров: командира десантного отряда Заура Зарандиа, командира гудаутского дивизиона катеров Александра Воинского и командира баржи Султана Гицбы.
Сухощавая и ладно скроенная фигура Зарандиа, казалось, слилась с капитанским мостиком и не поддавалась напору ветра и воды.
— Вот невезуха! — в сердцах воскликнул он. И попытался докричаться сквозь рев моря и свист ветра до Воинского: — Саны-ыч! Что, поворачиваем обратно?
— Подожди, командир, не все еще по-те-ря-но! — откликнулся тот.
— О чем ты говори-и-шь?! Я половину бойцов утоплю!
— Подожди хоронить! Я сам выброшусь на берег!
— Что-о?! С ума сошел?! — оторопел Зарандиа.
— Саныч, рискованно! Можем на скальник наскочить! — предостерег Гицба.
— Прорвемся! Война — все время риск! — стоял на своем Воинский.
— Все так, но…
— Никаких «но», Султан! Давай всех на корму! Поднимем нос, и.
— Я понял, Саныч! А потом на отливе снимемся с берега! — оценил этот маневр он.
— Тогда вперед! — распорядился Воинский и, наклонившись к переговорному устройству, во всю силу легких позвал: — Король, сюда!
Не прошло и минуты, как из машинного отделения на капитанский мостик поднялась долговязая фигура. На черном от сажи лице Жени Сангулиа сверкали одни белки глаз и белоснежные крепкие зубы, под которыми запросто разлетался грецкий орех. Даже здесь, где все кувыркалось вверх дном, бывший «король» студенческого джаз-банда не потерял былого лоска. В сшитой будто с иголочки форме и каким-то чудом сохранивших блеск башмаках он смотрелся как лондонский денди, которому не хватало лишь бабочки и саксофона.
— Король, как дизеля? — обратился к нему Воинский.
— На пределе! Пре-де-ле, — пытался тот перекричать вой ветра и рокот волн.
— Придется добави-и-ть!
— Куда больше?
— Надо, Женя!
— Саныч, ты что, на небо захотел?
— Я сказал — самый полный! Выбрасываемся на берег! — отрезал Воинский.
— А потом что?! — оторопел Сангулиа.
— Потом суп с котом! Чего стоишь? Бегом в машинное, Король!
Тому ничего другого не оставалось, как только пожать плечами и исполнить приказ. Воинский не привык дважды повторять, тем более что до берега было рукой подать. Глотнув свежего воздуха, Евгений скатился по трапу и нырнул в сизую пелену машинного отделения. В ней размытыми силуэтами, как белки в колесе, метались перед дизелем два «черта-механика» и не спускали глаз с манометров. За запотевшими стеклами едва виднелись трясущиеся, будто в лихорадке, стрелки.
Сангулиа склонился к плечу старшего механика и прокричал:
— Петя, надо прибавить еще!
— Что-о?!
— При-ба-вить!
— Король, ты е…ся?!
— Я — нет! Это Саныч приказал!
— Кто-о?!
— Са-ныч!
— А… Тогда другое дело.
— Будем выбрасываться на берег! — пояснил Сангулиа.
— С Санычем — хоть к черту на рога! — отмахнулся Петр, и его рука решительно легла на рычаг.
Дизель, и без того работавший на пределе, казалось, вот— вот пойдет вразнос. Гребной винт яростно рубил клокочущую воду, косматые волны, злобно шипя, набрасывались на палубу и капитанский мостик, но, подвластная железной воле Воинского, баржа с десантниками и снаряжением пробивалась через буруны к берегу. Сам он, казалось, слился с ней и, как к живому существу, прислушивался к работе дизеля, напрягал зрение и всматривался в берег, чтобы поймать тот только ему одному известный момент и завершить отчаянно рискованный маневр.
Справа и слева по борту, выполняя приказ и веря в своего капитана, вели катера и баржи навстречу судьбе и неизвестности другие экипажи. Воинский ловил каждый звук и мысленно молил только об одном: чтобы, не дай бог, не напороться на скальник, тогда всем расчетам и самой операции пришел бы конец. Скрип днища по песку, прорезавшийся сквозь шум прибоя, прозвучал для него самой желанной музыкой.
— Саныч, ну ты… — больше у Зарандиа не нашлось слов, и, не дожидаясь полной остановки, он приказал: — Ребята, вперед!
Десантники, подхватив оружие, ринулись на нос баржи. Воинский опустошенным взглядом смотрел перед собой и не видел, как бойцы, словно горох, посыпались с бортов на берег и, разворачиваясь в цепь, тут же занимали круговую оборону. Его ноги дрожали мелкой дрожью, на спине выступил холодный пот, а руки, будто приклеенные, не могли отпустить поручни капитанского мостика. Встрепенулся он, когда пальцы Сангулиа легли на побелевший от напряжения кулак.
— Саныч, еще один такой стресс — и я точно не доживу до свадьбы, — ворчливо произнес Евгений.
Воинский наконец смог перевести дыхание и с вымученной улыбкой произнес:
— И слава богу, хоть на одну несчастную будет меньше.
— Так ты специально хотел меня угробить?!
— Тебя угробишь! Еще Кощея переживешь.
— Не знаю, как с Кощеем, но если так дальше будешь кормить, то мумией точно стану.
— Слушай, Король, а кроме закуски о чем-то другом ты можешь говорить?
— Если о выпивке, так последнюю бутылку еще на прошлой неделе выпили, — беззлобно огрызнулся Сангулиа.
— Как?! Почему без команды?.. — возмутился Воинский.
— А так! Ты же вечно занят.
— Король, ты уже меня достал!
— Что поделаешь, Саныч, придется до конца мучиться.
— Ну уж нет! Завтра спишу на берег, — пригрозил Воинский.
И, поддавшись порыву, они — бывший моряк Северного торгового флота и бывший директор студенческого клуба АГУ, которых свела и накрепко связала дружбой война, — обнялись. По их лицам катились не то слезы, не то соленые брызги волны, но они не замечали этого и были счастливы тем, что остались живы и были вместе. Десантная операция, в успех которой в центральном штабе уже не верили, удалась.
Без единого выстрела бойцы отряда Зарандиа благополучно высадились на берег и, пользуясь шумом прибоя, спешили поскорее уйти вглубь леса. Впереди, рассыпавшись веером, шли разведчики. Пока им везло, то ли непогода, то ли самоуверенность грузинских вояк уберегли их от потерь, на пути не попался ни один пост. До стратегической дороги Сухум — Тбилиси оставалось совсем немного.
В предрассветном полумраке прорезалась зубчатая стена гор, подсвеченная тут и там осветительными ракетами. В те дни бои на Восточном фронте не затихали ни днем, ни ночью. Его части, отрезанные от основных сил абхазской армии, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление превосходящим силам гвардейцев.
Появление десантников и их стремительное продвижение к стратегически важному опорному пункту оккупационных войск — селу Тамыш стало полной неожиданностью не только для грузинского командования, но и для большинства командиров Восточного фронта. Его командующий Мераб Кишмария до последнего держал в тайне время, место высадки десанта и сам замысел операции. Даже Виталий Осия — командир легендарной разведывательно-боевой группы «Дельфин», этих «ночных дьяволов», наводивших ужас на отморозков Джа (вора в законе Иоселиани) и националистов из УНА-УНСО, узнал о ней несколько часов назад.
По возвращении из штаба они вместе с Гумом, забравшись в тень платана, с затаенной болью наблюдали за тем, как на околице села Чары, перед двором тетушки Торчуа, Ахра Голандзия, Батал и Ахра Табагуа, Беслан Осия, Элгуджа Сичинава и другие бойцы самозабвенно пинали шитый— перешитый футбольный мяч. Это были те редкие мгновения мирной жизни, на которые так скупа война. Звонкие удары по мячу и азартные крики футболистов разносились далеко по округе и были слышны на грузинских позициях. Там от ярости скрипели зубами и давились ядовитой слюной, но дальше нескольких выстрелов и отборного мата, усиленного электронными киловаттами, не пошли.
Бойцы разведывательно-боевой группы «Дельфин» на подобную мелочь не обращали внимания и продолжали играть. Виталий в душе гордился ими и был рад, что игра затягивалась. Она усыпляла бдительность противника. Вряд ли в головах грузинских вояк укладывалось то, что всего через семь часов «ночные дьяволы» ворвутся на позиции опорного пункта «Тамыш», чтобы ножами и гранатами проложить дорогу основным силам.
Время подошло к девяти, закончился второй тайм. Атаки накатывались то на одни, то на другие ворота. Очередной гол в ворота команды заводного Батала Табагуа, безнадежно проигрывавшего ребятам Ахры Голандзии, ослабил накал игры. Виталий не удержался и подлил масла в огонь:
— Батал, это тебе не мячик над волейбольной сеткой подбрасывать!
В ответ лучший связующий сухумской волейбольной команды хитрым ударом подкрутил мяч в левый от вратаря угол ворот и с вызовом ответил:
— Завтра мы им покажем!
Последние его фразы резанули по сердцу Виталия. Полные сил, здоровья и веры в то, что еще не отлита их пуля, они не подозревали, что на рассвете их ждет жестокий бой. Виталий с болью наблюдал за своими «дельфинятами» и не решался остановить игру, а для кого-то — последние часы земной жизни.
Солнце спряталось за пологими, обросшими соснами холмами. Колючие тени поползли по поляне, и игра угасла. Потом все вместе — победители и побежденные — собрались во дворе тетушки Торчуа. Иссеченная осколками южная стена дома и пацха говорили сами за себя. Она и ее шестеро сыновей за все время войны не отступили ни на шаг.
Виталий вяло жевал лепешку и не решался объявить приказ. Тетушка Торчуа чутким женским сердцем будто почувствовала, что эта ночь может стать последней для них, и пыталась, как могла, сохранить и удержать такие хрупкие на войне минуты покоя. «Непьющему воробью», сладкоежке Баталу, достала из запасов баночку с вареньем из инжира; Бате — шестидесятилетнему Андрею Киркинадзе налила стопку чачи; Гуму, начавшему познавать особенности абхазской кухни, — вареную фасоль лобио; а Элгудже зашила порванную футболку.
А они, еще не остывшие после игры, забыв на время о войне и сне, с жаром продолжали обсуждать забитые и пропущенные голы, несправедливые штрафные и пенальти. Стрелки подкрались к одиннадцати, а споры все не затихали. Виталий решился положить им конец и распорядился:
— Все, ребята, пора спать!
— Рано, командир! Детский час еще не кончился! — возразил Астик Садза.
— Все-все! Заканчиваем разговорчики! — был неумолим он.
Прошло несколько минут, и измотанные игрой «дельфинята» спали без задних ног. Лишь часовые продолжали исправно нести службу и внимательно прислушивались к коварной ночной тишине. Сам Виталий ворочался с боку на бок и поглядывал на часы. Стрелки стремительно бежали вперед, отсчитывая последние минуты безмятежного сна. И когда большая застыла на двенадцати, а малая на трех, он разбудил «дядю Андрея», Гума, Бурдика, Гиви Агрбу и Коду Чагаву.
— Что случилось, командир?! — насторожились они.
— Поднимайте ребят! Пришло время гнать эту нечисть!
— Наступление, командир?! — догадался Коду, и его голос дрогнул.
— Пора уж. А то думал — не доживу, — пошутил Андрей Киркинадзе.
— Дядя Андрей, ты это брось! Мы еще на твоей бриллиантовой свадьбе погуляем! — предостерег Виталий и коротко объявил: — Задача — любой ценой сбить их с дороги!
— Все понятно, командир! — дружно ответили разведчики.
— Раз понятно, поднимайте остальных!
Не прошло и пяти минут, как бойцы группы «Дельфин» заняли места в боевом строю. Приказ о наступлении будоражил кровь и лихорадочным блеском отражался в их глазах. Целых одиннадцать месяцев они ждали его.
— Идем в наступление! Задача — захватить опорный пункт «Тамыш», а затем взять под контроль дорогу Зугдиди — Сухум. При хорошем раскладе войти в Тамыш и там закрепиться. Вопросы есть? — объяснил задачу Виталий.
— Будем задавать грузинам, — отшутился кто-то из разведчиков.
— Я тоже так думаю, — хмыкнул Виталий и детализировал задание: — Действуем тремя группами. Твоя, Адгур, заходит в тыл и отсекает им отход. Ты, Гиви, со своими идешь с правого фланга и первым начинаешь атаку. Мы сразу после тебя бьем в лоб. Трогаемся в четыре. Сверим часы! — и здесь голос Виталия предательски дрогнул: — Ребята, только зря не лезьте под пули! Хватит смертей! Хватит!
— Все будет нормально, командир! Мы к этой, с косой, не торопимся, — нестройно ответили бойцы.
— Тогда вперед! За Абхазию! — призвал их Виталий.
Робкий рассвет нежным цветом окрасил снежные вершины гор. Трепетно мигнули и поблекли звезды. Ночной мрак рассеялся, и в утреннем тумане проступили зыбкие силуэты, напоминающие то вздыбившегося медведя, то несущийся в галопе табун лошадей. Пач Чагава, Батал Табагуа, Пантик Торчуа, Ахра Голандзия, Беслан Осия, Андрей Киркинадзе и Гум где короткими перебежками, где ползком просочились через линию фронта и заняли исходные позиции.
На фоне посветлевшего неба зловеще прорезался неправдоподобно громадный силуэт танка. Его ствол черным хоботом хищно вытянулся в сторону Кутола. В его металлическом чреве что-то угрожающе погромыхивало. В десятке шагов от «дельфинят» за одичавшим кустом роз послышалась неясная возня, это грузинские часовые боролись со сном. Они не подозревали, что рядом затаилась их смерть.
— Ребята, приготовились! Дядя Андрей, прикрываешь тыл! — распорядился Адгур.
Разведчики вплотную подобрались к врагу и теперь ждали сигнала от группы Гиви. Тот не заставил себя ждать. Его бойцы, продравшись через розарий, зашли во фланг и с ходу ударили по опорному пункту. Утреннюю тишину взорвали разрывы гранат. В ответ тяжело ухнул миномет и тут же захлебнулся. Автоматная и пистолетная трескотня потонула в реве двигателя танка. Его экипаж, не сделав ни одного выстрела, уносил ноги с позиции. За ним бросилась спасаться пехота.
— Они драпают! Драпают! — ликовал Ахра и посылал вслед очередь за очередью.
Бойцы его группы старались не отстать от гвардейцев, чтобы на их плечах ворваться в Тамыш. На подходах к селу их встретил нестройный огонь. Из развалин бывшего ремонтного цеха яростными вспышками огрызнулся пулемет. Справа, из коровника, короткими очередями отстреливался автоматчик. Шесть пуль впились в тело Андрея Киркинадзе, но он продолжал давить на спусковой крючок, пока не потерял сознание. Шальной осколок скосил Бесика Осию.
Смерть витала над головами «дельфинят», но они не могли и не имели права останавливаться. Они рвались на юг. Оттуда доносились звуки яростной перестрелки, тонувшие в грохоте артиллерийских разрывов. Это сквозь стену огня навстречу им прорывались десантники Заура Зарандиа. Их присутствие придало новые силы бойцам Виталия Осии, и они ринулись в битком набитый гвардейцами Тамыш.
Те, ошалев от страха, беспорядочно отстреливались и все дальше откатывались к восточной окраине села. Подавив очередную огневую точку, Гум, Беслан, Батал, Ахра и Гиви, прячась за бетонным забором, короткими перебежками продвигались к центру и там напоролись на танк. Его ствол суматошно мотался по сторонам. Броня судорожно подрагивала от работавшего с перебоями двигателя.
— О, красавчик, попался?! От нас не уйдешь! — радостно воскликнул Беслан и, подкатившись к танку, громыхнул прикладом автомата по броне.
В ответ в его чреве заворочались, затем звякнула крышка люка, из него показалась чумазая физиономия и пролепетала:
— Там… Там абхазы! Абхазы!
— Не там, а здесь! — рявкнул Беслан и сдернул танкиста на землю…
Отряд Зарандиа и передовые группы Восточного фронта, несмотря на тяжелые потери, упорно пробивались навстречу друг другу, чтобы наконец перерезать «грузинскую удавку», душившую столицу Сухум, и облегчить наступление частям Гумистинского фронта.
Неожиданное появление более чем полутысячного отряда абхазских ополченцев, казаков и добровольцев из республик Северного Кавказа в тылу грузинских войск и фронтальное наступление частей Восточного фронта вызвало у них настоящий шок. У страха глаза оказались настолько велики, что, когда сообщение о нем дошло до штаба в Сухуме, эта цифра возросла втрое. Но десантникам некогда было заниматься арифметикой, они вели свой счет — подбитым танкам, бэтээрам и уничтоженным пулеметным гнездам. Он был в их пользу, к исходу дня передовым группам удалось пробиться к стратегически важной дороге Сухум — Тбилиси и там соединиться с частями Восточного фронта.
Впервые за время войны над группировкой грузинских войск в Абхазии нависла угроза окружения. Среди оккупантов сначала в Сухуме, а затем по цепной реакции и в Тбилиси началась паника. Шеварднадзе, «вальсировавший» в то время с генералами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, почувствовал, что его «хваленая гвардия», привыкшая больше «шманать» беззащитных сухумчан, готова была вот-вот дать деру, бросил «бал» и к вечеру 2 июля прилетел в столицу Абхазии. Наспех сколотив несколько ударных отрядов, бросил их против десантников и ополченцев Восточного фронта. Но генералы Сосналиев и Дбар не дали ему возможности перевести дыхание и нанесли очередной отвлекающий удар.
Четвертого июля, едва забрезжил рассвет, как сотни бойцов, прячась в молочном тумане, клубившемся над Гумистой, атаковали позиции противника в районе села Нижняя Эшера. Это была лихая атака. Помня прошлое мартовское наступление абхазской армии, когда ей удалось пробиться в район маяка, грузинское командование дополнительно усилило оборону минометными батареями и дзотами. Но ни это усиление, ни шквальный автоматный и пулеметный огонь не могли остановить ополченцев. Они, вложив в этот удар всю свою ненависть к врагу, ворвались на передовые позиции и после яростной рукопашной завладели ими.
В результате этого маневра Шеварднадзе и его генералы оказались между двух огней, полыхавших в районе села Тамыш и на берегах Гумисты. Пытаясь остановить, как им казалось, наступление абхазской армии, они бросили в бой последние резервы и подняли в воздух всю авиацию, не подозревая о главном направлении удара. В их головах не укладывалось то, что высоты над Сухумом, одетые в бетон и опоясанные минными полями, являлись основной целью стратегического плана, разработанного Султаном Сосналиевым и Сергеем Дбаром.
Глава 7
Напоминая тяжелораненого, фрегат «Османия» с остатками команды и теми, кто выжил из махаджиров, оставив позади парусник, на котором умирали зараженные холерой, и вихляя из стороны в сторону, вполз в бухту Самсуна. Капитан Сулейман, еще во время шторма сорвавший голос, сипел на матросов, пытаясь лохмотьями парусов поймать ветер и держать строгий курс. Они, цепляясь за обрывки канатов и рискуя сорваться вниз, старались, как могли, чтобы только поскорее причалить к берегу и забыть о том кошмаре, что преследовал их последние сутки. Несмотря на жалкий вид судна и самой команды, Сулейман пытался сохранить достоинство и морскую честь. Когда фрегат поравнялся с кораблями эскадры Омерпаши, по его команде аскеры и моряки выстроились на носу во фронт и, вскинув вверх сабли с ятаганами, воскликнули:
— Слава великому султану и его флоту!
В ответ мощным эхом прозвучало:
— Слава великому султану! Слава флоту! Слава капитану Сулейману!
Не успело приветствие затихнуть, как на флагмане громыхнуло орудие. Сам неустрашимый Омер-паша салютовал ему — капитану Сулейману. И на его посеревшем от усталости лице появилась горделивая улыбка, а глаза повлажнели. В эти минуты для него, отдавшего двадцать с лишним лет службе султану и флоту, не было ничего дороже, чем честь и уважение самого Омер-паши. Они стоили больше, чем все золото и серебро, что утащило к себе море, чем красавица-горянка, захлебнувшаяся в трюме, чем сотни душ махаджиров, пошедших ко дну.
И когда раскаты салюта растворились в шуме волн и ветра, сигнальщик с флагмана протелеграфировал: «Доблестного капитана Сулеймана ждет у себя на ужин гроза гяуров адмирал Омер-паша».
Это видела вся эскадра, это видели на берегу. Сулейман не мог сдержать душивших его чувств и, поклонившись команде, прочувственно воскликнул:
— Слава вам, доблестные воины Аллаха и великого султана!
— Мы с тобой, капитан! Слава тебе и Аллаху! — охваченные одним порывом кричали они и потрясали оружием.
— Аллах вам в помощь! Теперь все позади! Мы дома! Приготовиться к швартовке! — распорядился он.
Команда дружно бросилась выполнять команду. Вместе с ней оживились и горцы. Гедлач, Амра, Астамур-кузнец, Шезина Атыршба, Джамал Бутба, Шмаф Квадзба и те, кто еще мог двигаться, перебрались на правый борт и жадно вглядывались в берег, который для них должен был стать своим. Лес мачт купеческих кораблей закрывал город, а те убогие глинобитные домишки, хаотично разбросанные по склонам пологих, покрытых скудной растительностью холмов вгоняли их в еще большую тоску по оставленной родине.
Перед глазами возникали совершенно другие видения. Просторные, плодородные долины, в которых хватало пашни и пастбищ всем — как князьям, так простолюдинам. Привольно раскинувшиеся по склонам гор густые буковые и дубовые леса, где для охотника было настоящее раздолье. Хрустально-чистые реки, в водах которых в изобилии водилась золотистая форель. Луга, где бродили тучные стада, а воздух, напоенный ароматом цветов, напоминал один огромный пчелиный улей. И конечно, величественные горы. На протяжении веков они хранили память о великих предках, сумевших выстоять и победить самых могущественных врагов.
Гедлач потухшим взором смотрел на лысые холмы, скалистые берега и в его сердце, израненном последними утратами — смертями Даура и Алхаза, — была абсолютная пустота. Он дышал и не чувствовал могучего зова проснувшейся после затяжной зимы земли, сладких дымов, в которых смешались запахи домашнего очага и свежеиспеченного хлеба. Воздух Самсуна стеснял дыхание и драл горло. Это не был воздух гор — воздух свободы! Безбрежная громада моря навсегда отрезала его и семью от родины и могил предков.
— Как тут жить?! Как? — воскликнул Джамал, пораженный убогостью земли.
— И где тот турецкий рай?! Где? — растерялся Астамур.
— Это мы жили в раю! — с горечью произнес Шмаф.
— Бежавших из рая может ожидать только ад, — мрачно обронил Джамал.
— Ради чего все муки?! За что нам такое наказание? Апсар, прости, если бы я только знала… — причитала Шезина, и рыдания сотрясли ее.
— Мертвых уже не воскресить, надо думать о живых и детях. Ничего, как-нибудь обживемся, — пыталась утешить подругу и себя Амра.
— Перестаньте душу мотать! На Самсуне свет клином не сошелся! Живут же наши в Стамбуле, — оборвал ее Гедлач.
— В Стамбуле? А кто нас там ждет? — уныло заметил Джамал.
— Вы еще вспомните про обещанного султаном буйвола и мешки с кукурузой, — с сарказмом заметил Астамур.
— У-у Дзаган, — прорычал Шмаф, и его руки схватили пояс там, где когда-то висел кинжал.
— У-у Сулейман, — процедил сквозь зубы Джамал и бросил ненавидящий взгляд на капитанский мостик.
— Теперь поздно локти кусать! — глухо обронил Астамур и, вцепившись руками в борт, всматривался в приближающийся берег.
Фрегат протащился мимо торгового причала, рыбацких шхун, сбившихся в кучу, мимо галдящих торговых рядов, разбитых у кромки моря и, оставив позади порт, стал на якорь у развалин старой крепости. Прошел час, и на берегу появился отряд аскеров. Вскоре к ним присоединились четыре чиновника, они сели в шлюпки, подплыли к фрегату и поднялись на борт.
Комендант Озал Челер, начальник береговой охраны, судовой врач и переводчик, не удостоив взглядом разбившихся на кучки махаджиров, были встречены Сулейманом и вместе с ним спустились в каюту. Пока шло совещание, команда фрегата паковала сундуки и с нетерпением поглядывала в сторону порта. Оттуда, погоняемая попутным ветром, резво спешила к фрегату фелюга. Не успела она пришвартоваться, как в нее полетели узлы и сундуки команды. Затем подплыл военный катер, и на смену аскерам на борт поднялась мрачная береговая охрана.
Весть о возвращении экспедиции капитана Сулеймана с быстротой молнии облетела город, и на берегу быстро выросла толпа. Изредка в ней мелькали черкески, это первые переселенцы-махаджиры пришли встретить своих земляков и узнать последние новости из Абхазии. Вид фрегата говорил сам за себя, и тревожные крики поплыли над морем. Радостные возгласы сменялись стенаниями, счастливый смех — душераздирающими воплями. Как на берегу, так и на борту фрегата сгорали от нетерпения перед предстоящей встречей. Но без приказа Сулеймана никто не решался первым покинуть фрегат и перебраться на борт фелюги.
Он не заставил себя ждать и в окружении свиты появился на палубе. Впереди шел комендант Челер, позади трусил переводчик, судя по чертам лица — выходец с Кавказа. За несколько шагов до надвинувшейся на них толпы махаджиров они остановились, и тут же между ними стеной стала береговая охрана.
Геч, Барак, Гедлач, Астамур, Шмаф и сгрудившиеся за их спинами односельчане угрюмо смотрели на коменданта и ждали, что он скажет. На его надменном и холодном лице невозможно было прочесть ни чувств, ни эмоций. Холеная рука крепко сжимала тяжелую трость, толстые пальцы были унизаны массивными перстнями, сверкающими на солнце драгоценными камнями. Челер цепким взглядом прошелся по лицам махаджиров и кивнул переводчику. Тот вышел вперед и, как хорошо заученный урок, отбарабанил:
— Великий султан — наследник Аллаха на земле и повелитель половины мира оказывает вам великую милость стать его подданными. Сейчас…
— Сейчас нам нужна вода! Наши старики и дети умирают! — оборвал его князь Барак.
— Дайте поесть! Помогите раненым и больным! — потребовал Астамур.
— Знаем мы про его милость! Наелись досыта! — не сдержался Шмаф.
— Мы люди! А не скот!
— Вы хуже гяуров!
— Дайте воды! Дайте хлеба!
— Пустите нас на берег! — наливалась гневом толпа.
Береговая охрана грозно забряцала оружием, переводчик попятился назад. Сулейман махнул рукой — и в воздухе блеснули клинки. Челер продолжал сохранять спокойствие. За время службы в порту Самсуна ему пришлось принимать десятки таких экспедиций. Эта была не самая худшая. Предыдущая до сих пор болталась на рейде, и там пришлось стрелять. Взбунтовавшиеся горцы, которых косила холера, бросались в море и вплавь пытались добраться до берега. Тех, у кого хватило сил доплыть, поджидала пуля или штык береговой охраны, потом в развалинах старой крепости долго пылали костры, а в воздухе стоял невыносимый смрад. Вторую неделю корабль-призрак стоял на рейде, напоминая о трагедии горцев, и своим зловещим видом отпугивал не только мародеров, но и птиц — они стороной облетали его.
Челер снова прошелся надменным взглядом по негодующей толпе и поморщился. Он не опасался ее гнева, штыков, и ружей береговой охраны вполне хватало, чтобы подавить бунт истощенных жаждой и голодом горцев. Холера и чума среди махаджиров — вот что представляло большую опасность, и это могло стоить ему головы. В памяти была жива позапрошлогодняя вспышка холеры в Самсуне, которую завезли убыхи и проморгала комендатура. В тот раз гнев Омер-паши обошел стороной коменданта, его отправили в забытый аллахом гарнизон, а заместитель поплатился своей жизнью. Повторять их ошибок Челер не собирался, но и проливать кровь лишний раз не горел желанием. Империя нуждалась в воинах, чтобы воевать с гяурами, а горцы сражались, как никто другой.
Он широко расставил ноги-тумбы и, казалось, врос в палубу. Поднятая над головой пятерня погасила волну гнева, и, когда наступила тишина, могучий бас Челера безраздельно властвовал на фрегате. Первые его фразы породили в душах горцев надежду.
— Судьба жестоко обошлась с вами…
— Нами… — горестно выдохнула толпа.
— Теперь все позади…
— Позади… — печальное эхо сотен голосов поплыло над морем.
— Великий султан милостив, он дарует вам жизнь…
— Жизнь?! — прошелестело в ответ.
— Это называется жизнь?! Половина из нас лежит на дне! — кто-то не выдержал и сорвался на крик.
— Сулейман хуже гяура! Кто вернет мне сына и мужа? Кто?! — вторил женский голос.
И в лицо Челеру, Сулейману, охране полетело:
— Шайтаны!
— Проклятые собаки!
— Аллах вам этого не простит!
— Вы за все заплатите!
Толпа, наливаясь гневом, готова была обрушиться на турок. Сулейман махнул рукой аскерам, и они взялись за оружие. Береговая охрана теснее сомкнула свои ряды вокруг Челера и ощетинилась штыками. Горцы — мужчины и женщины, — доведенные до предела, уже готовы были броситься с голыми руками на них. Врач и переводчик попятились, Сулейман схватился за пистолет. Еще мгновение — и могла начаться резня, но Челер снова сумел взять ситуацию в свои руки.
— Стойте! Хватит крови! — воскликнул он.
— Лучше смерть, чем такая жизнь!
— Паршивый шакал и тот живет лучше! — ревела толпа.
— Все уже позади. Я здесь, чтобы помочь вам! — кричал Челер.
— Мы это уже слышали!
— Подавитесь своими баранами и ослами!
— Кто нам вернет детей?
— Братья, погодите! Стойте! — пытался остановить готовую вот-вот начаться резню князь Геч, вышел вперед и потребовал: — Нам нужна вода и помощь врача!
— Пусть заберут раненых и стариков! Сколько им можно мучиться? — выкрикнул Шмаф.
— Врач здесь, а воду сейчас подвезут, — заверил Челер, и это смягчило гнев горцев.
Они отступили. Охрана и аскеры опустили сабли и штыки. Но в задних рядах еще продолжали бушевать и из них неслись крики:
— Верните нашим старикам оружие!
— Дайте хлеба!
— Накажите Сулеймана!
— Хлеб вам будет! Оружие — нет! Его носят воины! — оставался непреклонен Челер.
— А мы кто?! — возмутился Джамал Бутба.
— Вы беженцы и по законам нашей страны не имеете права носить оружие.
— А убивать безоружных — это тоже по закону вашей страны?! Накажите Сулеймана! Его надо повесить! — негодовал Шмаф.
— Он слуга султана, — отрезал Челер и заявил: — Лучше подумайте о себе.
— Уже думали. Будь проклят тот день и час, когда моя нога ступила на борт этого гроба, и ваш султан с его обещаниями! — не мог остановиться Шмаф.
Переводчик съежился и не решался перевести. По лицу и горящим глазам Шмафа Челер догадался, что тот сказал, и потребовал перевода. А когда услышал, то его холеная физиономия пошла бурыми пятнами. Сулейман яростно сверкнул глазами и махнул рукой матросам, те схватились за ятаганы. Геч поспешил смягчить выпад Шмафа, затолкнул его в толпу, смирив гордость, склонился и смиренно произнес:
— Прошу простить нас, господин комендант. Мы измучены всеми теми несчастьями, что…
— Отдайте мне собаку, которая посмела лаять на самого султана! — прорычал Челер.
— Пусть попробует взять! — огрызнулся Шмаф.
— Тише! Тише! Подумай о нас! — зашикали на него и из толпы.
Геч, став заложником ситуации, лихорадочно соображая, как из нее выпутаться, объявил Шмафа сумасшедшим.
В ответ Челер отрезал:
— Теперь потеряет голову!
— Аллах его уже наказал, забрав семью, — использовал последний аргумент Геч.
Ярость коменданта погасили не столько эти слова, сколько вид присмиревших горцев. Его рука отпустила рукоять ятагана, и он объявил:
— Запомните, теперь вы подданные великого султана и наследника Аллаха на земле! Его слово — закон для всех смертных. Непокорных ждет смерть!
— Запомним, — процедил сквозь зубы Геч и затем спросил: — Когда мы сойдем на берег?
— После карантина!
— Какого?!
— Видишь на рейде парусник?
— Да, — подтвердил Геч.
— Там холера.
— Но у нас ее нет! А есть больные и раненые.
— Поэтому здесь врач.
— Тогда пожалейте наших стариков и детей. Их убивает солнце! — взмолился Геч.
Но Челер остался непреклонен, и, оставив без ответа эту последнюю просьбу, спустился к шлюпке. Вместе с ним фрегат покинул капитан Сулейман. Вслед за ними на фелюгу перебралась команда, и на борту фрегата воцарилось напряженное ожидание. Горцы бросали тоскливые взгляды на берег, слабая надежда на лучшую долю, жившая в их сердцах, в Самсуне умерла навсегда. Обещанный Дзаганом и другими посланцами султана «рай» на деле обернулся земным адом. Впереди несчастных ждали жалкое существование и жестокая борьба за выживание.
Несчастья и безысходность, которым, казалось, не будет конца, подобно ржавчине, точащей закаленный булат, разъедали души и совесть горцев. Голод и от камня откусит, а нужда съест и честь. Теперь, когда умерла надежда на помощь султана, кто как мог устраивал свою жизнь. В очередь больных, выстроившуюся к врачу, становились и те, кто твердо стоял на ногах. Не закрывалась дверь и в каюту начальника береговой охраны. С ними шел торг за крышу над головой и за клочок земли, который можно было бы распахать, засеять и потом прокормить семью.
К вечеру на причале собралась бедно одетая толпа, в ней все чаще мелькали черкески. Слухи о беженцах из Абхазии всколыхнули убыхов и абхазов, осевших в Самсуне и его окрестностях. Здесь, на чужбине, тоска о покинутой родине изводила вдвойне, и они были рады услышать хоть что-то, что могло бы ее смягчить.
— Цабал? Дал? Псху?
— Как в Абхазии?
— Я Батал Камшиш!
— Есть кто из рода Чамба? — неслось над морем.
Шмаф, Гедлач, Астамур, свесившись над бортом, кричали в ответ:
— Абхазии больше нет!
— Нет… — горестно раздавалось в ответ.
— Гяуры захватили Псху! Цабала больше нет!
«Нет!.. Нет!» — это короткое, но убийственное как для тех, так и других слово еще долго носилось над морем и берегом. А затем на разные голоса зазвучало:
— Воды! Воды!
— Хлеба! Хлеба!
На эту мольбу на берегу тут же откликнулись, и несколько утлых лодок отчалили к фрегату. Береговая охрана угрожающе повела стволами ружей, когда они приблизились к борту и на палубу начали шлепаться баклажки с водой, головки сыра, лепешки, но не стреляла. Эта маленькая помощь земляков стоила больше, чем все обещания Челера, и давала надежду несчастным на то, что им удастся выжить. Последующие шесть дней карантина земляки не оставляли их в беде, а когда он закончился, две фелюги оттащили фрегат к крайнему причалу торгового порта, и измученные люди наконец смогли сойти на берег.
Там их окружила разношерстная толпа, в которой не было чиновников. Щедрые обещания посланцев султана так и остались обещаниями. Махаджирам была дарована лишь одна милость — устраивать свою жизнь самим. Как стаи перелетных птиц, застигнутые ненастьем, горцы рассыпались по берегу, и над ними, подобно стервятникам, закружили нахальные торговцы и немногословные смотрители гаремов. Они, не стесняясь отцов и братьев, бесцеремонно разглядывали молодых девушек, выбирая из них будущих наложниц, нахально заглядывали в сундуки и корзины, рассчитывая за бесценок поживиться тем, что в каждой семье хранили на черный день.
Давно потерявшие жалость и сострадание к человеческим бедам и несчастьям, алчные торговцы хорошо знали, как выманить то последнее, чем больше всего дорожили горцы. На разбитой дороге показались арбы, скрип колес и крики возниц внесли оживление в тягостную, полную безысходности атмосферу, царившую в этом разбитом под открытым небом временном лагере для беженцев. Самые нетерпеливые и наивные бросились навстречу, все еще веря, что пришла долгожданная помощь от султана. И когда облако пыли рассеялось, а с повозок слетели накидки, то перед изголодавшимися глазами предстало настоящее изобилие.
Горки румяных кукурузных лепешек, еще отдающие теплом печи; котлы, доверху заполненные только что сваренным мясом; запотевшие на жаре огромные амфоры с родниковой водой казались несчастным горцам каким-то волшебным сном. Перед этим фантастическим искушением невозможно было устоять, оно плавило самые твердые сердца. На обмен шло то, что еще не успели выманить торговцы перед посадкой на корабль, а затем забрать аскеры и команда Сулеймана в обмен на глоток воды, кусок лепешки и саму жизнь. Из потаенных мест доставался последний перстень, последний золотой, а жены и дочери снимали с себя оставшиеся украшения.
Те же, у кого не оставалось ни золота, ни серебра, проклиная тот день и час, когда покинули Абхазию, вынуждены были продавать смотрителям из гаремов и наставникам будущих янычар живой товар — старших сыновей и дочерей. Голодные, молящие о куске хлеба и глотке воды глаза младших детей не оставляли родителям иного выбора. Плач, стоны, ругань и шум драк на несколько часов превратили лагерь беженцев в один огромный невольничий рынок. И когда кошельки торговцев потяжелели, а арбы опустели, в них заняли места будущие наложницы в гаремах и будущие свирепые янычары, которым своей кровью предстояло укреплять могущество Османской империи, печальный караван под проклятия горцев стенающим ручьем стек в город.
Гедлач возвратился к семье и стыдился смотреть в глаза Амре и детям. В его руках был жалкий узелок, в него был завернут десяток лепешек и головка твердого, как камень, сыра.
— Ничего, как-нибудь проживем, — поддержала жена.
— Настоящий сыр! — обрадовалась Апра.
— На неделю хватит! — присоединился к ней Аляс, но голодный блеск глаз выдал его с головой.
— Давайте кушать! — торопила Амра.
— Завтра у нас будет мясо. Я найду работу! — глухо ответил Гедлач, и его сердце защемило от жалости к ним.
— Дядя, я тоже пойду с тобой! — живо откликнулся Аляс.
— Куда тебе! Отлежись, а потом видно будет, — всполошилась Амра.
— Мне уже лучше. Я же мужчина! — храбрился он.
— Мужчина, мужчина! — поддержал Гедлач, погладил по его вихрастой голове и сказал: — Пора поесть.
На этот раз он не стал делить еду на скупые кучки и щедрой рукой большими кусками ломал лепешки и кромсал ножом сыр. Впервые за последнее время они ели и не задумывались о завтрашнем дне, а потом погрузились в полудрему.
Прошел час, слабая тень от кустарника уже не защищала от набиравшего с каждой минутой силу солнца. К полудню раскаленные камни обжигали руки, а налетавший с юга «шайтан» сбивал дыхание. Временный лагерь махаджиров, зажатый между скал, превратился в духовку и начал пустеть на глазах.
Одни — редкие счастливцы — отправились на поиски родственников и знакомых, осевших в Самсуне и успевших устроить свою жизнь. Другие — стучались во все дворы подряд в надежде найти временное пристанище, но чаще их встречали бранью, чем добрым словом или куском хлеба. Третьи — и таких было большинство, — полагаясь только на самих себя, разбрелись по округе в поисках временного пристанища, работы и куска хлеба.
Гедлач, Астамур-кузнец, Джамал Бутба, Шезина Атыршба и Шмаф Квадзба нашли пристанище неподалеку от порта. Им стал заброшенный склад. Через дырявую крышу проглядывало чужое небо, а сквозь щели в стенах задувал ветер. Снизу, из подвала, тянуло затхлым, застоявшимся воздухом. Но они были рады и этому. Здесь их оставили в покое торговцы и не трогала береговая охрана. Астамур с Гедлачем из валунов соорудили очаг, Джамал и Шмаф залатали крышу, а женщины заделали щели в стенах, и впервые за последние дни все уснули крепким сном. Под ногами была хоть и чужая, но все-таки твердая земля, а не выскальзывающая из-под ног палуба фрегата. Впереди их ждали новая жизнь и новые испытания. А пока им снился один и тот же сон — Абхазия! Жесткие складки на лице Гедлача разгладились, и губы тронула робкая улыбка.
…Февральское солнце показалось из-за снежной шапки Дзыхвы, заглянуло в заиндевевшее окно, шаловливыми зайчиками заскакало по стенам и замерло на лице мальчика. Нежное тепло согрело щеку, яркий луч забрался под ресницы и прогнал остатки сладкого утреннего сна. Перед взглядом Гедлача предстали феерические картинки, нарисованные морозом на оконном стекле. Столь редкое для этих мест дыхание зимы окрасило мимолетными и оттого еще более завораживающими красками лес и горы.
Волна за волной по селу прокатилась звонкая петушиная разноголосица. В нее вплелся веселый перестук молотков — это Астамур что-то ковал в кузнице. В хлеву тяжело ворочался скот и гремели ведра. Шла утренняя дойка. Сиреневые дымы курились над пацхами. В воздухе носились запахи свежеиспеченного хлеба.
Цокот копыт Алмаза, голоса отца и старших братьев Коса и Арсола подняли Гедлача из теплой постели. Набросив на плечи душегрейку и надев ичиги, он выскочил на террасу и замер в изумлении.
Сад, припорошенный снегом, золотился мириадами маленьких солнышек — плодами хурмы и мандаринов. Диковинный цветок распустился на месте куста орешника. Шелковистый газон двора бриллиантовыми брызгами разлетался под копытами Алмаза. Он нетерпеливо перебирал передними ногами и торопился отдаться опьяняющей свободе, разлившейся в воздухе.
Коса, ласково поглаживая Алмаза по холке, подвел к террасе. Крепкие отцовские руки подняли Гедлача над землей и усадили в седло. Лихой свист звонким эхом отразился от скал. Алмаз ответил радостным ржанием и с места сорвался в галоп. Ветер свистел в ушах, а бодрящий морозный воздух кружил голову. Это были ветер и воздух свободы…
Тоскливый, звучащий на одной ноте голос-стон уныло плыл над Самсуном и безжалостно вырвал Гедлача из снасказки, к которой уже не было возврата. Муэдзин призывал правоверных к утренней молитве. Он напоминал им, смертным, о том, что здесь, на этой прокаленной солнцем и продуваемой всеми ветрами земле, их жизнь и свобода принадлежали только Аллаху и его наместнику на земле — великому султану.
Нужда подгоняла искать заработок, и Гедлач вместе с Астамуром, перекусив, отправились в город. По дороге присоединились к тем, кто уже не первый месяц влачил здесь жалкое существование. Старожилы выделялись своими лицами, осанкой и одеждой — нужда и гордого заставит поклониться. У многих был потухший взор, спины понуро сгорблены, а на плечах вместо черкески болтались замызганные турецкие халаты.
Небольшой Самсун, где вся деловая жизнь сосредоточивалась в порту, на рынке, в кофейнях и духанах, был наводнен беженцами с Северного Кавказа. С первыми проблесками солнца их толпы, подобно грязным ручьям, стекались на центральную и портовую площадь. В бесконечных очередях томились тысячи в надежде получить хоть какую-то работу. Выбор был не велик — либо грузчиком, либо поденным рабочим мотыжить кукурузное поле. Редким счастливцам улыбалась удача, когда доставалось место подсобника в торговой лавке или сторожа при стаде овец у зажиточного крестьянина.
Гедлач с Астамуром полдня терпеливо простояли в порту, но очередь до них не дошла, и они отправились в поисках работы в кофейни и духаны. Тесные мрачные клетушки, в которых под потолком плавали сизые дымы от кальянов, больше напоминали крысиные норы. Лучшие места занимали турки, по темным углам робко жались группки махаджиров. Но не духота и смрад останавливали Гедлача и Астамура на пороге. Как на невидимую стену, они натыкались на презрительные взгляды турок, и тогда в них просыпалась природная гордость. Она оказалась сильнее нужды. Обратно они возвратились с пустыми руками.
Оживленный вид Джамала, жен и детей заставил их забыть о неудаче и согрел сердца надеждой. Он принес с собой важную новость — князь Геч накануне отправился в Стамбул. По одним слухам, чтобы просить великого визиря о помощи, а по другим — добиться для себя должности. Астамур, по линии жены приходившийся ему дальним родственником, видел в этом хороший знак и не уставал повторять:
— Наконец в Стамбуле узнают про наши муки и помогут.
— Другим не помогли, а нам с чего? — усомнился Гедлач.
— Геч не о нас, а о своей шкуре печется. Чем он тебе помог, когда умирала твоя младшая? Крошки не дал, — напомнил Шмаф.
— Глухой слепого не услышит. Богатый бедного не поймет, — согласился с ним Гедлач.
— Обида — не лучший советчик. Он тебя спас от Челера, — возразил Астамур.
— Спас?! Потому что сам боялся попасть под ятаган.
— Но тебя и меня к визирю не пустят, а его, может, и послушают.
— Да?.. Много его слушал Сулейман? — отмахнулся Шмаф.
— Послушает! Он двадцать лет воевал против гяуров.
— Князь Моршан тоже воевал. Второй год здесь, а что для него и наших братьев сделал султан? Ничего!
Астамур промолчал, за него ответил Джамал:
— У князей своя дорога, им с нами не по пути.
— Деньги — к деньгам, а богатый — к богатому, — поддержал его Гедлач.
— Так было и так будет. Нам, простым воинам, только и остается — тюрьма да сума, — с ожесточением сказал Шмаф.
— Гедлач! Астамур! Ужин готов! — прервали их спор жены.
Мужчины подсели к столу, но кусок не лез в горло. Осунувшиеся, потухшие лица детей напоминали о том, что завтра им снова предстояло забыть про гордость горца и униженно молить разъевшегося духанщика о горстке пшена и головке сыра. А затем под презрительными взглядами их жен гнуть спину, разгребая на заднем дворе навозные кучи. Засыпая, они с содроганием думали о предстоящем дне.
Он оказался хуже предыдущего. Ни в порту, ни в кофейнях, ни в поле для них не нашлось работы. Обратно они возвратились с пустыми руками. Тех скудных остатков пищи, что приберегли Амра с Шезиной, едва хватило, чтобы накормить детей, а мужчинам пришлось довольствоваться кружкой кипятка. Голод тоскливыми глазами сыновей и дочерей смотрел на родителей, а они были бессильны перед ним.
В ту ночь они недосчитались Джамала Бутбы. Сквозь сон Амра слышала, как скрипнула дверь, прозвучали чьи— то осторожные шаги, а потом все стихло. Разбудили ее лай собак и чужая речь. Она приподнялась и выглянула в окно. В зыбком рассвете двоились темные силуэты. В следующее мгновение дверь слетела с петель, и пятеро стражников ворвались внутрь. Вслед за ними влетело чье-то тело и шлепнулось на пол.
Брань и дубинки обрушились на взрослых и детей. Согнав их в угол, стражники принялись перетряхивать жалкие узлы в поисках оружия. Вместе с ними искал, чем поживиться, «толстый Саид» — владелец пекарни на маяке. И пока шел обыск, махаджиры с ужасом косились на окровавленный ком, валявшийся у их ног. Он пришел в движение, рукава черкески зашевелились, и из них показались изуродованные топором две культи. Амра едва не потеряла сознание. Мужчины крепились, но и у них сдали нервы, когда из вороха тряпья проглянуло лицо.
Перед ними лежал Джамал Бутба. Его с трудом можно было узнать. От левого до правого уха лицо располосовал багровый рубец, из которого торчал ломоть хлеба. На месте глаз зияли сочащиеся сукровицей темные провалы. Попытка ограбить хлебную лавку «толстого Саида» закончилась для Джамала трагически.
Давно уже стих топот сапог стражников, а махаджиры не могли пошелохнуться.
— Зверье! — с трудом выдохнул Гедлач и склонился над бездыханным телом Джамала.
— Твари! — воскликнул Астамур.
— Резать! Всех резать! — взорвался Шмаф.
Женщины молча собрали тряпки, принесли тазик с водой и принялись обмывать тело Джамала.
В тот вечер на краю лагеря махаджиров вырос еще один могильный холмик. За этой бедой к ним пришла другая. На следующий день Гедлач, исходив весь город в поисках работы, вернулся ни с чем. Переступив порог, он почувствовал неладное. В углу рыдали Амра и Асида. За перегородкой плакали дети. Сам Астамур не находил себе места. В его могучих руках алабаш трещал, как тростниковая палка. Шмаф был мрачнее ночи, на его скулах играли желваки, а в глазах плескались ярость и гнев. У Гедлача екнуло сердце. Он бросил взгляд за ширму и с облегчением вздохнул. Слава Всевышнему — Апра и Аляс были живы.
— Астамур, Амра! Что случилось?! — не мог он понять причины горя, написанного на их лицах.
Астамур, кусая губы, обронил:
— Пропала Айша.
— Как?! — не мог поверить Гедлач.
Еще утром он слышал ее звонкий голосок. Острожная, благоразумная Айша не позволяла себе сделать лишнего шага. И здесь его обожгла страшная догадка. За последние дни из лагеря похитили пять девушек. Самой младшей едва исполнилось тринадцать. Страшась произнести вслух то, о чем подумал, Гедлач с робкой надеждой произнес:
— Может, задержалась в городе?
— Какой город?! Проклятые шакалы ее украли! — воскликнул Шмаф.
— Надо идти и искать, — не терял надежды Гедлач.
— Искали. Никто ничего не видел и ничего не слышал, — потерянно ответил Астамур.
— Так эти сволочи и скажут! У… — выругался Шмаф.
— И все-таки не будем терять надежды, — пытался как мог утешить несчастных родителей Гедлач и предложил: — Астамур, Асида, у нас остались лепешки, возьмите детям.
Они остались безучастны. Он развязал суму, и из нее на стол выпали несколько лепешек и мешочек с кукурузой. Никто не притронулся к ним. Общее горе заставило забыть о голоде. В ту ночь так никто и не уснул. Тяжелые вздохи мужчин и рыдания женщин не затихали до утра. Новый день не принес облегчения, Айша так и не появилась. Ее поиски в городе и расспросы земляков ничего не дали. Время шло, а вместе с ним все меньше оставалось надежды на то, что она найдется. Шмаф был прав: девушку украли в гарем, но туда дорога им была заказана.
Сам Шмаф в тот день и на следующий не выходил в город. Он спускался к морю и часами просиживал на берегу. Тоска камнем лежала на сердце, а оно звало в Абхазию. Старания друзей расшевелить его ни к чему не привели. Он был безучастен, с наступлением ночи забирался за ширму, а с рассветом снова брел к морю.
Его, как и тысячи других махаджиров, пожирала одна и та же неизлечимая болезнь — тоска по родине. Первыми она забирала мужчин. Одни, как Шмаф, медленно угасали и тихо уходили из жизни. Другие, подобно Джамалу, сами себе выносили приговор и ради куска хлеба резали ненавистных торговцев. Третьи сбивались в шайки абреков, чтобы рано или поздно умереть на штыках аскеров. Но находились и те, кто, презрев голод, болезни и смерть в зиндане, возвращались в Абхазию.
В то последнее для себя утро в Самсуне Шмаф Квадзба принял окончательное решение. Он встал раньше всех. Шорохи за перегородкой разбудили Гедлача. Они и скрежет металла насторожили его. Страшась непоправимого, он отдернул полог и замер. Черкеска, которую Шмаф хранил на черный день, пузырилась уродливым горбом на спине, а под ней судорожно сотрясалось тело.
— Шмаф!.. Зачем?! — отчаянный крик поднял всех на ноги.
Прошла секунда-другая, и в полумраке проглянуло изможденное лицо-маска. По впалым щекам Шмафа катились скупые слезы.
— Шмаф! Шмаф! — воскликнул Гедлач и бросился к нему. Его рука скользнула по спине, коснулась шеи, и на сердце отлегло.
— Я ухожу, — выдавил из себя Шмаф.
— Куда?! Зачем!
— Домой!
— Домой?!
— Да! Я… я не могу больше.
— Всем тяжело. Надо терпеть, — пытался отговорить его Гедлач.
— Не хочу! Мое сердце в горах, а не в этой турецкой помойке!
— Мое тоже в Абхазии, но…
— Я все решил! Подыхать, как собака, или гнить в тюрьме не собираюсь!
— Тебя поймают и убьют, — предостерег Астамур.
— Пусть попробуют! — воскликнул Шмаф и яростно сверкнул глазами.
— И все-таки подумай, — не оставлял надежды отговорить его Гедлач.
— Нет, здесь моя душа умирает. Я иду в Абхазию! Иду! — твердил Шмаф.
— Тогда поступай так, как велит сердце, — не стал больше отговаривать его Астамур и, достав со дна сундука отцовский кинжал, предложил: — Возьми, брат. Пусть он будет тебе верным другом по дороге домой.
Горестная гримаса исказила лицо Шмафа. Он преклонил колено и, приняв кинжал, окрепшим голосом произнес:
— Клянусь вам, что позор не покроет его! Клянусь, что он не заберет безвинной души! Я вернусь в Абхазию. Я верю, что придет время, и твои внуки, Астамур, примут этот клинок у моих внуков. Мы вернемся домой!
— Домой! Домой! — как молитву повторяли за ним Гедлач, Астамур, их жены и дети. И потом еще долго, пока за пеленой дождя не исчезла спина Шмафа, они провожали его печальными взглядами. В них теплилась робкая надежда. Надежда, которой суждено было сбыться спустя сто лет…
Проливной дождь грязными потоками заливал окопы и блиндажи, свинцовыми лужами расплескивался по воронкам, и конца ему не было видно. Разведывательно-диверсионная группа Алика Айбы делала все возможное и невозможное, чтобы выполнить приказ Владислава Ардзинбы. Третью ночь подряд она мокла на минном поле, но в душе разведчики благодарили природу за ее щедрый подарок. Перед ней оказались бессильны осветительные ракеты и натовская оптика, она стала «слепа» и «глуха». Грузинские часовые тоже не горели желанием высовывать нос из укрытий и надеялись на минные поля и сигнализацию.
К рассвету разведчики проделали первый проход в минном поле и заканчивали работу над вторым. Итальянские, советские и турецкие мины с коварными секретами оказались не самым тяжким испытанием. За время войны они успели повидать всякого, но то, с чем столкнулись на склонах Цугуровки, потрясло даже, казалось, не имеющего нервов Дизеля. Это было самое чудовищное поле смерти, на котором когда-либо ему, Алику и Кавказу приходилось бывать.
В сотне метров от своих окопов они натолкнулись на первые жертвы предыдущих атак и разведрейдов ополченцев. От тошнотворного запаха мутило сознание, а руки деревенели, когда под ними оказывалась чья-то голова, рука или нога. И чем меньше метров оставалось до вражеских позиций, тем все чаще пальцы вязли в разложившейся человеческой плоти и натыкались на осколки костей. Они — неизвестные ополченцы — и после своей гибели продолжали помогать им, указывая путь в этом лабиринте смерти Саша-Дизель извлек взрыватель из последней мины и без сил откинулся на спину. Он не чувствовал ни пота, затекавшего в глаза, ни дождя, хлеставшего по лицу. Ему и разведчикам удалось сделать невозможное — без потерь пробиться через минное поле! Впереди угадывался бруствер вражеского окопа. Над ним изредка вспыхивали тусклыми светлячками огоньки сигарет. Справа под нависшей скалой глазастый Окан углядел часового и, толкнув под руку Кавказа, предупредил:
— Кукушка! Под скалой.
Тот присмотрелся и обратился к Дизелю:
— Как — достаешь?
— Да! — обронил Александр и перевел взгляд на Алика — только ему одному было известно время начала наступления.
Тот посмотрел на часы и ответил:
— Осталось немного. Ищем остальных часовых!
Снова потянулись минуты томительного ожидания. Дождь продолжал лить как из ведра. Сквозь его шум прорывались приглушенные голоса. Чужая, ненавистная речь только еще больше распаляла разведчиков. Они бросали нетерпеливые взгляды то на часы, то на командира.
— Пора. Твое слово, Дизель! — тихо произнес Алик.
Александр развернул плащ-палатку, достал арбалет и вскинул к плечу. Свист стрелы потонул в шуме дождя, часовой надломился и рухнул на землю. Другой ничего не успел понять — второй выстрел Дизеля тоже нашел свою цель.
Дальше, действуя ножами, разведчики бесшумно сняли передовое охранение и ринулись к дзоту. Путь к вершине был расчищен, и Алик по рации дал сигнал к атаке штурмовым ротам. Первыми поднялись бойцы Лесика Цугбы, за ними в прорыв устремились остальные.
Ночная атака ошеломила гвардейцев, на рассвете части абхазской армии овладели высотой и ворвались в село Цугуровка. Задача, которую Председатель ставил перед разведчиками, была выполнена, и Алик Айба с захваченного командного пункта по рации доложил об этом.
В тот день Владиславу Ардзинбе и Сергею Дбару приходилось часто принимать такие доклады. Несмотря на упорное сопротивление грузинских войск, наступление абхазской армии продолжало успешно развиваться. К исходу дня 9 июля был взят стратегически важный пункт — село Шрома.
Его потеря взорвала Шеварднадзе, и он обрушился на командиров. Тем ничего другого не оставалось, как покинуть кабинеты в Сухуме, отправиться на передовую и возглавить контрнаступление. Бои на Гумистинском фронте приобрели ожесточенный характер. В течение дня позиции не один раз переходили из рук в руки. Подавляющее преимущество грузинских войск в авиации и тяжелой бронетехнике позволило им вновь восстановить контроль над Цугуровкой и высотой Ахбюк.
Боевой порыв, владевший командирами и бойцами абхазской армии, начал угасать. И без того измотанные в боях роты и батальоны ополченцев с трудом отбивались от наседавшего врага. Перед ними замаячила угроза повторения в еще больших масштабах неудачного мартовского наступления. Владислав Ардзинба не стал медлить и немедленно выехал на Гумистинский фронт.
На подходе к КП его встретил министр обороны Сосналиев. В своем докладе он ничего утешительного не сообщил — выбить противника с занимаемых позиций не удалось. Не помогли брошенные в бой резервы. Плотный огонь грузинской артиллерии не позволял оторвать головы от земли. Потери, понесенные штурмовыми ротами, были чудовищны. Санитары не успевали уносить с поля боя раненых и убитых. Они лежали под палящим солнцем, и смердящий запах смерти ощущался даже здесь, в нескольких сотнях метров от передовой.
Владислав Ардзинба молча выслушал рапорт Сосналиева и вместе с ним прошел на КП. Здесь в полном составе находилось командование Гумистинского фронта и Генштаба. Лица генералов и офицеров с запавшими от бессонницы и нервного напряжения глазами походили на маски. Он пробежался по ним пристальным взглядом, и все невольно подтянулись, остановился на начальнике Генштаба и распорядился:
— Сергей Платонович, доложите обстановку на фронте!
Сергей Дбар взял карандаш и прошел к карте. Сухие цифры говорили сами за себя. Владислав Ардзинба все больше мрачнел и, когда доклад подошел к концу, задал главный вопрос:
— Сергей Платонович, меня интересует только одно. Войска способны продолжить наступление?
Поежившись под его испытующим взглядом, тот глухо произнес:
— В нынешнем состоянии — нет!
— Султан Асламбеевич, вы тоже придерживаетесь такого же мнения?
— Да, Владислав Григорьевич, войска нуждаются в передышке, а боезапас требует пополнения. При такой интенсивности боев скоро будет нечем стрелять…
— Говорите — передышка?! — перебил Сосналиева Владислав Ардзинба и, наливаясь гневом, обрушился на генералов и офицеров: — А кто ее даст?! Шеварднадзе? Вы что, не верите в себя и своих бойцов?! Где мы найдем силы для нового наступления? Где?!
Под градом этих упреков, они опускали головы и прятали глаза.
— Владислав Григорьевич, у противника подавляющее преимущество в авиации и тяжелой технике, — выдавил из себя командующий артиллерией Гумистинского фронта Аслан Кобахия.
— И что? Оно всегда было на их стороне! — отмел этот аргумент Владислав Ардзинба.
— Бойцы измотаны. Некомплект в частях пятьдесят процентов, — напомнил Сергей Дбар.
— Сергей Платонович, что ты мне тычешь этими процентами? Мы в конторе или на фронте?!
— С теми силами, что остались, продолжать наступление…
— Оставь ты силы в покое! — взорвался Владислав Ардзинба. — Вы же не просто военные! Вы же абхазы! Наша сила в несгибаемом духе наших бойцов! Год назад они голыми руками остановили этих отморозков. А теперь чего вам не хватает?! Чего?
— Владислав Григорьевич, дайте сутки, чтобы перегруппировать силы, — взмолился Сосналиев.
— Султан Асламбеевич, ну нет у нас этих суток! Понимаешь, нет! Надо атаковать! Если не сегодня, то никогда! Только вперед! Только на Сухум! Там палачи и убийцы! Они насилуют наших сестер и дочерей! Так сколько же это можно терпеть?! Вы должны поверить в бойцов и себя! Смерть страшна! Но сегодня, сейчас мы стоим перед жестоким выбором! Это момент истины для каждого из нас, для Абхазии! Промедлим — и нет у нас Будущего! Надо собрать все силы и наступать. Наступать!
Непоколебимая вера в победу и неукротимая энергия, исходившая от Председателя, передались командирам. Их потухшие лица оживились, а в глазах вспыхнул дерзкий огонек. Наступившая ночь превратилась для оккупантов в кошмар. В абхазских ополченцев и добровольцев с Северного Кавказа, Кубани и Дона будто вселился дьявол, их не могли остановить ни кинжальный пулеметный огонь, ни танки. С наступлением рассвета село Цугуровка и высота Ахбюк вновь перешли под контроль абхазской армии, и она, подобно горной лавине, нависла над Сухумом. Но здесь в ход войны вмешалась большая политика.
В Абхазии высадился мощный «десант» из ооновских и российских дипломатов. Они принялись «атаковать» Владислава Ардзинбу, но он устоял перед их напором и, умело используя успехи абхазской армии на фронтах, добился своего: 27 июля российской, абхазской и грузинской сторонами было подписано соглашение, предусматривавшее прекращение огня, вывод оккупационных войск из Абхазии и возвращение в Сухум законно избранной власти — Верховного Совета Республики Абхазия.
Но намеченное на 9 сентября возвращение в Сухум Верховного Совета и правительства Республики Абхазия не состоялось. Оккупационное командование с помощью марионеток инспирировало в Сухуме «митинги протеста» — «Абхазам нет места в Сухуми!», «Сепаратизм не пройдет!».
После такого «представления» терпение у абхазской стороны иссякло, и в ночь на 16 сентября в Очамчырском районе подразделения Восточного фронта атаковали противника по трем направлениям: Беслаху — Арду — Цагера. Второй удар силами Гумистинского фронта был нанесен на рассвете в нижнем течении реки Гумиста. На следующую ночь имитация военно-морскими силами Абхазии высадки десанта в центре Сухума окончательно запутала командование грузинских войск. После этого в решающую схватку за столицу Абхазии вступили основные силы абхазской армии. Неудержимой снежной лавиной она обрушилась с высот на противника и начала теснить к городу.
Шеварднадзе впал в панику и с истерическими призывами обратился в ООН и к Президенту России Ельцину. Он не просил, а требовал вмешаться в конфликт и остановить наступление «зарвавшихся сепаратистов». Москва, пытаясь надавить на Абхазию, 20 сентября ввела экономические санкции. Подача электроэнергии в республику была прекращена, а на границу по реке Псоу опустился «железный занавес». Воевать со всем миром абхазское руководство не собиралось и сделало тонкий ход. На ряде участков фронта войска были отведены на исходные позиции.
В боях возникла пауза, и Владислав Ардзинба решил воспользоваться ею, чтобы еще раз мирным путем разрешить кризис. Но Шеварднадзе остался глух к его обращениям, посчитав, что инициатива в боях за Сухум вновь перешла в его руки, и не стал брать телефонную трубку. Позиция Ельцина и подтянутые из Грузии свежие силы породили у Шеварднадзе иллюзию близкой победы. И здесь Белый Лис жестоко просчитался.
В Москве в те дни стало не до него и Абхазии. Президент Ельцин и оппозиционный ему Верховный Совет сошлись в непримиримой схватке за власть. Видимо, сам Всевышний помогал Абхазии. Воспользовавшись заминкой, Владислав Ардзинба отдал приказ о генеральном штурме Сухума.
Абхазская армия 22 сентября перешла в наступление. Не устояла перед натиском пяти тысяч ополченцев и добровольцев 25-тысячная грузинская группировка и стала отступать. К 26 сентября отступление превратилось в паническое бегство, а 27-го бои уже шли в центре города. После падения железнодорожного вокзала и Совмина сопротивление оккупантов было окончательно сломлено. Но Сухум все еще кишел украинскими наемниками из УНА-УНСО и боевиками из отрядов «Мхедриони». Им, после зверств над мирными жителями, рассчитывать на пощаду не приходилось, и ополченцы, чтобы не нести потери, безжалостно выжигали их огнеметами и «гасили» гранатами.
В Новом районе, куда направлялся Владислав Ардзинба для осмотра мест боев и «кладбища» грузинской бронетехники, еще шла «воздушная» война. Поисковые группы ополченцев вели охоту за вражескими снайперами, засевшими в домах— высотках. Тут и там верхние этажи сотрясали разрывы гранат и автоматные очереди. Куски бетона, кирпича и горящие головешки сыпались на улицы. Водителям двух УАЗов приходилось проявлять чудеса мастерства, чтобы не угодить под них.
Сидевшая как на иголках охрана Владислава Ардзинбы перевела дыхание, когда впереди показался забор. За ним находилась база ремонта грузинской бронетехники. Ворота в нее оказались заблокированы подбитым грузовиком.
— Толково заткнули глотку! — отметил удачное попадание Эрдал Таркил.
— И как туда заехать? — сокрушался Олег Гогуа и сбросил скорость.
— Пешком! — разрешил его сомнения Владислав Ардзинба.
— Владислав Григорьевич, может, не стоит? — заикнулся Гембер.
— Еще не всех снайперов выбили! — поддержали его Алик Кчач и Кавказ Атыршба.
— Тормози, Олег! Мы что, не на войне? — был непреклонен Владислав Ардзинба.
Подчиняясь, тот заехал под прикрытие бетонного забора и остановился. Ибрагим, Кавказ, Джон, Алик и Эрдал выскочили из машины и образовали вокруг Владислава Ардзинбы живое кольцо. Гембер, с опаской косясь на верхние этажи высоток, не оставлял попыток отговорить его от рискованной вылазки. В подтверждение слов на верхних этажах соседней высотки раздалась автоматная стрельба, а затем громыхнула граната.
— Владислав Григорьевич, смотрите, что творится! — взмолился Гембер.
— А вы для чего?! — отмахнулся он и протиснулся через пролом в заборе.
Телохранители, кто за ним, а кто через забор, перебрались во двор. Перед ними открылось «кладбище» из танков и бэтээров, на многих виднелись следы недавних боев. Вся территория и ремонтные боксы были заставлены этой, ставшей уже неопасной грудой металла.
— Вот это арсенал! — поразился Джон.
— А в боксе одно новье стоит! — воскликнул Эрдал и махнул рукой на два поблескивающих новой краской бэтээра.
— Будет на чем к Шеве подкатить! — пошутил Джон.
— Гад, успел смыться! — с ожесточением произнес Алик.
— Не мы, так другие кончат, — философски заключил Джон.
— Америкосы не дадут, — возразил Эрдал.
— А мы и спрашивать не будем, — отмахнулся Гембер.
— Ладно, охотники, война еще не закончилась, — положил конец спору Владислав Ардзинба и распорядился: — Едем в Эшеру!
Они возвратились к машинам и, утопая в клубах пыли, по разбитой дороге проехали в село. Война превратила его в руины. Но каким-то чудом среди них сохранился дом, в котором сорок восемь лет назад Владислав Ардзинба произнес слово «мама» и сделал свой первый шаг. Видимо, само Провидение хранило его. За время войны ни один снаряд, ни одна авиабомба не попали в дом.
Хозяйка была на месте. Над крышей пацхи курился сиреневый дымок, по двору бегали куры, а под летним навесом разноцветной гирляндой покачивались вязанки перца. Наперекор войне и лихолетью крестьянская жизнь брала свое. На шум машин из пацхи выглянула еще крепкая для своих лет женщина. Прикрывая ладонью глаза от слепящего солнца, она разглядывала гостей. Узнав среди них сына, стряхнула с подола зерна кукурузы в таз и поспешила навстречу. Кавказ впервые так близко видел ее — мать великого сына Абхазии — Владислава Ардзинбы. В глаза бросалось сходство — оно проявлялось в быстрых и энергичных движениях, в прямом взгляде открытых глаз, в которых читались природный ум и твердая воля.
Мать шла навстречу сыну и в эти мгновения видела только его. Они встретились и обнялись. Ее крепкие, иссушенные тяжким крестьянским трудом руки нежно гладили по седым вискам, непокорной пряди и запавшим от усталости щекам Владислава Ардзинбу. И он, который, казалось, не знал ни слабости, ни сомнений, стойко переносивший удары жестокой военной судьбы, сохранявший ледяное спокойствие перед лицом смертельной опасности, под ласковыми и трепетными руками матери стал человеком из плоти и крови.
В эти мгновения Владислав Ардзинба был просто любящим сыном. И в этой любви тогда и потом, до смерти матери, он черпал свою силу.
Глава 8
К вечеру 27 сентября Сухум был полностью освобожден от регулярных грузинских армейских частей, боевиков из отрядов «Мхедриони» и украинских националистов. Последними пали железнодорожный вокзал и комплекс зданий бывшего Совмина республики. Объятые пламенем, они, подобно двум гигантским свечам, освещали погружающиеся в вечерний полумрак улицы города. Но ни густые клубы дыма, длинными языками сползавшие вниз к морю, ни спорадические перестрелки, вспыхивавшие то в одном, то в другом месте, со скрывавшимися в развалинах разрозненными группами гвардейцев уже не пугали и не могли остановить сухумчан.
Город, выглядевший еще совсем недавно мертвым, ожил и медленно, как тяжелобольной, приходил в себя. Тысячи полуоглохших и полуослепших за неделю непрерывных артобстрелов и бомбежек горожан спешили выбраться на свет из темных подвалов, погребов и укрытий, чтобы встретить своих освободителей. Для одних эти встречи несли радость, а для других обернулись горечью невосполнимых утрат, но безжалостная война не давала времени на передышку ни тем ни другим. Враг еще был силен и мог нанести ответный удар, поэтому командиры не позволяли ни себе, ни своим подчиненным расслабиться и готовились к новым, как они думали, затяжным боям.
К 28 сентября значительная часть западной Абхазии все еще находилась под контролем оккупантов. Раскатистое эхо артиллерийской канонады и мощные взрывы авиационных бомб, доносившиеся из-за реки Кодор, были хорошо слышны в Сухуме. Это бойцы Восточного фронта под командованием Мераба Кишмарии за неделю непрерывных и небывалых по ожесточенности боев сокрушили у города Очамчыра многоэшелонированную оборону противника, на его плечах прорвались к стратегически важной дороге Сухум — Зугдиди и взяли ее под свой контроль.
Тбилиси охватила паника. И было отчего. В Абхазии грузинские войска терпели одно за другим поражения, а в Мингрелии накануне, 24 сентября, в городе Сенаки неожиданно объявился свергнутый Эдуардом Шеварднадзе в начале 1992 года президент Грузии Звиад Гамсахурдия. Он и его сторонники жаждали реванша и развили бурную деятельность. И без того истерзанная за полтора года «освободительными» походами войск Госсовета и мародерами из отрядов «Мхедриони», Мингрелия после двух его митингов в Зугдиди и Цаленджихе вспыхнула, будто спичка, грозя, как и Абхазия, выйти из повиновения «Малой империи».
В результате этого к 28 сентября более чем 20-тысячная военная группировка грузинских войск в Абхазии оказалась в западне, которая вот-вот могла захлопнуться. Ее командование слало в Тбилиси панические радиограммы, и тогда Госсовет собрал и направил на помощь последние резервы, — кабинеты в армейских штабах и камеры в тюрьмах опустели. Гвардейцы, уголовники и наемники из числа украинских националистов предпринимали одну за другой атаки на позиции ополченцев под Очамчырой, чтобы расчистить путь для нового наступления на Сухум.
В сражение были брошены штурмовая авиация и вся имевшаяся у грузинского военного командования бронетехника. Бои на Восточном фронте шли буквально за каждый метр дороги, которая в те решающие для судьбы Абхазии сентябрьские дни стала поистине дорогой смерти. Значительно уступая в численности и вооружении, ополченцы несли чудовищные потери, но не отступили и продолжали отчаянно сражаться, чтобы отсечь бронированные клещи грузинских войск, тянувшиеся к освобожденной столице Абхазии.
Самые кровопролитные бои шли в районе села Адзюбжа. Здесь всего семьсот бойцов Мераба Кишмарии противостояли пятитысячному 1-му армейскому корпусу, усиленному головорезами из отрядов «Мхедриони». Раз за разом бронированный таран из танков и бэтээров ударял по позициям ополченцев, но дальше передовых окопов ему так и не удалось пробиться. Подвижные расчеты гранатометчиков, удачно маневрируя, прямой наводкой били по бензобакам, а когда кончались заряды, в ход шли бутылки с зажигательной смесью. Чадящие факела зловеще колыхались над дорогой и полем. Воздух пропитался запахом гари и пороха. Коричнево-черные ручьи из крови и расплавленного металла змеились по обожженной и истерзанной минами и снарядами земле. Четырежды гвардейцы и мхедрионовцы поднимались в атаку и сходились в рукопашной схватке с ополченцами и каждый раз, не выдержав яростного отпора, откатывались назад. Путь на Сухум для них по-прежнему оставался закрыт.
В Тбилиси хорошо понимали политическую и военную цену сражения под Адзюбжей и, не считаясь с потерями, бросили на этот участок фронта новые силы — на этот раз под командование Джабы Иоселиани. Малоизвестный даже в узких кругах художник, но зато хорошо знакомый по оперативным сводкам МВД бывшему первому секретарю ЦК Компартии, а затем председателю Госсовета Грузии Эдуарду Шеварднадзе, вор в законе Джа должен был стать спасителем нации. Посланный, чтобы «замочить сепаратистов», под Адзюбжей он крепко «обломал себе зубы». Дешевые понты, которые у него проходили год назад против первых ополченцев, вооруженных охотничьими ружьями и карабинами, теперь не сработали. Ни танки, ни затихавшая ни на минуту артиллерия, ни отчаянные призывы Джа к братве «взять на перо абхазских отморозков», ни «чудесное спасение» с помощью российских десантников из осажденного Сухума Шеварднадзе и его обращение к командованию войск НАТО прийти на помощь гибнущему под ударами сепаратистов «свету демократии в Закавказье — Грузии» уже ничего не могли изменить. Судьба военной авантюры грузинского руководства в Абхазии была предрешена.
Едва только над горами и морем 28 сентября забрезжил рассвет, основные силы абхазской армии после короткого, но мощного артобстрела перешли в наступление. В этот удар ополченцы вложили всю свою ярость и ненависть, накопившиеся к оккупантам за предыдущие тринадцать месяцев, — к полудню во многих местах грузинские оборонительные позиции были прорваны и линия фронта как таковая перестала существовать. Окрыленные успехом ополченцы усилили натиск, и вскоре отступление гвардейцев, а вместе с ними и толп мародеров, нахлынувших из Западной Грузии, превратилось в паническое бегство.
Обезумевшие от страха орды захлестнули дороги, ведущие к городу Гали и к морю. «Счастливчики», что сидели в танках и бэтээрах, и те, кто смог удержаться на броне, гусеницами и огнем прокладывали себе дорогу среди деморализованной пехоты и беженцев, ища путь к спасению. Животный страх расплаты за совершенные во время оккупации военные преступления, зверства в отношении мирного населения, массовые грабежи и насилие заставлял их, как пауков в банке, биться за место в машине и на борту катера. Над дорогами и морскими причалами стоял отборный мат, звучали проклятия и мольба. То в одном, то в другом месте возникали яростные перепалки, и, когда не помогали кулаки, в ход шло оружие. После автоматных очередей на обочинах и морском берегу оставались валяться трупы, и очередная волна паникеров, прокатываясь по ним, втаптывала в грязь и превращала их в кровавое месиво.
Вместе с оккупантами спасались от справедливого возмездия и те, чьи предки в середине 30-х годов XX века по чужой воле были переселены из Центральной Грузии в Абхазию. Спустя шестьдесят лет их внуки и правнуки, отравленные ядом пещерного национализма, забыли, что они всего лишь гости на чужой земле, и, следуя призывам новых правителей из Тбилиси «Грузия — для грузин!», с карательными отрядами беспощадно грабили армянские и абхазские села. И им, кто живьем закапывал в землю и замуровывал в стены своих бывших соседей, однокашников по школе и учителей, кто превратил в пепелища некогда цветущие села Лабра, Шаумяновка, Атара, Яштухе и десятки других, рассчитывать на снисхождение не приходилось. Прихватив награбленное, они первыми, как крысы с тонущего корабля, ринулись за Ингур.
С ними бежали и те, кто, забыв про совесть и польстившись на легкую добычу, разорял брошенные абхазские, русские и греческие дома. Кто по ночам, натянув на лицо маску, отбирал последнее у немощных стариков и старух. Кто в августе 1992-го испугался и подумал, что под вероломным ударом бронированного кулака банд Китовани и Иоселиани Абхазия, а вместе с ней и сам абхазский народ перестанут существовать, и поспешил откреститься от своих родственников — абхазов.
Им всем было чего бояться, и паника, подобно чуме, за считаные часы опустошила Очамчырский и Гальский районы. Бойцы абхазской армии, разметая в стороны заторы из брошенной военной техники и обозы с награбленным добром, встречали на своем пути обезлюдевшие села и поселки. О том, что в домах еще несколько часов назад была жизнь, напоминали горячие угли в печах, болтавшееся на веревках белье и скот, бродивший по дворам и огородам.
Прошли лишь сутки с начала наступления, и грузинская армия исчезала как мираж. Попытки контратаковать, которые предпринимали разрозненные остатки из отрядов «Мхедриони» и украинских националистов-боевиков, уже ничего не решали. Набравшие наступательные обороты отряды абхазских ополченцев и добровольцев безжалостно подавляли последние очаги сопротивления, и 30 сентября ее передовые части вышли к реке Ингур. За ней начинались земли Грузии, но наступательный порыв, захвативший бойцов и командиров, оказался настолько велик, что многие не могли остановиться, с ходу форсировали реку и продолжали добивать деморализованных гвардейцев и бандитов из отрядов «Мхедриони» на землях Мингрелии.
В тот день казалось, что никто и ничто не в силах погасить этот яростный огонь жажды справедливой мести за смерти близких, поруганную честь сестер и матерей, оскверненные могилы предков, что полыхал в душах бойцов абхазской армии. И если бы не приказ Владислава Ардзинбы, то можно было не сомневаться, что они дошли бы до самого Тбилиси.
«Нам не надо и горсти чужой земли!» — это его обращение охладило самых горячих. Штурмовые роты вынуждены были подчиниться и возвратились за реку Ингур. Больше ни одного оккупанта на истерзанной войной земле Абхазии не осталось.
Ночь 30 сентября 1993 года в Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и в самых отдаленных горных селах так и не наступила. До самого утра бархатное, усыпанное яркими звездами южное небо подсвечивали сигнальные и осветительные ракеты, терзали трассеры автоматных и пулеметных очередей.
Это была их общая победа: абхазов, русских, армян, греков, махаджиров и всех, кто в тяжкий час испытаний протянул руку помощи народу Абхазии, когда вероломная война 14 августа 1992 года обрушилась на ее землю. Победа, которая еще недавно казалась им такой далекой и почти несбыточной, пришла так же неожиданно, как и ранняя, бурная весна в горах. И опьяненные ею победители все еще не могли поверить до конца в то, что вооруженная до зубов и в десятки раз превосходящая по силе военная армада грузинских войск разбита наголову. Но сотни брошенных танков и бэтээров, горы мин и снарядов, россыпи гранат и патронов были не фантастическим сном. Это была их безоговорочная победа!
Радостные и счастливые Ибрагим, Кавказ, Эркан, Окан и Джон не жалели патронов и один за другим опустошали рожки автоматов и магазины пистолетов. Рядом с ними палили в воздух бойцы из ополчения и ребята из охраны Владислава Ардзинбы. Сам он и его соратники — Станислав Лакоба, Юрий Воронов, Сергей Дбар и Султан Сосналиев — тоже дали волю своим чувствам.
Суровое лицо Председателя смягчилось, и впервые Ибрагим увидел на его глазах слезы. Потом сам почувствовал, как по щекам потекли теплые ручейки. Он не стеснялся их, в эти мгновения его душа от радости находилась на седьмом небе. Он был счастлив от того, что остался жив, что остались живы Владислав Григорьевич, Кавказ, Окан, Джон, что наконец Абхазия стала свободной.
В ту ночь впервые за 413 суток жители Сухума и всей Абхазии спали и не вздрагивали в ожидании разрывов мин и снарядов, трескотни пулеметных и автоматных очередей, топота кованых сапог и грохота слетающих с петель дверей. Бои и перестрелки, полицейские облавы и обыски остались позади. Город медленно возвращался к мирной жизни.
Привыкали к ней и Ибрагим с Кавказом. Свою первую ночь они провели не в казарме или казенной комнате общежития, а в абхазском доме у Аслана. Он располагался неподалеку от центральной городской аптеки, но, несмотря на то что в этом районе шли ожесточенные бои, чудом уцелел и выглядел диковинной картинкой посреди прострелянных снарядами и исполосованных очередями крупнокалиберных пулеметов обгоревших остовов зданий. Обошли его стороной и мародеры. В комнате, где они спали, на стене неспешно тикали деревянные часы с кукушкой, и когда стрелки подходили к очередной цифре, дверцы избушки распахивались, крошечная птаха появлялась на свет и, откуковав свое, снова пряталась за ними. Но ни ее стрекот, ни громыхание старенького холодильника «Бирюса» в кухне не могли разбудить Кавказа и Ибрагима. Они, широко раскинувшись в постелях, от которых исходил не опостылевший запах хлорки, а еле уловимый аромат мяты, напоминавший о уже позабытой мирной жизни, спали как убитые.
Первым проснулся Кавказ — сказалась многолетняя армейская привычка вставать с восходом солнца. Не став будить сладко спавшего Ибрагима, он потихоньку вышел из комнаты и спустился во двор. Там у летней печки уже хлопотала мать Аслана — Лидия Петровна. Ополоснувшись прохладной дождевой водой из бочки, он пришел к ней на помощь и принялся колоть дрова. Стук топора разбудил Ибрагима с Асланом. Разомлевшие после крепкого сна, они появились на летней террасе.
— Солдат спит, а служба идет! — поддел друзей Кавказ.
— А если хорошо спит, то она идет еще быстрее! — отшутился Ибрагим.
— Служба не волк, в лес не убежит! — лениво потянувшись, ответил Аслан и плюхнулся в плетеное кресло.
— Ребятки, у меня завтрак стынет! Быстро умываться — и к столу! — поторопила их Лидия Петровна.
Дважды повторять приглашение ей не пришлось. Завлекательные запахи для не избалованных армейской пищей желудков, доносившиеся со стола, действовали лучше всяких слов. Ребята бросали благодарные взгляды на Лидию Петровну и уминали за обе щеки жаркое из перепелов, которыми поделился сосед-охотник. Закончили они завтрак неизменным кофе по-турецки, а после него Ибрагим с Кавказом отправились в Верховный Совет. Там на восемь часов был назначен общий сбор для дежурной и свободной смен телохранителей. За три дня, прошедших после освобождения Сухума, они еще с трудом ориентировались в нем, но стрела портового крана служила надежным ориентиром, поэтому, не спеша, с любопытством поглядывая по сторонам, друзья шли к месту сбора.
День выдался погожий и теплый. Природа наперекор войне брала свое. Затянувшийся бархатный сезон продолжал ласкать и согревать истерзанную Абхазию. Бирюзовое море умиротворенно плескалось о гранитные ребра прибрежных скал у Нижней Эшеры, таинственно перешептывалось легкой волной у Сухумского маяка и рисовало фантастические рисунки на песчаных пляжах Агудзеры. Зеркальную гладь сухумской бухты морщили пока еще редкие лодки рыбаков. В туманной дали, у кромки морского горизонта, словно не решаясь омрачать нежные краски увядающего осеннего неба, робко жались перистые облака. Солнце еще не успело подняться высоко, и в воздухе сохранялась та опьяняющая свежесть, от которой начинает кружиться голова, а в теле появляется необыкновенная легкость.
Ибрагим с Кавказом в полную грудь дышали и не могли насладиться тончайшим ароматом осенних цветом, запахом смолы и преющих водорослей. Широко шагая, они гнали перед собой по асфальту волну из опавших листьев, но через десяток шагов война напомнила о себе. Воронка и сгоревший грузовик перегородили улицу, и им пришлось пробираться через развалины. Здесь еще во всем ощущалось смертельное дыхание недавно закончившегося боя. Из-под завалов тянуло тошнотворным запахом разложившихся тел и гари. Куски сажи, поднятые сквозняками, кружились в воздухе и забивали нос. Под ногами хлюпала зловонная жижа, вытекавшая из разрушенной канализации. Горы мусора при приближении начинали оживать — это полчища разъевшихся крыс спасались от них бегством.
Выбравшись из развалин, Ибрагим и Кавказ невольно ускорили шаг. Впереди показалось здание Верховного Совета и на подходе к нему, у Академии наук, им повстречался Джон Хутоба. Вместе они вышли на площадь. За ночь на ней произошли изменения, исчезли сгоревшие машины и завалы из бревен, но в самом здании Верховного Совета, в коридорах и кабинетах еще сохранялись следы поспешного бегства.
Свой первый рабочий день Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба и его охрана начали с наведения порядка в приемной и кабинете, а уже после обеда к нему выстроилась бесконечная очередь — очередь из траурных платков на головах женщин и темных пиджаков на плечах мужчин. Они пришли к нему каждый со своим горем. У кого-то был убит сын или дочь. Кто-то не мог отыскать ни среди раненых, ни среди мертвых своих близких. Многие на месте домов нашли лишь развалины и воронки. Беспомощные старики, смиряя природную гордость, просили о малом: чтобы им и осиротевшим внукам не дали умереть от голода.
И этот — такой долгожданный и выстраданный мир оказался для Председателя и его народа не меньшим испытанием, чем сама война. Страна лежала в руинах, Восточная Абхазия напоминала безлюдную пустыню, тишину которой и после окончания войны продолжали нарушать взрывы: одичавший без хозяев скот поневоле превратился в саперов. Тяжелее всего приходилось тем, кто жил в городах. Полки магазинов, от которых осталось одно название, были вычищены подчистую бежавшими оккупантами и мародерами. На продуктовых складах, где трудно было отыскать даже мышь, раздольно гуляли одни сквозняки. Остановились электростанции. Не работали ни водопровод, ни канализация, ни транспорт. Все встало!
С наступлением ночи Абхазия погружалась в кромешную темень, и тогда казалось, что она переставала существовать, ее словно вычеркнули из жизни. Грустным напоминанием о счастливом прошлом служили полыхавшие за Псоу разноцветьем огней рекламы Адлер, Кудепста, Хоста, Мацеста и Сочи. Всего в какой-то сотне метров — за рекой Псоу существовал совершенно другой мир — другая жизнь. В ресторанах, барах и кафе рекой лились водка, вино и коньяк. На танцплощадках гремела музыка, и тысячи отдыхающих наслаждались хмельной и беззаботной курортной жизнью. И вряд ли кто из них задумывался о том, что рядом с ними такие же, как и они, еще недавно граждане одной страны, разбирали развалины в поисках близких, рыли могилы и поминали умерших.
После победы, завоеванной такой страшной ценой, победители остались один на один со своей бедой. Блокада Абхазии, установленная ельцинской Россией 20 сентября 1993 года, наглухо отрезала ее от остального — сытого и благополучного мира. С того дня ни один железнодорожный вагон не пересек моста на реке Псоу, ни один корабль и катер не вошел в ее порты. Безжизненно застыли на приколе в аэропорту самолеты. Небо над Абхазией и море у ее берегов стали одной огромной «запретной зоной», и лишь маленькая щель пешеходного пограничного перехода на реке Псоу приоткрывалась на короткое время.
С раннего утра бесконечная очередь из стариков, женщин и детей выстраивалась на пограничном переходе. Не было в ней только мужчин: бездушные российские чиновники поспешили записать их всех скопом в террористы, и они стали «невыездными». В восемь часов полосатый шлагбаум поднимался над дорогой, и эта человеческая река, громыхая тележками, детскими колясками и всем тем, на чем можно было увезти муку, соль, керосин, бензин спички, устремлялась к Казачьему и блошиному рынкам. И так повторялось изо дня в день.
Прошло два месяца после окончания войны, но положение Абхазии и ее народа не изменилось. Лишь одна погода оставалась благосклонной к ним, и то ненадолго. Октябрь, побаловав теплом и ясной солнечной погодой, сменился сырым и промозглым ноябрем, вслед за ним пришел небывало холодный декабрь. Тяжелые свинцовые тучи заволокли небо, и нудный моросящий дождь с утра и до вечера поливал полуголодные и замерзающие города и поселки Абхазии. Порывистый северный ветер, вырвавшись из ущелий, безжалостно трепал деревья, срывал с них листья и, сбивая в грязные кучи, гонял по безлюдным улицам. И без того разрушенный войной Сухум, потеряв свои зеленые «бинты— повязки», стал еще страшнее и напоминал тело смертельно больного, сплошь изъеденное гноящимися язвами пожарищ и развалин.
Несмотря на все усилия ремонтных бригад, большинство котельных и кочегарок так и не удалось запустить, а кое-где восстановленное электроснабжение работало с перебоями и с трудом поддерживало еле теплившуюся жизнь города. Стылый холод вымораживал стены домов, и они превращались в настоящие холодильники. Их хозяева, пытаясь сохранить капли драгоценного тепла, старались без лишней нужды не выходить на улицу. Наступившая зима угрожала не только холодом, но и голодом. Незасеянные с прошлого года поля заросли густым бурьяном, загоны для скота после набегов гвардейцев и мародеров наполовину пустовали. Крестьяне, еле сводившие концы с концами, делились последним, но это мало облегчало положение горожан, особенно одиноких стариков, с каждым днем оно становилось все хуже.
Утлые турецкие суденышки, снаряженные махаджирами, и их капитаны, отваживавшиеся в октябре прорываться мимо грузинских сторожевых кораблей к абхазским берегам, с наступлением холодов и свирепых штормов перестали появляться на сухумском рейде. Единственный уцелевший портовый кран сиротливо смотрел стрелой в равнодушное и холодное небо. На городских складах и без того скудные запасы муки и пшена подходили к концу, бензина и солярки, которые выдавались только армии и флоту, едва хватало на одну заправку.
Очередной рабочий день в кабинете президента Абхазии Владислава Ардзинбы, единогласно избранного на этот пост парламентом республики 26 ноября, начинался с одного и того же: министры докладывали о том, сколько осталось килограммов муки, соли и крупы, литров бензина и солярки. Скудные запасы таяли на глазах, положение становилось все более угрожающим, не могли его поправить даже поставки из Адыгеи. Несмотря на все усилия ее президента Джаримова, большинство грузов застревало на складах российской таможни.
«Где взять хлеб?.. Где взять соль?.. Где взять мазут?» — повторял про себя как заклинание президент и рассеянно перебирал сводки, словно надеясь найти в них ответ. Но бесстрастные цифры говорили только об одном: запасы подходят к концу. Это был какой-то заколдованный круг, из которого ему пока не удавалось вырваться. Он с раздражением отшвырнул от себя эти ставшие ненавистными бумаги, встал из-за стола и прошел к окну.
За ним в серой пелене моросящего дождя свинцово-сизыми валами вздымалось штормовое море. Пенистые языки перехлестывали через парапет набережной и грязными лужами растекались по тротуару. Придвинувшийся к самой сухумской бухте горизонт был абсолютно чист. На нем давно не возникали дымы кораблей, последний турецкий сухогруз, отважившийся прорваться через блокаду и шторма, стоял на рейде полмесяца назад. И невольно теплая волна благодарности поднялась в груди президента к капитану корабля, его отчаянному экипажу и тем сотням, тысячам земляков-махаджиров, проживающих в Турции, которые и после окончания войны продолжали помогать словом и делом.
«Делом! Делом!» — повторил про себя Владислав Ардзинба, отошел от окна и пригласил из приемной дежурного телохранителя.
Ибрагим Авидзба, разгладив на куртке невидимые складки, прошел в кабинет и остановился у порога.
— Прикрой дверь, Ибо! — распорядился президент и задержал на нем потеплевший взгляд.
Еще тогда, в Гудауте, при первой встрече ему приглянулся этот доброволец-махаджир. В его тогда еще по-юношески наивных и открытых глазах он прочитал то, что больше всего ценил в людях — твердый характер и быстрый ум. Со временем симпатии к немногословному телохранителю еще больше возросли. Война, как огонь в горне кузнеца, закалила, но не ожесточила Ибрагима. Президент не раз ловил себя на мысли, что если бы у него был сын, то он хотел бы, чтобы тот походил на этого махаджира-добровольца. И сейчас, не считая нужным заходить издалека, Владислав Ардзинба прямо спросил:
— Урал Атыршба смелый парень?
— Да!.. — озадаченно ответил Ибрагим.
— А он рискнет с кораблем прийти к нам?
— Можете не сомневаться, Владислав Григорьевич, но с капитаном могут возникнуть проблемы, надо искать, — догадался, о чем идет речь, Ибрагим.
— Но в октябре он нашел?!
— Я думаю, и на этот раз получится, тем более там Кавказ. Мне надо с ними созвониться.
— Хорошо! Но это надо сделать поскорее, с запасами у нас совсем плохо, особенно с мукой и соляркой.
— Сегодня, в крайнем случае завтра ответ будет!
— Хорошо! Я надеюсь, что Кавказ с Уралом сделают все возможное и корабль с грузом не позднее середины декабря будет стоять у нас в порту.
— Они сделают и невозможное, Владислав Григорьевич! — заверил Ибрагим.
— Я верю в них! — ответил он и продолжил: — С оплатой тоже решим! Часть найдем здесь, ну и, надеюсь, помогут наши земляки в Турции. Я переговорю с Дженгизом Полем и Ирфаном Аргуном, а они подключат к этому вопросу кого надо.
— Владислав Григорьевич, мой брат тоже не откажет, — предложил Ибрагим.
— Аттила? — уточнил президент.
— Да!
— Спасибо! Даже и не знаю, чем мы сможем его отблагодарить! Он настоящий абхаз!
— Ему достаточно вашего слова, Владислав Григорьевич! Он это делает от чистого сердца, ради Абхазии!
— Хорошо, что у нее есть такие сыновья, как Аттила, Урал, Кавказ и ты, Ибо! Она никогда не забудет вас! — с теплотой произнес президент, и его суровый взгляд смягчился.
— Владислав Григорьевич! Владислав Григорьевич! — пытался что-то сказать растроганный Ибрагим.
— Не надо слов, Ибо! Мы мужчины! Пусть за нас говорят дела! — закончил на этом разговор президент.
В тот же вечер Ибрагим связался по телефону с Уралом и Кавказом. Братья Атыршба с ответом не задержались и не заставили себя долго ждать. Спустя неделю турецкий сухогруз, груженный соляркой и мукой, на рассвете причалил к пристани в сухумском порту. Урал сдержал свое слово и сейчас, сидя в кабинете президента, не знал куда деваться от похвал. На память об этой встрече он уносил на своей руке именные часы.
Два последующих дня Ибрагиму, Окану и Уралу пришлось крутиться как белкам в колесе. В среду к исходу дня все работы на сухогрузе были закончены, и они поднялись на борт. При себе Ибрагим имел девяносто тысяч долларов, которые Владиславу Ардзинбе удалось наскрести в банке и под свое честное слово получить у друзей Абхазии в России. Это была оплата в счет будущей поставки зерна и солярки из Турции. Такую огромную сумму ни Ибрагим, ни Урал, ни Окан не решились хранить при себе, тем более в сейфе капитана Исмаила. В случае перехвата судна грузинским сторожевиком они могли стать легкой добычей. Выход из положения нашел Урал. В его каюте они оборудовали тайник. К целлофановому свертку с деньгами, что лег на дно, добавились еще четыре гранаты и два пистолета. Их Ибрагим с Оканом прихватили на крайний случай.
Закончив с тайником, они снова поднялись на палубу. Здесь все было готово к отплытию, но капитан Исмаил выжидал, пока на море не опустятся сумерки. И лишь когда тусклое декабрьское солнце закатилось за горизонт, дал команду к отплытию.
Корпус содрогнулся от работы набравшего обороты дизеля, лопасти винта вспенили воду за кормой, в воздух взлетели швартовые канаты, и корабль, загруженный кругляком и металлом, той единственной валютой, которой могло расплатиться правительство Абхазии, отчалил от причала сухумского морского порта. Глубоко зарываясь носом во встречную волну, он обогнул западный мыс бухты и, продолжая оставаться в тени берега, взял курс на Сочи.
Ибрагим, Урал и Окан за день беготни по порту и нервотрепки, связанной с загрузкой корабля — то и дело стопорилась стрела крана, — валились с ног от усталости. С трудом досидев до конца ужина, они спустились в каюты и улеглись спать. Позже к ним присоединился свободный от вахты экипаж.
На палубе остались капитан Исмаил и самые опытные, не один раз ходившие в Абхазию члены команды. Им предстояло пройти в кромешной темноте, в которой невозможно было различить, где заканчивается море и начинается берег, участок в шестьдесят километров. Но Исмаил по каким-то только ему известным приметам безошибочно находил нужный курс. И сухогруз, подчиняясь его воле и твердой руке рулевого, как привязанный, повторял все изгибы берега. Позади остался выступающий далеко в море пицундский мыс, и из мрака ночи тусклой россыпью огней проглянули многоэтажки Адлера.
До российской границы было уже рукой подать, и только тогда капитан резко поменял курс. Сухогруз развернулся на девяносто градусов и на всех парах устремился в нейтральные воды. Через двадцать минут хода за горизонтом скрылись огни Большого Сочи, и рулевой взял курс на турецкий порт Трабзон. Теперь, когда самый трудный и рискованный участок маршрута остался позади, Исмаил мог позволить себе расслабиться и, уступив капитанский мостик помощнику, отправился отдыхать. Но в ту ночь ни ему самому, ни экипажу, ни Ибрагиму с Уралом и Оканом так и не удалось поспать. После полуночи подул сильный северо-западный ветер и поднял большую волну. Под ударами морских валов судно жалобно поскрипывало, угрожающе кренилось и черпало бортами воду. Старый, давно отслуживший свое дизель из последних сил грохотал изношенными железными внутренностями, чтобы удержать корабль на курсе. С каждой минутой это становилось делать все труднее. Ветер усиливался, а стрелка барометра все дальше убегала по циферблату влево, предупреждая о надвигающемся шторме.
К этому времени весь экипаж был на ногах. Капитан занял место на мостике и опытным взглядом оценил ситуацию. Ничего хорошего она не сулила. Идти прежним курсом, пробиваясь через набирающий силу шторм, было рискованно. Вздымавшаяся за бортом волна и трещавший под ее ударами по всем швам корпус будили в нем тревогу. Еще больше ее усиливали нарастающий грохот разболтавшегося в креплениях леса-кругляка. С таким опасным грузом бороться со штормом было равносильно игре в кошки-мышки с самой смертью. И чтобы избежать встречи с надвигавшейся стихией, у Исмаила оставался единственный выход — менять курс на юго-восток, но там могла подстерегать другая опасность — грузинские сторожевые корабли. Из двух зол капитан Исмаил выбрал, как ему казалось, наименьшее — курс на Батуми.
Подгоняемый попутным ветром и волной сухогруз все дальше уходил на юго-восток и перед рассветом, когда до турецкого берега оставалось не больше пятидесяти миль, напоролся на грузинский сторожевик. Его хищный силуэт появился в нескольких километрах за кормой. Надежда на то, что с ним удастся мирно разойтись, у капитана Исмаила быстро улетучилась. Яркий сноп света прожектора разорвал мрак, как сторожевой пес, «обнюхал» палубу сухогруза и остановился на рубке. Вид судна выдавал его с головой, поэтому рассчитывать на снисхождение не приходилось, и капитан Исмаил дал команду «Полный вперед!».
Бешеная тряска и топот ног по палубе сорвали с коек Ибрагима, Урала и Окана. Они выскочили на палубу. Хлестнувший в лицо ветер и ослепивший глаза луч прожектора сказали все без слов. Серый силуэт грузинского сторожевика неумолимо приближался. Капитан Исмаил предпринимал отчаянные попытки оторваться, но луч прожектора снова находил судно среди волн.
Сквозь шум моря и рев двигателя прорвался усиленный ваттами электроники голос. На английском языке с ужасающим акцентом он требовал остановиться. Ибрагим метнул взгляд на приборную доску, но суматошно мечущиеся стрелки ему ничего не сказали, и воскликнул:
— Капитан, сколько осталось до Турции?
— Миль тридцать!
— Успеем?!
— Не знаю, если только…
Капитан Исмаил так и не успел договорить. Пулеметная очередь зловеще прошелестела над палубой и рикошетом взвизгнула на мачте.
— Право руля! — закричал он, пытаясь в очередной раз вырвать судно из луча прожектора.
Палуба ушла из-под ног, и Ибрагим, вцепившись в поручни, едва устоял на ногах. В следующее мгновение он, а за ним Урал и Окан метнулись к трапу и спустились в каюту. Смахнув с крышки тайника хлам, Ибрагим запустил руку в щель, вытащил пистолеты и гранаты.
Окан вставил магазин в пистолет, передернул затвор и сунул в карман куртки, в другой опустил две гранаты. То же самое повторил Ибрагим.
— Ребята, и мне что-нибудь дайте! — попросил Урал.
— Тебе не надо! Береги деньги! — категорично отрезал Ибрагим.
— Но…
— Никаких но! Урал, это не просто деньги — это мука и солярка для Абхазии! — бросил на ходу Ибрагим и вслед за Оканом поднялся в капитанскую рубку.
Исмаил не сдавался и продолжал маневрировать, надеясь оторваться от грузинского сторожевика. Но с каждой минутой шансов становилось все меньше, расстояние между судами неумолимо сокращалось, а приближающийся рассвет делал сухогруз для него отличной мишенью.
Окан бросил нервный взгляд на часы и спросил:
— Капитан, сколько осталось до Турции?!
— Миль двадцать пять! — ответил тот и мрачно закончил: — Но мы не дотянем.
— Как — не дотянем?.. Должны! — рыкнул на него Ибрагим!
— На моей…
Пулеметная очередь оборвала речь Исмаила и бросила его, а вместе с ним Ибрагима и Окана на палубу. Осколки стекла из разбитой рубки посыпались им на спины. На этот раз со сторожевика вели прицельный огонь по сухогрузу. И здесь выдержка изменила капитану, он метнулся к переговорному устройству с машинным отделением и закричал:
— Стоп…
Рука Ибрагима зажала ему рот, а яростный вопль: «Вперед, капитан!» привел его в чувство.
И снова команда сухогруза принялась совершать маневры, стараясь уйти от прицельного огня сторожевика. Усилившаяся качка, а еще больше неуверенная стрельба пулеметчика пока помогали ей, пули чаще сбивали пену с гребней волн, чем попадали в сухогруз. Но так до бесконечности продолжаться не могло, это понимали как Окан, так и Ибрагим. Оба готовились к худшему, вставили запалы в гранаты, положили в карманы куртки и не спускали глаз с грузинского сторожевика. Его контуры все отчетливее проступали на фоне светлеющего на востоке горизонта. Он выходил на параллельный с сухогрузом курс.
— Шайтан! — разгадал этот маневр Исмаил и от ярости заскрипел зубами.
— Что такое, капитан?! — воскликнул Ибрагим.
— Отсекает нас от берега!
— Собака! — выругался Окан.
— Все равно надо идти вперед, может, прорвемся! — настаивал Ибрагим.
— Не поможет! Через полчаса перекроет ход! Лучше сдаться, пока трупами не сделали, — обреченно произнес капитан Исмаил.
— Что-о?! — взорвался Ибрагим и, выхватив из кармана пистолет, закричал: — Не останавливаться!.. Ты слышишь, не останавливаться! Вперед!
— Я… — только и мог произнести под дулом пистолета загнанный в угол Исмаил.
В машинном отделении сухогруза не слышали и не видели того, что происходило на палубе, и выжимали из старенького дизеля все, что могли. Гонка продолжалась. Грузинский сторожевик медленно, но упорно оттеснял их от турецкого берега. Окан, вцепившись руками в поручни, жег его ненавидящим взглядом и как молитву то и дело повторял:
— Ну где же они?! Где?
— Кто? Кто?! — переспросил Ибрагим.
— Наша береговая охрана!
— Береговая?! — воскликнул Ибрагим и через мгновение, схватив капитана за куртку, зарычал: — У тебя есть частоты военных?
— Да, — выдавил из себя тот.
— Так чего же молчал! Вызывай!
— Что передавать?
— Все!.. Что на нас напали! Что стреляют! Только быстрее! — кричал Ибрагим и подталкивал капитана к радиорубке.
И когда в эфире зазвучал писк морзянки, а на нее откликнулся турецкий военный корабль, Ибрагим и Окан перевели дыхание. Капитан Исмаил тоже приободрился, грузинскому сторожевику из-за сильной боковой волны пока не удалось перекрыть курс сухогрузу. Старая посудина трещала по всем швам, но не сбавляла ход и упорно пробивалась к турецкому берегу.
За этой гонкой ни капитан, ни команда, ни застывшие у левого борта Ибрагим и Окан не заметили, как подкрался рассвет. Горизонт прояснился, и у кромки, на западе, проступил силуэт турецкого военного корабля. Они все еще не могли поверить в свою удачу, но радист новой радиограммой рассеял последние сомнения. Заметили его и на грузинском сторожевике, и в бессильной злобе, огрызнувшись пулеметной очередью, легли на обратный курс.
И когда над сухогрузом навис мощный борт военного корабля, Ибрагим, Окан и Урал смогли с облегчением вздохнуть. Словно на чужих ногах, они спустились в каюту, без сил рухнули на койки, и навалившаяся свинцовая усталость быстро свалила в сон. Разбудил их сиплый гудок сухогруза. Сверху доносились отрывистые команды капитана Исмаила и топот ног: команда готовилась к швартовке. В иллюминаторе показался лес портовых кранов — это был Трабзон, и Ибрагим с Оканом поторопились избавиться от своего опасного груза. Пакет с пистолетами и гранатами, вывалился за борт и, булькнув, пошел ко дну. Они поднялись на палубу и с нетерпением ждали, когда сухогруз причалит к берегу.
Ибрагим с жадным любопытством всматривался в надвигающийся из утреннего тумана порт и быстро отыскал тот причал, с которого вместе с Гумом чуть больше полугода назад отправлялся в Абхазию. За это время здесь ничего не изменилось. У пассажирского терминала, как и тогда, толпились на посадку русские челноки, перед портовой гостиницей вился рой такси, но ему казалось, что с тех пор прошла целая вечность.
Война раз и навсегда круто изменила его жизнь, и он не без внутренней тревоги ожидал встречи со своим прошлым. Первым напоминанием о нем стал Эндер Козба. Здесь, в порту Трабзона, восемь месяцев назад с него для них с Гумом и начался путь в Абхазию. Сейчас он вместе с Кавказом прохаживался по причалу и что-то увлеченно рассказывал.
Команда капитана Исмаила заставила Ибрагима встрепенуться. Швартовые канаты взлетели в воздух и шлепнулись на пирс. Гребные винты последний раз вспенили воду за кормой и затихли. Он и Окан с трудом дождались, когда с борта спустили трап, и, крепко пожав руку Уралу и капитану, которым предстояло улаживать портовые формальности, поспешили навстречу пограничникам и таможенникам. Те вели себя на редкость великодушно, бегло проверили документы с вещами и разрешили сойти на берег. Там Ибрагим и Окан попали в крепкие объятия Кавказа и Эндера.
Измочаленный вид друзей без слов все сказал Кавказу, и он тут же потащил их в гостиницу, но Ибрагим, узнав про рейс в Стамбул, категорически отказался и потребовал немедленно ехать в аэропорт. Там несколько остающихся до отлета часов они провели в баре. Живой, словно ртуть, Эндер, как ни крепился, так и не смог себя сдержать и затерзал их вопросами, к концу разговора они отвечали уже невпопад и сонно кивали носами в тарелки. Ибрагим не расслышал, когда объявили посадку, их, полусонных, Кавказ и Эндер довели до посадочного терминала и, там простившись, возвратились на автостоянку. Им вместе с Уралом предстояла нелегкая работа — найти новое судно и экипаж, капитан Исмаил зарекся больше плавать в Абхазию.
Но это был уже вопрос времени. Отчаянные смельчаки еще не перевелись среди трабзонских моряков, и потому Ибрагим не сомневался в том, что рано или поздно, но Урал и Кавказ с помощью Эндера Козбы найдут таких. Откинувшись на спинку кресла, он спал сном счастливого человека — половина поручения президента Владислава Ардзинбы была выполнена. И еще особенным теплом его душу согревала лежащая в нагрудном кармане небольшая капсула с землей, взятой с могил Арсола и Коса Авидзба.
До конца полета он так и не проснулся. Не разбудили его ни рев турбин заходящего на посадку самолета, ни удар шасси о бетонку. И тем удивительнее, что только тихо произнесенное Оканом: «Ибо, мы дома!» подбросило Ибрагима с кресла.
«Дома! Дома!» — повторял он про себя и не замечал ни шаткого трапа, ни суеты пассажиров, не слышал разговора таксиста с Оканом. Его взгляд пожирал улицы и площади, купался в море рекламных огней, и, когда впереди показалась хорошо знакомая улица, сердце в груди забухало, как кузнечный молот. Простившись с Оканом, он, не дожидаясь остановки, выскочил из машины, перемахнул тротуар и, влетев под арку, остановился, чтобы перевести дыхание. Затем с замирающим сердцем взялся за ручку двери. Уже подзабытый мелодичный звон колокольчика напомнил еще раз, что это не чудесный сон — он дома… Дома!!!
Войти незамеченным Ибрагиму не удалось. На звук колокольчика из гостиной выглянула сестра и остолбенела, а через мгновение ее радостный крик: «Ибо! Ибо приехал!» поднял на ноги весь дом.
Захлопали двери, и в холл из комнат высыпали горничная, мама, отец и затискали его в своих объятиях. Не прошло и пяти минут, как из офиса примчался старший брат Аттила, и впервые за год семья Авидзба в полном составе собралась за одним столом. Сгоравшие от нетерпения сестра и мать, едва только опустели тарелки, накинулись на Ибрагима с вопросами. Не удержался и обычно скупой на слово отец, его интересовало все, что было связано с малой родиной и фамилией Авидзба в Абхазии. До глубокой ночи продолжался этот взволновавший всех разговор, и только усталость заставила семью Авидзба разойтись по комнатам и лечь спать.
На следующее утро Ибрагим с нетерпением дождался, когда закончится завтрак, и отправился в город. С первых минут его закрутил водоворот встреч со старыми друзьями, но будь то уютное кафе при волейбольном клубе «ДЭСЭИ» или кают-компания на яхте Аттилы, он не раз ловил себя на мысли о Владиславе Григорьевиче, Джоне, других ребятах и тех тысячах стариков, женщин и детей, что так нуждались в муке, которую, возможно, сейчас Урал и Кавказ погрузили на сухогруз в Трабзоне. Его сердце уже не принадлежало только одному обласканному теплом и цивилизацией Стамбулу, сегодня оно было больше там, среди суровых гор Абхазии, в полуголодном и замерзающем от холода Сухуме.
С легкой грустью Ибрагим возвратился домой. Осторожно, стараясь никого не потревожить скрипом ступенек, поднялся по лестнице на второй этаж. В это время дверь кабинета открылась, из него выглянул отец и пригласил:
— Ибо, зайди, надо поговорить!
Ибрагим напрягся: рано или поздно, но этот разговор должен был состояться, и вошел в кабинет.
— Садись, сынок!
Так его называли в редкие минуты душевных откровений. Ибрагим, ответив благодарным взглядом, только сейчас заметил, что отец в последнее время сдал. Он перехватил этот взгляд и с грустью произнес:
— Да, сынок, и я не вечен.
— Что ты, папа! Ты у нас еще молодец!
— Был молодец, но годы берут свое. Пришло время, и надо думать, кому передавать дела — тебе или Аттиле. — И его испытующий взгляд остановился на Ибрагиме.
— Конечно Аттиле! — не задумываясь ответил тот.
— Аттиле?! — голос старшего Авидзбы потеплел. — Да, он уже многого добился, но ему тесен Стамбул, и у него своя дорога. Я надеюсь на тебя, сынок!
— Папа, мне только двадцать один, и я ничего не умею!
— Война — это тоже школа, и еще какая! А с образованием… Не беда — наверстаешь. Университет в Лондоне тебя ждет.
Ибрагим молчал, слова тяжелые, словно комья, застряли в горле.
— Ну, так что? — торопил с ответом отец.
— Я… я сейчас не могу. Там сейчас трудно. Что я скажу Владиславу Григорьевичу?.. Он, понимаешь, папа.
— Понимаю, Владислав Григорьевич для нас больше, чем президент. Он вернул нам Абхазию!
— Папа, если бы ты его только увидел. Он… — И у Ибрагима не нашлось больше слов.
— Ибо, мы гордимся тобой! Для нашей семьи великая честь, что ты рядом с президентом, но война закончилась, и надо думать о будущем.
— Но ты же сам говорил, что наше будущее с Абхазией!
— Все правильно, мы будем абхазами, пока есть Абхазия.
— Так что же мне делать, отец?! Что?! — терзался Ибрагим.
И этот мучительный вопрос болезненной гримасой отразился на лице Авидзбы-старшего. Он, который, казалось, никогда не знал слабости, дрогнувшим голосом произнес:
— Хорошо! Не будем себя больше мучить и отложим разговор до утра!
В ту ночь Ибрагим так и не смог уснуть. Он разрывался между домом, семьей, любовью к ним и тем новым и могучим чувством, которое завладело им и властно звало в Абхазию. Его пальцы перебирали фотографии из старых альбомов. С них смотрели веселые и беззаботные лица родных и друзей, в памяти воскресали те счастливые, а порой и грустные мгновения, что они пережили вместе. Но вольно или невольно их вытесняли другие — первые шаги с Гумом по земле Абхазии, та навсегда оставшаяся в памяти встреча и беседа с Владиславом Григорьевичем, бой с гвардейцами под Сухумом и многое другое, что теперь прочно вошло в его жизнь. Он уже не мог противиться этому могучему зову новой жизни и чувствовал себя странником, ненадолго остановившимся отдохнуть перед дальней дорогой в родном доме, за окнами которого яркими огнями рекламы полыхал ночной Стамбул.
Мыслями Ибрагим был уже в Трабзоне на груженном мукой и соляркой сухогрузе, где на него надеялись и ждали Урал с Кавказом. Сложив альбомы с фотографиями на полку, он подтащил к себе спортивную сумку и стал собираться в дорогу. Стук в дверь заставил его обернуться. Отец вошел в комнату, Ибрагим поднялся навстречу, и они долго смотрели друг на друга. В глазах сына отец прочел ответ на свой вопрос и с грустью сказал:
— Все-таки решил возвращаться?
— Да, папа!
Обычно скупой на слова и эмоции, он дрогнул и, пряча глаза в сторону, глухо произнес:
— Мне будет тебя не хватать, сынок.
На глаза Ибрагима навернулись слезы, и он срывающимся голосом воскликнул:
— Папа! Я вернусь! Я не ухожу от вас! Я… Я не могу сейчас остаться! Там ждут! Там.
— Не надо, Ибо! Ты мужчина! У каждого из нас своя дорога, важно, чтобы она не вела в тупик. Там будет нелегко, и дай бог тебе сил, чтобы ты прошел по ней с честью!
— Тебе не будет стыдно за меня, папа! — поклялся Ибрагим. И, подчиняясь порыву, отец и сын обнялись.
В аэропорт они поехали вместе с Аттилой, отец не захотел, чтобы он утонул в слезах матери и сестры. И потом всю дорогу до Трабзона Ибрагим вспоминал его последние слова и ощущал на себе этот согревающий теплом взгляд. Но тогда он не предполагал и не мог знать, что им уже не суждено больше встретиться. Внезапная смерть так и не позволила отцу и сыну осуществить свою давнюю и заветную мечту — пройти вместе по земле, где когда-то ступали Арсол, Коса и Гедлач Авидзба.
В тот холодный декабрьский вечер, когда груженый сухогруз отчалил от пирса в Трабзоне и взял курс на Абхазию, все мысли Ибрагима были связаны с тем, как избежать встречи с грузинскими кораблями и доставить до места груз. На этот раз погода и удача были на их стороне. Рассвет застал сухогруз у берегов Абхазии, которая встретила их пронизывающим до самых костей ветром и мокрым снегом. Он на время скрыл следы войны, но не беду, с которой сухумчане и вся Абхазия остались один на один. Им тогда казалось, что та первая послевоенная зима с холодными проливными дождями и свирепыми штормами на море никогда не кончится. Но наступил март и небо, еще недолго похмурившись, прояснилось. С каждым новым днем солнце набирало силу, и под его яркими лучами отогретая теплом земля оживала, а вместе с ней и люди.
Жизнь постепенно брала свое. Вновь зазеленели распаханные поля, а в домах пусть пока редко, но зазвучали младенческие голоса. В июне то в Гагре, то в Пицунде, то в Новом Афоне робкими стайками стали появляться невесть как пробравшиеся через границу отчаянные россияне. В настоящий праздник для сухумчан превратилось открытие в июле пустовавших до этого военных санаториев. На следующий день об этом говорила, без всякого преувеличения, вся Абхазия. И пусть большинство корпусов по-прежнему были пусты, но эти тридцать восемь человек, поместившихся в одном автобусе, значили для народа Абхазии гораздо больше, чем вся гуманитарная помощь, что каждое утро раздавалась у дверей Красного Креста. Их приезд пробудил надежду на то, что несправедливая и жестокая блокада будет снята с границ и к ним вернется уже позабытая жизнь с ее повседневными радостями и огорчениями.
Но мир холодной и циничной политики оказался слишком жесток, а они — Владислав Ардзинба, Ибрагим, Кавказ, Джон и еще тысячи и тысячи без вины виноватых были слишком наивны. В те июльские дни 1994 года они не знали, да и не могли знать, что еще бесконечно долгих пять лет им предстояло, сцепив зубы, вырываться из той чудовищной разрухи, в которой лежала Абхазия. И лишь в сентябре 1 999 года окно в «большой мир» для них приоткрылось — блокада на реке Псоу была частично снята. Но до этого времени им еще нужно было дожить.
Глава 9
Очередной рабочий день в администрации президента республики Абхазии Владислава Ардзинбы начался с хорошей новости. Приехавший накануне из Москвы министр иностранных дел Сократ Джинджолия в своем утреннем докладе сообщил о наметившихся положительных подвижках в позиции российского руководства по вопросу урегулирования абхазогрузинского конфликта. В ходе непростых переговоров в российском МИДе и Федеральной пограничной службе были достигнуты важные негласные договоренности о «смягчении» режима санкций на границе по Псоу и «дискретном» допуске российскими пограничниками турецких судов с продовольствием и горючим в порт Сухума. Это была полумера, но она позволяла частично ослабить удушающую петлю блокады, от которой третий год жестоко страдал его — Владислава Ардзинбы народ.
После ухода умудренного жизнью и мало чем уступающего знаменитому греческому тезке — Сократу, он не удержался и позвонил в Москву старым знакомым по работе в Верховном Совете, сохранившим крепкие связи в Госдуме и МИДе. Они были немногословны, но по крайней мере намекнули, что «процесс пошел» и грузинские конфиденты на Охотном Ряду и Смоленской площади начали сдавать свои позиции.
Их уверенный тон давал надежду на то, что в Кремле наконец нашлись трезвые головы, осознавшие очевидный для него факт, что не Грузия, а Абхазия является истинным союзником России в начатой американцами битве за Кавказ. Именно Абхазия, как считал он, со временем станет тем самым маленьким, но надежным локомотивом, который рано или поздно вытащит Грузию из-под «машиниста Шеварднадзе», мчащего ее на всех парах, а вместе с ней Закавказье, в объятия американцев и НАТО. Все это, вместе взятое, позволяло рассчитывать на положительные подвижки в предстоящих переговорах с грузинской стороной. В душе он надеялся, что хитрец Сократ сумеет найти лазейки, чтобы ослабить «удавку», которую «российскими руками» умело затягивал вокруг Абхазии Седой Лис — Шеварднадзе.
Закончив разговор с Москвой, Владислав Ардзинба в приподнятом настроении взялся за текущие дела, его не испортили даже «кричащие» проблемы, связанные с катастрофическим дефицитом горючего. Пошли вторые сутки, как на заправках закончился бензин и ситуация настолько обострилась, что затронула армию. Как докладывал министр обороны Султан Сосналиев, по этой причине на время были отложены сборы с резервистами, а в баки танков и патрульных катеров пришлось залить последние резервы горючего.
Блокада на границах Абхазии в очередной раз жестоко напомнила о себе, но президент не терял уверенности и надеялся, что в ближайшие дни испытанные друзья Аттила Авидзба и Урал Атыршба сумеют отправить из Турции танкер с горючим. В правительстве тоже не сидели сложа руки и не ждали у моря погоды, а с помощью «толкачей» в российской таможне всеми правдами и неправдами пытались пропихнуть через границу на Псоу бензин и солярку.
Приближалось время обеда, Владислав Ардзинба сложил документы в папку, и здесь раздался звонок из Тбилиси. По ВЧ-связи вышел сам Шеварднадзе. Белый Лис, как всегда, начал издалека, и чем дольше продолжался разговор, тем все более неуютно чувствовал себя Владислав Ардзинба. Последние конфиденциальные договоренности, достигнутые Сократом на встречах в российском МИДе, не составляли для Шеварднадзе секрета. Более того, в Тбилиси знали в деталях об «особых условиях»» пребывания российских пограничников в морских портах Сухума, Очамчыры и на авиабазе в Гудауте. Напрашивался очевидный вывод — произошла банальная утечка информации, а где дали «течь», голову не приходилось ломать. Это был далеко не первый случай, когда грузинская «пятая колонна», окопавшаяся в сталинской высотке на Смоленской площади, подставляла его и друзей Абхазии в российском руководстве.
Шеварднадзе, пользуясь случаем, с убийственной иронией продолжал гвоздить ядовитыми вопросами. Владиславу Ардзинбе нечего было сказать в ответ и оставалось лишь одно — в бессильной ярости скрипеть зубами и изворачиваться, словно уж на сковороде. Белый Лис не упустил возможности продемонстрировать, кто в российском МИДе настоящий хозяин. Этой словесной пытке, казалось, не будет конца, у Ардзинбы иссякло терпение, и он брезгливо швырнул трубку ВЧ-связи на аппарат.
Враги России и Абхазии в очередной раз нанесли коварный удар по его планам. Гнев и возмущение душили президента. Проклиная в душе продажных и беспринципных чиновников, окопавшихся на Смоленской площади, он в ярости закружил по кабинету. Снова зазвонил телефон, на этот раз закрытой внутренней связи. С докладом вышел руководитель Службы государственной безопасности (СГБ), но то ли из-за помех на линии, то ли от волнения временами его голос прерывался, и было отчего. По оперативным каналам в СГБ поступила «убойная» информация, и касалась она ни много ни мало нового командующего российскими миротворческими силами в зоне абхазо-грузинского конфликта.
По данным абхазских контрразведчиков, он возвратился из поездки в Тбилиси не с пустыми руками, а с личным подарком от самого Белого Лиса. Да еще каким — новенькой иномаркой, стоимости которой вполне хватало, чтобы до конца жизни прокормить командующего, а вместе с ним весь штаб, включая вечно ненасытных тыловиков, в московском ресторане «Арагви».
Это сообщение стало последней каплей, переполнившей чашу терпения президента. Дальше спокойно взирать на такое откровенное мздоимство он уже не мог, до продажных московских чиновников было не дотянуться, но командующий российскими миротворцами находился под рукой. Сгорая от праведного гнева, Владислав Ардзинба распорядился немедленно вызвать его на прием.
От комплекса правительственных зданий до объединенного штаба миротворческих сил, располагавшегося на территории военного санатория Московского военного округа, было не более пяти минут езды. Командующий оказался на месте и не заставил себя ждать, вскоре его чеканный шаг зазвучал в коридоре президентского крыла.
Поблескивая надраенными до зеркального блеска ботинками и белозубой улыбкой на загоревшем и сытом лице, он появился на пороге приемной. В новой, еще непривычной для глаз форме, которая пришла на смену старой советской, он скорее походил на натовского, чем российского генерала. Мундир, усыпанный карманами и оловянной мишурой, сверкал, словно рождественская елка, а огромная, с высоко задранной тульей фуражка напоминала летное поле гудаутской авиабазы.
Небрежно поздоровавшись с дожидавшимся приема министром, тот невольно вытянулся в струнку и, не удостоив внимания двух телохранителей, скромно стоявших у окна, генерал бросил нетерпеливый взгляд на начальника секретариата Раису Погорелую. Она приветливо поздоровалась и пригласила занять место на диване. В ответ командующий гневно мотнул головой, да так, что едва не сшиб фуражкой— аэродромом вешалку, остановился посередине приемной и раздраженно буркнул:
— Доложите! У меня нет времени!
— Одну минуточку, — засуетилась под грозным генеральским взглядом Раиса Николаевна и подняла трубку телефона.
Командующий недовольно скрипнул ботинками, презрительным взглядом окатил неловко замявшегося на диване министра и остановился на телохранителях. Их расслабленные позы и мешковато сидящая форма пробудили в его армейской душе праведный гнев, но он так и не успел построить во фронт и подровнять «под линейку» этих полувоенных штафирок. Вовремя вмешалась Раиса Николаевна и пригласила:
— Пожалуйста, заходите! Владислав Григорьевич вас ждет!
Генерал не забыл глянуть в зеркало, видимо, остался доволен своим бравым видом, решительно ухватился за ручку двери и по-хозяйски шагнул в кабинет. Через секунду о нем напоминали лишь резкий запах тройного одеколона и кожи новеньких, накануне полученных со склада ботинок.
В приемной вновь воцарились мир и спокойствие. Телохранители Ибрагим Авидзба и Джон Хутоба вернулись к разговору о прошедших соревнованиях по рукопашному бою. Министр снова почувствовал себя гражданским человеком, присел на краешек дивана и зашуршал бумагами. Раиса Николаевна принялась сортировать документы на доклад, их внушительная стопка занимала половину стола. Благостную тишину нарушали лишь шелест страниц под ее рукой и жужжание старенького вентилятора, но это спокойствие оказалось обманчивым.
Прошла минута-другая — и из кабинета президента донеслись приглушенные дверью возбужденные голоса, быстро перешедшие в такую яростную перепалку, что Раиса Николаевна вынуждена была стыдливо закрыть уши. Министр с головой зарылся в бумаги, а от былой вальяжности телохранителей не осталось и следа. Они бросали тревожные взгляды то на безжизненно молчавший телефон прямой связи с президентом, то на дубовую дверь кабинета, вздувшуюся, как негодная консервная банка, от бушевавших за ней страстей, и нерешительно топтались на месте.
Внезапно крики оборвались. За дверью происходила загадочная возня, потом послышались глухие удары. Раиса Николаевна побледнела и вскочила со стула. Министр остолбенел и растерянно захлопал глазами. Ибрагим с Джоном колебались не больше секунды и, не дожидаясь команды, ринулись спасать президента. Выхватив из кобур пистолеты, они ворвались в кабинет и застыли на пороге с открытыми ртами.
Под ноги, вихляя из стороны в сторону, катилась футбольным мячом фуражка-аэродром генерала. Сам хозяин ушел в глухую оборону. Его голова по самые уши утонула в спинке мягкого кресла, а спина превратились в барабан, на котором рассвирепевший президент отбивал так милый сердцу настоящего военного марш «Прощание славянки» и сопровождал зловещими выкриками:
— Сегодня машину, а завтра родину! Нашел себе друга! Эту продажную сволочь Шеварднадзе!
В ответ доносились лишь всхлипы и сопение. Генерал был сломлен и перестал оказывать сопротивление. Первым из телохранителей дар речи вновь обрел Ибрагим:
— Владислав Григорьевич?! Владислав Григорьевич, нам…
— Что-о?! — бросив на него такой взгляд, что бедняга едва не провалился под пол, президент яростно крикнул: — Вон! Вас кто сюда звал? — и вдогонку проворчал: — Ну что за люди! Поговорить не дадут!
Обескураженные Ибрагим с Джоном как пробки из бутылки вылетели из кабинета в приемную. В ней уже никого не было. Министра словно ветром сдуло, а ошарашенная Раиса Николаевна, как рыба, выброшенная на берег, открытым ртом хватала воздух и двумя руками удерживала дверь в коридор, опасаясь, что там услышат далеко не дипломатическую лексику президента.
Вскоре шум в кабинете стих, но генерал так и не появился в приемной. Ибрагим с Джоном обменялись недоуменными взглядами и, не решаясь снова заглянуть за дверь, напряженно прислушивались к тому, что за ней происходило. Скрип дверцы шкафа и последовавший затем характерный звон стеклянных бокалов заставили их с облегчением выдохнуть. Видимо, яркий и убедительный армейский лексикон президента до глубины души потряс боевого генерала, и назревавший острый «военно-дипломатический конфликт» закончился вполне мирно разговором «по-русски».
Прошло время, и из кабинета уже вместе вышли президент и генерал, их глаза подозрительно блестели, а щеки горели ярким румянцем. Взаимное крепкое рукопожатие лишний раз свидетельствовало о том, что все неясности были улажены и остались позади. Под вой сирены машины ГАИ генерал отправился к себе в штаб.
Владислав Григорьевич, хитровато улыбнувшись каким— то своим мыслям, мимоходом бросив многозначительный взгляд на неловко переминавшихся с ноги на ногу Ибрагима с Джоном и смущенно прятавшую глаза Раису Николаевну, возвратился в кабинет. Она поняла все без слов и, склонившись над списком посетителей президента, принялась звонить, отменяя назначенные встречи. А он прошел к окну, и его взор затерялся в простиравшейся за парком морской дали. Ибрагим с Джоном могли лишь догадываться, о чем думал президент, и, чтобы не мешать, деликатно прикрыли дверь кабинета. Оставшись один, он вернулся к столу и продолжил рассмотрение документов, но работа не пошла. Свинцовым прессом давила усталость, а в висках ломило так, будто на голову надели железный обруч.
Усилием воли президент попытался сосредоточиться, но буквы по-прежнему продолжали плясать перед глазами, а перо цеплялось за каждое слово. Он решил сделать перерыв, вызвал машину и, собрав документы, вышел в приемную. Ибрагим на ходу принял из рук папку, а Джон привычно занял место впереди, и они двинулись на выход. Внизу, у рабочего подъезда, нетерпеливо пофыркивала стареньким двигателем машина. Водитель предупредительно распахнул дверцу, президент сел на заднее сиденье, рядом опустился Ибрагим, а Джон расположился впереди. Жалобно пискнув рессорами под его внушительным весом, «Волга» тронулась с места.
По сторонам, напоминая о недавней войне, мелькали мрачные развалины и унылые, поросшие бурьяном пустыри. Вскоре следы боев стали не так заметны. Природа брала свое и зеленым «бинтом» затягивала на земле рваные рубцы от траншей и воронки — уродливые язвы от разрывов мин и снарядов. Позади остались район маяка, мост через Гумисту, и дорога, описав крутой вираж, пошла на Нижнюю Эшеру.
«Волга» плавно покачивалась на неровностях, и это убаюкивающее движение принесло умиротворение в душу президента. Он расслаблено откинулся на спинку сиденья и потеплевшим взглядом смотрел по сторонам. Ему, в жилах которого текла кровь горца и вечного труженика-крестьянина из древнего абхазского рода Ардзинба, сельские пейзажи за окном, как ничто другое, были близки и дороги.
Здесь, на склонах гор, уходящих «сахарными» вершинами в заоблачную высь, ему были знакомы каждая тропка, каждый ручей и каждый залив. Еще мальчишкой он исходил ближайшие пещеры и руины греческих, римских и абхазских крепостей в поисках древних кладов. Повзрослев, вместе с пастухами поднимался на альпийские луга и ночи напролет просиживал у костра, заслушиваясь легендами и мифами, рожденными человеческим гением на этой божественно прекрасной земле.
Во время учебы на историческом факультете Сухумского государственного пединститута и позже, работая аспирантом, кандидатом, доктором наук на кафедре московского Института востоковедения Академии наук СССР, вместе с Юрием Вороновым и Олегом Бгажбой исходил с научными экспедициями вдоль и поперек заповедные уголки Абхазии. В долинах Дала и Цабала под жгучим солнцем перебросал лопатой тонны закаменевшей, словно цемент, земли, чтобы доказать правителям из Тбилиси историческое право своего народа жить в этих, данных абхазам самим Господом горах.
На альпийских лугах, полыхавших ярким костром разноцветья, крепкая натруженная рука отца научила твердо держать косу. Набитые на ладонях кровавые мозоли от мотыги и топора помогли понять настоящую цену тяжелого и вместе с тем благородного крестьянского труда. Среди привольно раскинувшихся на склонах гор виноградников шершавая ветвь лозы передала ему силу родной земли.
В конце 1980-х, когда для Абхазии и ее народа настал час испытаний, в нем властно заговорила ее могучая и живительная сила. Сытая, благополучная Москва, квартира и замаячившее впереди звание академика в одночасье стали чем-то мелким и незначительным перед той страшной бедой, что обрушилась на родину. Не раздумывая, он бросил все и безоглядно окунулся в «кипящий политический котел», который тогда напоминала Абхазия. Вместе с Юрием Вороновым, Станиславом Лакобой и Сергеем Шамбой в стенах Абхазского парламента в ожесточенной полемике с грузинскими шовинистами они шаг за шагом отвоевывали право абхазского народа писать и говорить на родном языке.
И когда 14 августа 1992 года из Грузии на беззащитные абхазские города и села, подобно волчьим стаям, набросились вооруженные до зубов банды мародеров и убийц, эта Великая Любовь помогла ему и народу не только выстоять, а и совершить, казалось бы, немыслимое и невозможное. Ценой огромных потерь им удалось победить тысячекратно превосходящего врага.
Наконец, 30 сентября 1993 года захватчики трусливо бежали за Ингур, и на землю Абхазии пришла выстраданная, политая кровью и слезами вдов победа. Пьянящий воздух долгожданной свободы кружил головы победителей, но счастье оказалось коротким. Мир жестокой и циничной политики не захотел понять пусть маленький, но требующий уважения к себе народ, не принял принесенные им жертвы и не посчитался с правом говорить на родном языке, быть хозяевами своей земли. Надменно отвернувшись, этот «цивилизованный мир» одним циничным росчерком пера загнал их — победителей в одну «большую зону» за те «преступления», которые они не совершали.
«Железный занавес» опустился на границы Абхазии, и они — абхазы, армяне, русские, греки — в одночасье стали без вины виноватыми. Голод и вопиющая несправедливость костлявой рукой третий год подряд продолжали душить их. Но они по-прежнему верили своему президенту и ни на минуту не сомневались в том, что его не смогут сломить даже самые могущественные враги. Они были убеждены, что он — «наш Владислав» и на этот раз устоит против, казалось бы, всего остального мира и найдет в себе силы и те сокровенные слова, что уже однажды помогли им вместе победить в немыслимо жестокой войне.
И эта их вера в него — «нашего несгибаемого Владислава», помноженная на силу любви к родной земле, обильно политой кровью и соленым потом тысяч ее сынов и дочерей, давала ему силы и укрепляла волю. Он был твердо убежден в том, что рано или поздно добро победит зло, канет в прошлое возведенная абсурдом стена блокады и наконец мир воцарится в многострадальной Абхазии.
Президент затуманенным взглядом скользил по наливающимся новым урожаем полям, а притихшие Ибрагим и Джон время от времени исподволь поглядывали на его ставшее таким по-детски открытым лицо и боялись пошелохнуться. Это были те редкие и счастливые минуты, когда он принадлежал только себе самому, но они, к сожалению, продолжались недолго.
Гул мощных моторов нарушил тишину, и на перекрестке перед въездом в Нижнюю Эшеру им пришлось притормозить. Армейская колонна, поднимая клубы пыли, направлялась в сторону сейсмической лаборатории, охрану которой все еще продолжали нести российские войска. Президент подался вперед и потеплевшим взглядом проводил ее. Прошлые воспоминания ожили в нем.
В те судьбоносные августовские дни 1992-го грузинская танковая группа, прорвав оборону ополченцев, с ходу форсировала Гумисту и вышла на оперативный простор. Всего километр отделял ее от дома, а там была мама. Ракеты, выпущенные звеном вертолетов, прошли мимо, вздыбили бетонный плац сейсмической лаборатории и исклевали осколками стены штаба и центрального корпуса. После следующего залпа запылали жарким костром дома ее сотрудников Калининых и Хачикянов.
Казалось бы, часы Нижней Эшеры, а с ними и судьба матери были сочтены. И здесь произошло то, что вряд ли могло уложиться в паранойных умах грузинских политиканов и вояк. «Окопные» русские офицеры и солдаты, наплевав на нейтралитет своих начальников, руководствуясь совестью и памятью отцов, сорок лет назад плечом к плечу воевавших против общего врага — фашизма, встали в один строй с абхазскими ополченцами и отбили атаку новоявленных нацистов. Ржавый остов одного танка на берегу реки и второго — на обочине дороги напоминали о том бое.
Все следующие тринадцать месяцев войны дом, в котором выросло не одно поколение Ардзинба, был словно заколдован от артиллерии и авиации врага. Об этом спустя четыре года красноречиво напоминали превратившиеся в дырявое решето две соседние трехэтажки, в которых когда-то жили семьи русских военных. Мама, тихая и немногословная, в те роковые часы не дрогнула и сохранила веру в тогда казавшуюся многим немыслимой победу. Несмотря на все уговоры, наотрез отказалась переехать в Гудауту и продолжала здесь держать свой «фронт». И Всевышний, как в награду, все это время хранил ее и Абхазию.
Пыль, поднятая армейской колонной, осела, и президент невольно взмахнул рукой, пытаясь отогнать прошлые тягостные воспоминания. Рев мощных двигателей стих, и ее хвост исчез за металлическими воротами сейсмической лаборатории, больше напоминавшими сито. Водитель прибавил скорость, и тут губы Владислава Григорьевича тронула легкая улыбка, а через мгновение он громко рассмеялся.
Ибрагим с Джоном переглянулись и пытались найти ответ на лице президента. А он продолжал смеяться, и его заразительный смех невольно передался им. Перед глазами всплыла недавняя, потрясающая по своей выразительности сцена совсем недипломатического приема генерала. Их хохот заглушил скрип тормозов и задорный лай Тарзана, бросившегося встречать хозяина.
Владислав Григорьевич легкой походкой, будто и не было груза проблем, направился к крыльцу. Пес, радостно повизгивая, крутился волчком и пытался лизнуть его руку. Потрепав густую холку собаки, он поднялся на террасу. Навстречу вышла жена. Ее внимательный взгляд скользнул по нему, и тень тревоги, в последние годы не покидавшая печальных глаз, исчезла. Чутким женским сердцем по походке и выражению лица она научилась читать мысли мужа. За порогом дома для всех он был «нашим несгибаемым Владиславом», а чего ему это стоило, знали только она и мать. Сегодня выпал тот редкий день, когда президент был просто любящим сыном и мужем.
— Света, как у нас с обедом? Мы проголодались как волки! — бодро произнес он и, подмигнув Ибрагиму с Джоном, шутливо сказал: — Ребята, готовьтесь к бою.
— Спасибо, мы уже поели, — стали отнекиваться они.
— Ничего не знаю! Мне что, одному отбиваться за столом? Никаких «нет», через пять минут жду в столовой. Света, накрывай!
— У меня все готово! — заверила она, возвратилась на кухню, и оттуда донесся веселый звон посуды.
Президент поднялся наверх переодеться, а Ибрагим с Джоном заняли пост в беседке, увитой виноградом. Отсидеться им не удалось, подчиняясь «приказу», они приняли на себя «гастрономический удар» хозяйки. После обеда Владислав Григорьевич отправился в кабинет работать с документами, а они возвратились на пост и, разомлев от жары, по очереди дремали в тени беседки.
Звон цепи и заливистый лай Тарзана заставили их встрепенуться. На террасе показался Владислав Григорьевич и, спустившись во двор, прошел в сарай. Ибрагим с Джоном тоскливо переглянулись, догадавшись, что ждет впереди, и не ошиблись. Во двор он возвратился с мотыгой, садовым секатором и наточенной как бритва косой. Джон с ненавистью покосился на нее. Владислав Григорьевич перехватил его взгляд, лукаво улыбнулся и с иронией спросил:
— Соскучился по ней?
— Вроде нет, Владислав Григорьевич, — вяло ответил Джон.
— Идем, идем! Пора вам, братцы, растрясти бюрократический жирок!
Это предложение у них, до мозга костей горожан, знакомых с сельским хозяйством в основном за столом, не вызвало энтузиазма. В здоровенных лапищах Джона что секатор, что коса могли продержаться не больше часа, и потом после каждой такой «растряски» ему приходилось мотаться по Сухуму в поисках мастера. Для Ибрагима, недавно научившегося отличать фасоль от гороха, а жгучий перец от обыкновенного, эта «битва» за урожай тоже превращалась в нелегкое испытание.
Джону досталась «любимая» коса, и он поднялся в сад, косить траву. Ибрагим, вооружившись мотыгой, пристроился рядом с Владиславом Григорьевичем и принялся рыхлить землю под корнями виноградника. Несмотря на то что день клонился к вечеру, через час он взмок, как мышь, и исподволь бросал на босса тоскливые взгляды. В умелых руках президента секатор порхал, как бабочка над виноградной лозой, и он не думал делать перерыв. Только с наступлением сумерек для Ибрагима и Джона наконец закончилось это «хождение по мукам».
В доме их уже ждал отменный ужин, потом все вместе прошли в гостиную, к телевизору, посмотреть футбольный матч между двумя извечными соперниками — «Спартаком» и ЦСКА. С самого начала игра приняла боевой и бескомпромиссный характер. Атаки, как морские волны, накатывались то на одни, то на другие ворота. Гол назревал, но Ибрагиму с Джоном было не до него, оба сонно клевали в креслах, и здесь жалобным повизгиванием напомнил о себе Тарзан. Подошло время прогулки, Владислав Григорьевич разрывался между тем, что происходило на футбольном поле далекого московского стадиона, и своим любимцем.
— Ребята, у вас нет желания прогуляться с Тарзаном?
Этот вопрос заставил их встрепенуться.
— Есть, Владислав Григорьевич! — в один голос ответили они.
— Только не загуляйте! — пошутил он вслед.
Они спустились во двор. Навстречу, гремя цепью, радостно бросился Тарзан. Ибрагим с ненавистью посмотрел на пса, вместо долгожданного сна ему предстояла беготня по двору. Добряк Джон, у которого здоровья хватало на двоих, сжалился и взял на себя «службу» вместе с псом. Ибрагим благодарно кивнул головой, на заплетающихся ногах поднялся в комнату, без сил рухнул на кровать, и последнее, что он услышал, это был радостный лай Тарзана.
Пробуждение было внезапным. Его трясли, словно перезрелую грушу. Он силился открыть глаза, но веки будто налились свинцом и падали вниз. На него надвинулось бледное, словно полотно, растерянное лицо Джона, и остатки сна сняло как рукой.
— Что случилось, Джон?! — воскликнул он.
— Нам хана! — выдавил тот.
— Что-о?!
Тренированное тело Ибрагима взметнулось над кроватью, руки на лету сдернули со спинки стула автомат. Он приник к простенку, передернул затвор и принялся выискивать врага. Со двора доносились лишь переливы цикад и шорохи снующих в кустах птиц. Наверху, в комнате, где спал президент, мирно тикали напольные часы. С облегчением опустив автомат, он с недоумением посмотрел на Джона, застывшего посередине комнаты живой мишенью, и раздраженно бросил:
— Тебе что, делать нечего, шутник хренов?
— Какие шутки, Ибо! Тарзан пропал! — убито произнес он.
— Как?! — Внутри у Ибрагима все похолодело.
Тарзан был не просто пес — это был подарок близкого президенту друга. От одной только мысли, что он мог попасть под колеса машины или, того хуже, выскочить на минное поле у Гумисты, Ибрагиму стало не по себе. Не сговариваясь, они на цыпочках спустились во двор, на руках выкатили из гаража армейский уазик, толкнули под горку и на ходу заскочили в кабину. До самого рассвета им пришлось колесить по селу, проверять заброшенные дома и сараи, звать загулявшего пса, но тот не отозвался.
Последним местом, которое решили проверить, была бывшая база подготовки олимпийской сборной СССР. По дороге к ней они несколько раз останавливались, Джон выходил из машины и во всю мощь своих безразмерных легких звал Тарзана, но в ответ звучало лишь раскатистое эхо. Пес как сквозь землю провалился, не оказалось его и в олимпийском городке. Там их встретили стаи летучих мышей, расплодившихся в несметных количествах в гигантской чаше бассейна.
В дом они возвратились перед самым рассветом и оставшиеся до подъема президента часы провели как на иголках. Он, как обычно, в половине седьмого появился во дворе бодрый и энергичный, на щеках после крепкого сна играл яркий румянец. Не обратив внимания на вялый ответ, ополоснулся холодной водой и, когда Ибрагим подал полотенце, заметил его убитый вид, насторожился и спросил:
— Ибо, что с тобой?
— Все нормально, Владислав Григорьевич, — уныло ответил он.
Президент перевел взгляд на Джона, тот выглядел не лучше, и в его голосе зазвучала неподдельная тревога:
— Какое нормально? Вы на себя в зеркало смотрели? Как с креста сняли!
— Владислав Григорьевич, я… — слова застряли в горле у Джона.
— Это не он! Это я виноват! — набравшись духа, ответил Ибрагим.
— Виноват? В чем?.. Ничего не пойму! В конце концов, что произошло?! — потерял терпение президент.
— Мы… Я… потерял… — мялся Джон.
— Потерял?.. Что?!
— Мы проверили все! Даже… — Ибрагим ужаснулся от одной мысли, что все то время, когда они с Джоном носились по поселку, президент и его семья оставались без охраны.
— Владислав Григорьевич, это настоящий черт… — бормотал Джон.
— Какой еще черт?! Чего мямлите?! Говорите толком! — вскипел он.
— Потерялся Тарзан! — выдавил из себя Ибрагим.
— Тарзан?! — брови Владислава Григорьевича взлетели вверх и он в сердцах бросил: — Тоже мне защитнички! Сегодня пса проморгали, а завтра меня с Абхазией!
— Владислав Григорьевич, я… мы… — больше у Ибрагима не нашлось слов.
— Обшарили всю округу, — оправдывался Джон.
— Не там шарили! Тоже мне шерлоки холмсы! — с убийственной иронией произнес Владислав Григорьевич и, отшвырнув полотенце в сторону, забрался в уазик и повернул ключ зажигания.
Двигатель сипло всхлипнул. Посрамленные Ибрагим с Джоном переминались с ноги на ногу и не знали, что делать.
— Чего ждете? Я сказал — в машину! — рыкнул на них президент.
— Вам не положено, Владислав Григорьевич! Разрешите мне за руль? — попытался возразить Ибрагим.
— Что-о?! Я кому сказал!
Второй раз ему повторять не пришлось. Телохранители как ошпаренные метнулись к машине, а дальше началось что-то невообразимое. Надежный армейский УАЗ за все время войны не испытал того, что в тот злополучный день ему досталось на горной дороге. В неопытных руках Владислава Григорьевича он вел себя как необъезженный мустанг. Ибрагима и Джона катало по заднему сиденью, будто бильярдные шары. Они уже перестали считать шишки и молились только об одном — чтобы машина не сорвалась в ущелье. Она каким-то чудом держалась на дороге и, смахнув с края обрыва груду щебенки, в очередной раз благополучно ушла с крутого виража.
Президент никуда не сворачивал и вел машину в сторону гор. Справа за кустарником проглянули развалины овчарни. Ибрагим вспомнил, что во время ночных поисков Тарзана они сюда не заезжали, и предложил:
— Владислав Григорьевич, посмотрим там?
— Там место для шакала. Кавказца надо искать в горах! Там он хозяин! — отрезал тот и надавил на педаль газа.
Машина взревела всей мощью двигателя, отчаянно заскребла колесами по каменистой, поросшей травой еле заметной дороге и с трудом взяла крутой подъем. Впереди в полукилометре показалась крыша сторожки пастухов. Ибрагим догадался, куда направлялся Владислав Григорьевич, и в очередной раз поразился его житейской сметке. До нее оставалось не больше сотни метров, когда из кустов выскочил Тарзан и как ни в чем не бывало радостно завилял хвостом.
Счастливый вид пса вызвал у Ибрагима с Джоном такой прилив ненависти, что, не будь рядом хозяина, они бы разорвали его в клочья, но и без них ему перепало. Владислав Григорьевич грозно сверкнул глазами, выскочил из машины, схватил первую попавшуюся под руку палку и огрел загулявшего пса. Тот завертелся волчком и жалобно заскулил.
— Перестань! Пошел в машину! — прикрикнул он и снова взмахнул палкой.
На этот раз Ибрагим с Джоном приготовились получить свою порцию и не сводили глаз с вздувшейся узлами вен руки президента. Палка, просвистев в воздухе, улетела в кусты, а он, все еще кипя от гнева, рыкнул:
— Чего стоите? Пошли в машину!
Напуганные не меньше пса, Ибрагим и Джон первыми втиснулись в уазик. Тарзан, поджав хвост, запрыгнул на переднее сиденье и виновато уронил морду между лап. Президент прошелся по нему испепеляющим взглядом, сел за руль и отпустил тормоза. Машина скатилась с пригорка и, набирая скорость, заплясала на ухабах. До дома никто не проронил ни слова. Там Тарзан, не дожидаясь команды, сполз с сиденья и обреченно поплелся к конуре. Гул УАЗа и суета во дворе подняли на ноги жену. Она вышла на террасу. Мрачные лица мужа и телохранителей ничего хорошего не сулили, и в ее голосе зазвучала тревога:
— Слава, что случилось?!
— Ничего, — отрезал он.
Она с недоумением смотрела то на мужа, то на понурых Ибрагима с Джоном, ничего не могла понять и снова затеребила вопросами:
— Нет, вы что-то скрываете?! Слава, в конце концов, ты можешь ответить?
— Я все сказал! — буркнул он.
— Ребята, может, вы скажете, в чем дело?
Ибрагим с Джоном прятали глаза, боялись открыть рот и косились на Владислава Григорьевича. Тот мрачнее тучи поднялся на террасу и вошел в дом. Жена растерянно пожала плечами и поспешила за ним. Из глубины комнат донеслись их громкие голоса. Появление еще одного свидетеля их позора вогнало Ибрагима и Джона в смертную тоску.
Они, как неприкаянные, шатались по двору, бросали испепеляющие взгляды на забившегося в конуру и боящегося показать нос Тарзана.
В эти минуты на душе Ибрагима было так муторно, как никогда за все годы службы в охране. От унижения и стыда он готов был провалиться сквозь землю. Рука затеребила карманы камуфляжки и опустилась на кобуру.
— Пистолет ищешь? — мрачно обронил Джон.
— Ручку!
— Ручку?.. Зачем?
— Затем! Рапорт писать, — в сердцах бросил Ибрагим.
— На Тарзана?
— Дурак! Увольняюсь!
— Увольняешься?! Ты что?! Из-за какого-то паршивого пса?! — опешил Джон.
— При чем здесь пес! Как в глаза Владиславу Григорьевичу смотреть?
— Ибо, брось! Как-нибудь обойдется, он отходчивый.
— Отходчивый?! Разве в этом дело?! Идиоты мы безмозглые! Всю ночь за псом гонялись, а его одного оставили! А если бы… — казнился Ибрагим.
— Типун тебе на язык! — замахал руками Джон.
— Типун не типун. Какая разница? Хреновые мы телохранители.
— Нет, ты кончай ерунду пороть! Ну залетели! С кем не бывает? Если хочешь знать…
Договорить Джон не успел — на террасе появился Владислав Григорьевич. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке и, пряча глаза, глухо произнес:
— Чего такие невеселые?
— А чему радоваться? Убить нас мало, — с ожесточением произнес Ибрагим.
— Так-таки и убить?
— Простите, Владислав Григорьевич… Сами не знаем, как все вышло, — повинился Джон.
— Обижаетесь на меня?
Вопрос президента остался без ответа. Они опустили глаза к земле. Он прокашлялся и, смущаясь, произнес:
— Да-а. Как-то нехорошо вышло. Извините, что на вас всех собак спустил. С кем не бывает, ну погорячился.
— Какие собаки?! Да нас гнать в шею надо! — в один голос воскликнули Джон с Ибрагимом.
— Прямо-таки в шею? — Лицо президента смягчилось, а в голосе появилась легкая ирония. — А кто тогда служить будет? И потом, где мне таких следопытов найти?
— Какая тут служба, Владислав Григорьевич! Проспал я! — продолжал терзаться Ибрагим.
— Ладно, Ибо, хватит убиваться! Как говорится, служба службой, а завтрак по расписанию, — решил он поставить последнюю точку в этом нелегком для всех разговоре и пригласил к столу.
— Спасибо, мы уже перекусили, — стал отнекиваться Джон.
— Это когда же успели?
— Только что, чурчхелой, — соврал Ибрагим.
— Ничего не знаю! За мной, ребята! — категорически потребовал Владислав Григорьевич.
Им ничего другого не оставалось, как подчиниться, но вместо столовой он прошел в кабинет. Они переглянулись, неуверенно переступили порог и остановились. Президент выдвинул один из ящиков секретера, достал две изящные, инкрустированные позолотой деревянные коробочки и предложил:
— Берите, ребята!
— Как?! Владислав Григорьевич… — опешили они.
— Берите, берите! И забудем, что было. У меня нервы тоже не железные, — смущенно произнес он.
Они оторопело смотрели то на него, то на часы, на которых тонкой вязью было выгравировано: «Уважаемому Владиславу Григорьевичу от президента Республики Адыгея».
Спустя два дня мы с Кавказом сидели у Ибрагима дома и, сгорая от белой зависти, вертели в руках подарок президента, который мог стать предметом первой гордости для самого крутого абхазского коллекционера. Сам он, небрежно развалясь в кресле, с превосходством поглядывал на нас, и в эти минуты его распирало от гордости и банального тщеславия. Но наши недоверчивые взгляды, видимо, не давали покоя и он, горячась, заново переживал перипетии той поистине драматической для него, Джона и пса ночи и снова возвращался к рассказу.
Мы с Кавказом отпускали недвусмысленные намеки на то, что в той запутанной истории с часами «собака зарыта» в другом. Это только распалило нашего друга, и его понесло. В сумбурном и эмоциональном рассказе смешались в одну кучу забавная история с генералом и трагикомические похождения за псом. Мы с Кавказом, схватившись за животы, катались по дивану, а через минуту уже сам Ибрагим заходился от хохота.
И когда смех стих, Кавказ с тонкой иронией подвел своеобразный итог истории с загулявшим псом и потерявшим бдительность генералом. Сводился он к тому, что «борзым» генералам и заплывшим жирком псам время от времени надо давать взбучку, чтобы не теряли нюх и не забывали, кто в доме настоящий хозяин. С таким аргументом ни я, ни Ибрагим не стали спорить, суровая служба Кавказа давала ему на то право.
Ибрагим перешел к очередной истории из жизни телохранителей, но так и не успел начать — в дверях появилась младшая моя дочь Лида. Она привезла с собой из гостиницы профессиональную кинокамеру и стала торопить с поездкой в Мюссеру на «дачу Горбачева». О ней мы оба много слышали и теперь горели желанием посмотреть все своими глазами. Поторапливаемые Лидой, поспешили во двор. Кавказ, взяв на себя роль носильщика, взвалил на плечи сумку, кинокамеру и отнес в машину. Ибрагим занял место за рулем и, едва автомобиль тронулся, тут же утопил педаль газа до пола. Истинный абхазец, он считал ниже своего достоинства ехать меньше ста, и через сорок минут на развилке к Мюссере нас остановил дежурный ГАИ, но, узнав Ибрагима с Кавказом, без разговоров поднял шлагбаум.
До «дачи» оставалось чуть больше тринадцати километров, однако, несмотря на это, впереди нас поджидало нелегкое испытание. Построенная десять лет назад, но так и не ставшая важнейшей государственной дорогой для Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, она за послевоенные годы пришла в негодность, камнепады и оползни превратили ее в трассу для слалома. Ибрагим осторожно объезжал провалы и каменные языки оползней. Местами «мерседес» тащился со скоростью черепахи, и, когда его колеса начинали скрести обочину, за которой на дне ущелья ревела река, наши с Лидой сердца уходили в пятки. Перевели мы дыхание, когда дорога уперлась в стеклянно-бетонный куб — то ли проходную, то ли армейское огневое сооружение. От него в обе стороны, теряясь в густом лесу, уходил высоченный забор из панцирной сетки, за ним темной паутиной проводов угадывалось электрическое заграждение.
Ибрагим остановил машину перед глухими, местами покрытыми ржавчиной воротами и нажал на сигнал, однако никто в этом кажущемся спящим царстве не подавал признаков жизни. Нам надоело ждать и, подстегиваемые любопытством, мы с Лидой вышли из машины, чтобы хоть издали взглянуть на «дачу Горбачева». На центральной аллее, уходящей вглубь субтропического парка, двух боковых и стоянке для машин никого не было. Заповедную тишину нарушали лишь щебет множества птиц и монотонный рокот волн видневшегося вдалеке моря.
Кавказ потерял терпение, решительно направился к проходной и энергично забарабанил в дверь. Гулкое эхо пошло гулять по округе, подняв в воздух стаи птиц, но не пробудило ни одной человеческой души. Мы уже собрались возвратиться к машине, когда на проходной возникло какое— то движение, за мутными стеклами промелькнул размытый силуэт, потом громыхнул засов, и в дверях показалась мрачная, заросшая густой щетиной недовольная физиономия. Я оторопел, и было отчего. Если бы не армейская камуфляжка с сержантскими лычками на погонах и болтавшийся за спиной старой модификации «калаш», то часового «особого объекта» можно было принять за абрека с большой дороги.
Он пробежался по нам недовольным взглядом и спросил:
— Вы кто?
— Свои! — бодро ответил Кавказ.
— Свои? А пропуск есть?
— Какой еще пропуск? Я из охраны президента! — повысил голос Ибрагим.
— И что? На тебе это не написано, — остался невозмутим цербер.
— Как — что?! — Ибрагим зашарил по карманам.
— А то — без звонка Гембера или Емельяныча пропустить не могу.
— Ты че, не понял?! Я тебе русским языком сказал: мы из охраны президента!
— Понял, но без пропуска нельзя, — гнул свое часовой.
— Ибо, не дави, наверное, он нас за шпионов принимает, — попытался свести разговор к шутке Кавказ.
— Шпионы не шпионы, но без пропуска и приказа Гембера не пущу! — уперся цербер, и на его щеках заиграли желваки.
Похоже, наша экскурсия на «дачу Горбачева» закончилась, не успев начаться. Лида заскучала, у меня тоже стало кисло на душе. На выручку пришел опытный Кавказ и пустил в ход испытанное и, как правило, не дающее сбоя оружие — святое для абхаза гостеприимство. Цербер от его красноречия стал таять на глазах. Я воспользовался моментом и тоже применил коварный прием, который пока успешно открывал самые запретные двери в Абхазии. Возвратившись к машине, достал из сумки дежурный экземпляр получившей здесь известность книги «Мое сердце в горах» и в подтверждение наших совсем не шпионских намерений показал часовому.
Яркая обложка, а еще больше фотографии известного в Абхазии политика и историка Станислава Лакобы, писателя Фазиля Искандера привлекли его внимание. Нехитрый прием сработал и на этот раз. Цербер с любопытством зашелестел страницами и на одной, где были фотографии военных лет, задержал внимание. А через мгновение с удивлением воскликнул:
— Так это же мой брат!
— Смотри лучше, может, себя найдешь! — подогрел его хитрющий Кавказ.
— Теперь видишь, какие к тебе люди приехали, — развивал успех Ибрагим, так и не нашедший в своих карманах удостоверения.
— Будешь молодцом, так в следующей книге Николаевич, — и Кавказ кивнул в мою сторону, — обязательно и про тебя напишет.
После такой массированной атаки цербер дрогнул, его лицо смягчилось и он, оправдываясь, зачастил:
— Ребята, я же против вас ничего не имею. Но… Ладно, подождите, я позвоню Аслану!
Мы приободрились и стали прислушиваться к звукам, доносившимся из-за неплотно прикрытой двери дежурки. Мой тренированный слух уловил характерный треск армейского полевого телефона ТА-57, потом послышалась неразборчивая речь. Разговор продолжался не больше минуты, и когда часовой снова появился на крыльце, то мы с Лидой поняли, что и эта «дверь» Абхазии откроется перед нами.
— Подождите немного, подъедет Аслан и все решит, — объявил цербер и снова уткнулся в книгу.
Ждать появления начальника дежурной смены охраны госдачи долго не пришлось. Из глубины парка донесся приглушенный гул мотора, и из-за поворота показался вишневый «жигуленок». Его хозяин — Аслан узнал Ибрагима и после короткого разговора, с кучей оговорок разрешил нам объехать вокруг «дачи», но о том, чтобы зайти в нее, не могло быть и речи. Здесь он оставался непреклонен. Это, конечно, крепко подпортило настроение, так как никакие рассказы Ибрагима с Кавказом не могли заменить то чудо, которое мы с Лидой надеялись увидеть собственными глазами. Тем не менее я не терял надежды и в душе рассчитывал, что в какой-то момент доброе абхазское сердце дрогнет, и не ошибся.
Как только мы втиснулись в «жигули», я решил повторить трюк, только что проделанный с часовым, достал из сумки книгу и положил на видное место. Реакции Аслана не пришлось долго ждать. Раз-другой он бросил на нее любопытный взгляд и уже на первом вираже дороги попался на мою наживку. Не выпуская руля, левой рукой вел машину, а правой перелистывал страницы, пока не зацепился за фотографию с однополчанами. Один из них оказался героем очерка «Молох», и у нас с Асланом завязался оживленный разговор на тему войны.
«Жигуленок» лихо накручивал один за другим крутые повороты, позади остался огромный парк, и после очередного виража мы припарковались на стоянке. От открывшегося вида мы с Лидой потеряли дар речи. За годы путешествий по Абхазии нас трудно было чем-то удивить. Но здесь, на этом крохотном пятачке земли, природа оказалась необыкновенно щедра. Мюссера напоминала забытый и оттого еще более завораживающий своей первозданной красотой рай. Мы не могли сдержать восторга.
Аслан довольно улыбнулся и великодушно разрешил прогуляться, но предупредил:
— Ничего не фотографировать и с дороги не сходить!
— Конечно-конечно! Только одним глазком! — заверили мы с Лидой и поспешили присоединиться к нему.
Дорога, густо усыпанная гигантскими иголками средиземноморских сосен и ливанских кедров, резко пошла вверх. «Дача Горбачева», издалека казавшаяся избушкой на курьих ножках, с каждым новым шагом прорастала из горы и на глазах превращалась в диковинный желто-мраморный замок. Два наземных этажа опоясывала изящная анфилада летних балконов, которые по углам переходили в нечто напоминающее то ли капитанский мостик, то ли сторожевую башню. Слева от главного входа, за рядом кажущихся воздушными египетских колонн и громадными цветными витражами угадывался бассейн. С южной стороны над последним этажом просматривался зимний сад.
Летняя резиденция бывшего генсека ЦК КПСС разительно отличалась от других правительственных дач прошлых вождей — на Холодной речке, в Новом Афоне, Сухуме и Пицунде. Те «осколки советской империи» — серо-зеленые приземистые каменные коробки, затерявшиеся среди скал и прятавшиеся от людского глаза за густой стеной леса, больше напоминали гнезда стервятников. «Дача Горбачева» была открыта солнцу, морю и всем ветрам, она словно бросала вызов им — этим символам той мрачной и жестокой эпохи.
Поднявшись на смотровую площадку, мы с Лидой какое-то время не могли сдвинуться с места, пораженные и очарованные необыкновенной красотой морской бухты и набережной. Аслан, похоже, окончательно проникся к нам доверием, решил сквозь пальцы смотреть на все инструкции и великодушно разрешил зайти внутрь «дачи».
Массивная деревянная дверь легко поддалась одному его нажатию, мы с Лидой, сгорая от нетерпения и любопытства, перешагнули порог. Вслед за нами последовали Ибрагим и Кавказ. Больше часа Аслан, как заправский экскурсовод, водил нас по дворцу последнего советского вождя, который так и не успел «поцарствовать» в нем. Я поражался громадной чудо-люстре, распустившейся над лестничными пролетами диковинным шестиметровым каменным цветком из уральских и алтайских самоцветов. Богатству библиотеки, где за честь почло бы заседать Британское научное королевское общество. Строгой роскоши обеденного зала, за которым не зазорно было бы посидеть самому сэру Артуру и его доблестным рыцарям. Бесчисленным спальням, способным вместить весь гарем турецкого султана Мехмеда Второго.
Все то время, что мы бродили по «даче», меня не покидало грустное чувство. Эти громадные, лишенные человеческого тепла и души залы, мебель, картины, в которые было вложено столько труда и таланта, так никому и не послужили. Эта «дача Горбачева» вольно или невольно стала символом его эпохи — эпохи несбывшихся надежд, горьких разочарований и бесплодно потраченных сил. Покидал я ее со смешанными чувствами, но долго печалиться нам с Лидой не пришлось.
Пока мы восхищались этим последним «осколком советской империи», подчиненные Аслана времени даром не теряли. На улице наши носы уловили аппетитный запах шашлыка, доносившийся с заднего двора. Там весело потрескивал костер, а над ним и наспех сооруженным из досок столом колдовали два бойца из охраны. Несмотря на то что Ибрагим с Кавказом спешили по делам в Гагру, они не смогли устоять под напором Аслана, а мы с Лидой были только рады задержаться в этом земном раю и остались разделить хлеб-соль.
Аслан широким жестом пригласил к «походному столу», разлил по стаканам вино и, как принято в Абхазии, произнес тост за гостей. Мы с Лидой охотно присоединились. Кавказ с Ибрагимом подняли стаканы и, не пригубив, опустили на стол.
— Что, не нравится?! — насторожился Аслан и предложил: — Может, водки?
— Нет! Спасибо, не надо. Мы не пьем, — вежливо отказался Ибрагим.
— Ты меня обижаешь, брат!
— Извини, Аслан, нам нельзя.
— Как это — нельзя?! Болеете, что ли?
— А что, похоже? — попытался свести к шутке Кавказ.
— Тогда я тебя не понимаю! Ты что, не абхаз? — обиделся Аслан и без всякой задней мысли брякнул: — А! Так вы же эти самые… мусульмане! Турки…
И тут моих друзей будто подменили. От былого благодушия не осталось и следа, они вспыхнули как спички. Бедняга Аслан понял, что сморозил страшную глупость, и, съежившись, потерянно бормотал:
— Я, ребята, ничего плохого… Извините, сорвалось…
Но Ибрагима было не остановить, он швырнул на стол вилку и с негодованием воскликнул:
— Ты что несешь! Какие мы турки?! Мы абхазы!..
— Нас сто лет гнобили! Отобрали имена и фамилии. Но мы здесь и говорим по-абхазски! — вторил ему Кавказ.
Мне и Лиде с трудом удалось загасить нелепую ссору. Обед был окончательно испорчен. Ибрагим с Кавказом больше ни к чему не притронулись, торопливо простившись с Асланом и ребятами из охраны, мы возвратились к машине и выехали в Гагру.
Всю обратную дорогу Кавказ с Ибрагимом терзались тем, что о них сказал вслух Аслан. К сожалению, такое случалось нередко, и каждый раз это больно ранило моих друзей. Им и еще сотням других добровольцев, оставшимся после войны в Абхазии, приходилось снова и снова доказывать, что они такие же абхазы, как и те, кто во времена махаджирства не покинул ее.
Суровое прошлое продолжало напоминать о себе и спустя сто с лишним лет все еще разделяло их. Но оно, и я в этом не сомневался, уже не было властно над будущим Ибрагима, Кавказа и другими потомками махаджиров. Я твердо верил в то, что трудную дорогу к самим себе они пройдут вместе и рано или поздно, но перевернут последнюю трагическую страницу в истории Абхазии и ее народа. Недавняя война и не менее жестокие испытания, связанные с пятилетней блокадой, не сломили его. Могучий зов родной земли и любовь к родине были намного сильнее всех предрассудков.
Глава 10
Такого изнурительно жаркого августа в Абхазии давно уже не было. В полдень от палящего солнца на улицах Сухума начинал плавиться асфальт, металлические крыши домов раскалялись, как сковородки, а от обжигающе-горячего воздуха перехватывало дыхание, и потому горожане предпочитали проводить время на берегах Гумисты или на знаменитых песчаных пляжах Агудзеры. В те дни город напоминал одну огромную печь кирпичного завода. Здесь же, на государственной даче президента Республики Абхазия, жара мало ощущалась, знаменитый дендропарк, детище Николая Смецкого, за сто с лишним лет ставший еще одним чудом света, надежно защищал ее от жгучих солнечных лучей, а легкий бриз, потягивавший со стороны моря, приносил с собой бодрящую свежесть и прохладу.
Пошла вторая неделя, как президент Владислав Ардзинба перебрался сюда из городской квартиры. В последнее время его все чаще донимали острые головные боли, временами переходящие в изматывающую не только тело, но и душу слабость. Перемена места сказалась к лучшему, он почувствовал себя гораздо бодрее и с прежней энергией принялся за дела, а их накопилось невпроворот.
Одно из них, и весьма важное, предстояло решать в ближайший час. Посол США в Грузии находился на пути к госдаче, с чем он мог пожаловать, президент мог только догадываться. После провала в Тбилиси «миссии Примакова», пытавшегося вдохнуть новое дыхание в абхазо-грузинские переговоры, зашедшие в тупик, американцы тут же активизировались. В том, что коварный Седой Лис — Шеварднадзе непременно воспользуется визитом посла и постарается разыграть очередную комбинацию на американском и российском политическом поле, сомнений у Владислава Ардзинбы не возникало.
При одном только воспоминании о той роковой поездке в августе 1997 года в Тбилиси его передернуло. За все годы своей бурной политической карьеры в более унизительном положении он еще не бывал. Шеварднадзе ловко переиграл их с Примаковым по всем статьям. Выманив в Тбилиси на «переговоры», попытался предстать в роли «великого и милосердного», а его выставить упрямым и кровожадным вождем «сепаратистов».
В памяти всплыли ее мельчайшие детали. То было время, когда казалось, что вот-вот в переговорах с Тбилиси произойдет прорыв и ему наконец удастся вырвать Абхазию из тисков жесточайшей блокады. Во многом эту надежду питал приход на должность министра иностранных дел России хорошо знакомого по совместной работе в Верховном Совете СССР Евгения Примакова. В отличие от предшественника Андрея Козырева, откровенно смотревшего в рот американцам и бывшему своему шефу Шеварднадзе, новый министр занимал позицию, более отвечавшую национальным интересам России на Кавказе.
Беседа с Примаковым носила доверительный характер, министр не раз вспоминал совместную работу в Верховном Совете СССР и с пониманием отнесся к его позиции по урегулированию абхазо-грузинского конфликта. Прошло всего несколько часов, как закончился разговор, и тут как тут напомнил о себе из Тбилиси Шеварднадзе.
Непревзойденный лицедей, он начал разговор издалека, позволил себе пару шуток, но Владислава Ардзинбу не покидало смутное чувство тревоги. Седой Лис, за спиной которого все явственнее прорезались «уши американцев», не один раз пытавшийся заманить его в политическую ловушку, накануне предстоящей встречи проявил удивительную сговорчивость. Это настораживало, но теплившаяся в глубине души надежда, что такой политический тяжеловес, как Примаков, не позволит водить себя за нос, перевесила все сомнения, и после мучительных размышлений он все-таки вылетел в Москву, а оттуда 14 августа на борту авиалайнера министра иностранных дел России они отправились в Тбилиси.
Столица Грузии встретила безоблачным небом, шикарной ковровой дорожкой и возбужденной толпой корреспондентов, осаждавших со всех сторон трап самолета. Первым с него сошел Примаков и сразу же попал под «обстрел» журналистов.
«Я привез вам Ардзинбу!» — эти первые фразы, сорвавшиеся с губ министра иностранных дел России, прозвучали для президента Абхазии ужаснее пощечины.
Его — руководителя страны, победившей в тяжелейшей войне, представили этой галдящей и нахально ухмыляющейся толпе как какого-то непокорного вассала, доставленного чуть ли не в клетке к трону восточного сатрапа. От возмущения в нем все вскипело, и Примакову стоило немалых усилий, чтобы уговорить спуститься с трапа и отправиться на встречу с Шеварднадзе. Тот приветствовал слащавой улыбкой, но ни она, ни стол, ломившийся от выпивки и закуски, не могли ввести в заблуждение. В горло не лез кусок, который старательно подсовывал хозяин стола, а душу мутило от одной только мысли, что он так легко попался на крючок, ловко подведенный коварным Седым Лисом.
Эти болезненные воспоминания отозвалось острой пульсирующей болью в затылке, а через мгновение в глазах зарябили черные точки. Мучительная слабость, которая после поездки в Тбилиси все чаще напоминала о себе, снова разлилась по телу. Владислав Ардзинба сделал над собой усилие, чтобы перебороть ее и ту неведомую болезнь, что изнутри подтачивала его. Уже не первый месяц врачи пытались докопаться до причины недуга, но пока все их усилия были тщетны.
Невольно в памяти всплыл произошедший накануне поездки в Тбилиси разговор со Станиславом Лакобой. Давний соратник по национально-освободительной борьбе, с которым был съеден не один пуд соли, категорически возражал. Его аргументы вызывали разве что улыбку, богатое воображение историка могло подсказать не только банальную версию с отравлением, а и более изощренные способы и средства, наверняка имевшиеся в арсенале грузинских спецслужб. Тогда он отмахнулся от этих доводов, но Станислав упрямо твердил свое и продолжал возвращаться к истории загадочной смерти первого председателя ЦИК Абхазии Нестора Лакобы в Тбилиси в декабре 1936 года.
Аналогия между ним и Нестором становилась все более уместной и заставляла задуматься. Так же как он с Шеварднадзе сегодня, так и в далеком 1936-м Берия с Лакобой сошлись в смертельной схватке. И в центре ее опять-таки находилась Абхазия. К концу года «хозяин Грузии» неожиданно сменил гнев на милость и проявил удивительное дружелюбие к строптивому председателю ЦИК непокорной автономии: 25 декабря лично позвонил и пригласил не просто на последнее в уходящем году ритуальное заседание ЦК Грузии, а и снизошел до того, что зазвал к себе в гости.
После окончания партийного актива 27 декабря, несмотря на отговорки, Нестор вынужден был уступить личной просьбе матери Берии и приехал к нему в дом. Стол ломился от закуски и лучших грузинских вин, Лаврентий излучал радушие и своей рукой подкладывал в тарелку гостя самые лакомые кусочки рыбы. Затем они отправились в театр, там шла премьера балета «Мзечабуки» («Солнце-юноша»), но вскоре Нестору стало не до того, что происходило на сцене. Перед глазами расплывались разноцветные круги, к горлу подкатывали приступы изматывающей тошноты, и, не дождавшись окончания акта, он отправился в гостиницу. Утром 28 декабря в четыре часа двадцать минут председателя ЦИК Республики Абхазия Нестора Лакобы не стало…
Эти мрачные воспоминания не прибавили настроения Владиславу Ардзинбе. Он зябко повел плечами, усилием воли переборол слабость и вышел на балкон. Его взгляд блуждал в туманной морской дали и словно пытался найти ответы на вопросы, рожденные суровым послевоенным временем и безжалостной к любой слабости политикой.
В эти минуты кортеж посла США в Грузии подъехал к госдаче. Створки ворот распахнулись, и бронированный джип, с трудом вписываясь в крутые повороты дороги, проехал наверх и остановился на смотровой площадке. С нее открывалась захватывающаяся дух панорама сухумской бухты. Но ему было не до красот Абхазии, нетерпеливым взглядом он пробежался вокруг и, не заметив суетящегося Владислава Ардзинбы, нахмурился.
Навстречу неспешно спускался по лестнице худощавый молодой человек в очках, как потом выяснилось, это был помощник президента. Поздоровавшись на отменном английском, он предложил пройти в особняк. Не удостоив его ответом, посол поднялся на крыльцо и там столкнулся с двумя телохранителями, больше походившими на абреков. Под их холодными и прощупывающими взглядами он почувствовал себя неуютно, торопливо проскользнул в дверь и оказался в просторном коридоре. Но гордец Ардзинба даже здесь не посчитал нужным встречать представителя самой могущественной державы, и в душе посла поднялась волна раздражения. Погасив ее, он бросил ледяной взгляд на помощника, тот в вежливом поклоне склонил голову и распахнул дверь в кабинет.
С каменным лицом посол перешагнул порог и оказался в просторной квадратной комнате. После яркого дневного света глаза долго привыкали к царившему в ней полумраку. Владислав Ардзинба занимал место за столом, его лицо скрывалось в тени, и только по характерному медальному профилю американец догадался, кто перед ним. Как ему показалось, лидер абхазов тяжело поднялся из кресла. На этот раз ЦРУ не ошиблось в оценке состояния здоровья президента Абхазии, судя по всему, он действительно был болен. Медленно ступая, Владислав Григорьевич сделал навстречу несколько шагов и остановился.
Молча обменявшись рукопожатиями, они какое-то время прощупывали друг друга испытывающими взглядами. Искушенные в политике, оба умели скрывать свои мысли и чувства, и потому эта «перестрелка» мало что дала. Владислав Ардзинба нахмурил брови, внешний вид посла вызвал в нем волну раздражения. Спортивные кроссовки, линялые джинсы, мятая рубаха и небрежно повязанный галстук говорили о том, что тот, видимо, перепутал техасское ранчо с государственной резиденцией. Ничего не сказав, президент жестом пригласил сесть, а сам занял место за столом.
Посол, как у себя дома, плюхнулся в кресло напротив, закинул ногу на ногу и первым нанес пробный, но болезненный для Владислава Ардзинбы удар. Со скорбным выражением на лице он спросил:
— Как ваше здоровье, господин президент?
Окатив его холодным взглядом, тот сухо произнес:
— Я вас внимательно слушаю.
— Извините, одну минуту, — ответил американец и положил перед собой папку.
Не заглядывая в нее, посол заговорил напористо и энергично. Это был дежурный набор фраз, с которыми в последнее время к руководителю Абхазии обращались западные политики и дипломаты. Прошло несколько минут, и в голосе посла зазвучали непривычно жесткие нотки. Он, уже не смущаясь, говорил об ущербности односторонней ориентации на Москву, недвусмысленно намекал на то, что при нынешнем российском руководстве рассчитывать на смягчение экономической блокады на границе не стоит, а тем более ожидать существенных сдвигов на переговорах с Тбилиси, и призывал к конструктивному сотрудничеству, обещая взамен пролить на разоренную Абхазию долларовый дождь.
Президент молчал и угрюмо смотрел куда-то за спину посла, и эта кажущаяся пассивность вселяла в того все большую уверенность. Увлеченный собственной речью, он уже не сомневался в неотразимости своих аргументов и принялся в такт словам постукивать указательным пальцем по крышке стола. И здесь самоуверенность и нахрап сыграли с ним злую шутку. Мимо его внимания прошли изменения, произошедшие с Владиславом Ардзинбой. Губы президента сошлись в жесткую складку, а уголки бровей взметнулись вверх. Наливаясь гневом, он резко оборвал гремевшую подобно камнепаду речь:
— Достаточно, господин посол! Мне все понятно.
Тот осекся.
Сдерживая душившее его негодование, Владислав Ардзинба с вызовом произнес:
— Вы что, хотите выкрутить нам руки? — и, не дождавшись ответа, решительно заявил: — Не выйдет! Мы вам не банановая республика, а Абхазия! Она была две тысячи лет назад и еще столько же будет!
В глазах посла появился лед, но через мгновение от него не осталось и следа. Опытный дипломат, он умел скрывать свои чувства и, расплывшись в фальшивой улыбке, снисходительно заметил:
— Ну зачем же так, господин президент! Вы историк и не хуже меня знаете, что эмоции в политике плохой советчик.
— Советчик, говорите? Хорошо, что в таком случае посоветуете?
— Давайте будем реалистами, — американец снова перешел в атаку: — За прошедшее после войны время политическая ситуация в Абхазии — я уже не говорю о катастрофическом внутреннем положении — значительно ухудшилась. Ваши надежды на Россию не оправдались и, поверьте мне, вряд ли на этом направлении вас ждет успех.
— Вы так думаете? — с иронией спросил президент.
Но это не смутило посла, он продолжал упорно гнуть свое:
— Не только думаю, а и уверен! Вы стучитесь в ту дверь, которая закрыта! Это не мы, а Россия своей блокадой заставляет абхазский народ терпеть неслыханные лишения, и потому в такой ситуации ваша позиция вызывает у значительной его части не только недоумение, а если говорить прямо, то крайне отрицательное отношение. — Здесь американец сделал многозначительную паузу, стрельнул испытующим взглядом на помрачневшего Владислава Ардзинбу и, не услышав ответа, продолжил: — Господин президент, настало время, когда стоит более внимательно посмотреть в другую сторону и там искать ключ к решению проблемы. Я не сомневаюсь, что у нас вы найдете понимание. Путь Абхазии в цивилизованный мир лежит через Запад.
— Вы хотите сказать — через Грузию?! — В голосе Владислава Ардзинбы зазвучал металл, а в уголках глаз морщинки собрались в тугой узел.
— В общем да! — уклончиво ответил посол и поспешил добавить: — Конечно, при самой широкой автономии для Абхазии и нашей неограниченной экономической помощи. На первом этапе она может составить около двадцати миллионов долларов, но эта цифра, как вы понимаете, далеко не окончательная, если ваш курс будет иметь другой вектор и…
— Курс?! В цивилизованный мир?! — вспыхнул президент и обрушился на американца: — А где был тот цивилизованный мир, когда эти новые фашисты из Тбилиси расстреливали безоружных стариков и детей?! Где был, когда бомбили наши города и села?.. Почему вы молчали, когда эти варвары жгли наши архивы, только чтобы стереть с лица земли даже само упоминание об абхазах?! Где вы все были?.. Я вас спрашиваю — где?!
Кровь прихлынула к лицу посла. Он, как рыба, выброшенная на берег, хватал раскрытым ртом воздух и ничего не мог сказать, а когда пришел в себя, то в нем снова заговорил дипломат.
— Я понимаю вас, господин президент, это была большая трагедия, но пришло новое время, и потому надо смотреть дальше, вперед. Там…
— Вперед?! Куда — снова в Грузию?! Вы хоть понимаете, о чем говорите?! Это равносильно тому, если бы русскому или американскому народу, свернувшему шею фашистам, опять предложили Гитлера с его концлагерями и гестапо! Вы что, это хотите вернуть моему народу?!
— Господин президент! Господин президент! Я совсем другое имел в виду, — растерянно бормотал посол и нервно елозил в кресле.
— Другое?.. — Лицо Владислава Ардзинбы вновь запылало гневом и, не выбирая выражений, он обрушился на него: — Благодетель мне нашелся! Если вы такой знаток Абхазии, то чего в броневике по Сухуму раскатываете? Выйдите на улицу и повторите все это людям, а я посмотрю, что с вами станет!
Американец захлопал глазами, его лицо побагровело, как перезревший помидор, а когда к нему вернулся дар речи, сорвался на визг:
— Жалкие пигмеи! Решили нас запугать?! Меня?! Америку?! Мы только пошевелим одним пальцем — и вы завтра приползете в Тбилиси на коленях! Мы вас…
— Что?! — этот не то рык, не то рев рассвирепевшего президента расплющил американца в кресле, заставил вздрогнуть помощника и напрячься телохранителей.
В следующее мгновение произошло то, что вряд ли когда случалось в современной дипломатической практике. Папка с американскими предложениями взлетела над столом и с оглушительным треском захлопнулась перед носом опешившего посла. Его физиономию перекосило, щеки запылали как от пощечины, он пытался что-то сказать, но следующий удар Владислава Ардзинбы был посильнее апперкота знаменитого Мохаммеда Али.
— Пошел ты… со своими предложениями!!!
Посол хоть и слабо знал русский, но понял все без переводчика и расплылся, как студень. Еще бы, такого дипломатического фиаско в его долгой карьере еще не случалось. Последнее «предложение» президента Ардзинбы херило навсегда не только ее, но и его имя. Отмыться от подобного позора можно было разве что собственным харакири на глазах всего Госдепа США.
Несколько секунд в кабинете царила гнетущая тишина, которую нарушало лишь прерывистое дыхание президента и посла. Они испепеляли друг друга пылающими взглядами, и сколько продолжалась эта молчаливая «перестрелка», не могли сказать ни помощник, ни телохранители, застывшие каменными изваяниями у стен. Первым остыл президент. Посол тоже быстро спустил пар, перспектива политического харакири его явно не устраивала, но как выпутаться из того положения, в которое он сам себя загнал, уже не знал. Все зависело от Владислава Ардзинбы.
Тот нервно повел плечами и не без сарказма спросил:
— Господин посол, надеюсь, что после такого дипломатического разговора воевать не станем?
— Худой мир лучше любой доброй ссоры, — поддержал миролюбивый тон посол.
— Извините, я был слишком резок, — здесь президент сделал паузу, а затем продолжил: — Прошу понять меня правильно, дело вовсе не в упрямом Ардзинбе, а в моем народе, который не только в прошлой войне, но и за свою долгую историю перенес столько страданий, что заслуживает к себе большего уважения. У нас нет вашей военной армады, и потому защищаемся, как можем. Мы с уважением относимся к американскому, русскому и, несмотря на все, грузинскому народу, но и к себе требуем того же. Мы никому не позволим разговаривать с собой свысока и диктовать, как нам жить дальше. Не загоняйте нас туда, откуда нет выхода. Дайте время, и оно все расставит по своим местам. Мы хотим мира, но мира, который нам не диктовали бы из Тбилиси, Вашингтона и даже Москвы. Надеюсь, вы меня понимаете?
— Да, господин президент! — Впервые за время беседы в голосе американца зазвучали человеческие нотки, а в глазах появилось сочувствие. На этот раз он говорил искренне и от души: — Владислав Григорьевич, я понимаю вас и ваше стремление помочь своему народу, но, к сожалению, — и здесь он развел руками, — вы, а тем более я не можем не считаться с жестокими реалиями политики, которая диктует свои правила игры. Я всего лишь чиновник и должен строго следовать им, но вы президент, и у вас есть право выбора. Прощаясь, хотел бы пожелать: смотрите не ошибитесь.
— Не ошибемся! — был категоричен Владислав Ардзинба, он пожал протянутую послом руку и потом еще долго смотрел ему вслед.
Все это время Ибрагим с Джоном боялись пошелохнуться, таким президента им давно не доводилось видеть. Подобное на их памяти было под Ахбюком, когда он поднял в атаку ополченцев, дрогнувших перед бешеным натиском гвардейцев. Спустя годы, когда о том времени напоминали только поросшие травой развалины, президент с прежним неистовством продолжал воевать за нее — за Абхазию. Тяжело вздохнув, он с грустью заметил:
— Да, ребята, на войне бывало полегче. — И, возвратившись к столу, взял пакет с документами и распорядился: — Ибо, это для Сергея Багапша и Сократа Джинджолии, пусть детально проработают вопрос на правительстве и в парламенте и пришлют свои соображения. Да, и еще, не забудь зайти в приемную к Раисе Николаевне и забрать почту.
— Все сделаю, Владислав Григорьевич! — заверил Ибрагим и не мешкая выехал в город.
Через десять минут он был в правительстве и, хотя уже наступило время обеда, застал на местах премьера Сергея Багапша и председателя парламента Сократа Джинджолию. Передав им пакеты, направился в администрацию президента, по пути встретил Кавказа и вместе с ним поднялся в приемную. В ней было непривычно тихо, кроме самой Раисы Погорелой в углу на краешке диванчика скромно занимал место миниатюрный — язык не поворачивается назвать стариком — абхаз.
На вид ему было не больше шестидесяти пяти. Под летней рубашкой, сверкающими снежной белизной брюками, стрелки которых, казалось, резали воздух, угадывалось еще крепкое и жилистое тело. Лишь легкая рябь морщинок, покрывавшая открытый высокий лоб, и седые усы выдавали возраст. Светло-голубые глаза напоминали позднее сентябрьское небо. В них отражалось то же величавое спокойствие, которым, несмотря на неистовые июньские грозы, изнуряющую июльскую жару и свирепые августовские штормы, дышала и манила к себе бесконечная небесная высь над горами.
Старик цепким взглядом прошелся по Ибрагиму с Кавказом, и они склонили головы в уважительном поклоне. Он ответил легким кивком и тут же, словно улитка, замкнулся в себе. Ибрагим прошел к столу, принял у Раисы Николаевны почту для президента. Уложив ее в папку, она поинтересовалась:
— Как Владислав Григорьевич?
— Нормально! Скучать никому не дает! — дипломатично ответил Ибрагим.
— Здесь когда будет?
— Даже не знаю. А что, есть что-то срочное?
— Как сказать, — замялась Раиса Николаевна и, бросив взгляд на старика, пояснила: — У меня, Ибо, к тебе одна небольшая просьба.
— Пожалуйста! — охотно согласился он.
— У Давлета Чантовича Кандалиа личное письмо к президенту, если не затруднит, то передай.
Старик встрепенулся, на удивление легко поднялся с дивана и слегка надтреснутым голосом произнес:
— Оно у меня там! — И поспешил в коридор.
Ибрагим с Кавказом вслед за ним вышли в холл. Давлет Чантович снял с полки холщовую сумку, пошарил в ней, нашел почтовый конверт, достал отпечатанное на пишущей машинке письмо и предложил:
— Можешь почитать, там нет ничего такого!
— Ну что вы!.. Зачем? Это же вы написали президенту! — отказался Ибрагим.
— Да, президенту! Одна надежда на него, что поможет мне и моей старухе! Остальные палец о палец не ударили и одними обещаниями кормят.
— Не волнуйтесь, я все сделаю, — заверил Ибрагим, положил письмо в папку и предложил: — Может, вас домой отвезти?
— Домой, говоришь, сынок? — переспросил Давлет Чантович и с горечью произнес: — Нет его у меня.
— Как это — нет?! — удивился Кавказ.
— А вот так! За свои восемьдесят восемь не заслужил!
— Родственники же остались? — поинтересовался Ибрагим.
— В Мерхеули, и те давно на кладбище лежат.
— Это где родился Берия?! — некстати вспомнил Кавказ про зловещего наркома НКВД и тут же пожалел.
Тихий и благообразный старичок на глазах превратился в клокочущий вулкан. Лицо Давлета Чантовича пошло бурыми пятнами, губы судорожно задергались, и с них в адрес Берии понеслись проклятия:
— Гад! Чтоб ему гореть в аду синим пламенем! Сволочь! Пол-Абхазии в крови утопил! Кровосос хе…в!
Этот взрыв эмоций обессилил старика, и Ибрагим с Кавказом не на шутку переполошились, но он на удивление быстро пришел в себя и зашуршал бумагами в сумке. На стол один за другим ложились пожелтевшие и потерявшие цвет документы: справка об освобождении из казанской спецтюрьмы, прошение о реабилитации, копии писем к маршалу Ворошилову, генеральному прокурору Руденко. И когда уже не осталось свободного места, Давлет Чантович сгреб их в кучку и с ожесточением произнес:
— Вот тут вся моя жизнь! Как в тридцать седьмом заклеймили — «враг народа», так до сих пор отмываюсь! Эти сволочи берии и гоглидзе всю мою жизнь изговняли!
— Неужели сам Берия?! — поразился Ибрагим.
— Если бы он один! Такие твари в те годы как вши плодились! Потом, когда мне «вышку» заменили «четвертаком» и закатали в лагерь под Магадан, я только тем жил, что ждал, когда их, гадов, в распыл пустят. И дождался!
Кавказ с Ибрагимом деликатно молчали, боясь причинить лишнюю боль старику, а тот, оказавшись во власти того жестокого времени, уже не мог остановиться.
— На второй месяц после ареста Берии меня освободили, и я сразу домой. Домой?! — Болезненная гримаса искривила лицо Давлета Чантовича. — От него за семнадцать лет и четыре дня, что меня гноили в лагерях и на пересылках, одно название осталось, — старик снова не удержался от крепкого слова: — Сволочь! Хотел уничтожить даже дух абхазов! Вы только представьте, в сорок третьем, когда немцы брали перевалы у Красной Поляны, а в Псху наши бойцы выбивали их хваленый «Эдельвейс», по приказу Берии мингрельцев переселяли в Абхазию. В Гудауте и Очамчыре, в самом сердце Абхазии, как грибы после дождя вырастали «бериевки» — эти деревянные «курятники». Для самих абхазов, тех, кто не угодил в тюрягу, как я, или не попал на фронт, на запасных путях в Поти и Зугдиди стояли под парами сотни эшелонов.
И тут его маленький сухой кулак обрушился на стол.
— Антихристы! Хотели сгноить абхазов в Сибири, но Господь снова не бросил наш народ и остановил руку Сталина. Хозяин не подписал план Берии о депортации абхазов, наверное, что-то шевельнулось в его каменном сердце. Может, вспомнил, как под Сухумом в девятьсот шестом после налета на пароход «Цесаревич Георгий» прятался от жандармов и полиции в абхазском селе. Да чего сейчас гадать, прошлое не вернуть и не исправить. В общем, в Мерхеули делать мне было нечего, и я рванул в Сухум, а там прямиком попал в МГБ, потом оно стало КГБ.
В те времена таким, как я, без их разрешения даже в сортир нельзя было сходить. Короче, привели меня к полковнику Шелии, плохого про него ничего не могу сказать, понапрасну нашего брата не гнобил и липовых дел не шил. Но все равно поначалу попер на меня: «Ты почему, Кандалиа, из Мерхеули сбежал?!» А я, дурной мой язык, в ответ: «А чего там делать? Один осел остался и тот у армянина Ашота». Как он тут зыркнул — а мне наплевать, надоело бояться, — но орать больше не стал, вызвал подполковника Шенгелию и приказал: «Возьми этого абрека на пару часов и как следует обработай!» От тех слов меня прошиб холодный пот, заныли отбитые почки и заломило в затылке. Грешным делом подумал: «Берию посадили, а в «живодерне» ничего не поменялось».
Вышел из кабинета, иду по коридору, руки по привычке за спину, ног под собою не чую. Опомнился, когда живой и невредимый оказался не в подвале, а на улице. Привел меня Шенгелия в парикмахерскую, что на набережной, сейчас там одни развалины, усадил в кресло и приказал мастеру привести в порядок. Тот с перепугу даже усов не оставил, побрил до самой макушки. Я, конечно, упирался, а Шенгелия мне говорит: «Давлет, какой ты упрямый, лучше бороду потерять, чем голову!»
И вот там, в парикмахерской, я понял. Все, конец их власти! Они, эти шелии и шенгелии, как были, так и остались кровососами, но задницами почувствовали, что, после того как Хозяин коньки отбросил, их время кончилось. Ну а когда шлепнули Берию, то даже последний вертухай на дальней зоне в Магадане допер до этого. По инерции «живодерня» еще продолжала скрежетать и пугать, но в ней не стало главного — смазки — нашей безвинной крови. Раньше за одни те мои слова про армянского осла они бы живьем с меня шкуру содрали, а тут промолчали!
Здесь Давлет Чантович горько улыбнулся и с иронией заметил:
— С тех пор и пошла гулять байка, что в «конторе» нашего брата больше «в расход» не пускают, все патроны при Берии перестреляли. Но стричь всех под одну гребенку тоже будет неправильно, среди них, правда редко, попадались люди. Взять того же Шенгелию, после того как меня «обработали» в парикмахерской, зашли в ресторан «Рица», там хорошо посидели и по-людски поговорили, а когда расходились, он напоследок предупредил: «Ты, Давлет, лучше держи язык за зубами! Сейчас тебя за «осла» не шлепнешь, но жизнь попортить мы еще сможем. Хозяина уже нет, но система еще нас с тобой переживет, и потому твоя правда о Лакобе кой-кому как кость в горле».
Давлет Чантович помолчал немного и снова вернулся к рассказу о том суровом времени:
— Но такими они стали после пятьдесят третьего, а тогда, в тридцать шестом, Берия со своими дружками-энкавэдэшниками Рухадзе, Гоглидзе и братьями Кобуловыми в Тбилиси и Сухуме королями ходили. Еще бы, любого в бараний рог могли согнуть, но Нестор спины перед ними не прогибал, и тогда они обложили его, как медведя в берлоге.
— Лакобу?! Нестора Аполлоновича? — переспросил Кавказ.
— Его самого, — подтвердил Давлет Чантович.
— А вы его знали? — оживился Ибрагим.
— Не только знал, но и работал у него. Сначала дежурным водителем, а потом телохранителем.
— Вот это да! — поразились Ибрагим с Кавказом.
— Жаль, что мало поработал, какой был человек! Он, как сейчас Владислав, за народ готов был жизнь положить! — печально произнес Давлет Чантович и продолжил: — Так вот эти бериевские холуи Рухадзе и Гоглидзе рогом рыли землю, чтобы найти на него компромат. Начало тридцать шестого ничего хорошего Нестору не сулило. Война с ними отнимала все силы, тем более в Москве надеяться было уже не на кого. Сталин после его отказа стать главным палачом — наркомом НКВД перестал даже звонить. А Берия тут как тут — в конце лета стал давить планом «Абхазпереселенстроя»: хотели отправить в Абхазию двадцать тысяч мингрел. Нестор, конечно, встал на дыбы: «Только через мой труп!» Берия тоже закусил удила, я уж думал, что задавят Нестора, но здесь ни с того ни с сего подобрел Сталин, два или три раза, точно сейчас не скажу — столько прошло времени, вызывал Нестора Аполлоновича в Москву. Однажды даже пригласил на Ближнюю дачу, и было это, — Давлет Чантович напряг память, — где-то в двадцатых числах декабря. Я хорошо запомнил ту поездку в Москву. В те дни слишком многое решалось для Абхазии, и Нестор пахал без сна и отдыха, часто говорил по телефону с Серго Орджоникидзе, и тот пробил встречу у Сталина.
В командировку Нестор Аполлонович отправился с легким сердцем, видимо, в глубине души рассчитывал, что в личной беседе с Хозяином сумеет убедить вынести на февральский Пленум ЦК предложение о выводе Абхазии из состава Грузии. В Москве остановились в гостинице «Метрополь», и Нестор сразу же отправился по делам, а я остался в номере — принимал звонки, записки и посетителей. Три дня Нестор крутился как белка в колесе, возвращался поздно страшно усталый, но довольный: встреча со Сталиным и беседы в ЦК укрепляли уверенность в положительном решении вопроса по Абхазии. Перед самым отъездом в номер заглянул Серго с компанией земляков. Все были навеселе, много шутили и говорили, что скоро гадюке Берии вырвут поганое жало, потом дружно поехали на вокзал.
В Сухум Нестор вернулся в приподнятом настроении, перестал обращать внимание на грязную возню Рухадзе и принялся готовить материалы к февральскому Пленуму ЦК. До Нового года оставались считаные дни, в доме уже стояла елка, и тут Берия вызвал его в Тбилиси по каким-то партийным делам. — Здесь Давлет Чантович прервал рассказ и горестно поник.
Кавказ с Ибрагимом хорошо понимали старика, заново переживавшего прошлую трагедию, и не торопили. Собравшись с силами и с трудом находя слова, он продолжил:
— Все было против той поездки! Понимаете, все! Не зря говорят: любящее женское сердце — это вещун. Нестору нездоровилось, простыл в поезде, когда возвращался из Москвы, мог бы остаться и не ехать в Тбилиси. С другой стороны, а что бы это изменило? Наверное, ничего! В те времена если машина НКВД запущена, то ее уже не остановить.
Перед отъездом пришлось заскочить домой за лекарством. Встретили нас Сария с сыном Рауфом, и когда она узнала, что Берия вызывает, даже в лице переменилась. Кинулась к Нестору и стала отговаривать. У того тоже на душе кошки скребли, но он не подавал виду, с тяжелым сердцем простился и поехал на вокзал.
Там, как сейчас, никто из начальства перед ним не расшаркивался, сели в обычный вагон. Проводники подсуетились и принесли чай — наш, абхазский, такого сейчас не найти. Выпили, о жизни поговорили, потом он взял у меня портфель с документами и сел за работу. Что-то писал, зачеркивал и снова писал, похоже, встреча с Берией не давала ему покоя. Легли поздно, я вполглаза спал. Как-никак охрана, по-нынешнему — телохранитель. Нестор над этим частенько посмеивался. Лучше него в Абхазии никто не стрелял: с двадцати шагов с первого выстрела из пятака делал бублик.
Тбилиси встретил нас промозглой погодой и пронизывающим ветром. С вокзала на машине представительства Абхазии проехали в гостиницу «Ориант». Нестор Аполлонович, как обычно, поселился в тридцать первом номере, я занял тридцать второй. По соседству жили работник ЦК Азербайджана Озеров и врач-армянин, помню, что звали Сетрак. Нестор в гостинице не задержался, привел себя в порядок и отправился в ЦК, но не прошло и часа, как вернулся обратно. Заглянул ко мне в номер, на нем лица не было, швырнул папку в угол и распорядился отвезти в дом Рамишвили — был такой театральный деятель — веселый и хлебосольный мужик.
К нашему приезду у него уже собралась компания. Мне сразу не понравилось то, что в ней терлись Гоглидзе и наш Агрба, к тому времени этот змей подколодный перебрался в тбилисское НКВД. Кроме них было еще человек пять, некоторых я встречал в Сухуме, но, кто такие, не знал. Нестор Аполлонович остался, а мне сказал, что позвонит, когда за ним заехать.
Я возвратился в гостиницу и весь вечер провалялся в номере, но так и не дождался звонка. Где-то ближе к десяти привели, а скорее, принесли Нестора двое, наверное, из НКВД, потому что у подъезда стояла машина Гоглидзе. На него страшно было смотреть, весь в грязи и едва мог говорить, ругал кого-то, что долго возили по городу.
— Ясное дело, чтобы яд подействовал, — вспомнил Ибрагим гулявшую по Абхазии версию смерти Лакобы.
— Это я потом понял, — согласился Давлет Чантович и снова возвратился к событиям того трагического вечера: — В номере ему стало совсем худо, я взял на руки, усадил на подоконник и открыл окно — не помогло, стал звать на помощь. Прибежали Озеров с Сетраком, ну тем доктором-армянином, и они тоже ничего не могли сделать. Нестору становилось все хуже, и мы повезли его в больницу. По дороге он, наверное, смерть свою почувствовал, но даже тогда думал не о себе, а об Абхазии и приказал мне, если что с ним случится, чтобы я забрал портфель с документами и любой ценой доставил в Москву. Так и сказал: «Давлет, если жизнь придется положить, то не бойся, за народ ее отдать не страшно!» — И потерял сознание.
Когда подъехали к больнице, в то время она носила имя Камо — был такой боевик, перед революцией вместе со Сталиным в Тифлисе банки как орехи щелкал, — к Нестору вернулось сознание, но поговорить нам не дали. У подъезда поджидал Гоглидзе с оравой энкавэдэшников. Гад! Быстро узнал, в какую больницу едем!
— Следили! — предположил Кавказ.
— Конечно. В те времена, если попал под колпак, то без хвоста никуда! — подтвердил Давлет Чантович и продолжил рассказ: — Занесли мы Нестора Аполлоновича в приемную, но дальше порога меня с Озеровым не пустили, а Сетрак с врачами остался. Энкавэдэшники нас на улицу выгнали, сколько мы там времени протолкались, не скажу — не до того было, за Нестора переживал. Под утро вышел Сетрак, и на его лице все было написано. Нестора не стало!
Тут как тут появился Гоглидзе, увидел меня, подозвал и спрашивает: «Тебе что покойник говорил?!» — а зенками, как рентгеном, просвечивает. Я понял: дело плохо, дураком прикинулся и говорю: «А что, Сергей Арсентьевич, разве покойники разговаривают?» Тот ничего не сказал, зло зыркнул, и на том расстались.
— Это работа Берии! — категорично заявил Кавказ.
— Может, и так. Потом слухи разные ходили. Берия, конечно, сволочь, каких еще свет не видел, но не осел, чтобы глупо подставляться, и грязные дела так обделывал, что потом не подкопаешься. Правда, Бога не обманешь, тот все видит! Свое этот мерзавец получил! — с ожесточением произнес Давлет Чантович и, порывшись в сумке, достал вырезку из газеты «Правда».
За долгие годы она выцвела, а некоторые буквы едва читались. На первой странице крупным шрифтом был набран приговор Верховного Суда СССР Берии и его подручным: Меркулову, Рухадзе и братьям Кобуловым.
Старик потряс ею в воздухе и воскликнул:
— Семнадцать лет я ждал этого! Целых семнадцать!
— Извините, Давлет Чантович, а что стало с портфелем и документами Нестора Аполлоновича? — деликатно напомнил Ибрагим, заинтригованный всей этой историей.
Лицо несчастного человека вновь исказила болезненная гримаса, и он, собравшись с духом, возвратился к воспоминаниям:
— К утру я еле живой добрался до гостиницы, чтобы исполнить его последнюю волю — забрать портфель с документами и отвезти в Москву к Поскребышеву.
— Секретарю Сталина!? — изумился Ибрагим.
— Алексею Иннокентьевичу, ему самому, — подтвердил Давлет Чантович.
— А он что, вас знал?! — не менее Ибрагима был поражен Кавказ.
— Думаю, запомнил, когда отдыхал в Абхазии, я его возил в Новый Афон и на горячий источник в Приморское.
— Вы, наверное, и Сталина знали?! — в один голос воскликнули Кавказ с Ибрагимом.
Откуда?! Я человек маленький, видел всего два раза, да и то от страха толком не успел разглядеть. Первый раз это случилось, когда Хозяин приезжал на госдачу в Сухум, но здесь ему что-то не понравилось, пришлось перебираться под Гагру, на Холодную речку. В тот день основного водителя Нестора — Гриши Амиржанова на месте не оказалось, и вместо него поехал я. Второй раз дело было под Хостой, там у охраны Сталина ЧП случилось.
— Покушение?! — загорелся Кавказ.
— Нет! Охрана «зевнула» Хозяина, и к нему рванула толпа.
— А-а, — потерял Кавказ интерес к этой теме, и вместе с Ибрагимом они снова принялись теребить Давлета Чантовича про портфель Лакобы.
Тот невесело усмехнулся и с сарказмом произнес:
— О чем вы говорите, ребята?! Какой портфель?! Какой Поскребышев?! Я вошел в номер, а там уже трое с квадратными подбородками и оловянными глазами шуровали в ящиках стола и вещах Нестора. Мне даже пикнуть не дали, скрутили, запихнули в машину, привезли во внутреннюю тюрьму и затащили в камеру. Я опомниться не успел, как заявились Рухадзе, Гоглидзе и Меркулов из ЦК Грузии. Посмотрели на меня так, будто я у них последние штаны спер, а потом Рухадзе как обухом по голове: «Говори, мерзавец, что тебе известно про контрреволюционный заговор предателя Лакобы против товарища Сталина и товарища Берии! С кем из контрреволюционеров он встречался в Сухуме и Москве?!» Я чуть с табурета не свалился. Такое сказать про Нестора! Да преданнее советской власти и товарищу Сталину человека не то что в Абхазии — во всей Грузии не было. Подумал, может, мерещится, потом грешным делом посчитал, что гады перепили, у Гоглидзе глаза были красные, как у рака. Но когда Рухадзе пистолетом мне в зубы заехал, тогда дошло, что дело по-серьезному шьют, и решил под простачка косить.
Вроде сошло, бить больше не стали, только на психику давили. Особенно Гоглидзе — весь из себя, с холеной «мандовошкой» под носом — громче всех орал. А я ему: «Сергей Арсентьевич, чего так заходитесь? Вы лучше меня друзей Нестора Аполлоновича знаете. Это вы, а не я к нему в гости захаживали. Я — человек маленький, сказали принести — принес, сказали отвезти — отвез». Он, сволочь, с перепугу аж побелел, когда я его в одну компанию с «врагом народа Лакобой» записал, глаза выкатил и захлопал на Рухадзе. Затихли они, молчу и я, а сам думаю: «Длинный язык — короткая жизнь. Скажи им еще слово — враз запутают. Мало того что сам себе петлю на шее затяну, так еще других за собой потащу». И решил ничего не говорить и ничего не подписывать.
Потом в тюрьме и лагерях не раз убеждался, что правильно сделал. На простых мелочах следователи даже самых умных запутывали и ломали. Особенно интеллигенты легко на этот крючок попадались. Проговорятся, а потом начинают спорить и свое доказывать. Бесполезно, эти гоглидзе и хваты тебя твоими словами и показаниями «свидетелей» так окрутят, что уже деваться некуда. В тот раз они от меня ничего не добились, отправили в камеру и до середины апреля тридцать седьмого не трогали, как будто забыли, зато потом сполна отыгрались.
Давлет Чантович смолк. Даже после стольких лет при одном только воспоминании о тех днях его лицо побледнело, и, с трудом подбирая слова, он произнес:
— Этот конвейер пыток и те нечеловеческие муки, которые пришлось перенести мне и тысячам невинных, невозможно ни забыть, ни вытравить из памяти. Даже сейчас где-то там, в глубине каждой моей клеточки, живут тот ужас и та боль от «бутылочки», когда часами заставляли сидеть на горлышке бутылки, задыхаться в «шкатулке» — шкафу, в котором сутками держали без сна, от «рояля», когда твои пальцы крошили ящиком стола, и прочих изобретений садистов-следователей. Но самым тяжелым и страшным были не страх перед допросом и боль во время пыток, а изматывающее, вытягивающее из тебя все жилы ожидание.
Давлет Чантович зябко повел плечами, как будто ощущая все это сейчас на себе, и продолжил:
— Да-да! Ожидание! Когда заканчивался день, оно становилось невыносимым. После вечерней баланды и отбоя в тюрьме ненадолго наступала тишина, но она не приносила облегчения. Думаете, кто-нибудь мог уснуть? Не верьте тому, кто такое скажет. Брехня! Даже с самыми крепкими нервами не спали, а ждали, когда наступит этот, будь он трижды проклят, час дьявола!
Давно за стенами тюрьмы они, еще не отмеченные печатью «враг народа», спали крепким сном, а тут, в кабинетах следователей и оперов, просыпался сам дьявол и готовился к кровавой пляске. Он и его подручные проверяли, как привинчены к полу табуретки, предусмотрительные были заразы, боялись, что какой-нибудь отчаянный смельчак хватит ею по оловянной башке. Цинично ржали, когда выгребали из шкафа пустые бутылки, выбирая подходящую для будущей «наседки». Всего не перечесть, что рождалось в воспаленном сознании палачей.
Каждый из нас — «врагов народа» — прошел свою дорогу в энкавэдешный ад, но у всех она начиналась глубокой ночью с топота ног конвоя и лязга засова. В тот миг вся тюрьма замирала, и, когда хлопала дверь соседней камеры, предательская слабость разливалась по твоему истерзанному и измученному телу. В ту ночь приходила очередь другого, и гаденькое омерзительное чувство облегчения, что на этот раз пронесло, заглушало в тебе муки совести и сострадания к несчастному соседу…
Давлет Чантович вновь прервал рассказ, отвел глаза в сторону и глухо произнес:
— Не судите меня и тех, кто прошел через мясорубку НКВД. Все мы люди и все хотим жить. Вопрос всегда состоял в цене, а эти мерзавцы: берии, рухадзе, гоглидзе и палачи экземпляром помельче знали, на каких струнах человеческой слабости сыграть, чтобы превратить в безропотное существо. В их дьявольском спектакле все роли были заранее расписаны, и не имело значения, виновен ты или нет, если вписывался в схему очередного «контрреволюционного заговора» или «теракта», то должен «признать свою вину». То, что они творили с нами в тюрьмах и лагерях, для них, как для дровосека рубка леса, охотника — травля зверя, стало обыденным делом. В нем, если можно так сказать, находились и свои непревзойденные «мастера». Душегуб Малюта Скуратов им в подметки не годится.
Один такой мне попался. После того как в Тбилиси им не удалось сломать меня и выбить признание на Нестора, погнали этапом в Москву. Перед отправкой, на последнем допросе Гоглидзе припугнул, что я еще пожалею, когда за меня возьмутся настоящие мастера. Так и сказал: «У них не то что такие, как ты, а даже покойники поют!» Тогда грешным делом подумал, «на понт берет» и страшнее того, что было, вряд ли будет. А оказывается, ошибался, и еще как. Тбилисские палачи перед лубянскими живодерами просто шпана подзаборная.
В Москве со мной долго не церемонились и сразу взяли в оборот. Оно и понятно, камеры ведь не безразмерные, а «фабрика», штамповавшая дела на «врагов народа», не могла допускать простоев. Случилось это на шестой или седьмой день, точно не помню, в тюрьме все дни друг на друга похожи. Привели меня на этот раз в кабинет к следователю Хвату, имя вроде нормальное — Алексей. Другого такого мучителя во всей живодерне НКВД не найти.
Стою возле стены, еле на ногах держусь — на прошлом допросе они перестарались. Наконец он свой ужин закончил, аккуратненько накрыл газеткой «Правда» блюдце с бутербродом, накрахмаленным платочком губки промокнул и настольную лампу в лицо мне ткнул. Долго смотрел в глаза, понял, что разговор с ходу не получится, и решил мой язык как следует «почесать», кивнул головой двум «кочегарам», чтобы они поработали. Те, как роботы, принялись меня по полной программе обхаживать. Хват сначала газетку почитывал, потом надоели мои вопли, поднялся, стал по кабинету прохаживаться и на часы поглядывать. Пытки и те у них по порциям отмерялись. Затем подошел к секретарю и о рыбалке заговорил, дальше ничего не помню, отключился. Ошибочка в их расчетах получилась, то ли не туда ударили, то ли с дозой переборщили, а может, я подвел — слабоват оказался. Очнулся, а перед глазами Хват с газеткой плывет. Услышал мой стон, отложил ее в сторонку, глянул, понял, что толку от меня не будет, и распорядился отправить в камеру. А я, натура моя вредная, говорю: «Алексей Григорьевич, что— то сегодня я у вас мало задержался». Он криво ухмыльнулся и отвечает: «Нехороший ты человек, Кандалиа. Столько времени у занятых людей забрал. Ну ничего, не расстраивайся, завтра всю порцию с лихвой получишь». Вот такие у них «мастера» были. Это сейчас легко говорить, а тогда… — Давлет Чантович поежился. — Нет! Такое невозможно описать и передать даже самыми жуткими словами. Они ничто перед тем, что творилось в кабинетах этих палачей!..
Он смолк, пальцы сжались в кулаки, и слова, тяжелые, как камни, обрушились на Ибрагима с Кавказом.
— Они и сейчас, когда наступает ночь, звучат во мне и терзают! Эти нечеловеческие крики, стоны и мольбы замученных жертв. Хруст сломанных костей и треск рвущейся на куски кожи. Рев, истеричные вопли и мат озверевших от пролитой нами крови мучителей. Монотонная дробь пишущей машинки и тихий шелест накрахмаленной блузки секретаря-машинистки… — И снова голос Давлета Чантовича предательски задрожал. — Если бы только стены тюрем могли заговорить, то это был бы самый страшный рассказ. Об этом писали Солженицын с Шаламовым, и все чистая правда. Но никакие слова не могут передать то, через что прошли мы — живые и мертвые. И если найдется композитор, который сумеет передать те наши немыслимые страдания и ту невыносимую боль, то это будет самая чудовищная музыка, которую когда-либо слышал смертный. Это.
Обессиливший от воспоминаний и переживаний старик уже больше не мог говорить, и Ибрагим с Кавказом, поддерживая его под руки, вывели на улицу и усадили в машину. Ибрагим повернул ключ зажигания и спросил:
— Давлет Чантович, вас куда?
— Тут недалеко, сразу за эстакадой, к высотке, — пояснил он.
— А, я знаю! — вспомнил Кавказ.
— Там живет друг, — пояснил старик.
— Не волнуйтесь, отец, доставим до самого порога! — заверил Ибрагим и тронул машину.
Через пять минут они были на месте. Лифт в доме не работал, и им пришлось пешком подниматься на седьмой этаж. Квартира встретила голыми стенами, и лишь на кухне полупустой холодильник откликнулся на появление гостей голодным клекотом. Давлет Чантович, едва отдышавшись, принялся суетиться, предлагая нехитрые угощения, но Ибрагим с Кавказом, несмотря на его настойчивые уговоры, вежливо отказались, возвратились к машине и отправились на госдачу.
В тот вечер на стол президента Владислава Ардзинбы легло письмо Давлета Чантовича Кандалиа. А Ибрагим, закрученный в водовороте неотложных дел, на время забыл о нем. В воскресенье, когда выдался свободный час, он вспомнил о несчастном старике и решил навестить его. По дороге заехал в магазин и, накупив продуктов, знакомым путем добрался до места.
Давлет Чантович оказался дома, искренне был рад гостю и тут же накрыл на стол. Первый тост он поднял за здоровье президента, а затем рассказал о встрече с ним. Она состоялась на третий день после того, как письмо попало в руки Владислава Ардзинбы.
Ибрагим смотрел на счастливое лицо старика, и на его душе посветлело. Давлет Чантович был счастлив тем, что наконец-то после стольких мытарств получил свой угол. На столе лежал ордер, в котором черным по белому было написано, что он является владельцем половины частного дома в районе городского рынка. Но не столько этот невзрачный клочок бумаги, сколько участие в его судьбе самого президента вернули ему веру в справедливость.
Глава 11
Несмотря на ранний час, в воздухе не ощущалось бодрящей утренней прохлады. Даже легкий морской бриз, потягивавший со стороны моря, был не в силах остудить жар, исходящий от иссушенной небывалой июньской засухой земли и прокаленной солнцем взлетной полосы военного аэродрома в Гудауте. В зыбком мареве застывший на старте неказистый трудяга военный транспортник «Антоша» скорее напоминал какой-то фантастический звездолет, чем самолет. Подчиняясь твердой руке пилота, он, взревев всей мощью своих двигателей, стремительно пронесся по бетонке и взмыл в воздух.
Натужно гудя турбинами и сотрясаясь от бешеной тряски, «Антоша» совершил разворот над долиной и затем, набрав высоту, взял курс на юго-запад. Прошло несколько минут, и Гудаута, широко и привольно раскинувшаяся по побережью лесом многоэтажек, превратилась в хаотичное скопление каменных коробок. Самолет дал крен на крыло, справа в иллюминаторах промелькнула мрачная громада гор, холодно блиставшая вечными ледниками, далеко внизу тонкой жемчужной нитью вспенилась кромка морского прибоя. А еще через мгновение впереди по курсу в голубой дымке проступила вытянувшаяся далеко в море пицундская коса. На ней, подобно драгоценным камням в малахитовом обрамлении знаменитой тисо-самшитовой рощи, тут и там в лучах солнца переливались и сверкали многоцветьем огромных стеклянных витражей корпуса санаториев и пансионатов.
Где-то среди них, под могучими кронами гигантских реликтовых сосен, затерялась печально знаменитая «дача Хрущева». В далеком октябре 1964 года ее стены стали свидетелями крушения одного из самых могущественных советских вождей — Никиты Сергеевича Хрущева. Он, сумевший согнуть в бараний рог «всесоюзного палача» Лаврентия Берию, оставивший отпечаток своего башмака на трибуне ООН и умудрившийся засунуть «ежа в штаны» США — завезти на Кубу ракеты с ядерными боезарядами, банально «прокололся» на товарищах по партии. Они, следуя испытанному и проверенному на собственной шкуре партийному правилу «вовремя сдай ближнего и клюй нижнего», не стали ждать, когда он покажет им свою «кузькину мать».
В то время когда Никита Сергеевич замышлял в Пицунде очередную реформу в партии и стране — от предыдущей ошалевший народ давился в бесконечных голодных хлебных очередях, — «товарищи» решили, пока еще не поздно, поправить «искривленную волюнтаризмом генеральную линию партии». В те промозглые осенние дни 1964 года ЦК КПСС напоминал растревоженный муравейник. В Москве за спиной Хрущева его ближайшие «соратники» Брежнев, Шелепин, Серов и их ближайшие подручные лихорадочно готовили «смещение волюнтариста». Сам он, убаюканный сладкими речами «верного ленинца» Анастаса Микояна, ничего не подозревал и в тиши пицундского парка набрасывал последние тезисы к октябрьскому Пленуму ЦК КПСС. Но они так и остались на бумаге — «товарищи» по партии не стали ждать и «сплавили» Хрущева на пенсию под присмотр КГБ, растить так милую его сердцу «царицу полей» — кукурузу.
В течение двух с лишним десятилетий больше ни один из советских вождей так и не решился появиться в Пицунде. Все они как черт от ладана шарахались от нее. И только первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев отважился «застолбиться» в этом поистине райском уголке Абхазии. Неподалеку от «дачи Хрущева», у поселка Мюссера, на «скромные» членские взносы, естественно не свои, а миллионов рядовых партийцев, он развернул грандиозную стройку. В строжайшей секретности, под присмотром «недремлющего ока» партии — девятого управления КГБ СССР около семисот специально отобранных строителей в 1987 году принялись ударными темпами возводить объект «специального назначения».
За четыре года «стройка века» влетела стране в круглую копеечку, но кто их тогда считал, если речь заходила о здоровье «прораба перестройки» и «генератора нового мышления» — Горбачева. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. Сотни тонн плодороднейшей земли свозились со всей Абхазии, чтобы потом разбить на ней настоящий чудо-парк, перед которым меркла слава знаменитого Сухумского ботанического сада. Как на дрожжах вырастал из земли «дачный домик» первого партийца страны, по сравнению с ним замки английских королей выглядели жалкими лачугами. Лучшие метростроевцы день и ночь долбили скальник, готовя укрытие от бомб и ракет. Но Михаилу Горбачеву так и не удалось обжить ее. Время и история не пощадили и его, в злополучном 1991 году он остался с носом.
Но не повезло не только одному ему — видимо, злой рок витал над госдачами в Абхазии. Они играли просто-таки мистическую роль в судьбах советских вождей.
В 1922 году в стенах правительственной дачи в Сухуме не нашли удачи председатель грозной Всероссийской ЧК «железный» Феликс Дзержинский и «локомотив» советской промышленности Серго Орджоникидзе. Они безнадежно завязли в национальном вопросе, так и не сумев расплести давний абхазо-грузинский узел. Позже, 20 июля 1926 года, после выступления на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) скоропостижно скончался Дзержинский. Ненамного пережил его Орджоникидзе. Он умер загадочной смертью 18 февраля 1937 года.
В январе 1924 года проспал свой звездный час, а вместе с ним и власть над огромной страной, несгибаемый и беспощадный наркомвоенмор Лев Троцкий. Он 16 января 1924 года по настоянию «товарищей» Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе отправился из Москвы в Абхазию, чтобы излечиться от неведомой болезни, внезапно подкосившей его. Среди благоухающих субтропиков Троцкий попал под плотную опеку врачей и председателя Совнаркома Абхазии и друга Сталина — Нестора Лакобы. Убаюканный ими и поддавшись очарованию природы, он на время забыл о политике, но она безжалостно напомнила о себе.
В далекой, стынущей от холода Москве 24 января скончалась икона большевиков — Ленин. Троцкий, забыв о недуге, спешно засобирался на похороны. Но Сталин, проявив «заботу о здоровье пламенного трибуна революции», уговорил его продолжить лечение. В телеграмме Троцкому в Сухум он писал: «Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам по состоянию здоровья необходимо быть в Сухуме. Сталин».
Будущий вождь и отец всех народов банально обвел вокруг пальца Троцкого. Похороны Ленина состоялись в воскресенье. Троцкий, не подозревая обмана, остался в Абхазии. Усилиями врачей и Лакобы лечение затянулось до апреля. За это время в Москве произошли события, повлиявшие не только на жизнь Троцкого, но и на будущее самой страны.
Воспользовавшись отсутствием в Москве основного конкурента на высшую власть, Сталин, Дзержинский, Оржоникидзе и их сторонники переиграли по всем статьям растерявшихся «троцкистов». Позже, в далекой Мексике, скрываясь от Сталина и летучих групп боевиков-ликвидаторов, Троцкий, вспоминая о тех событиях, писал: «Заговорщики обманули меня. Они правильно все рассчитали, что мне и в голову не придет проверять их, что похороны Ленина состоятся не в субботу 26 января, как телеграфировал мне в Сухум Сталин, а 27 января. Я не успевал приехать в Москву в субботу и решил остаться. Они выиграли темп».
И как знать, окажись Троцкий в те дни в столице, возможно, сегодня мы жили бы в другом государстве. В январе 1924 года Сталин выиграл не только темп, но и власть, которая позволила ему спустя годы за тысячи километров от Москвы найти и уничтожить своего заклятого врага и соперника в борьбе за лавры триумфатора и право называться вождем мирового пролетариата. Агент — боевик НКВД Рамон Меркадер, выполняя личное задание Сталина, 20 августа 1940 года проник на виллу Троцкого в пригороде Мехико и ледорубом раскроил ему череп.
Последующим хозяевам сухумской госдачи повезло не больше, чем Троцкому. Нестор Лакоба, как утверждает известный абхазский историк Станислав Лакоба, 27 декабря 1936 года был отравлен за ужином в доме Лаврентия Берии. Спустя семнадцать лет смерть настигла и самого отравителя — 23 декабря 1953 года пуля из пистолета генерала Павла Батицкого поставила окончательную точку в затянувшейся карьере «всесоюзного палача» и «врага Коммунистической партии и советского народа, английского шпиона» — Берии.
На фоне их судеб настоящим счастливчиком мог считать себя бывший член Политбюро ЦК КПСС, бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Он 14 августа 1992 года возглавил «крестовый поход» против взбунтовавшейся Абхазии. Началась беспрецедентная по своей жестокости грузиноабхазская война. Она шла с переменным успехом, и, когда чаша весов стала клониться в пользу абхазов, Шеварднадзе летом 1993 года прибыл на театр военных действий. В качестве своей штаб-квартиры он избрал сухумскую госдачу, но это ему не помогло. Абхазы, завладев господствующими высотами над Сухумом, начали решительный штурм города. Кольцо окружения неумолимо сжималось вокруг захватчиков, передовые отряды абхазских войск вышли на расстояние прямого выстрела к госдаче. Судьба Шеварднадзе, казалось бы, была решена. Но не зря на Кавказе ему дали кличку Белый Лис. Он 27 сентября 1 993 года, воспользовавшись паузой в боях, переоделся в форму российского полковника — десантника и под видом раненого сумел улизнуть от групп захвата Кавказа Атыршбы и Гембера Ардзинбы.
Много еще чего интересного могли рассказать стены бывших госдач, но члены абхазской делегации, прильнувшие к иллюминаторам, вряд ли думали об этом, их куда больше занимали другие вопросы. Это был первый зарубежный визит в таком представительном составе: президент Владислав Ардзинба, премьер Сергей Багапш, министр иностранных дел Сергей Шамба, глава старейшин Абхазии Павел Ардзинба, депутат Вячеслав Цугба, главный редактор ведущей газеты «Республика Абхазия» Виталий Чамагуа, глава Сухумского района Лев Ардзинба и другие. И не просто визит, а визит в Турцию, где им предстояла встреча с потомками-махаджирами.
Долгая и кровопролитная Кавказская война прошлого века заставила десятки тысяч абхазов искать спасения в Турции. В 1917 году после революции в России для них забрезжил слабый луч надежды, но тут же и погас. В 1918-м Грузия оккупировала Абхазию, а спустя три года на смену меньшевистскому режиму пришел большевистский, и снова на целых семьдесят лет «железный занавес» отгородил абхазов от их братьев — махаджиров. Поэтому вольно или невольно сейчас, когда до Стамбула оставалось всего несколько часов лета, все они — от президента до немногочисленной охраны в лице Гембера Ардзинбы и Ибрагима Авидзбы — задавались одними и теми же вопросами: кого они встретят на турецкой земле — братьев по духу и крови или праздных зевак, пришедших поглазеть на них из любопытства, а может быть, их ждет холодное равнодушие?
Предстоящая встреча должна была дать ответы на эти вопросы, а пока абхазской делегации приходилось бороться с ужасной болтанкой. Самолет попал в зону воздушных завихрений, и его, словно щепку на морской волне, кидало из стороны в сторону. Выход из ситуации нашли быстро. Практичный глава администрации Сухумского района поднялся на борт не с пустыми руками, и обжигающая горло чача вскоре привела абхазскую делегацию в равновесие с капризной природой. Качка прекратилась, и уже до самого Стамбула никто не замечал каких-либо неудобств. Но при заходе на посадку им поневоле пришлось освоить навыки десантников, чтобы усидеть на местах. На удивление не то что никто не выпал из кресла, но даже чача не расплескалась. После приземления самолет подкатил вплотную к пассажирскому терминалу, и они, сгорая от нетерпения и любопытства, прильнули к иллюминаторам.
На летном поле царила нервная суета. Несколько человек раскатывали красную ковровую дорожку к боковому выходу из самолета. Наземные техники безуспешно пытались пристроить к нему трап, но крепления не подходили. Кто-то из абхазской делегации не удержался и пошутил:
— К нашему абхазскому самолету не так просто подобраться!
Веселый смех прокатился по салону, и снова все внимание было приковано к тому, что происходило на летном поле. На нем появилась группа людей и уверенно направилась к самолету.
— Ирфан Аргун! — первым узнал его среди встречающих Сергей Шамба.
— Гюндуз Геч!
— Джемал Эти!
— А вон и наш Вова Авидзба!
— Смотрите, здесь даже Зураб Лакербая, — заговорили наперебой члены абхазской делегации.
В это время из пилотской кабины вышел командир и, неловко помявшись, сказал:
— Владислав Григорьевич, с выходом проблема — их трап к нашему борту не подходит.
Президент, недолго думая, ответил:
— Но прыгать, как козы, мы не станем! Несолидно! Так ведь, командир?
— Я не дипломат, а военный, — уклончиво ответил тот.
— Самолет для десантников?
— Да!
— А у нас тоже десант, только мирный и братский, поэтому выйдем, как десантники! Ты меня понял, командир?
— Есть, товарищ президент! — оживился летчик и исчез в кабине.
Через мгновение корпус самолета вздрогнул, массивная крышка грузового люка поползла вниз и, громыхнув о бетонку, опустилась на летное поле. Встречающие оторопело смотрели на происходящее, по-видимому, ожидая появления танка или минимум бэтээра. Первым сообразил, в чем дело, Владимир Авидзба и что-то крикнул рабочим. Те, ухватившись за ковровую дорожку, принялись перетаскивать ее к новому месту. Но Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Сергей Шамба, а вместе с ними и остальные члены абхазской делегации успели «десантироваться» на турецкую землю и тут же попали в крепкие объятия. Через зал для VIP-персон они вышли из аэровокзала и были оглушены пронзительными гудками автомобильных клаксонов и свистками полицейских. Вся площадь и прилегающие к ней подъезды были забиты людьми и машинами. Невообразимый шум, стоявший вокруг, заглушал рев двигателей взлетающих и заходящих на посадку самолетов.
— Ну и попали мы! — воскликнул кто-то из абхазской делегации.
— Может, нас встречают? — прозвучало чье-то робкое предположение.
— Похоже на забастовку! — не согласились с ним.
— Скорее, это с Оджаланом связано, — проявил завидную информированность Виталий Чамагуа.
— Точно! Вчера в новостях передавали, что его захватили где-то в Эфиопии и сегодня должны привезти в Турцию, — поддержал кто-то главного редактора газеты «Республика Абхазия».
— Совершенно верно! — подтвердил Ирфан Аргун. — Долго за ним охотились. Теперь курдским боевикам туго придется, — а затем, широко улыбнувшись, продолжил: — Все, что сейчас здесь происходит, к нему никакого отношения не имеет.
То, что это так на самом деле, Владислав Ардзинба и его соратники смогли убедиться сами. Рослые парни-махаджиры из охраны расступились, и они оказались перед огромной толпой. А в следующее мгновение она взорвалась оглушительными криками:
— Абхазия! Абхазия!
— Владислав! Владислав!
— Мы братья! Мы братья!
— Мы с вами! Мы с вами!
Перед делегацией плескалось бескрайнее людское море, а над ним волнами колыхались сотни национальных флагов Абхазии и портретов, с которых где сурово, а где приветливо смотрел президент Владислав Ардзинба. Сам он, Сергей Багапш, Сергей Шамба и остальные с трудом сдерживали готовые вот-вот навернуться на глаза слезы радости и восторга. Наконец произошло то, о чем многие годы мечтали их предки. Владислав Ардзинба и его соратники чувствовали себя такими же счастливыми, как и тогда — 30 сентября 1993 года, когда последний оккупант покинул землю Абхазии и она наконец стала свободной.
В эти минуты всеобщего торжества лишь представитель Эдуарда Шеварднадзе Зураб Лакербая, который в последние годы делал все, что было в его силах, чтобы сблизить позиции грузинской и абхазской сторон, сохранил на лице кислую маску.
— Что с тобой, Зураб? — поинтересовался Виталий Чамагуа.
— Вас встречают как победителей! — уныло заметил тот.
— И что?
— А грузинскую делегацию не пришла встречать ни одна собака! — в сердцах произнес он.
Дальше поговорить им не удалось, натиск толпы усилился, и абхазской делегации, чтобы не быть задушенной в объятиях, пришлось искать спасения в машинах. Кавалькада из десятка «мерседесов» под нескончаемые приветствия и овации с трудом пробилась на выезд и в сопровождении полицейского эскорта направилась в Стамбул. Вслед за ней устремилась автомобильная армада, сотрясая воздух выстрелами и ревом клаксонов. Обычно неумолимая и суровая к нарушителям турецкая полиция на этот раз была благосклонной.
— Ну, все как у нас! — не преминул пошутить Владислав Ардзинба.
— Как будто из дома не уезжали, — согласился с ним Сергей Шамба.
И в этом оба были совершенно правы. Потом в течение тех дней, что абхазская делегация находилась в Турции, — будь то фешенебельный отель «Хилтон» или обыкновенный сельский дом, встречи с министрами или простыми крестьянами, — их везде встречали с необыкновенным радушием и теплотой. К своему изумлению здесь, в Турции, они заново открывали ту патриархальную и самобытную Абхазию, рассказы о которой слышали от своих дедов и прадедов. Это было поистине настоящим чудом, как вдали от исторической родины они — махаджиры — сумели даже в мелочах сохранить уклад жизни мудрых предков. Годы революции и войны оказались бессильны перед великим духом нации. Сердце Абхазии продолжало биться в горах Болу и Сакарии. Порой Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Сергей Шамба и их соратники терялись и не могли понять, где они находятся — в Эшерах, Джегерде или Дюздже и Энегеле.
Визит абхазской делегации в Турцию не остался незамеченным. Ни один выпуск вечерних новостей не обходился без сообщений о нем. Газеты пестрели портретами Владислава Ардзинбы, Сергея Багапша, Сергея Шамбы и Павла Ардзинбы. Их появление на улицах Стамбула каждый раз превращалось в небольшой митинг или импровизированную пресс-конференцию. С особым ревностным вниманием за визитом наблюдала грузинская сторона и, чтобы испортить его, всякий раз не упускала возможности подпустить яду. Поэтому заключительная пресс-конференция, которую проводила абхазская делегация, вызвала небывалый ажиотаж.
Задолго до ее начала просторный зал отеля «Джамахир» не смог вместить все желающих. Свободных мест не осталось даже в проходах. В глаза бросалось большое количество грузинских журналистов. Пожалуй, впервые после войны у них появилась возможность напрямую «атаковать» президента Абазии, и они постарались сполна использовать ее. Не успели еще руководители абхазской делегации занять места за столом, как на них обрушился град вопросов. Грузинские журналисты били в самое больное место — по проблеме беженцев и, особо не стесняясь в выражениях, хлестали наотмашь. В адрес Владислава Ардзинбы, Сергея Багапша и Сергея Шамбы звучали обвинения в геноциде, нарушениях прав человека и во всех остальных смертных грехах.
Владислав Ардзинба, подождав, когда гневный запал угаснет, пододвинул к себе микрофон и заговорил спокойным тоном:
— Да, проблема беженцев существует! Это серьезная проблема, и ее надо решать, но взвешенно и поэтапно. Наши предложения хорошо известны: тем, кто запятнал себя военными преступлениями, нет места на нашей земле! Я повторяю — на нашей земле!
— На какой это — вашей земле?! — раздался возмущенный возглас.
И молодая журналистка, пылая гневом, заявила:
— Да как вы можете так говорить?! Это наша общая земля! Мы — один братский народ, а вы такими заявлениями его только разделяете!
Дальше ее слова потонули в гуле одобрительных восклицаний грузинских журналистов. Владислав Ардзинба гневно сверкнул взглядом, но сдержался. О том, какие им владели чувства, могли догадаться лишь те, кто его хорошо знал. Уголки бровей Владислава Григорьевича несколько раз взлетели и опустились, прошла секунда, за ней другая, суровая складка на лице разгладилась, и, когда шум в зале стих, он продолжил.
На этот раз президент заговорил на абхазском языке. Сергей Багапш и Сергей Шамба недоуменно переглянулись. Но еще большее удивление его речь вызвала у грузинских и немногочисленных русских журналистов. Они зашушукались, а Владислав Ардзинба как ни в чем не бывало продолжал говорить. Грузинская журналистка растерянным взглядом пробежалась по залу, смышленые догадались, в чем дело, и уже не скрывали насмешливых улыбок. Она же, с трудом сдерживая себя, процедила:
— Я так и не услышала ответ на мой вопрос.
— Разве? — с наигранным изумлением произнес президент и, обратившись к Сергею Багапшу и Сергею Шамбе, переспросил: — Я, кажется, достаточно понятно все сказал?
— Да! — подтвердили они и не смогли сдержать улыбки.
Это еще больше распалило журналистку. Она обожгла их ненавидящим взглядом и потребовала:
— Я хочу услышать ответ по-русски!
— А чем вас не устраивает на абхазском? — поинтересовался Сергей Шамба.
От ярости и злости у журналистки не хватало слов. За нее ответил Владислав Ардзинба:
— Так что же это у нас с вами получается? — И здесь он развел руками. — Если мы друг друга не понимаем, то о каком одном народе вы говорите? Может, о турках-месхетинцах, которых товарищи Сталин и Берия сослали в Среднюю Азию, а сегодня другой, правда уже бывший товарищ, — Шеварднадзе не пускает на родные земли. Молчите? Так вот я вам скажу: нам такое родство и даром не надо!
В зале еще долго звучал смех, а посрамленная журналистка поспешила затеряться за спинами коллег. Пресс-конференция продолжилась. Бородатый журналист с характерным акцентом повторил прежний вопрос:
— Господин президент, все-таки хотелось бы узнать ваше мнение по проблеме беженцев — это первое. И второе — чем объясняется столь жесткий подход абхазской стороны к процедуре их возвращения?
Ответ не заставил себя ждать. Он был быстрым и хлестким:
— Если вы имеете в виду так называемых беженцев, которые, не дожидаясь нашего прихода, вместе с мародерами бежали за Ингур, то это лучше спросить у них самих, почему они не желают пройти вполне оправданную в таких случаях поверку. Если на них нет вины, то ради бога — пусть возвращаются.
— Господин президент, тем самым вы хотите сказать, что, если сегодня несколько сот тысяч не могут вернуться к себе в Абхазию, это значит, что все они совершили преступление? — прозвучал вопрос из задних рядов.
— Нет, это сказали вы! — мгновенно парировал Владислав Ардзинба. — А что касается их числа, то это далеко не так.
— Ну почему же? Цифры, а их подтверждает и комиссия ООН, говорят сами за себя!
— Какие?! Те, что приводятся представителями Грузии? Так это откровенная ложь! — В голосе президента зазвучали гневные нотки. — Они, спекулируя цифрами, умышленно вводят в заблуждение мировое сообщество. Триста тысяч беженцев — это блеф! Не мне вам говорить, что еще совсем недавно, в советские времена, тбилисские чиновники были общепризнанными мастерами приписки. Как говорится, старая школа.
— Но если вы не верите их данным, тогда назовите свои!
— Хорошо! Обратимся к независимому источнику — последней всесоюзной переписи. Согласно ей, в Абхазии накануне агрессии насчитывалось около двухсот сорока тысяч грузин, но никак не триста. Сегодня в Гальском районе проживает более пятидесяти тысяч и на остальной территории — еще тридцать. Как видите, интересная получается арифметика у грузинского руководства. Поэтому мне остается сказать только одно: этим «счетоводам из Тбилиси» нечего искать соринку в чужом глазу, а лучше разобраться с бревном в собственном — речь о миллионе их сограждан, которые, спасаясь, вынуждены бежать в Россию.
За этим последовали и другие острые вопросы, но постепенно Владиславу Ардзинбе, Сергею Шамбе и Сергею Багапшу удалось погасить накаленную атмосферу в зале. Телохранители Гембер Ардзинба и Ибрагим Авидзба, все это время сидевшие словно на раскаленной сковородке, в ожидании провокации наконец-то смогли слегка расслабиться. Закончилась пресс-конференция под аплодисменты. После нее абхазская делегация возвратилась в отель «Хилтон», где гостеприимные хозяева организовали заключительный банкет. Но не обилие изысканных блюд на столах для них, явно неизбалованных в блокаде, стало главным сюрпризом. Здесь, в самом сердце Стамбула, казалось, собрался весь многонациональный Кавказ. Убыхи, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги съехались со всех концов Турции, чтобы увидеть и услышать посланцев с далекой родины, с которыми они связывали надежду на то, что рано или поздно канут в прошлое пока еще разделяющие их границы.
За все время своего существования стены банкетного зала отеля «Хилтон» вряд ли когда слышали такое богатое многоголосье. Абхазскую песню сменяла кабардинская, когда она заканчивалась, ее подхватывали адыгейцы, затем к ним присоединялись убыхи и шапсуги. И было не важно, что пели они на разных языках. В них пела сама душа. Она пела о трепетной любви к родной земле, память о которой не могли стереть ни время, ни расстояния.
На смену песням пришли танцы. Зажигательная мелодия абхазского танца заставила приплясывать за столом даже седовласого Павла Ардзинбу. Не устоял перед ней и президент и вышел в круг. Юная Юшим, подобно легкокрылой горлице, закружила перед ним. А он, гордо приподняв голову и расправив плечи, легко и непринужденно двигался по залу в такт музыке и движениям девушки. И пусть ему было далеко до Чепика и Вахи из знаменитого «Шаратына», его танец с Юшим вызвал дружные аплодисменты.
Вечер продолжался, танец сменяла песня. Уже давно перевалило за полночь, и только усталость заставила гостей и хозяев разойтись. Ибрагим Авидзба, все эти дни безотлучно находившийся рядом с президентом и одновременно исполнявший обязанности телохранителя, переводчика и гида, воспользовался его разрешением и, не заходя в номер, поспешил домой.
Там, несмотря на поздний час, его с нетерпением ждали. Последний раз он виделся с матерью и сестрой полтора года назад, и потому до самого утра они провели время в разговорах. Потом после короткого сна, наскоро перекусив, он отправился в город. Ноги сами привели в волейбольный клуб «ДЭСЭИ». За шесть лет здесь многое изменилось. О прошлой беззаботной юности и позабытом любимом волейболе ему напоминали поблекшие от времени фотографии на стендах и нестареющий тренер Айдин. Тот по-прежнему жил одним волейболом и с гордостью рассказал о своих учениках, делах клуба и планах на будущее. Ибрагим слушал и не находил себе места в его планах. Не без грусти простившись с Айдином, он еще долго бродил по улицам Стамбула, пока неожиданно не встретился с тем, кого меньше всего рассчитывал увидеть здесь.
Это не могло быть ошибкой — выразительный профиль и характерная посадка головы не оставляли сомнений, и он окликнул:
— Гум?!
Тот обернулся и застыл в изумлении. В первое мгновение оба растерялись, не могли найти нужных слов и с жадным любопытством разглядывали друг друга. Прошло почти шесть лет с того дня, как они расстались на пограничном переходе на реке Псоу. Ибрагим отметил про себя, что с тех пор старый друг сильно изменился. Рубашка с трудом сходилась на раздавшейся груди. Лицо округлилось, а в глазах уже не было того юношеского задора. О прошлом военном лихолетье, через которое им пришлось пройти в Абхазии, напоминали лишь ранняя седина на висках и рубец на шее Гума.
— А я думал, ты в Англии! — воскликнул Ибрагим.
— Был, а теперь здесь! — обрадовался встрече Гум.
Подчиняясь порыву, они бросились навстречу и, тиская друг друга в объятиях, повторяли:
— Как ты?
— А ты как?
— Выглядишь молодцом!
— Ты тоже!
И когда схлынули радостные эмоции, Гум предложил:
— Может, куда-нибудь зайдем и поговорим?
— Конечно! — охотно согласился Ибрагим.
Подходящее место им не пришлось долго искать. Они зашли в первый попавшийся на пути бар и заняли столик в углу, подальше от шумной компании. Гум щедро пробежался по меню, но Ибрагим выбрал искандер-кебаб, баклава-хавуч и кофе. Пока официант занимался заказом, старые друзья вспоминали прошлое.
— Ты как тогда добрался? — поинтересовался Ибрагим.
— Можно сказать, что нормально, — не стал вдаться в подробности своего возвращения в Турцию Гум.
— А контузия прошла?
— В первое время пришлось помучиться, и если бы не профессор Бехчели, то не знаю, чем бы все закончилось. А так все о'кей, успел даже закончить университет.
— В Лондоне?
— Да.
— А Эндер, как он?
— В Англии остался. Но я с ним давно не встречался, — поспешил свернуть разговор о нем Гум и в свою очередь поинтересовался: — Как наши ребята: Кавказ, Окан, Эракан, Мухарем?
— Живы и здоровы. Кавказ и Окан сейчас здесь.
— Да?! А я и не знал!
— В Трабзоне. Скоро должны подъехать.
— Значит, встретимся! — оживился Гум. — А как дела у Мухи?
— У него свой бизнес. Занялся углем в Ткварчале.
— Ну дает! Никогда бы не подумал.
— И неплохо получается. Меня с Эрканом к себе приглашал.
— А что не пошли?
— Время еще не пришло.
— Все в охране?
— Да!
— У Владислава Григорьевича?
— У него.
— Как он?
— Такой же, никому спуска не дает. Вчера на пресс-конференции так этих журналюг раздербанил, что теперь надолго запомнят! — не без гордости сказал Ибрагим.
— Слышал, знакомые ребята рассказали. Вот гады, сколько лет после войны прошло, а им все неймется! — с ожесточением произнес Гум.
— Ничего, мы терпеливые! Рано или поздно, но до них дойдет, что Абхазии им не видать как собственных ушей! — категорично заявил Ибрагим и затем предложил: — Может, хватит о политике, лучше расскажи, как живешь. Я слышал, ты женился?
Гум удивился, и было чему. Со дня свадьбы не прошло и недели, а о ней уже стало известно Ибрагиму. Тот хитровато прищурился и заметил:
— Вот видишь, как разведка в Абхазии работает.
— У меня просто слов нет! Может, ей известно, где мои миллионы лежат? — в тон ему ответил Гум.
— Ну, если уж ты с ними к нам приедешь, то еще больше будем рады.
После этих слов добродушная улыбка, гулявшая по лицу Гума, мгновенно пропала. Задорный огонек, горевший в глазах, погас. Он нервно повел плечами и, избегая взгляда Ибрагима, затеребил в руках салфетку. Возникшую неловкую паузу разрядил официант. Он вовремя подоспел с заказом, и друзья поспешили накинуться на поздний обед.
Ибрагим, с утра перекусивший одним бутербродом и чашкой кофе, с аппетитом уплетал искандер-кебаб, который так вкусно могли приготовить только в Стамбуле. Гум тоже не страдал отсутствием аппетита и энергично работал вилкой и ножом над румяным куском хюнтар-бекеды. Но мрачная тень, появившаяся несколько минут назад на лице, не покидала его. Из головы не шли последние фразы, произнесенные Ибрагимом. Они разбередили в душе, казалось, уже навсегда забытое чувство вины перед ним, Кавказом, Оканом и теми ребятами-махаджирами, что испили до конца горькую чашу войны.
В его памяти всплыли так, будто все это происходило только вчера, тесная комнатенка в Гудауте и глаза Ибрагима, Кавказа и Окана. В них не было ни упрека, ни осуждения, но сейчас, как и тогда, в нем с прежней силой заговорило чувство вины. Он так и не смог вернуться в Абхазию. И потом, когда излечился от контузии, не один раз задавал себе вопрос: почему? Что задержало его в Турции? Страх? Наверное, нет, к нему рано или поздно привыкаешь. Скорее, безотчетный ужас, что поселился в нем в тот день, когда мина попала в их с Зуриком окоп.
Лицо Гума побледнело. С фотографической точностью перед ним возник ужасный и отвратительный лик войны. Эти искромсанные осколками запекшиеся куски — все, что осталось от Зурика. Кровь, хлестанувшая струей из обезглавленного тела. Выкатившиеся из орбит глаза, которые, подобно раскаленным углям, еще долго жгли душу Гума и по ночам страшными кошмарами напоминали о прошлом. Или что другое?
Перемена в поведении друга не осталась без внимания Ибрагима, и он поинтересовался:
— Что с тобой, Гум?
— Все нормально, Ибо! — поспешил успокоить он.
— Да какое «нормально»! На тебе лица нет!
— Сейчас пройдет.
— Контузия дает о себе знать?
— Нет! — и, нервно покусывая губы, Гум с трудом произнес: — Ты и ребята считаете, что тогда я струсил и сбежал?! Так?
— О чем ты говоришь! — шумно запротестовал Ибрагим.
— Нет, я не струсил! Если снова война, то, не сомневайся, я буду с вами!
— Я и не сомневаюсь.
— Тогда была война, а сейчас… — Гум смолк, пытаясь найти нужные слова. — Понимаешь, Ибо, ну, как тебе сказать, эта жизнь в Абхазии.
— Я все понимаю, там не Стамбул, но если.
— Речь совсем не о том! После войны я приезжал в Сухум, но ты в то время был в Европе.
— Знаю, Муха рассказывал. Жаль, что тогда не встретились, глядишь, многое пошло бы по-другому.
— Вряд ли, — покачав головой, Гум глухо произнес: — Нет, такая жизнь, как там, не для меня!
— Но почему?!
— Разве это жизнь? Одно существование.
— Я так не думаю, — возразил Ибрагим.
— Думай не думай, а чего ты и Кавказ добились за эти пять лет? Ничего! И сколько еще лет будете сидеть среди развалин, неизвестно. А жизнь-то одна, другой не будет, и если…
— Стоп! А вот тут ты не прав! — перебил его Ибрагим. — Разве в одном сытом животе счастье?
— Да я не об этом, Ибо!
— А о чем?
— Я о жизни.
— И я о ней. Что за жизнь — без большого дела?!
— Вот видишь — «дела»! А какое оно может быть в Абхазии?
— Строить свое государство — разве это не дело?
— Когда оно еще будет, то государство? До него еще дожить надо.
— Не спеши нас хоронить! — вспыхнул Ибрагим.
— Извини, — смутился Гум и, чтобы сгладить допущенную бестактность, предложил: — Может, поедем ко мне и там поговорим.
— Спасибо, не могу. Завтра рано улетать, — отказался Ибрагим.
За столом возникла долгая пауза. Гум попытался внести оживление в разговор, но он не клеился и подошел к концу.
Неловко пожав друг другу руки, они разошлись. Горький осадок, оставшийся после встречи с Гумом, какое-то время бередил душу Ибрагима, но вскоре заботы, связанные с отъездом в Абхазию, постепенно смягчили сердце. На свою новую родину он возвратился в приподнятом духе. Поездка в Турцию породила надежду на то, что наконец блокада вокруг родной земли прорвана. Но это оказалось иллюзией, приехавшая вслед за ними делегация махаджиров безнадежно застряла на пограничном переходе «Псоу» и вынуждена была ни с чем возвратиться в Турцию.
Удавка блокады, которую по-прежнему держал в своих руках Шеварднадзе, продолжала душить Абхазию. Наступил сентябрь 1999 года. Он мало чем отличался от всех предыдущих. Дежурные угрозы Шеварднадзе, звучавшие из Тбилиси, похоже, не особенно пугали бесшабашных русских курортников и «дикарей». Тем более 1 сентября только что назначенный на должность премьера России Владимир Путин своим решением снял с Абхазии часть санкций. Если сказать, что это было смелое решение, то этим ничего не сказать. В тот вечер небо над городами и поселками республики полыхало зарницами, как и в памятный день 30 сентября 1993 года, когда она была освобождена от оккупантов. Узкое окно на границе по Псоу распахнулось настежь, и тысячи отдыхающих хлынули в Абхазию. В Гаграх и Пицунде с трудом можно было найти свободное место, днем на их знаменитых пляжах, как в старые добрые времена, нежились под бархатным сентябрьским солнцем тысячи счастливцев, спасающихся от осеннего ненастья, заливавшего холодными дождями центральную часть и север России. С наступлением вечера в кафе и пацхах вовсю гремела веселая музыка. Ее отзвуки далеко разносились над безмятежной гладью моря, вызывая зубовный скрежет у экипажей грузинских сторожевиков, изредка отваживавшихся сунуть нос в прибрежные воды.
О местных жителях и говорить не приходилось. У них давно выработался стойкий иммунитет к угрозам Шеварднадзе. Его тысяча первое обещание принести на штыках свободу в Сухум на лицах завсегдатаев «Кофейни Акопа» вызывало лишь насмешливые улыбки. Они не обращали внимания на подобные блеяния из-за Ингура и тем более не думали бежать домой, чтобы хвататься за автоматы, а продолжали безмятежно проводить время на набережной, с азартом двигали по столам костяшки домино, забивая с оттяжкой очередного «козла».
Так же беззаботно вели себя отдыхающие в военном санатории «Сухумский». Казалось, что в те дни вся Российская армия двинулась на приступ южной курортной твердыни, и его начальнику Саиду Лакобе приходилось, как партизану, короткими перебежками перемещаться по территории, чтобы незаметно проскользнуть мимо желающих улучшить свои жилищные условия и занять свой кабинет. Такого наплыва отпускников старожилы санатория не могли припомнить. Не только все корпуса, но и здание администрации было забито под завязку. Об этом красноречиво напоминали победно развевающиеся на балконе начальника отдела режима санатория Лаховича пестрые мужские шорты и вызывающе откровенный женский купальник.
Наступил знаменитый бархатный сезон. Вода в море напоминала парное молоко, и счастливая ребятня часами бултыхалась в ласковой волне. Узкая полоска берега, как сельдью в бочке, была забита лоснящимися от пота коричневыми и красными телами. В кафе и апацхах негде было упасть яблоку. Вырвавшись из таежных гарнизонов, офицеры-отпускники гуляли на широкую ногу. С раннего утра и до глубокой ночи звон стаканов и раскатистое «ура-а» катилось от «Паруса» до знаменитой «Тропиканки» Виталика «Маресьева», потерявшего ноги на войне. Перед обедом к ней выстраивалась длиннющая очередь. Даже закоренелые трезвенники не могли устоять перед соблазном, чтобы не зайти к Виталию на дозаправку забористой чачей, перед тем как сесть за стол.
На этом фоне предстоящие первые всенародные выборы президента Абхазии почти никак не влияли ни на политическую, ни на жизнь вообще. Она неспешно шла своим чередом, горожане больше гонялись за отдыхающими, чем за агитационными листовками, чтобы скопить лишнюю копейку на мертвый сезон. В селах наступило время уборки урожая, и крестьяне не забивали себе голову тем, кто станет новым президентом — конечно, Владислав Ардзинба. О том, что меньше чем через месяц предстоит идти на избирательные участки, обывателю напоминали язвительные статьи в «Нужной газете». Главный редактор Изида Чания и ее команда «отчаянно смелых амазонок» из номера в номер «покусывали» власть, но та с высоты своего сиятельного пьедестала предпочитала этого не замечать.
Первый и единственный оппонент действующего президента — бывший премьер Леонид Лакербая так и не смог достучаться до дверей ЦИК. Ему, несмотря на титанические усилия, с трудом удалось собрать всего несколько сотен подписей к заявке в гонке на президентский пост. От наивного романтика и его сторонников с подписными листами избирательный электорат шарахался, как от зачумленных. В головах многих не укладывалась даже сама мысль, что кто-то иной, кроме Владислава Ардзинбы, станет их президентом.
Тех скудных грошей, которые смогли наскрести оппозиционеры, едва хватало, чтобы заплатить за бензин для дышавшего на ладан «жигуленка» Леонида Ивановича. Робкие попытки, предпринятые им и соратниками-«возрожденцами», найти доброго и бескорыстного «дядю» на стороне ни к чему не привели. Никто не хотел подставляться под «накат» тех, кто за спиной президента хорошо «наваривался» на лесе, металлоломе, бензине и рыбе, искавшей спасения от турецких сетей у берегов Краснодарского края. Избирательная кампания Леонида Ивановича тихо умерла, не успев начаться. Но тогда за этим, показавшимся многим забавным его чудачеством, мало кто сумел усмотреть отблески будущих грозных потрясений, от которых всего через пять лет содрогнется Абхазия. Все это было еще впереди.
Наступило 3 октября. Безальтернативные президентские выборы прошли тихо и буднично. Ничего неожиданного и удивительного на них не произошло, как и ожидалось, безусловную победу одержал Владислав Ардзинба. Через девять дней еще одна победа закрепила его успех — был принят Акт о государственной независимости Абхазии. В те дни безусловного триумфа ни он сам, да и вряд ли кто в Абхазии подозревал, что счет его побед подходил к концу. Последняя и полная драматизма была одержана в октябре 2001 года.
Спустя три года после майской 1998 года «шестидневной войны» в Гальском районе, где грузинские войска в боях с частями абхазской регулярной армии и резервистами потерпели очередное сокрушительное поражение, президент Шеварднадзе вновь решил проверить прочность власти в Сухуме.
В августе — сентябре у восточных границ с Грузией абхазская разведка обнаружила значительные силы боевиков. Несколько диверсионных групп, проникших на территорию Абхазии, были уничтожены силами МВД и Службы государственной безопасности. В Сухуме во весь голос заговорили о подготовке Тбилиси к новой войне. Но искушенный лицедей Шеварднадзе все отрицал. В то время как в Тбилиси он напускал тумана и водил за нос направленного Владиславом Ардзинбой для переговоров премьера Анри Джергению, спецслужбы и МВД Грузии завершали подготовку к вторжению. В крытых тентами КамАЗах из Панкисского ущелья перебрасывались к границе последние группы чеченских боевиков, оружие и боеприпасы.
Обнадеженный заверениями Шеварднадзе премьер Анри Джергения возвратился в Сухум и еще не успел переступить порог своего кабинета, как громом средь белого дня для него грянули сообщения из Министерства обороны и СГБ о прорыве более чем полутысячного отряда боевиков Гелаева в Абхазию. В то время как он обрывал телефон Шеварднадзе, наивно полагая добиться ответа от Белого Лиса, передовые отряды Гелаева стремительно продвигались по Кодорскому ущелью и уже находились в сорока километрах от Сухума. Впереди их бежали самые невероятные слухи о том, что отряды грузинских коммандос, натасканные американскими и турецкими инструкторами, изготовились к захвату Сухума с моря и воздуха.
В те дни без всякого преувеличения Абхазия замерла в тревожном ожидании. Люди ждали от власти немедленных и решительных действий. И пока правительство заседало, ветераны прошлой войны, не дожидаясь приказа, присоединились к армии и поднялись в горы навстречу врагу. По местному телевидению выступил с обращением к народу бывший первый заместитель председателя Верховного Совета Абхазии Станислав Лакоба. Его спокойный и уверенный тон несколько развеял страхи и опасения, но одного этого было мало. Политик и историк, у которого после добровольного ухода из власти в 1996 году осталось только имя, не мог отдавать команды. В эти драматические часы, когда эхо артиллерийских разрывов было хорошо слышно в Цебельде, а в военный госпиталь поступили первые раненые, все от мала и до велика ждали, что скажет Владислав. Даже будучи тяжело больным, он по-прежнему оставался для них источником надежды и веры в то, что и на этот раз враг будет разбит и победа останется за ними.
И он выступил. В экстренном выпуске новостей они впервые за долгое время увидели своего президента. Камера пробежала по напряженным от волнения лицам премьера и министров и остановилась на нем. Следы болезни, несмотря на все старания телеоператора, были заметны невооруженным взглядом. Но воля и голос Владислава Ардзинбы были тверды, как и раньше.
Президент говорил негромко и с большими паузами. Он сказал немного, но каждое слово находило отклик в сердцах тех, для кого свобода и независимость Абхазии не были пустым звуком. Услышали их и сотни бойцов, которые в эти самые минуты у горы Сахарная Голова остановили рвущихся к столице боевиков. «Наш Владислав», даже такой, истерзанный болезнью, оставался грозой для врагов и источником веры для своего народа. Теперь уже ни у кого не возникало сомнений в том, что бандитам не видать Сухума как своих ушей. Его заявление: «Мы порвем этих бандитов и мерзавцев, как тузик тряпку» не было пустым звуком.
Абхазские резервисты вместе с бойцами регулярной армии меньше чем за три недели боев наголову разбили раскрученных грузинской пропагандистской машиной хваленых боевиков Гелаева. После их разгрома Абхазии в очередной раз пришлось залечивать раны, нанесенные войной. Но делать это становилось все труднее и труднее. И дело было даже не в том, что и без того скудных ресурсов республики хватало лишь на то, чтобы еле-еле сводить концы с концами. Главная беда заключалась в том, что прогрессирующая болезнь президента и бесконечная чехарда с премьер-министрами, чувствовавшими себя временщиками, все больше и больше отдаляли его от реальных проблем в стране и жизни народа. В отсутствие его железной воли и твердой руки и без того дышащая на ладан экономика беззастенчиво растаскивалась циничной армией чиновников «по личным карманам». На этом загнивающем поле экономики пышным цветом расцветал криминал. Глухой ропот против безвластия власти нарастал в народе, но отгороженный от него наушниками и подхалимами президент его не слышал.
Последней каплей, переполнившей терпение ветеранов войны, стало громкое убийство, совершенное далеко от Абхазии. В Москве, в подъезде своего дома на Верхней Масловке 3 февраля 2003 года был застрелен один из основателей и лидеров общественно-политического движения ветеранов войны 1992–1993 годов «Амцахара» Герой Абхазии Салыбей (Ака) Ардзинба. Его эхо докатилось до Абхазии и всколыхнуло не только ветеранов, но и все абхазское общество. Оно уже задыхалось под гнетом криминалитета и всевластия бюрократии.
В театре Абхазской государственной филармонии 20 марта состоялся третий съезд ветеранов движения «Амцахара». Он стал первым, на котором долго копившееся в обществе недовольство выплеснулось наружу. Его делегаты Саманба, Квициния, Смыр, Тарнава обрушились с жесткой критикой не только на кабинет министров, но впервые и на самого президента. То, что еще совсем недавно произносилось полушепотом и с оглядкой на соседей за ближайшими столиками в пацхах, теперь, усиленное микрофонами, разносилось по самым дальним углам огромного зала филармонии и тут же передавалось на улицу. Ораторы, уже ничего не опасаясь, выплескивали все, что у них наболело за многие годы «застоя». Бездеятельность власти и всевластие криминала сидели уже в печенках.
К началу апреля политический кризис еще больше углубился. Правительство Геннадия Гагулии предпринимало отчаянные попытки удержаться на плаву, но загадочный побег 5 апреля группы особо опасных преступников из Драндской тюрьмы отправил его ко дну. Жалкий лепет милицейских чинов, пытавшихся оправдать вопиющую безответственность охраны, если не сказать большего, — очевидное для многих ее предательство, окончательно вывел из себя ветеранов движения «Амцахара». Они потребовали личной встречи с Владиславом Ардзинбой, в противном случае пригрозили разогнать беспомощное и потерявшее рычаги управления правительство.
Но президент отверг их требования, и по Сухуму поползли тревожные слухи. Поводов для них вполне хватало: что ни день, то на дорогах республики уже средь бела дня происходили вооруженные грабежи. В Тбилиси почувствовали запах жареного и принялись активно подливать масла в огонь — боевики возобновили необъявленную войну в Гальском районе.
В штабе движения «Амцахара» и под крышей апацхи «Эльбрус», где в те суматошные апрельские дни собирались ветераны, все чаще и чаще раздавались воинственные призывы «раздербанить прогнившую насквозь власть». Их отголоски докатывались до базы СОБРа и охраны президента. Они тоже не собирались сидеть сложа руки и наблюдать за тем, что происходит, и готовились дать отпор. Качели противостояния раскачивалась все больше, ни одна из сторон не собиралась уступать.
К отчаянным заявлениям премьера Гагулии о поиске путей выхода из затянувшегося кризиса уже никто не прислушивался. Лидеры ОПД «Амцахара», закусившие удила, больше не желали его слушать и требовали немедленной отставки правительства, но Владислав Ардзинба не терпел нажима и тем более не желал подчиняться грубому диктату. Коса нашла на камень. И тогда, чтобы развязать президенту руки, первый вице-премьер Беслан Кубрава и министр иностранных дел Сергей Шамба предложили своим коллегам по кабинету министров добровольно подать в отставку. Их последующее выступление с этим заявлением на телевидении придало уверенности в успехе лидерам движения «Амцахара», они перешли в атаку и потребовали личной встречи с президентом.
Она состоялась на госдаче в Сухуме, в его рабочем кабинете. Владислав Ардзинба оставался сидеть за столом и как удав на кроликов поглядывал на входивших по одному бывших соратников. Они поеживались под его колючим взглядом, но на сей раз не тушевались, как это бывало прежде. За последние два года многие из них впервые увидели Владислава Ардзинбу и поразились тем внешним изменениям, что произошли с ним. Болезнь серьезно подорвала его здоровье, но не волю. С присущим ему напором он обрушился на них, но и они уже не остались в долгу. Генерал Мераб Кишмария первым ринулся в атаку и сказал все, что думает. Вслед за ним осмелели остальные, и на президента посыпался град упреков. Порой казалось, что стены кабинета не выдержат накала бушевавших в нем страстей, но в конце концов здравый смысл возобладал.
Через несколько дней правительство Геннадия Гагулии ушло в отставку, и ему на смену пришел молодой и немногословный Рауль Хаджимба. Новый премьер без лишней суеты и громких слов принялся разгребать навороченные за долгие годы завалы. Сцепив зубы и не обращая внимания на крики завистников и «доброхотов», он пытался сдвинуть с места громадную чиновничью машину, опутанную клановыми и корыстными связями. Саботаж одних, зависть других неподъемными гирями висели на его ногах. Он стал заложником системы, которая рано или поздно, но была обречена. Время властно требовало решительных перемен, и его не в силах были остановить ни Рауль Хаджимба, ни сам Владислав Ардзинба.
Глава 12
Шабад, не дождавшись, когда остановится маршрутка, сунул в руку водителя стольник, распахнул подвязанную на резиновый шланг дверцу и на ходу выскочил из машины. Тяжелая, набитая подарками спортивная сумка больно ударила по спине, но он этого даже не почувствовал. Его сердце радостно забухало в груди, а ноги сами понесли к родным и знакомым до мелочей синим воротам дома большой и дружной семьи Кубрава. Подрагивающая от нетерпения и волнения рука привычно скользнула в прорезь и, нащупав щеколду, тихонько отодвинула ее в сторону.
Приоткрыв калитку, он протиснулся в щель и, стараясь остаться незамеченным, прошмыгнул под распахнутыми окнами зала, из которых доносился невнятный шум голосов, и на одном дыхании взлетел по ступенькам крыльца. Дверь в прихожую оказалась открытой, легкий сквозняк шаловливо поигрывал шторой на входе. Шабад отодвинул ее в сторону и шагнул в прохладный полумрак.
Знакомый, но уже позабытый за год учебы в ростовском университете запах лобио, который так замечательно готовила только мама, и аппетитный аромат мамалыги, где вне конкуренции была тетя Марина, вскружили голову, отозвались голодным урчанием в пустом желудке и напомнили Шабаду, что наконец он дома. Его счастливый взгляд пробежался по стенам, шкафу и лестнице, ведущей на второй этаж. Здесь все было близко и до боли знакомо.
Старенькое, купленное отцом на барахолке по случаю новоселья бронзовое бра, которое они вместе ремонтировали не один раз, опять было неисправно. Под лестницей, на своем месте валялся футбольный мяч. Судя по его облезлому виду, младшие братья Инал и Аслан продолжали исправно «считать» доски на соседских заборах и упорно «стричь» в палисадниках кусты лаврушки и лимона. Сейчас их громкие голоса доносились из верхних комнат, видимо, там шел очередной «передел территории и собственности». В столовой весело погромыхивала посуда — это мама готовила обед, и, похоже, не одна — мелодичный смех тети Марины раздавался в зале. И лишь за дверью кабинета отца царила тишина, он, видимо, еще не вернулся с лекций в университете.
В это время наверху раздался грохот упавшего на пол стула, а через мгновение на лестничной площадке послышался топот босых ног. Шабад, опасаясь, что его неожиданное для родных появление в доме раньше времени может быть раскрыто неугомонным и вездесущим Асланом, торопливо опустил сумку на пол, расстегнул молнию и достал из нее две серебряные цепочки, которые присмотрел в ростовском ломбарде еще задолго до окончания летней сессии. И уже не в силах сдержать на лице счастливую улыбку, он распахнул дверь и шагнул в столовую.
Сквозняк смахнул на пол салфетки со стола, Амра Алексеевна кинулась их поднимать, но застыла на полпути, а затем, радостно всплеснув руками, бросилась обнимать сына. Вслед за ней к нему припала родная сестра отца — Марина. На шум голосов скатились по лестнице взъерошенные и раскрасневшиеся Аслан с Иналом и принялись тискать старшего брата. Шабад пытался казаться взрослым и суровым, но надолго его не хватило, через несколько минут он вместе с ними копался в своей сумке. Новый футбольный мяч, а еще больше редкая пока для Сухума диковинка — скейтборд вызвали у младших братьев настоящую бурю восторга. Они рвались на улицу, чтобы тут же обновить их, но с этим пришлось повременить, мама позвала обедать.
За столом собралась почти вся семья, не хватало отца — в последние дни тот допоздна пропадал то в университете, то на заседаниях политсовета «Единая Абхазия». Амра Алексеевна переглянулась с Мариной и затем решительно открыла холодильник, достала из него графин домашнего вина и кивнула Шабаду. Теперь после мужа в доме появился еще один мужчина, он еще неловкой рукой разлил вино по бокалам и, краснея, произнес тост.
После второго — тоста матери — на Шабада обрушился град вопросов. Он буквально таял под любящими взглядами родных и, с превосходством поглядывая на «умную голову» — Инала, сыпал фамилиями известных математиков: Лагранж, Лобачевский, Вишневский. И чем дальше он забирался в дремучие дебри из интегралов и дифференциалов, тем большее восхищение читал в изумленных глазах братьев, матери и тетки.
Но непоседу Аслана не интересовали сияющие вершины высшей математики, которые одну за другой успешно брал старший брат. Шило в одном месте не давало ему покоя, и он бросал умоляющие взгляды то на дверь, то на мать, видевшую в это время только одного Шабада. А перед глазами Аслана стоял новенький, заманчиво поблескивающий глянцем скейтборд. Он уже мысленно раскатывал на нем перед толпой завистливо поглядывающих на него соседских пацанов и лихо нарезал пируэты перед извечным своим соперником — Зуриком.
Стук калитки прервал рассказ Шабада, и все дружно повернулись к окну. За ним промелькнул седой ежик Беслана Сергеевича, и со двора донесся его жизнерадостный голос:
— Зверски голодного доцента в этом доме накормят?!
От напускной солидности Шабада не осталось и следа, он сорвался с места и воскликнул:
— Папа! Не только накормят, но и на руках носить будут!
Через мгновение из прихожей донеслись радостные возгласы и шумная толкотня. В комнату отец с сыном вошли обнявшись, и за столом снова оживились, лишь один Аслан грустно поник: теперь катание на скейтборде откладывалось надолго. Беслан Сергеевич озадаченно посмотрел на недопитый Шабадом стакан вина, тот замялся и потупил взгляд. Отец строго глянул на жену с сестрой — те невинно улыбались — и, ничего не сказав, сам решительно взялся за ручку графина.
Тост за успехи первенца, пошедшего по его стопам и теперь с успехом грызущего гранит науки, вернул Шабаду прежнее веселое настроение, и он продолжил рассказ об университетской жизни. Вскоре два финансиста добрались до «дебета с кредитом», и Шабаду поневоле пришлось снова держать экзамен — перед отцом. Амра Алексеевна с тихой радостью смотрела на просветлевшее и дышавшее гордостью за сына лицо мужа и в эти минуты была по-настоящему счастлива. Кажется, переменчивая жизнь опять поворачивалась к их семье светлой стороной, и та черная полоса, что началась весной 2003 года, похоже, закончилась.
Полтора года назад уставшая от правления бесправных временщиков-министров Абхазия глухо зароптала. Последовавшие одно за другим убийства и похищения политических противников власти переполнили чашу терпения ветеранов войны из общественно-политического движения «Амцахара». Они первыми осмелились не только сказать, но и потребовать от Владислава Ардзинбы смены правительства и наказания виновных. Президент не поддался их давлению.
Конфронтация нарастала. В тот злосчастный день 6 апреля Беслан, уходя на работу, ничего не сказал ни жене, ни сестре, и, когда он, взволнованный и побледневший от напряжения, вместе с Сергеем Шамбой появился на экране телевизора, в душе Амры Алексеевны все оборвалось.
«Почему именно он решился на этот отчаянный шаг: признать ошибки правительства и предложить ему в полном составе уйти в отставку? — терзалась она вопросами. — Чтобы развязать руки президенту в его первой схватке с лидерами движения «Амцахара»?
…Или, может быть, потому что не захотел быть «карманным» вице-премьером в правительстве, которое все больше становилось «семейным» и вызывало справедливое негодование не только у ветеранов войны, но даже у соседей по дому и знакомых, донимавших его злыми вопросами?
…А может быть, косые взгляды завистников и грязные намеки?
…Тоже мне нашли коррупционера!.. С телевизором «Горизонт», купленным еще до войны в Ткуарчале! С хрустальной люстрой, что год назад появилась в гостиной, и то потому, что ее подарил старый друг из России. Со стиральной машиной, последний раз работавшей, когда Шабаду шел шестнадцатый год.
…Или, может быть, внешний лоск Беслана, который и сейчас, за домашним столом, держался так, будто находился на дипломатическом приеме. Лоск?! А чего он стоил! Об этом знали только одна она, мать, отец и брат, с раннего утра и до позднего вечера не разгибающиеся на грядках в поле и саду».
Тогда, в те ужасные для нее минуты, она смотрела на мужа и уже ничего не слышала. Крутой и решительный характер Владислава Ардзинбы ей был известен не понаслышке, и теперь после всего того, что случилось, ждать с его стороны снисхождения было просто наивно. В тот вечер Беслан вернулся домой не на служебной «Волге», а пешком. И уже на следующий день вокруг него и их семьи образовалась зияющая пустота. Бывшие приятели министры стали его сторониться и быстро забыли, где находится их дом. Телефон, еще вчера разрывавшийся от непрерывных звонков, теперь лишь изредка грустно потренькивал по вечерам — это звонили друзья сыновей. Сами они притихли, и в их сразу повзрослевших глазах читались боль и обида за отца.
Он, кого они привыкли видеть энергичным и всегда в кругу людей, от одиночества, а еще больше от того, что превратился в «нахлебника» для семьи, осунулся и почернел, стал замкнутым и нелюдимым, запирался в кабинете и целыми днями не выходил из него. Но мир оказался не без добрых людей. Старые однополчане, заглядывавшие в гости, не давали ему закиснуть, а когда подошла осень, то подвернулась и подходящая работа. Ректор университета Алеко Гварамиа пригласил его на работу на кафедру экономики и финансов, и там, среди студентов, Беслан снова нашел себя. Но ему, привыкшему за десять с лишним лет крутиться как белка в колесе в «куче» государственных дел, в размеренной университетской жизни вскоре стало скучно.
Так продолжалось до апреля 2004 года. К тому времени страна и народ уже задыхались от одряхлевшей и ставшей в руках временщиков-министров безответственной власти. Поэтому наступившая бурная весна, а вслед за ней приближающиеся президентские выборы пробудили надежды на лучшее. Возвращение Беслана в политику, а еще больше неизбежные грядущие большие перемены, которые с нетерпением ждали не только он и его товарищи по политсовету в «Единой Абхазии», но и вся страна, давно уставшая жить в «затхлом политическом болоте», вдохнули в него новую жизнь.
Это чувствовал Шабад, он радовался за отца и с жадным любопытством расспрашивал его о тех изменениях, которые бросились ему в глаза по дороге от границы до дома. За то время, пока он учился, Абхазия стала другой. Даже в пассажирах маршрутки, что вместе с ним добирались в Сухум, они были заметны невооруженным взглядом. Страна и народ просыпались после многолетней политической спячки, на слуху у всех были имена будущих президентов и грядущие большие перемены. О них в полный голос говорили не только в политсоветах партий, писали в «Нужной», «Чегемской правде» и «Эхе Абхазии», но в каждом доме.
И эти отголоски грядущих грозных политических бурь, о которых в те еще безмятежные июльские дни 2004 года вряд ли кто догадывался, докатились и до стен госдачи. Размеренное и полусонное течение жизни ее обитателей было нарушено раз и навсегда. За пластиковыми разноцветными столиками, выставленными перед гостиницей на летней террасе, напоминавшей весенний луг, с утра и до позднего вечера стоял гул голосов. Администраторы, дежурные по гостинице: Ибрагим, Кавказ Аслан, Оксана и Индира, охрана госдачи: Зурик, Ашот, Армен, Заур, Батал и даже молоденькие девчушки из столовой: Милана и Марина теперь только и говорили о том, кто станет будущим президентом.
То, что в октябре выборы состоятся, ни у кого уже не вызывало сомнений. Тяжело больной и в последние годы не появлявшийся на людях президент Владислав Ардзинба еще официально не заявил о своем уходе из власти, но ветры будущих больших перемен уже витали в воздухе. И их манящий запах надежды на будущую лучшую и более счастливую жизнь кружил головы даже тем, кто был совершенно далек от властных кабинетов и самой власти. Впервые за всю современную историю Абхазии у них — абхазов, мингрел, армян и русских, — до этого безропотно внимавших и подчинявшихся своим вождям, появился реальный выбор между прошлым и будущим, между тем, кого настойчиво предлагала власть, и тем, кого требовали истосковавшиеся по переменам душа и сердце.
Это был невероятно сложный выбор — столетние обычаи и нравы требовали голосовать за «своего», с кем связывали кровные отношения, но здравый смысл склонял к тем, кто делом доказал не только верность Абхазии, но и мог дать каждому, независимо от рода и прошлых заслуг, шанс на лучшую и более справедливую жизнь. Поэтому нешуточные страсти начинали разгораться не только в правительственных и парламентских кабинетах, но и в совершенно далеких от высокой политики высокогорных селах. «Горячее лето» 2004 года с приближением осени грозило полыхнуть настоящим пожаром страстей и эмоций, на которые так щедры южане.
С каждым новым днем неоспоримому фавориту в будущей президентской гонке премьеру Раулю Хаджимбе становилось все теснее и теснее в той «упряжке», что вот-вот готовилась стартовать к заветному финишу. Строгий судья — жизнь вносила все новые и новые сюрпризы в расписанный еще весной на госдаче в Сухуме и в далекой Москве сценарий с заранее известным результатом, который своенравному и независимому абхазскому народу явно не пришелся по душе. Даже в Гальском районе, где зачастую количество патронов в магазине для «калаша» решало спор, кто прав, никто не хотел выступать в роли послушных статистов, безропотно бредущих к избирательным урнам. Всем надоело быть просто безликой «партийной и беспартийной массой», еще совсем недавно слепо следовавшей указаниям прошлых советских и нынешних вождей. Недавняя жестокая война и победа в ней раскрепостила людей, убила сидевшего в их душах покорного раба и вернула, казалось бы, уже навсегда утраченные чувства достоинства и чести. Абхазия быстро просыпалась после десятилетия «политической спячки» и теперь трудно и мучительно искала свой шанс на более справедливую и лучшую жизнь, чтобы без колебаний и сомнений доверить свое будущее новому лидеру. Поэтому все чаще и чаще стали звучать имена: Алесандр Анкваб, Сергей Багапш, Станислав Лакоба, Сергей Шамба, Анри Джергения, Нодар Хашба, Якуб Лакоба и еще нескольких будущих кандидатов в президенты.
Эти фамилии и сейчас звучали в споре между Ашотом, Оксаной и Индирой. Я и мои дочери Лидия и Олеся вполуха слушали разговор на злобу дня, мелкими глотками пили холодную минералку и с нетерпением ждали появления в гостинице Ибрагима с Кавказом в надежде, что нам наконец удастся попасть внутрь знаменитой «дачи Сталина», рядом со стенами которой мы проходили уже не раз. В предвкушении будущей экскурсии наше разгулявшееся воображение будоражили загадочные истории о ней, рассказанные когда-то Станиславом Лакобой и Олегом Бгажбой.
Эти и многие другие истории, связанные с тем, что происходило за стенами «дачи Сталина», были известны Ибрагиму с Кавказом. Поэтому мы с Лидой и Олесей в душе рассчитывали не только услышать от них что-нибудь новое, но и увидеть собственными глазами, а затем потрогать руками все то, что окружало Сталина и других вождей масштабом помельче. Время шло, стрелки часов перевалили за четыре, а они все не появлялись. Мы уже стали прощаться с Оксаной и ребятами, когда с дороги донесся гул мотора машины, и через минуту на стоянку перед гостиницей скатился, сверкая новой краской, «мерседес». Из него вышли наши друзья, и мы поспешили к ним навстречу.
По нашим загоревшимся глазам Ибрагим догадался, что больше всего нас интересовало, и с ходу заверил:
— Сегодня прием у товарища Сталина вам обеспечен!
— Правда, за благополучный исход не ручаемся. Черт его знает, с какой он ноги встал, — пошутил Кавказ.
— Да ладно, его ноги нас меньше всего волнуют! Но вот мыши… — И здесь Лида сделала испуганное лицо.
— С этим у нас как раз все нормально! Вы только взгляните на нашего зверя, — усмехнулся Ибрагим и показал на разомлевшего под солнцем и беззаботно дремавшего на стуле Котофеича.
Мы посмеялись и все дружно направились к парадному входу госдачи. Ибрагим первым по-хозяйски поднялся на мраморное крыльцо, сорвал с петель мастичную печать, затем смахнул густую пыль с бронзовой ручки, распахнул дверь и широким шестом пригласил:
— Прошу к товарищу Сталину!
Я, а вслед за мной Олеся с Лидой несмело перешагнули порог и остановились. В нос шибануло затхлым и застоявшимся воздухом давно не проветривавшегося помещения. В огромном и кажущемся бесконечным коридоре царил прохладный полумрак. Ибрагим пошарил рукой по стене, нащупал выключатель и зажег свет. Высоко под потолком яркими огнями вспыхнула массивная бронзовая люстра, а когда наши глаза освоились, мы, с любопытством осматриваясь по сторонам, прошли в рабочий кабинет, затем заглянули в спальню и поднялись в столовую — зал заседаний. Их интерьер с поразительным однообразием повторял обстановку других госдач — в Новом Афоне, Пицунде и на Холодной речке. Те же темные, но теплых тонов деревянные панели, сделанные из редких пород деревьев, поразительные по мастерству резные потолки, множество уютных кушеток и кресел с витыми ножками и спинками. Отличалась эта дача от других разве что своими внушительными размерами, обилием комнат и замысловатых лестничных переходов.
Постепенно осмелев, мы уже не стеснялись присесть за рабочий стол вождя или потрогать пальцем тот знаменитый, якобы им самим забитый в стену гвоздь, на котором потом висела его шинель. Правда, в такое трудолюбие Хозяина верилось с трудом, потому что подобную историю я слышал на каждой госдаче и конец у них всех был один и тот же. За эту недоделку он, по одной из версий, подвешивал на тот самый гвоздь начальника личной охраны Николая Власика, а по другой — архитектора Мирона Мержанова. Но меня это уже не пугало, набравшись нахальства, я выдернул гвоздь из стены и спрятал в карман, затем заглянул в ванную и туалет вождя, но там также ничего особенного не заметил, у него все было, как и у остальных — нормальных людей.
Пробежавшись по приемной, кабинету, второй спальне, мы поднялись по роскошной, напоминающей вход в терем русского князя деревянной лестнице на следующий этаж и там задержались у двери кабинета президента Владислава Ардзинбы. К сожалению, она была опечатана жирной сургучной печатью, которую покрывала многодневная пыль. То ли здоровье Владислава Григорьевича, то ли дурная слава госдачи отталкивали его от нее. Если он и появлялся здесь, то, по-видимому, не поднимался наверх, а предпочитал пешие прогулки по парку в дальней, скрытой от постороннего глаза кипарисовой аллее.
На наши вопросительные взгляды Ибрагим только развел руками и двинулся дальше. В просторном и светлом зале для приемов я и дочери оживились. Тяжелые шторы из золотистого атласа были раздвинуты, и солнце смело лилось через окна. Яркие блики весело поигрывали на деревянных панелях, бронзовых светильниках, на полированной поверхности громадного стола и спинках стульев, их было ровно столько, сколько когда-то насчитывалось членов политбюро ВКП(б). Еще больше скрашивал казенную обстановку зала старинный, глянцевый, огромный, словно бегемот, рояль, стоявший на невысоких подмостках.
Олеся глянула на Ибрагима, и он великодушно кивнул головой. Она подошла к роялю, подняла крышку, коснулась пальцами клавиш, и они отозвались печальными звуками. Нам снова стало неуютно в этом огромном и лишенном жизни зале. Мы не стали задерживаться, вышли в коридор и вновь окунулись в прохладный полумрак пустых комнат. В них, как и на первом этаже, в кабинете, в спальнях и роскошной бильярдной, царила давящая тишина, которую не нарушали ни один звук, ни одно движение. На нас настороженно поглядывали пустые кресла, кушетки, несмятые постели, кажется, что жизнь навсегда покинула эти холодные и неуютные комнаты и залы. В какой-то момент мне почудилось, что там, за дверью кабинета Сталина, раздался старческий кашель, потом послышался скрип паркета под сапогами и на мгновение в приемной, в зеркале старинного трельяжа промелькнула сутулая, туго затянутая в военный френч фигура.
Я невольно поежился, похоже, Олеся с Лидой тоже почувствовали себя неуютно и тоскливо, и мы стали все чаще и чаще бросать взгляды во двор, где весело плескалось в лужах яркое солнце и беззаботно гомонили птицы. Заметив наши понурые лица, «экскурсоводы» Ибрагим и Кавказ решили свернуть экскурсию и предложили всего на пару минут подняться на последний — третий этаж, чтобы, как многозначительно заметил Ибрагим, разгадать еще одну загадку «дачи Сталина». Во мне и дочерях снова проснулось неистребимое любопытство, и мы, переборов себя, поднялись наверх.
Обстановка здесь оказалась намного проще и скромнее, чем на первом и особенно втором — парадном этаже. В тесном коридоре, который слабо освещался через единственное запыленное окно двери, выходившей на крохотный, напоминающий ласточкино гнездо балкон, трудно было что— либо разглядеть. И когда глаза освоились с полумраком, наши взгляды невольно остановились на пузатом старомодном комоде, сиротливо стоявшем в простенке, и двух, видимо, давно забытых в углу роскошных креслах. Но Ибрагим не задержался возле них, включил свет, прошел в конец коридора и остановился перед потемневшей от времени дубовой дверью. Недолго повозившись в карманах куртки, он достал тяжелый, больше походивший на амбарный ключ, вставил в замок и энергично повернул его. Дверь дрогнула под его напором и с печальным скрипом подалась в сторону.
Ибрагим с Кавказом решительно шагнули вперед, вслед за ними в комнату зашли и мы. Обстановка в ней резко отличалась от той строгой роскоши, что царила на нижних этажах, и лишь деревянные панели из каштана и невесть как оказавшийся здесь громадный и лоснящийся черной кожей диван, наверное, еще хорошо помнящий вертлявый зад Лаврентия Берии, напоминали, что это «дача Сталина». Я, Олеся и Лида, повертев головами по сторонам и не заметив больше ничего примечательного, с недоумением посмотрели на Ибрагима.
— Комната для охраны! — подтвердил мою догадку Ибрагим.
— И что, в ней до сих пор живет дух начальника охраны Сталина — Коли Власика? — пошутил я.
— Да, здесь, конечно, не лучший дух, — в тон мне ответил Ибрагим, — но тем не менее есть очень любопытные вещи. — И он показал рукой на противоположную от нас стену.
Стена как стена, и с первого взгляда ничего необычного я на ней не заметил. И только когда глаза освоились с ярким солнечным светом, свободно лившимся через окно, выходящее на мандариновую рощу, над деревянной панелью стал заметен странный, будто выведенный влажным трехперстием, загадочный серый знак размером чуть больше тридцати сантиметров.
— Очень похоже на крест?! — с удивлением произнесла Лида.
— Причем православный, — отметила наблюдательная Олеся.
— Точно крест! — согласился я с ними.
Не удержавшись от любопытства, я подошел поближе и потер его рукой, полагая, что это шутливый розыгрыш моих друзей. Но рисунок никуда не исчез, а на руке я так и не обнаружил следов мела. Ибрагим с Кавказом переглянулись и, таинственно улыбнувшись, по-прежнему продолжали хранить загадочное молчание. Это уже становилось по— настоящему интересным и еще больше заинтриговало меня и моих дочерей. Здесь, на «даче Сталина», где в последние восемьдесят лет жили одни только воинствующие атеисты, скорее можно было увидеть самого черта, чем намек на руку Божью.
— А вот еще один крест! — озадаченно воскликнула Олеся и ткнула рукой на левую стену.
Я обескураженно завертел головой по сторонам и, к своему все возрастающему удивлению, обнаружил на остальных двух стенах точно такие же знаки. На мой немой вопрос Ибрагим и Кавказ лишь только пожали плечами и, закатив глаза, с многозначительными лицами показали пальцами вверх. Но мое атеистическое прошлое отказывалось принимать что-либо сверхъестественное, а вбитый в голову за многие годы учебы махровый материализм и сохранившиеся скудные школьные познания в физике и химии подсказывали, что за всем этим стоит, видимо, не Божий промысел, а, скорее всего, проделки искусной на всяческие сюрпризы природы. Вспомнив про свою пятерку по химии, я снисходительно заметил:
— Ребята, хватит мне пудрить мозги! Все очень просто: в стенах осталась старая арматура и на ней собирается конденсат.
Однако мои познания по химии не произвели никакого впечатления на Ибрагима, и он, не церемонясь, с ходу отмел это предположение.
— Это почему же — нет?! — не собирался так легко сдаваться я.
— А потому, что там нет ничего, кроме каменной кладки, — пояснил Кавказ.
— А вы что, проверяли? — усомнилась Олеся.
— Проверяли! Не только обдирали штукатурку, но и высверливали! И ничего! — подтвердил Ибрагим.
— Ну, прямо чертовщина какая-то! Нет, тут что-то не так, — продолжал упорствовать я.
— А вот дьявол здесь как раз и не задержался! — рассмеялся Кавказ и подмигнул Ибрагиму.
— А-а… я все понял! Вы специально нарисовали, чтобы деньги с туристов драть, — догадался я и использовал этот убойный аргумент.
Он вызвал у наших друзей только смех, и Ибрагим с легкой иронией ответил:
— А что, очень даже дельная мысль!
— Ибо, а может, с них первых и начнем? — живо поддержал Кавказ.
Мне же надоело ломать голову над этой задачкой с крестами, я сдался и предложил:
— Ладно, согласен! Стену долбить не будем, только скажите, что в ней спрятано?
— Ничего! — просто ответил Ибрагим и затем коротко пояснил: — Через несколько дней после того, как мы привели стену в порядок и закрасили, крест снова проступил на прежнем месте.
После такого ответа мне ничего другого не оставалось, как только развести руками. Очередная загадка «дачи Сталина» поставила меня в тупик. Ее разгадку взялся объяснить Ибрагим и предложил свою версию:
— Всему этому есть, пожалуй, одно объяснение, но оно больше смахивает на легенду, связанную с именем Сталина и первыми христианами, — начал он свой рассказ. — Так вот, если верить древним преданиям, христианство в Абхазию пришло вместе с апостолом Христа — Симоном Кананитом, и первым местом, где он остановился, был не Новый Афон, в котором он потом прожил до самой смерти, а Сухум. Здесь, на этом самом месте, где мы сейчас стоим, Симон произнес первые слова молитвы во славу Христа. Здесь…
— Ибо, но при чем тут Кананит, когда речь идет о Сталине? — торопил я с ответом. — Лучше объясни, почему кресты на стенах появились.
— Научного объяснения этому феномену, наверное, не найти, — согласился Ибрагим и продолжил: — Но то, что они — Кананит и Сталин — как-то связаны между собой, сомневаться не стоит. Дьявол, каким считали Сталина, и святой, каким был Кананит, под одной крышей не могли ужиться.
— Ибо, про Сталина и Берию мы уже не раз слышали и знаем, что они хуже черта, — скептически заметила Олеся.
— Черт или не черт! Но то, что Сталин на даче ни разу не ночевал, — это факт, — подтвердил Кавказ.
— И не только он. В 1993 году здесь надолго не задержался и другой дьявол — Шеварднадзе! Во время нашего штурма Сухума он, гад, здесь как раз и окопался, — напомнил Ибрагим.
Сволочь! Если бы не Ельцин, то от нас он не ушел бы и за все ответил! — с полуоборота завелся Кавказ. — Мы уже взяли госдачу в кольцо, и тут Ельцин позвонил Владиславу Григорьевичу и попросил отпустить мерзавца. Тот дал слово, что не тронет. Слово Владислава Григорьевича для нас, конечно, закон, но простить Шеварднадзе тысячи загубленных жизней вряд ли бы кто смог. Можете не сомневаться, если бы он тогда попался, то на месте прикончили бы как собаку! Он чувствовал это своей задницей! Трусливый шакал! В то время когда мы добивали засевших в Совмине и порту гвардейцев с отмороженными хохлами, которым где бы ни воевать, лишь бы только насолить вам, русским, этого обделавшегося засранца переодели в форму российского полковника и под видом раненого переправили в военный санаторий.
— Иуда! — с презрением обронил Ибрагим. — Он кинул всех! На его глазах в Совмине под огнеметами жарились как бараны на верителе те, кому не приходилось рассчитывать на нашу пощаду, слишком много на их руках было безвинной крови, а в нашей груди клокотала лютая ненависть. Под носом этого трусливого шакала у развалин Диоскурии пускали пузыри в море те, кому удалось вырваться из нашего окружения. Они получили то, что заслужили, и подыхали, как бешеные собаки! Шева все это видел и даже не замолвил за них слова, он спасал собственную шкуру, кинул их всех, как последний базарный кидала, и драпанул на катере к себе в Тбилиси. Это уже потом, когда американцы поддержали ему штаны, он стал такой смелый, что начал грозить Абхазии новой войной.
— Да пропади пропадом этот Шеварднадзе! Бог ему судья, а черт хозяин. Ты, Ибо, про эти самые кресты доскажи! — поспешил я сменить тяжелую тему.
— Может, поговорим в другом месте, а то здесь становится как-то не по себе, — предложила Лида.
Ибрагим охотно согласился — мрачные стены «дачи Сталина» действительно не располагали к рассказу — и пригласил пройти в гостиницу, чтобы там за чашкой кофе продолжить разговор. Мы без особого сожаления покинули неприветливые и мрачные комнаты госдачи. Двор встретил нас ярким солнечным светом и веселым шелестом пальм, которые, подобно часовым, застыли перед входом. Перебрасываясь на ходу шутками, мы поднялись к гостинице, прошли на летнюю площадку и заняли свободный столик. Дежурившая в этот день администратором и быстрая на подъем Оксана приготовила отменный кофе по-турецки, подала его к столу и сама заняла место рядом с нами. Мы сделали по нескольку глотков и затем все свое внимание сосредоточили на Ибрагиме, приготовившись выслушать продолжение загадочной истории с крестами. Он не стал испытывать наше терпение, быстро допив кофе, отодвинул чашку в сторону и возвратился к рассказу.
— Случилось это осенью то ли 1935-го, то ли 1936 года, точно не знаю, к сожалению, — извинился Ибрагим и продолжил дальше: — К тому времени Нестор Лакоба вместе с любимцем Сталина — известным в те годы архитектором Мироном Мержановым закончили перестройку замка Смецкого. Сам Николай Николаевич не дожил до этого дня и умер здесь на конюшне, новая власть не простила ему заслуг перед старой. Сталин должен был вот-вот подъехать, и поэтому работы шли день и ночь: спешили сделать подарок вождю. С деньгами, материалами и людьми не считались. На отделку залов шли самые редкие породы деревьев, привозили их со всего мира и работали с ними лучшие на то время в стране резчики и плотники. В этом вы могли сами убедиться. Если помните, там нет ни одного гвоздя, ни одного шва ни на стенах, ни на потолках, а рисунки в комнатах нигде не повторяют друг друга.
— Один гвоздь там все-таки был, — напомнил я и вытащил его из своего кармана.
— Вот так всегда! Нам с Кавказом уже надоело его забивать, — посетовал Ибрагим и вернулся к рассказу: — Но согласитесь, что сделано там все классно. Сколько я ни смотрю на эту работу, всякий раз восхищаюсь. Да что я! Как-то сюда заезжал композитор Игорь Корнелюк, он-то уж всего насмотрелся в своем Питере, но тут не удержался и сказал: «Это — волшебная музыка, застывшая в дереве!»
С такой оценкой я без колебаний согласился, меня поддержали дочери, и мы дружно закивали головами. А Ибрагим, выдержав небольшую паузу, снова вернулся к той загадочной истории с крестами. Похоже, она пробудила в нем творческие чувства, и в его голосе послышались непривычные поэтические нотки.
— Так вот, когда все работы были закончены, Нестор Лакоба отправился в Новый Афон, где в это время отдыхали Сталин, а с ним Буденный и Ворошилов. Жили они на старой одноэтажной деревянной даче, сейчас в такой дом «новый абхаз» даже тещу не поселит. Ту каменную, на которую мы ездили в прошлом году и что стоит ниже, построили позже, после войны. Так вот, отправляясь к Сталину в Новый Афон, хитрый Нестор рассчитывал, что легко убедит его, Буденного и Ворошилова перебраться в хоромы, специально отстроенные в Сухуме, и там сумеет стать еще ближе к вождю. Уговаривать Сталина долго не пришлось, тому, видно, порядком надоело с утра до вечера глазеть на Ворошилова с Буденным и гонять с ними шары в бильярдной, поэтому он охотно согласился.
Погода в тот день выдалась как на заказ, и вожди вместе с Нестором отправились из Нового Афона в Сухум на открытых машинах. Дорога тогда была не лучше, чем в 1993 году, сразу после войны, потому на «тещином языке» им пришлось ползти со скоростью черепахи. Пораженные крестьяне узнавали их и валом валили к дороге. Под колеса охапками летели цветы, шустрые пацаны запрыгивали на подножки, чтобы только потрогать живых богов, с именем которых они вставали и ложились спать. Больше всех досталось Буденному, ему чуть не выдрали его знаменитые усы. Но главный сюрприз ждал Сталина на перевале. Там, где сейчас ресторан «Ущелье», кортеж встретил абхазский хор. Те из наших стариков, кто дожил до наших дней, говорят, что ничего подобного в своей жизни не слышали. Наверное, сам Орфей никогда так не пел, как тогда спели абхазские певцы. Это было нечто бесподобное. После того концерта весь день плакали горы, а в Верхней Эшере даже заговорил немой. Вождь был доволен, Ворошилов с Буденным так завелись, что рвались в пляс, а Нестор просто светился от счастья.
В общем, все складывалось наилучшим образом. Порой казалось, что сама природа радовалась появлению вождей. Небо, умытое короткими грозовыми дождями, снова ожило после изнурительной августовской жары и завораживало нежными красками. Легкие перистые облака робко теснились за холодно блистающими ледниками Кавказского хребта, а предгорья полыхали золотисто-красным багрянцем увядающей листвы. В воздухе появилась та особая удивительная легкость и прозрачность, которая наступает только в бархатный сезон. Сквозь густую зелень садов звездной россыпью проглядывали созревающие плоды хурмы и апельсинов. Бронзовые шатры из снопов кукурузы покрывали пригорки, а во дворах на зеленых лужайках высились аккуратные горки из початков. Тяжелые ядовито-багровые и восковые вязанки из горького перца и фасоли, закрученные в пышные гирлянды под летними навесами и крышами пацх, тихо покачивались на ветру. В тот год земля Абхазии, как никогда, была прекрасна и щедра на урожай.
Минут через сорок после концерта вожди добрались до дачи. Некогда суровый клочок горной природы благодаря неиссякаемой энергии Николая Николаевича Смецкого за тридцать с лишним лет превратился в настоящий земной рай. Теперь о прежнем хозяине парка напоминают гигантские мохнатые секвойи, стройные кипарисы, взметнувшиеся к самому небу своими острыми, как пики, вершинами, буйно разросшиеся экзотические пальмы, непроходимые бамбуковые заросли и парящая над этой неземной красотой белокаменная, словно созданная из хрустально-чистого горного воздуха, трехэтажная башня диковинного замка.
Машины, описав не одну замысловатую петлю по узкому серпантину дороги, остановились перед парадным входом на дачу. Навстречу гостям поспешил вездесущий Власик с охраной. Нестор в роли гостеприимного хозяина первым вошел внутрь и по деревянной лестнице повел вождя, Буденного и Ворошилова на второй этаж. Там в зале для заседаний прислуга и повара успели накрыть настоящий абхазский стол. Такой вы можете увидеть разве что на нашей золотой свадьбе.
На огромных серебряных подносах высились горки из зелени петрушки, кинзы и молодого лука. Среди нее заманчиво полыхали и сами просились в рот стручки жгучего перца. Изящные соусницы с арашихом и асизбалом — острыми приправами из грецкого ореха и алычи — были едва видны за гроздьями отборного кутолского винограда, от которых ломились плетенные из лозы фигурные вазы. Легкий ароматный парок поднимался над глиняными горшочками с подливой, приготовленной из вареной фасоли, арахана и акуландыра. Нежное, слегка подрумяненное мясо молодого козленка украшали чернослив и базилик. Пылали жаром только что снятые с плиты кукурузные лепешки. Янтарными дольками жирно лоснились кусочки сыра сулугуни в горках рассыпчатой мамалыги. Завершали этот гастрономический парад пузатые хрустальные графины со знаменитым ачандарским и моквинским вином.
Лакоба кивнул головой официантам, которые, повинуясь сигналу, тут же наполнили бокалы, и перевел взгляд на него — Сталина. Тот выдержал долгую паузу, медленно поднялся и, отдавая дань уважения хозяину стола, наклонил голову в его сторону. Нестор поспешно вскочил с места, вслед за ним на ноги взлетели Буденный и Ворошилов, но они так и не услышали тост Хозяина. Его рука дрогнула, лицо почернело, он покачнулся и, потеряв равновесие, повалился на спину. Власик и охрана едва успели подхватить вождя под руки, вынесли в приемную и уложили на кушетку. Ворошилов и Буденный замахали шляпами перед его лицом, а Лакоба распахнул окно. Налетевший с гор ветер надул пузырем тяжелые бархатные портьеры и пошел гулять по комнатам и коридорам, где метались растерянная охрана и прислуга. Но врач Хозяину не понадобился, он на удивление быстро пришел в себя и на еще не твердых ногах спустился вниз, посидел на лавке и, не сказав ни слова, сел в машину и укатил обратно в Новый Афон.
После его отъезда Власик, Лакоба и Ворошилов перевернули на даче все вверх дном, «обнюхали», заглянули во все углы и закутки, медики из спецлаборатории проверили каждое блюдо и каждый графин с вином, но так и не обнаружили следов яда. Лишь на третьем, последнем этаже, в комнате охраны, что располагалась над спальней вождя, они, к своему удивлению, увидели на четырех стенах проступивший сквозь свежую краску размытый силуэт православного креста. Дотошный Власик приказал охране содрать со стен не только краску, а и штукатурку, но за ними ничего, кроме каменной кладки, не обнаружилось. После этого кресты на стенах исчезли, а спустя две недели, когда вождь вновь появился на даче, они снова появились на прежних местах и больше не пропадали. На этот раз, несмотря на все уговоры Лакобы, он так и не поднялся в комнаты, прошелся по верхнему парку и снова возвратился в Новый Афон. Больше на сухумскую дачу Хозяин не заезжал…
Ибрагим закончил рассказ, и мы с дочерьми теперь уже новыми глазами посмотрели на холодный белокаменный замок, за стенами которого творилось черт знает что. Во мне снова проснулось любопытство, вспомнилась еще одна старая история, связанная с этим местом и именем Берия, обрывок из которой мне довелось услышать от чудом оставшегося в живых после сталинских репрессий Давлета Чантовича Кандалиа — личного телохранителя и водителя Нестора Лакобы. Я уже собрался попытать на эту тему наших друзей, но тут с нижнего поста позвонил дежурный и доложил Ибрагиму: «Через десять минут подъедет В.Г.».
Ибрагим с Кавказом, извинившись перед нами, отправились встречать Владислава Григорьевича. Я, Лида и Олеся проводили их до машины, и потом возвратились на смотровую площадку, располагавшуюся прямо перед парадным входом на госдачу, и еще несколько минут любовались прекрасными видами, открывавшимися на город и море. Сделав на прощание несколько снимков, Олеся и Лида стали поторапливать меня с возвращением в санаторий, чтобы успеть поймать бархатный вечерний загар. Рискуя каблуками своих модных босоножек, они решили сэкономить время и первыми решительно ступили на скользкий после недавнего дождя серпантин дорожки. Запыхавшиеся, но с целыми головами и ногами мы благополучно «скатились» по крутым бетонным ступенькам к круглой, засаженной кактусами клумбе и свернули на центральную аллею, которая, подобно кинжалу, рассекала надвое нижнюю часть парка и острием упиралась в главный административный корпус.
И тут справа от нас в кустах раздался треск сухих веток и из— под пальмы показался Ашот. Перебросив автомат за спину, он перекрыл дорогу и вежливо, но настойчиво предупредил:
— Здесь нельзя! Вам лучше спуститься по левой боковой аллее.
— Хорошо! — не стал возражать я.
А Лида не удержалась от вопроса и спросила:
— А что, Владислав Григорьевич уже приехал?
— Да, — помявшись, нехотя ответил Ашот.
Здесь уже Олеся, набравшись смелости, поинтересовалась:
— Как он себя чувствует?
— Нормально! — поспешил закончить разговор Ашот и, стараясь нас не обидеть, попросил: — Ребята, вы сами понимаете, тут задерживаться нельзя, поэтому давайте поговорим потом, когда освобожусь с поста.
— Конечно-конечно! — быстро согласились мы и свернули на левую боковую аллею.
Через десяток метров густые заросли скрыли Ашота, проснувшееся в нас жадное любопытство оказалось сильнее его предупреждения. Оглянувшись по сторонам и не заметив других часовых, я, а за мной и дочери, не сговариваясь, начали осторожно пробираться к аллее гигантских слоновых пальм. По моим расчетам, в конце ее открывался вид на кипарисовую аллею, где в это время мог прогуливаться президент. Никем не замеченные, мы благополучно добрались до склона холма, с которого хорошо просматривался нижний парк, и, спрятавшись за пышными кустами папоротника, принялись высматривать Владислава Григорьевича.
Первой увидела президента, вернее, его охрану глазастая Олеся, и все наше внимание сосредоточилось на худощавой мужской фигуре, которая то появлялась, то затем исчезала за стволами кипарисов и крепкими телами двух телохранителей. С такого расстояния трудно было различить лица, но то, что это был Владислав Григорьевич, у меня не возникало ни малейших сомнений, рядом с ним находились Ибрагим с Кавказом. Даже с этого расстояния было заметно, что болезнь сказалась на нем, каждое движение ему давалось с трудом, а долгие остановки говорили о том, что все усилия врачей пока не принесли результата.
Я переглянулся с дочерьми, и на их лицах прочитал ответ. В их душах творилось то же самое, что и в мой душе. Это были сложные и противоречивые чувства, в них смешались жалось к Владиславу Григорьевичу как человеку и уважение как к политику, который даже в этом положении продолжал твердо держать власть в своих руках. Власть, которая в последнее время все более тяжким бременем давила на него и народ. Первой почувствовала ее близкую кончину алчная армия чиновников — с присосавшимися к ним, как пиявки, родственниками — и принялась беззастенчиво набивать себе карманы и втаптывать в грязь его когда-то святой для большинства образ отца и защитника нации.
Мои глаза по-прежнему были прикованы к Владиславу Григорьевичу, а в памяти всплывал тот прошлый яркий и навсегда запомнившийся образ несгибаемого лидера своего самобытного и гордого народа, обаятельного человека, перед блестящим и острым умом которого ты испытывал неподдельное восхищение. Быстрый в своих движениях и мыслях, полный неукротимой энергии, он невольно заражал тебя своей верой и уверенностью.
Когда я впервые увидел его?!
Лет пятнадцать или шестнадцать назад. То было время бурных перемен и, как потом оказалось, несбывшихся больших надежд и горьких разочарований. Страна и народ мучительно и трудно приходили в себя после кровавых сталинских репрессий и разлагающего душу брежневского застоя. Одряхлевшая и потерявшая былую мощь обюрократившаяся партийная машина была уже не в силах сдерживать копившуюся десятилетиями энергию протеста против коррумпированного и давно изжившего себя коммунистического режима. Ее вальяжные и закормленные привилегиями функционеры безнадежно проигрывали одну позицию за другой тем, кто, наплевав на карьеру и собственное благополучие, смело и решительно боролся за людей и дело.
И эта могучая волна людских надежд и ожиданий вынесла в 1988 году на самый ее гребень из тиши научного кабинета его — Владислава Ардзинбу, доктора наук, директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа. С этого дня он уже больше не принадлежал ни себе, ни семье, ни друзьям. Время и история выбрали именно его, сумевшего сделать то, что до него не удавалось никому другому, — привести свой народ к свободе и независимости.
В нем, как в фокусе, отразилась та вековая мечта и надежда, которой жили отцы и их славные предки. В годы войны, что шла не на жизнь, а на смерть, он стал символом несгибаемого духа и непоколебимой веры в победу над тысячекратно превосходящим врагом. В нем черпали свою силу и уверенность ополченцы, когда из последних сил отбивались от ожесточенных атак гвардейцев у Гумисты и под Ахбюком. В него верили сражавшиеся в окружении командиры и бойцы Восточного фронта. Он давал силы старикам, детям и женщинам, боровшимся с голодом и холодом в блокадном Ткуарчале. И потом, когда пришла долгожданная победа, они — победители, стиснув зубы, целых пять лет терпели вопиющую несправедливость — блокаду, которой циничные политики хотели поставить их на колени. В те годы и дни они снова черпали в нем свою силу и верили в то, что «наш Владислав» ни за что не «сторгует» великие жертвы, что они принесли за свободу своей родины. С тех пор минуло для кого-то всего шестнадцать, для других целых шестнадцать лет, а для него…
О чем мог сейчас думать первый президент Абхазии там, на кипарисовой аллее в горьком одиночестве? Суровое и беспристрастное время отсчитывало последние месяцы и дни его власти.
Власти!!!
…Власти, за которую, как многие сегодня думают, он цепляется из последних сил. Власти?
…А что они о ней знают?
…Лучи ее славы ослепляют, но не греют. Власть — это прежде всего беспощадная борьба, и не столько с противниками, сколько с самим собой, когда перед тобой на одной чаше весов лежат любовь, многолетняя дружба, а на другой — интересы нации и страны. Разве могут знать они, бывшие друзья-романтики, что на самой вершине власти нет места человеческим чувствам, там ждет только одно холодное одиночество! Власть жестока и эгоистична, она не прощает слабости и не терпит рядом с собой друзей!
Друзей?!
…Шесть лет прошло с того дня, когда в последний раз в тесной, заставленной от пола и до потолка книжными полками квартире Станислава Лакобы, где самой дорогой вещью был старый рояль Натальи, они отмечали его день рождения. И после того — ни одного звонка и ни одной встречи. Политика безжалостно вмешалась в старую дружбу и развела их по разные стороны баррикад. Да что Станислав, если даже ироничный добряк Алик Бгажба и тот никак не напомнил о себе.
Когда, в какой момент ему стало окончательно ясно, что политик обречен на одиночество и в его сердце нет места для дружбы и доверия? Когда это произошло?
…Может, в 1993-м на переговорах в Москве, когда он на мгновение растерялся и едва не дал слабину от вероломства Ельцина, который после очередного стакана водки отказался от прежних договоренностей и заплясал под дуду Шеварднадзе. Или 14 августа 1997-го в Тбилиси, где его и Абхазию пытались унизить и растоптать.
Как бы то ни было, но с каждым новым годом он становился все более одиноким. Одних друзей забирала смерть, и память о них продолжала жить в его сердце незаживающей раной. Другие тихо отходили в сторону и этим причиняли не меньшую боль, оставляя его один на один с властью и самим собой.
Властью, которая выжала его без остатка, но, несмотря на это, он продолжал оставаться в ней только ради того одного, в котором не мог и не имел права ошибиться, чтобы, когда придет день и час, передать ему в руки самое дорогое, что было в жизни, — Абхазию, за которую он боролся, не щадя ни себя, ни врагов, ни друзей.
Сколько их — претендентов — премьеров и министров прошли перед ним за последние годы? Пять, шесть?! И никто не сумел до конца выдержать сурового испытания властью. Последним в этом ряду остался Рауль Хаджимба. Целых четыре года Ардзинба терпеливо поднимал его с одной ступеньки властной пирамиды на другую. Рауль оказался прилежным учеником, но хватит ли ему одного прилежания и упорства, чтобы и дальше уверенно вести маленький корабль под названием Абхазия в бурном и жестоком море политики? Хватит ли ему воли и твердости, чтобы не согнуться под тяжким бременем власти и не стать бледной тенью Владислава Ардзинбы? Будет ли он так же прозорлив и дальновиден, тверд и неуступчив перед сильными мира сего, чтобы не позволить превратить себя в послушную игрушку пусть даже в дружественных руках…
Видимо, подобные мысли терзали президента, застывшего в неподвижности в конце аллеи и пристально вглядывавшегося в город. Он словно пытался найти ответы на эти вопросы в той, ставшей во многом благодаря ему свободной и жаждущей перемен Абхазии.
Глава 13
Встречу эту мы не планировали, все получилось как— то спонтанно. Из Ачандары неожиданно подъехал Батал Ахба, с которым я не виделся больше трех лет, у Феликса Цикутании, как всегда, в кармане завалялась лишняя тысяча рублей, а у запасливых братьев Читанава сохранилось прошлогоднее вино. Недолго думая, с подачи Феликса решили организовать хлеб— соль по дежурному варианту в «Абхазском дворе» у безотказного Бено.
Не прошло и часа, как все было готово и мы с моими друзьями заняли ближайший к морю столик. За ним не хватало только Дениса — младшего из пятерых братьев Читанава, он задержался в избирательном «штабе» Сергея Багапша. Мы бросали нетерпеливые взгляды на дорожку и с трудом сдерживали аппетит от вида того изобилия, от которого ломился «скромный» абхазский стол. Хлебосольный хозяин «Двора» Бено, видимо, решил как следует проверить финансовые возможности Феликса и не поскупился.
Пузатый, запотевший, словно негр в русской бане, пятилитровый графин с вином возвышался посередине стола. Его окружала целая гора из нарезанных крупными кусками очамчырских помидоров, щедро усыпанных петрушкой, луком и кинзой. Флотилии из разнокалиберных соусниц с арашихом и асизбалом — острыми приправами из грецкого ореха, алычи, обильно сдобренных острым перцем, окружали нас со всех сторон. Легкий парок поднимался над кусками только что снятой с огня отварной козлятины. Ароматный запах исходил от рассыпчатой мамалыги и сыра сулугуни, янтарными дольками лоснившегося в ней. Все это будило волчий аппетит.
Первым терпение иссякло у Феликса, он потянулся к графину с вином, и тут во «Дворе» появился запыхавшийся Денис.
— Молодец, знаешь, когда явиться! — приветствовал его Бено.
Старший брат — Савелий не удержался от шутливого упрека:
— Денис, на работу можешь не приходить, но опаздывать на хлеб-соль — это уже преступление.
Тот устало плюхнулся на лавку и, бросив на стол измятую листовку, в сердцах произнес:
— «Хаджимбисты» совсем совесть потеряли! Вы посмотрите, что они на наших льют!
Мы пропустили эти слова мимо ушей и потянулись к стаканам, а Батал даже не пошелохнулся. На его лицо набежала тень, голубые глаза потемнели, как море перед началом шторма, и он желчно заметил:
— А о твоих, Денис, партократах и комсомольцах говорить нечего! Просрали Союз, и если им опять дать власть, то просрут Абхазию.
— Ребята, вы что?! — в один голос воскликнули Бено с Феликсом.
Но ссору уже невозможно было остановить. Денис вспыхнул как спичка:
— Ты что несешь?! Это Багапш с Лакобой просрут Абхазию?!
— Я одно знаю точно, что с Раулем будет, как при Владиславе, — гнул свое Батал.
— Легко сказать. Лучше вспомни, как Василич в Очамчыре останавливал отморозков из «Мхедриони». Он, а не Рауль первым пошел против них! А тогда был не девяносто второй, когда нам деваться было некуда, а восемьдесят девятый.
— Ты это еще через сто лет расскажи. Как оно на самом деле было, кто теперь знает? — отмахнулся Батал.
Я знаю! — неожиданно поддержал Дениса обычно дипломатичный и осторожный Феликс. — Все на моих глазах происходило. Я в то время в очамчырском курортторге работал, и, если память не изменяет, было это в июле. Василич проводил с нами планерку, тут позвонили из Гала и передали, что четыре «Икаруса», битком набитых мхедрионовцами, едут на Сухум. Сидим как в воду опущенные, представить такое в восемьдесят девятом, когда еще стоял Союз, никто не мог. Василич начал срочно звонить в Сухум, там тоже не знают, что делать. С поста ГАИ пришла новая информация — мхедрионовцы разоружили милиционеров. Мы смотрим на Василича, а он на телефон. Сухум не отвечает!..
Феликс смолк — спустя столько лет те далекие драматические события с новой силой ожили в нем — и, справившись с волнением, продолжил:
— Короче, Василич распорядился раздать охотничьи ружья добровольцам, а милиционерам, тем, кто был из наших, приказал идти к мосту через Галидзгу и заблокировать его двумя бензовозами. Дальше что рассказывать, сами слышали, какой кипиш поднялся. Они, сволочи, поперли вперед и начали стрелять. Нам ничего другого не оставалось, как только подорвать бензовозы! Палили, как на войне, были раненые. Василича тоже зацепило — в шею, но это пустяк по сравнению с тем, как его потом на парткомах прессовали. В прокуратуре дело хотели возбудить, в конце концов задвинули на хозяйственную работу. Так что он…
— Я против Багапша лично ничего не имею, — перебил Батал. — Он отличный хозяйственник, а вот какой вояка — не знаю. Зато Рауль с первого и до последнего дня на Восточном фронте воевал и такие разведоперации закручивал, что некоторым вашим бывшим министрам, которые сейчас в президенты рвутся, а тогда сидели в Гудауте, и не снились!
— Что?!.. Вояка, говоришь? Сегодня весь Восточный фронт вместе с Мерабом ищут тот самый окоп, где сидел тот самый Рауль! — снова вспыхнул Денис.
— Он сидел там, где надо! А вот твой Анкваб в Тбилиси в любимчиках у Шевы ходил! — огрызнулся Батал.
— Во-первых, он не мой. В любимчиках, говоришь?! Да если хочешь знать, он отца родного оштрафовал. Что ему какой-то Шева. Нет, Анкваб — голова! Это тебе не «трофейный» генерал! В тридцать два в советские времена лампасы, а тем более у ментов, за одни красивые глаза не давали.
— Денис, я что-то тебя не пойму, то ты за Багапша, то за Анкваба.
— Я за нормальных людей, хоть они и в разных командах.
— Командах?! Все они одним миром мазаны! Вокруг твоего Багапша куча бывших партократов и комсомольцев! В девяносто первом такие, как они, просрали Союз…
— Что?! Ты хочешь сказать, что я и Феликс сидим в той куче, а завтра тебя с твоим Раулем в Грузию поведем?! — взорвался Денис и в запале воскликнул: — Мне здесь делать нечего!
Мы опешили. Савелий растерянно хлопал глазами, а когда пришел в себя, извинился и бросился догонять брата. Бено, помявшись, вспомнил о шашлыках и незаметно исчез на кухне. Феликс тоже чувствовал себя не в своей тарелке и, сославшись на забытую в фитоцентре «Мушни» спортивную сумку, отправился за ней.
Мы с Баталом остались одни. Он, пряча глаза, потянулся к сигаретам, нервно закурил и ушел в себя. Я зашелестел журналом и исподволь поглядывал на него, не зная, с какого бока подступиться. За эти несколько месяцев с ним, да и не только с ним — со многими моими знакомыми и друзьями произошли странные и труднообъяснимые метаморфозы. До сегодняшнего дня я знал совершенно другого Батала, и мне вспомнился совершенно другой разговор, произошедший на этом же самом месте…
Как и сейчас, шел август, но только 1999 года. Встреча произошла случайно у братьев Читанава, в фитоцентре «Мушни». Мы искренне были рады ей. До этого последний раз я видел Батала на спортивном празднике в Ачандаре в 1996-м, а потом через общих знакомых обменивались приветами. С тех пор он сильно изменился: виски припорошила ранняя седина и уже не так часто, как прежде, на лице появлялась открытая улыбка. Потемнели бездонные, как горные озера, голубые глаза, а в их глубине затаилась невысказанная боль и тоска. На моем лице отразилось недоумение. Он тяжело вздохнул и с грустью, не по годам мудро сказал:
— Возраст измеряется не годами, а пережитым.
Возникла неловкая пауза. Батал ушел в себя и затем, стыдясь своей слабости, тихо произнес:
— Ты знаешь, так трудно, как сейчас, мне не было даже на войне.
Я молчал и не знал, что сказать, опасаясь неосторожным словом еще больнее ранить его.
— За что?! Почему после стольких лет она продолжает мучить и мстить? — продолжил он этот, скорее с самим собой, разговор: — Чего ей еще надо?! Недавно ты забрала мать. Слег и не встает отец. А когда приходит ночь, она оживает во мне и начинает истязать. Под сердцем возникает что-то омерзительное и мучительными кошмарами преследует до утра. Спасаясь от этого наваждения, я иду сюда: к солнцу, морю и людям, которые не поражены отвратительной проказой войны. Но проходит день, наступает вечер — и она снова забирает к себе.
Батал терзался в поисках ответа:
— Когда это произошло?! Наверное, той промозглой осенью девяносто второго года. В ту ночь мы, трое одноклассников, перешли тот роковой рубеж, что подвластен одному Господу. Проклятые политики! Ну почему они не захотели договориться и бросили нас друг на друга! Вчерашние друзья и родственники превратились в смертельных врагов, сосед пошел на соседа, а когда прогремели выстрелы, то уже невозможно было найти ни правого, ни виноватого.
И тогда мы решились выйти на страшную охоту — охоту на людей. Инал и Юра были совсем пацаны, им бы в школе Пифагора с Ломоносовым зубрить, но у войны свой отсчет и свой выбор. В кромешной темноте мы спустились в ущелье, перешли ручей и начали взбираться по склону. Под ногами предательски потрескивали сучья и с грохотом осыпались камни. По узкой, местами размытой дождями и оползнями горной тропе вышли на передний край обороны.
Впереди лежало минное поле, за ним, в сотне метров, начинались вражеские позиции. Проход, проделанный в заграждении минерами и ребятами из разведки, в темноте ночи утратил знакомые очертания, и наши дневные наблюдения, похоже, оказались напрасными. Как назло, луна ушла за тучи, но возвращаться назад гордость и заевшее самолюбие не дали, и мы, скрипя зубами от злости, ползли вдоль колючки, пытаясь найти тот чертов проход. За поисками не заметили, как снова очутились на поляне, где недавно встречались со своим дозором, пришлось тащиться обратно.
К тому времени показалась луна и осветила окрестности своим неверным светом. На этот раз мы быстро нашли проход и остановились в начале еле заметной тропки. Долго не решались ступить на землю, из которой в любое мгновение могла отозваться затаившаяся смерть. Первый шаг дался с трудом, сердце замирало, когда нога опускалась на песчаный бугорок, и он разъезжался в стороны. Так, метр за метром, отсиживаясь в воронках и вслушиваясь в затаившуюся тишину, мы продвигались вперед. Я не выпускал из руки пистолета, а ребята ножи. На «нейтралке» тот хозяин, кто действует первым.
Пока нам везло: с той стороны «в гости», похоже, не собирались. До поры до времени молчали их пулеметы. После недавних тяжелейших боев грузины тоже сели на «голодный паек» и лишь время от времени попугивали осветительными ракетами. Со змеиным шипением они взлетали в ночное небо, и мы плашмя шлепались на землю, а когда все снова погружалось во тьму, короткими перебежками продвигались к окопам. За время боев артиллерия сравняла все живое и неживое с землей. Дома превратились в груды развалин и, ощетинившись обломками кирпича и арматуры, безжалостно терзали наши ноги и руки.
Пока пробирались по «нейтралке», взмокли, как мыши, а ей все не было конца, и тут над моей головой громыхнуло. Я обмер — напоролся на колючку с «колокольчиками» и подумал, что это «звиздец». Казалось, эти чертовы консервные банки никогда не перестанут дребезжать. На грузинском посту то ли не услышали, то ли не обратили внимания. Мы выждали пару минут, потом проделали дырку в колючке и по одному перебрались ближе к окопу.
Метрах в десяти слабо угадывался его бруствер. Грузины, напуганные огнем наших снайперов, вели себя тихо как мыши и строго соблюдали светомаскировку. Только по тлеющим огонькам сигарет и приглушенным разговорам часовых можно было догадаться о расположении постов. Не сговариваясь, решили взять вправо и под прикрытием мелкого кустарника выйти на них. С оружием — имеется в виду пистолет — я был один, и потому ребята, вооруженные ножами, пустили меня вперед. Никто не имел понятия о какой-то там военной тактике, но интуиция подсказывала нам, что в случае неудачи наше спасение — в неглубокой лощине.
До цели оставалось рукой подать, когда передо мной затрещали кусты. Белая кожа на грузинской заднице светилась, как фонарь над борделем. Засранец! Он подтянул штаны и стал застегивать. Всего один короткий бросок — и с ним было бы покончено, но я не мог оторваться от земли, тело словно приросло к ней. То же самое творилось с ребятами.
Нет, это не было страхом! Он остался там, на минном поле. Здесь было нечто иное! Перед нами стоял не злобный и кровожадный враг, а обыкновенный человек. Все, что он делал, было до того буднично, что ощущение войны и его враждебности утрачивало всякий смысл. Накинуться на него и убить оказалось выше моих сил. Не смогли сделать этого и ребята. Мы сползли в воронку и подавленно молчали. Никто не решался первым заговорить. Слабость, стыд и горечь владели нами.
Порывы ветра шелестели листьями кустарника и слабым посвистом отзывались в разрушенных отопительных трубах. Где-то в глубине позиции гвардейцев монотонно гудела дизельная станция и рокотал мотор бэтээра. Со стороны окопа долетали обрывки разговора, затем послышалась неясная возня, и через мгновение кто-то заржал. Хриплый бас прервал заливистый, переходящий в визг смех, и он взорвал нас. Вспышка необузданной ярости сорвала нас с земли. Выхватив ножи, мы выбрались из воронки и, обдирая локти о камни, поползли к окопу.
Они возникли неожиданно, их было двое. Старые АКМ небрежно болтались за спинами. Слабый свет зажигалки выхватил из темноты заросшие лица. На месте глаз зияли темные провалы. Крепкие белые зубы обнажились в улыбке. Они беззаботно смеялись и не подозревали, что всего в нескольких шагах затаилась их смерть.
Мы застыли перед последним броском. Броском, после которого ни я, ни мои друзья уже не смогли возвратиться к самим себе. Там, на кромке бруствера вражеского окопа, я стал другим. Сердце бешено молотило и готово было вот-вот выскочить из груди. Тошнотворный ком подкатил к горлу. Рукоять штык-ножа раскаленным куском металла нестерпимо жгла руку, и потом, когда с ними было покончено, еще неделю багровые рубцы не сходили с ладоней.
Наши глаза встретились! Он был моим ровесником. Я до сих пор помню и, как тебя, вижу его дрожащие губы, слабый пушок над ними и нелепо повисший окурок. От страха он оцепенел. Не знаю, сколько длилось это бесконечное мгновение. В моем сердце была абсолютная пустота, руки стали чужими, сработал инстинкт, и я бросился вперед. За мной ринулись ребята. Ножи и руки рвали, кололи и терзали обмякшие тела. Чужая и своя кровь хлестала по нашим лицам, ломались ногти, а мы не могли остановиться в своем остервенении и продолжали их терзать.
Вспышка осветительной ракеты и пулеметная очередь отрезвили нас. Содрогнувшись от содеянного, мы неслись назад, не замечая ни разрывов мин, ни свиста пуль. Не помню, как проскочил минное поле, как оказался в своем окопе. Нас рвало и выворачивало наизнанку. Впервые выпитая кружка спирта и новая одежда не могли унять дрожи, сотрясавшей наши тела. Незримые пятна пролитой чужой крови жгли кожу и терзали душу. Мы не могли смотреть друг на друга, слишком велико было потрясение.
Убить человека, пусть даже врага… это что-то убить в самом себе. Не верь тому, кто говорит, что война все спишет. Вранье и ложь! От самого себя не убежишь. После той вылазки были еще бои, много боев, я снова убивал и меня больше не мучили кошмары, а нож не жег руку. Говорят, человек ко всему привыкает, в том числе и к такой омерзительной работе, как война. Но разве от этого легче? Я отнимал чужие жизни и каждый раз что-то терял в себе. Терял…
Не закончив мысль, он повернулся к столовой и прислушался к голосу диктора, доносившемуся из динамика.
Передавали последние новости. Они больше напоминали фронтовые сводки: «Отряды исламских боевиков вторглись в Новолакский район Дагестана. На карамахинском направлении федеральные силы и местное ополчение после ожесточенных боев вышли на окраины села и полностью блокировали боевиков. В Буйнакске после террористического акта под развалинами дома оказались погребенными свыше ста человек. В городе Черкесске между митингующими произошли столкновения, есть раненые».
— Сумасшедшие! Безумцы! Ради чего?! — воскликнул Батал. — Неужели им мало наших трагических уроков? Мерзавцы! Подлецы! В ненасытной жажде власти они швыряют к подножию ее трона целые народы и государства! А наивные слепцы, поддавшись дурману их речей, с остервенением набрасываются на соседа, видя в нем источник всех своих бед.
Как?! Почему такое могло случиться?! Кто и когда бросил то проклятое слово в народы?! Откуда в нем взялась та дьявольская сила, что смогла разрушить то, перед чем оказались бессильны фашисты? Неужели история ничему не учит? Десять лет назад, так же как сейчас в Черкесске, оно замутило наши души и обезумевшими толпами выплеснулось на площади перед Совмином и театром. Каждый кричал о своей беде и боли, но был глух к чужой. А когда первая кровь обагрила камни, то началось это всеобщее безумие. Зерна национализма и фашизма дали свои страшные всходы.
Затем пришли Китовани и Иоселиани «восстанавливать конституционный порядок и охранять железную дорогу» — так это тогда называлось.
Батал с презрением хмыкнул и, поиграв желваками на скулах, продолжил: Сволочи! Ничего хорошего от вора в законе с отморозками из зоны ждать не приходилось. Они, как волчья стая, набросились на город, принялись грабить и насиловать. Эти мерзавцы знали только один закон — закон уголовной зоны. Потом, когда драпали из Сухума, все дороги в Грузию были забиты автобусами, троллейбусы даже ухитрились утащить. Чего в них только не было! Оборудование с винзавода и чайной фабрики, детские коляски и нижнее женское белье. Вот так наводился «конституционный порядок».
Но это было в сентябре девяносто третьего, а тогда — в девяносто втором, когда у них были танки и вертолеты, а у нас дедовские ружья и сотня автоматов, в Тбилиси думали, что их ждет легкая прогулка. По себе мерили, вояки хреновы! Думали, мы сразу лапки кверху поднимем и место в их грузинском рае станем вымаливать. Не дождутся! Но и говорить, что наши все как один бросились танки останавливать, тоже не честно. По-всякому было, одни — таких оказалось немного — трусливо бежали за Псоу. Другие, растерявшись, искали защиты у Господа, и лишь сотня молодых ребят пыталась остановить эту банду.
Первыми, как всегда, гибли самые беззащитные. Истерзанные тела женщин, детей и стариков сутками лежали на улицах. Невыносимый смрад и едкий запах гари висел в воздухе. И, чтобы остановить бойню, Владислав Григорьевич пошел на перемирие. По его указанию Сергей Багапш, Александр Анкваб и Заур Лобахия отправились в захваченный гвардейцами и бандитами из «Мхедриони» Сухум. Три дня шли переговоры с Китовани. Чего это им стоило, в окружении отморозков, знают только они сами. Вроде как договорились вывести все войска из Сухума.
Наивные! Кому поверили? Бывшим каталам и кидалам! Пока шли переговоры, эти мерзавцы втихаря укрепили позиции и подтянули свежие силы. Наши за это время не сделали ни одного выстрела. Шева, похоже, посчитал, что нам каюк, и не стал церемониться.
Под дудку американцев запел и пообещал, что за двадцать четыре часа наведет в «Западной Грузии конституционный порядок». Козел безмозглый! Грозил всех в кандалы заковать. Лучше бы их для себя приберег! Таких, как он, надо сажать в клетки, возить и показывать по миру, чтобы другим неповадно было.
Мерзавцы, они все одним миром мазаны! Для них грузины — такое же пушечное мясо, что и русские. Грозились сто тысяч своих положить, но только чтобы ни одного абхаза в живых не осталось.
Вспомнив про угрозы министра обороны Грузии Каркарашвили, Батал осекся, но через секунду снова вернулся к рассказу:
— Три дня, пока шли переговоры, их пушки молчали, а потом, как только наши отошли за Гумисту, эти кидалы тут же похерили договоренности и обрушились на нас всей мощью артиллерии и авиации. Морской десант с Каркарашвили высадился у Гагры и захватил город, чтобы отсечь помощь братьев из Адыгеи, Кабарды и Кубани. Их бронированные клещи вгрызались и рвали на куски нашу оборону. Десять танков по нижней дороге у Эшер прорвали фронт и двинулись к Новому Афону. Ребята — ополченцы из университета затаскивали на скалы копны сена, поджигали и сбрасывали на них. В ход шло все: «зажигалки» — бутылки с зажигательной смесью, канистры и автомобильные камеры с бензином, но враг не останавливался и продолжал упорно лезть вперед.
Обращения за помощью к родине, которая была матерью для наших отцов, не нашли ответа. Москва Ельцина оставалась глуха к нашей мольбе. Алчные властолюбцы, им было наплевать на то, что происходило здесь, в Абхазии, в Карабахе или Приднестровье. Людские жизни, Союз — все для них стало пустым звуком в безумной жажде власти, они торопились поделить великую страну. Говорят, прежде чем Шеварднадзе решился бросить банды Китовани и Иоселиани на нас, он разговаривал с Ельциным, и тот дал два дня, чтобы усмирить «бунтовщиков», а потом они договорились встретиться в Красной Поляне, чтобы отметить победу. Может, тех слов не было сказано, но за них говорят мерзкие дела.
А 14 августа, когда на улицах Сухума вовсю грохотала артиллерийская канонада, бушевали пожары, появились убитые и раненые, произошло знаковое событие. Можно как угодно к этому относиться, но факт остается фактом — первыми жертвами стали не наши ребята, а русские офицеры.
Три грузинских вертолета зашли на город с моря и нанесли удар не по ополченцам, остановившим колонну Китовани на походах к Красному мосту, или расположению абхазского батальона милиции, а по санаторию ПВО России. Уж его-то перепутать с любой другой целью просто невозможно. Двух таких высоток в Сухуме просто нет! Погибли майор с женой из Питера и еще один офицер с ребенком. В Тбилиси знали, что делали. Я думаю, уже тогда Шева и американцы, метя в Абхазию, на самом деле били по России. Сильная Россия им не нужна, не для того они столько лет разваливали Союз. Им нужны только слабые и послушные.
Скажешь, я не прав? Так за меня говорят факты. Американцы и турки уже вовсю хозяйничают в Тбилиси и Баку, а теперь в Москве пытаются рулить, как у себя дома! Правда, тогда, в девяносто втором, мы, я имею в виду нормальных людей, у которых не доллар в глазах и совесть чиста, наивно полагали, что для этих ельциных, кравчуков и шеварднадзе русские, украинцы, грузины и абхазы были их народом.
Слепцы! Как мы жестоко ошибались! Они — эти «ум, честь и совесть эпохи» давно смотрели на нас как на быдло! Для меня все стало ясно во время боя за Красный мост.
Батал нервно затянулся и продолжил рассказ:
— Это было что-то запредельное! В Новом Афоне, Пицунде и Гаграх люди еще наслаждались жизнью: купались, загорали, пили и ели, а у Красного моста уже лилась кровь и гибли невинные. Чтобы остановить эту бойню, Владислав Григорьевич попытался связаться с Ельциным. Тот брюхо грел тут под боком, в Бочаровом Ручье. Трубку взял Коржаков — был такой цепной пес при кремлевском хозяине. Знаешь, что он ответил? «Не беспокойте, Борис Николаевич в море»…
Даже спустя годы Батал не находил слов от душившего его гнева:
— Нет! Ты только представь!.. Они, сволочи, купались, жарили животы на солнце и преспокойно жрали водку, а всего в сотне километров танки гусеницами утюжили народ, его народ!
Наши от такого ответа потеряли дар речи, а когда пришли в себя, попытались еще раз выйти на Ельцина, но опять напоролись на Коржакова. Тот как ножом отрезал: «Чего вы лезете, вам русским языком сказано: Борис Николаевич ловит…» и бросил трубку.
Теперь видишь, чего «наловили» эти негодяи! Ну да бес им друг, а свинья товарищ.
К счастью, не все они решали, Провидение хранило нас. Кубанские и донские казаки, крепкие парни из Приднестровья и Донбасса, братья по крови адыги и черкесы, чеченские добровольцы с Шамилем Басаевым кто вплавь, а кто по заснеженным перевалам пробивались к нам на помощь. Их не могли остановить ни запреты, ни пограничные кордоны! Они шли сюда по зову совести, чтобы сражаться за ту нашу общую Родину, которую предали и продали такие сволочи, как ельцины, кравчуки и шеварднадзе.
Журналист Саша Горшков, поэт Саша Бардодым, положившие здесь свои жизни, и сотни других парней со всего Союза в тот трудный час для нашей маленькой родины встали рядом. Многие не служили в армии и не держали в руках оружия. Они пришли сражаться за правду и за ту Великую Родину, от которой никогда не отделяли Абхазию.
Батал презрительно усмехнулся:
— Деньги! Богатство! Это наглая и бессовестная ложь, которой хотели прикрыться те, кто развязал войну. Идиоты! Им не дано понять, что кроме презренного злата есть неизмеримо большие ценности — совесть и честь! Пусть на помощь пришли не тысячи, но уже одно то, что мы не одни, подняло наш дух и дало сил выстоять и не сломаться. А положение было критическое. В первую неделю грузины захватили Сухум, с моря взяли Гагру и вышли на границу с Россией, но мы, зажатые между горами и морем, не теряли надежды.
Помнишь, как в той песне Высоцкого: «Вперед и вверх, а там… Ведь это наши горы. Они помогут нам!»
И они помогли, другой земли у нас не было и нет. Победа пришла позже, а тогда, в августе, эти мерзкие шакалы, опьяненные нашей кровью, упивались победой. Каждый день с высот над Гумистой и Бзыбью, сжав зубы, мы наблюдали, как эти нелюди разрушали наши города и села, мучили и истязали наших матерей и сестер. За завесой наглой клеветы и дезинформации они пытались скрыть правду. Но ни минные поля, ни заградительные отряды, ни свирепствовавшая полиция сатрапа Ахалаи, опутавшая каждый квартал, каждый дом паутиной страха и доносительства, не могли заглушить голос правды.
Разведчики, узники, чудом вырвавшиеся из застенков Ахалаи, рассказывали о зверствах и истязаниях, творимых гвардейцами и полицейскими. Об этом трудно и невозможно говорить, но это надо знать.
Батал смолк, достал из пачки новую сигарету нервно помял в пальцах, но так и не закурил. Его слова, тяжелые, как камни, обрушились на меня:
— Миро Цецхладзе убили лишь за то, что его сыновья— грузины ушли в наше ополчение, чтобы защитить свой дом и свою землю. Нелюди — искололи ему грудь штыками, а затем отрубили руки.
В этот же день до смерти был замучен Адлейба Сирбия, ветеран еще той — Великой Отечественной войны. Вся его вина состояла в том, что он, абхаз, осмелился сказать своим мучителям правду. Бедного старика забили до смерти прикладами и в приступе звериной злобы не пощадили жену— грузинку. Пули изрешетили хрупкое тело женщины, а она на глазах остолбеневших палачей шла к тому, с кем делила радости и горе. Великая любовь дала ей силы, чтобы и после смерти они остались вместе. Еще долго над осиротевшим двором гремели выстрелы, терзая бездыханные тела, слившиеся навеки в последнем объятии.
Эти чудовища не останавливались ни перед чем! В них не сохранилось ничего человеческого. Варвары! Зверье! Они вымещали злобу на безвинных стариках, женщинах и детях. Под Келасуром загнали людей в трубы на газораспределительной станции и замуровали. Средь бела дня застрелили в квартире сухумскую художницу Равилю Мухаметгалиеву и таких…
Батал осекся, от нервного спазма у него перехватило дыхание. Я подлил в стакан сока, но он не притронулся, провел ладонью по лицу, словно пытался избавиться от прошлых жутких воспоминаний. Ветер трепал его тронутые ранней сединой густые волосы, смахнул с пепельницы давно потухшую сигарету. Батал, казалось, ничего не видел и не слышал и находился в прошлом. Я, не меньше его потрясенный услышанным, не знал, как дальше продолжить разговор. Батал сделал это за меня, очнувшись, он с ожесточением произнес:
— Терпеть такое было выше человеческих сил. Наши сердца переполняла лютая ненависть к палачам, и командиры уже не могли удержать нас. Мы, не думая о смерти, 16 марта без колебаний пошли в бой, чтобы расквитаться с этой мразью. В предрассветном полумраке цепи разведчиков, взвода абхазской, армянской рот, кубанские и донские казаки поднялись в отчаянную атаку. Это был первый и самый трагический штурм Сухума.
Как назло, выпал снег, такого на моей памяти еще не было. Ноги тонули в сугробах. Ледяная мартовская вода обжигала тело, острые камни рвали одежду и до крови рассекали руки, но никто не проронил ни слова, не издал ни единого стона. В стремительном броске мы форсировали Гумисту и залегли в прибрежных скалах. Разведчики ушли вперед проделывать проходы в минных полях и снимать неприятельские дозоры. Пулеметчики и минометчики занимали позиции, чтобы поддержать наступающих и первым залпом накрыть огневые точки противника. Родная ночь хранила нас, но предательский свет ракеты выдал разведчиков.
Тишину вспороли пулеметные и автоматные очереди, заухали тяжелые минометы, и надрывный вой смерти обрушился с небес. Земля содрогнулась, и стена артиллерийского огня отрезала нас от основных сил. Пулеметные очереди прижимали к земле и не давали поднять головы, оставался единственный выход — вперед, на врага. В стремительном броске мы ворвались в передовые окопы.
Батал прервал рассказ. Груз тяжелых воспоминаний мрачной тенью лег на его открытое лицо, а когда он вернулся к нему, то каждое слово давалось с трудом:
— Рукопашная!.. Это самое суровое испытание войны! В ней нет выбора — или ты, или он. В такие мгновения, когда смерть смотрит в лицо, в тебе умирает человек. Изнутри, нет, не из сердца, а откуда-то из неведомых глубин души вырываются самые темные силы, и ты превращаешься в дьявола. Ты живешь только одним — растерзать, разорвать и уничтожить подобное тебе существо.
Сначала грянули разрывы гранат, а через мгновение, заглушая их и шум боя, над цепью окопов зазвучал яростный рев и мат. Первые лучи восходящего солнца багровыми всполохами засверкали на кончиках штыков и булатной стали ножей и кинжалов. Мы сошлись в рукопашной! Клубки окровавленных тел извивались на земле, кусали, терзали и кромсали друг друга в слепой ярости. Стоны раненых и мольба умирающих неслись из-под ног, но на них никто не обращал внимания. По телам своих и чужих мы рвались наверх, к злобно тявкающему пулемету. Смерть вырывала одного бойца за другим. Атака захлебнулась, и пришедший в себя враг обрушил на нас шквал огня. В воздухе зависли вертушки, и свинцовый дождь пролился новыми смертями по нашим обескровленным цепям.
Эта мясорубка продолжалась до глубокой ночи, и только под ее покровом немногие сумели возвратиться назад. Потом небо над Сухумом еще долго полыхало от трассеров и сигнальных ракет — это торжествующие гвардейцы праздновали победу. Мы же переживали настоящий шок, потери, казалось, невосполнимы, души были опустошены, а сердца переполняли горе и отчаяние. С провалом наступления, в которое было вложено все, таяла надежда на победу. Последнее, что у нас еще оставалось, так это вера. Ее символом стал наш президент.
Батал с вызовом посмотрел на меня:
— Да-да! Президент! А сегодняшние кривые ухмылки и злословие пусть останутся на совести тех, кто во время войны отсиживался за Псоу. Сейчас, когда он болен, легко вешать на него всех собак, а тогда, в те невыносимо тяжкие дни, именно Владислав Григорьевич сумел нас объединить, и мы смогли выстоять и победить!
Мне нечего лебезить и заискивать. Я был простым бойцом и остаюсь рядовым гражданином! Я единственный в семье и по указу президента не подлежал призыву. Можно было остаться в Харькове, спокойно окончить институт и сесть на «теплое местечко». Декан, когда отдавал документы, так и сказал: «Батал, это не твое дело. Те, кто эту кашу заварил, пусть сами и расхлебывают».
Отец тоже писал, звонил и просил не приезжать. Его можно понять, он долго ждал ребенка — целых пятьдесят три года. А когда я увидел свет, он был на седьмом небе от счастья и гордился тем, что род Ахба будет продолжен.
Губы Батала дрогнули и, нервно теребя сигарету, он тихо произнес:
— А мне что было делать?! Что? Оставаться в стороне и смотреть, как враг терзает мою землю, убивает родных и друзей?! Но кому тогда нужен род Ахба, если у него не будет родины?! Кому?!
С этими словами голос Батала окреп, в нем звучала гордость за свой народ и президента Ардзинбу:
— Слава богу, так думало большинство. Нам было невыносимо тяжело, и президент сумел найти те самые слова, которые возродили надежду в наших сердцах. Он смог выразить то, что было в душе каждого из нас, и слить любовь к Родине и ненависть к врагу в такой невиданный сплав, который оказался не под силу ни танкам, ни самолетам, ни бешеным деньгам, которые в нашей крови отмывали мерзавцы в Тбилиси и Москве.
Я и сейчас помню каждый жест и каждую фразу той Великой речи президента. Они и сегодня, спустя шесть лет, живут во мне и дают надежду на то, что когда-нибудь все будет нормально. Они заслуживают того, чтобы повторять их снова и снова:
«У народа, потерявшего землю отцов, нет будущего. И, пока жив ее последний гражданин, никто и ничто не сможет покорить ее. Я останусь со своим народом и разделю его судьбу, какой бы трудной и трагической она ни была. Но я верю, что победа будет за нами! На нашей стороне правда и справедливость! С нами наши братья с Кавказа! С нами русский народ! С нами дух наших великих предков, сумевших во все века отстоять от врагов и сохранить нашу любимую Абхазию!»
Эти слова президента вмиг облетели всю республику. Люди воспрянули духом и повторяли как молитву: «Владислав с нами до конца! Он верит в победу!»
Батал перевел дыхание и продолжил:
— Он был с нами не только словом, но и всем сердцем, душой и делом! Его вера и стойкость, несмотря на тяжелейшее положение на фронтах, оставались непоколебимы. У меня и других бойцов не возникало и тени сомнения в том, что Владислав Григорьевич может дрогнуть, отступить, а тем более сдаться. Поверь, это не просто красивые слова. Он доказал это на деле.
Шли тяжелейшие бои за Цугуровку, Шрому и Ахбюк, ставшие кульминацией войны. Ахбюк по нескольку раз переходил из рук в руки, как мы, так и гвардейцы хорошо понимали, что эта высота — ключ к Сухуму. В очередной раз нам удалось овладеть ею, и не успели мы закрепиться, как они подтянули резервы и пошли в контратаку. Грузины — вояки так себе, но тут озверели и, не считаясь с потерями, перли на нас. С воздуха их постоянно прикрывала авиация, а артиллерия без перерыва била по нашим позициям и не давала поднять головы.
Мы упорно цеплялись за каждый бугорок, за каждую ложбинку, но их тяжелые батальонные минометы выкашивали наши ряды. Все, кто еще мог держать оружие в руках, даже тяжелораненые, ушли на передовую, это ненадолго остановило врага, но не спасло положение. Из города к ним подошли свежие силы, и они возобновили атаки. Мы отступали, сдавая одну позицию за другой, к полудню положение сложилось критическое. Казалось, еще одно их усилие — и фронт будет прорван.
В те роковые часы вся Абхазия замерла в напряжении. Вести из-под Ахбюка приходили одна горестнее другой. Люди готовились к самому худшему, и тогда президент объявил всеобщую мобилизацию. В Гудауте собрались старики и мальчишки из восьмых и девятых классов, остальные уже воевали. Матери прощались с сыновьями, старики сурово молчали и примерялись к оружию. Владислав Григорьевич отказался принять такие жертвы, собрал всех, кто еще оставался в штабе, их оказалось совсем немного, и отправился на фронт.
Его появление на передовой для бойцов и командиров явилось полной неожиданностью. Он не кричал и не командовал, он просто занял место в строю и делал то, что делает рядовой на любой войне. Одно только это вернуло нам уверенность и заставило забыть о смерти. Можно привести самые возвышенные слова, но и они не передадут то состояние духа, что овладело каждым из нас.
Наступил момент истины! Цепи ополченцев поднялись из окопов и ринулись в атаку. Рядом с нами шел Владислав Григорьевич. В те минуты мы стали одним целым, и казалось, ничто не могло остановить наш порыв. Но гвардейцы вцепились намертво в позиции, а когда узнали, что он среди нас, принялись яростно контратаковать. В какой-то момент мы дрогнули и попятились назад.
Перед нами затрещали кусты, и на поляну, прямо на Владислава Григорьевича выскочил растрепанный боец, за его спиной мялись еще двое. Паника на войне — это самое страшное, и ее остановить можно, пожалуй, только пулей. Они узнали президента и обреченно уронили головы. Минуту, может больше, длилась пауза. Владислав Григорьевич смотрел на новенький гранатомет в руках бойца, на потухшее лицо, и в его взгляде не было ни злобы, ни ненависти, а плескалась такая досада и боль, что нам всем стало невыносимо стыдно за свою слабость.
«Ну, какое тебе еще надо оружие, чтобы отстоять свою землю?!» — с горечью сказал он. Эти простые слова были для нас сильнее самого пламенного призыва. Мы снова поднялись в атаку и, несмотря на ожесточенное сопротивление гвардейцев, отбили позиции. Потом были бесконечно долгие и невыносимо трудные дни и ночи на пути к победе. Но именно там, под Ахбюком, мы окончательно поверили, что рано или поздно она придет к нам, потому что ради нее каждый из нас, начиная от президента и заканчивая простым бойцом, готов был стоять до конца.
Батал на мгновение ушел в себя, а затем просто и буднично сказал:
— Этот долгожданный и хрупкий мир наступил 30 сентября 1993 года. Мы были необыкновенно счастливы и в своем стремлении хотели сделать его лучше, добрее, чтобы уберечь от той беды, которая постигла нас. Но он не пожелал понять нас и надменно отвернулся. Нас загнали блокадой в большую «зону» за те преступления, которые мы не совершали, и лишили права на элементарную человеческую жизнь. В России многие на второй день забыли про нашу войну, а где-нибудь в Тикси или Бобровке, я думаю, даже не знают, что есть такая страна, как Абхазия!
На этой грустной ноте Батал закончил свой рассказ и, чтобы меня не обижать, деликатно заметил:
— Пойми меня правильно, я никого не упрекаю. Многие тогда посчитали, что Горбачев с Ельциным не поделили власть и один сожрал другого. Для них Москва как стояла, так и осталась стоять. Местные начальнички как сидели на своих местах, так и остались сидеть, с той лишь разницей, что партийные билеты поменяли на депутатские корочки, а ближе к сердцу вместо значка с «вечно живым Ильичом» положили заветную чековую книжку.
Собственно, чего о них говорить! Бог им судья за то, что они сотворили с нами и страной. Прошлого не вернуть. А что будет с нами и вами завтра? Сейчас американцы учат вас, как жить, но, слава богу, говорите вы пока по-русски. Мерзко и отвратительно от того, что в девяносто шестом в Чечне продажные политики сделали с армией — бросили ее против собственного народа. Презрение вызывает бесстыдство новых нуворишей, ободравших собственный народ как липку. Сегодня вас не пинает разве что ленивый, но я не сомневаюсь, рано или поздно, как уже не раз бывало в истории, Россия пройдет через эти беды и поднимется с колен.
Другое дело — мы, те, кто, как говорят политиканы, жил на национальных окраинах «империи зла». Для нас тот роковой август обернулся таким моральным и нравственным ударом, от которого многие не оправились до сих пор.
Голос Батала задрожал от негодования.
Нет! Как они могли! Подлые твари, посчитав нас безгласной скотиной, поделили страну, народ, а затем катком пещерного национализма прокатились по нашим судьбам и жизням. До сих пор мы напоминаем части разрубленного тела, которые, содрогаясь в конвульсиях, продолжают тянуться к живительным артериям, питавшим некогда единый организм. Но они, эти нелюди, дорвавшись до власти, рвут последние нити, что еще связывают нас, торопятся выжечь и вырвать из сознания даже само упоминание о той нашей общей родине.
Абхазия испытала все это сполна. С первого дня оккупации малоизвестный художник, зато известный вор в законе Джаба Иоселиани со своими ублюдками запретили абхазский и русский языки, сожгли наш национальный архив. Сволочи! Они толпами гнали евреев, греков и армян к кораблям, лишь бы те поскорее освободили для них дома и земли.
«Великая Грузия — для грузин!» Это тебе что-то говорит?! Нет, они принадлежат не сумасшедшему ефрейтору, а «просвещенным эстетам» из Тбилиси. Утверждают, что СПИД — это чума XX века. Глубочайшее заблуждение! Национализм — вот настоящий бич человечества! Он пробуждает в людях такие черные и демонические силы, перед которыми меркнут даже злодеяния Ирода. Посмотри, что творится в сытой и благополучной Англии, просвещенной Франции и Испании. Тысячелетняя культура и незыблемая мораль летят ко всем чертям перед этим неистребимым вирусом. Он поражает больных и здоровых, умных и дураков. Я испытал его на собственной шкуре.
Как-то после войны поехал в Харьков, хотел восстановиться в институте. Чем, думаешь, кончилось? Правильно! Как вспомню, так начинает трясти. Сижу на лавке в парке Шевченко, рядышком парочка негров, болтаем ни о чем. Подходят менты, на них — негров — ноль внимания, а меня за шкирку — и в участок. Я спрашиваю: «За что?!» А они: «За то, что морда черная». Я им: «У них чернее». «Заткнись! Это наши гости!» — рявкнул сержант. «А я кто тогда?! — И тычу в его наглую рожу паспорт. — Вот, смотри! Он такой же, как у тебя, и говорим мы с тобой на одном языке!» Думаешь, слушать стали? Нет! У них кроме резинового дубья других аргументов для меня не нашлось.
Ладно, этих «голубых» можно понять. Им дали команду молотить демократов — молотили, потом коммунистов, а сейчас всех подряд, кто рожей не вышел. Что окончательно убило, так это когда на меня накинулись тетки и пацаны. «Бандит!
Чечен! Морда черножопая!» — надрывалась одна, а другая все норовила лицо поцарапать. В общем, кинули меня в «обезьянник». Там, как водится, отобрали часы, деньги и размазали по стенке. Через пару дней вернули паспорт и сказали, чтобы духу моего ни в Харькове, ни на Украине не было.
Добирался домой, как какой-то шпион, прятался на третьих полках и в тамбурах. Перед глазами мелькали знакомые по прошлым поездкам в институт города и станции, рядом звучала привычная речь. Но это уже была другая жизнь и другая страна, в которой для таких, как я, не нашлось места. Мы стали чужими в этом новом мире, я имею в виду не только себя, но и тех русских, армян, греков, кто после девяносто первого остался в Абхазии.
Тяжело вздохнув, Батал уже без прежней ожесточенности заметил:
— В мире много несправедливости, но я верю, что как бы там ни упирались в Тбилиси, а мирный договор когда-то будет подписан. Рано или поздно все войны заканчиваются миром. Но кто и когда сможет остановить войну, что поселилась в наших сердцах, залечить страшные рубцы в памяти народов, порожденные взаимной ненавистью и горечью утрат?! Говорят, время лечит все, даже самое тяжелое горе. Возможно. Я думаю о другом: сумеем ли мы пронести через годы светлую любовь павших к Родине? Устоит ли наша бескорыстная военная дружба, когда мирная жизнь рассадит нас по разным креслам?.. Не знаю, не знаю…
Спустя пять лет тот наш разговор с поразительной точностью всплыл в моей памяти. Помнил ли о нем Батал, я пытался прочесть ответ на его отрешенном лице. И он словно услышал меня, отшвырнул давно погасшую сигарету, виновато посмотрел на вернувшихся к столу Феликса с Бено и, потупившись, глухо произнес:
— Извините ребята, что хлеб-соль испортил.
— Ладно, забудь! С этими выборами мы все стали ненормальными, — примирительно сказал Феликс и потянулся к графину с вином.
Батал положил руку на стакан, его лицо исказила болезненная гримаса, и с ожесточением произнес:
— Вот ты, Феликс, пожил немало, так скажи, почему на войне мы были вместе, а теперь стали чуть ли не врагами?! Что происходит с нами? Одиннадцать лет назад мы с Денисом сидели в одном окопе, а сейчас из-за Рауля и Багапша готовы друг другу грызть глотки! Сердцем понимаю, что Багапш с Денисом не меньше меня и Рауля любят Абхазию, а вот умом… Нет, не знаю! С Владиславом и Раулем, я уверен, — грузины никогда не войдут в Сухум, а вот с Багапшем и Анквабом…
— Опять ерунду порешь! — перебил Феликс.
Назревала очередная ссора, и Бено поторопился разлить вино по стаканам.
— Не надо! Не буду портить вам настроение, посидим в другой раз, — отказался Батал и поднялся из-за стола.
Мы не стали его уговаривать, вечер оказался окончательно испорчен. Я с грустью смотрел ему в след, и у меня перед глазами возник совершенно другой Батал — из уже ставшего таким далеким прошлого.
Тот вихрастый юноша из послевоенной Ачандары чем-то неуловимо выделялся среди ребят из местной волейбольной команды, с которой мы сошлись в финале. Из-под длиннющих смоляных ресниц бездонными голубыми озерами смотрели не по-юношески серьезные глаза. В них смешались любопытство с неподдельным интересом ко мне, Володе и Юре, приехавшим из России и игравшим за команду Сухума. Мы были первыми в этом высокогорном селе пришельцами из другого мира и из другой жизни — нетронутой и не опаленной пожаром войны. Затем невольно мой взгляд искал его на волейбольной площадке; у реки, где вместе плескались, смывая после игры пот и соль; за праздничным столом и среди танцоров.
Он постоянно был в движении. Азартно и яростно сражался за каждый мяч. Потом во дворе Назима Ахбы вместе с Масиком, Фиридоном и Левиком, подобно челноку, сновал между гостями и столом. А когда грянули первые аккорды, расправив, словно крылья, широченные рукава рубахи, закружил в завораживающем танце вместе с юной Асидой. Каждое их движение было исполнено глубоким чувством.
Ритм барабана нарастал, руки Зурика порхали над ним с невероятной быстротой. Не отставал и Батал. Его ноги едва касались земли, и казалось, что он парит над нею. Зрители восторженными возгласами поддерживали музыканта и танцоров в этом соревновании ритма и движения.
Не усидел на месте невозмутимый Гена Квициния — капитан команды сухумчан. Его статная, могучая фигура величаво выплыла на середину круга. Вслед за ним взлетел и заплясал в искрометной и зажигательной лезгинке Юра Марухба. Хрупкая фигурка девушки то нежной белой лилией припадала к мощному плечу Гены, то грациозным лебедем плыла вокруг Юры, то русалочкой лукаво манила и ускользала от Батала. В круг вступали все новые и новые танцоры. Вихрастая голова юноши вскоре затерялась в толпе.
Поздно ночью закончился этот оставшийся навсегда в нашей памяти вечер в Ачандарах. Здесь, у нетронутых альпийских лугов, на берегу стремительной горной реки, берущей начало у вечных снегов, вопреки времени произошло невозможное. Я возвратился в свое не столь отдаленное прошлое. Прошлое, которое не было замутнено духом стяжательства и алчности, отравлено ядом эгоизма. Где слова «друг» и «Родина» были неизмеримо дороже роскошного шестисотого «мерседеса» или пятизначного счета в «Бэнк оф Америка». Прошлое, когда ты был счастлив в скромной каморке в пик курортного сезона у стен Пантелеймоновского монастыря в Новом Афоне больше, чем в помпезных апартаментах московского «Президент-отеля», и бесконечно рад встрече со старыми друзьями…
С того памятного вечера прошло восемь лет, которые так и не приблизили нас к нашей мечте, а, кажется, только отдалили. И эта сегодняшняя встреча с Баталом, закончившаяся ссорой с Денисом, до глубины души потрясла меня. Спина Батала давно пропала за пальмами, а я все смотрел ему вслед и с грустью думал: «Неужели то прекрасное и полное надежд время, которое нас всех связывало в прошлом, больше никогда не вернется?! Что будет сегодня и что ждет завтра моих друзей? Друзей, каждый из которых по-своему был мне дорог. Кто и что сможет погасить вспыхнувший в их душах безжалостный огонь вражды и смягчить взаимное ожесточение?
Господь?..
Божественная красота этой неповторимой земли?..
Так все-таки — что?!
Великое Слово?! — И слабая надежда согрела меня. — Может, как и тогда — во время ожесточенных боев за Ахбюк, Цугуровку и Шрому, когда решалась судьба Абхазии и ее народа, — кто-то мудрый и справедливый снова найдет то самое заветное слово, которое примирит моих друзей, и на лице Батала опять появится открытая, добрая и обезоруживающая улыбка».
Глава 14
Сухум лениво и неспешно просыпался после сладостной и расслабляющей утренней неги, которую испытываешь только здесь. В пацхах, над трубами печей закурились сиреневые дымы, ближе к рынку открылись двери кафе. Несмотря на ранний час, на приморской набережной, на пятачке у знаменитой «брехаловки» появились заядлые шахматисты и «козлятники», Те же, кто пришел узнать самые горячие новости и почесать языки, выстроились в оживленную очередь к «Кофейне Акопа».
Жизнь на улицах города только начала набирать обороты, а перед входом в Русский театр уже возбужденно гудела толпа. До начала спектакля «Много шума из ничего» оставалось целых девять часов, но главный зал был заполнен до отказа и гудел, словно растревоженный пчелиный улей. За все послевоенные годы он еще не видел столько молодых лиц, изредка среди них попадались уже примелькавшиеся физиономии искушенных политических бойцов. Они скромно держались в тени и предпочитали занимать места где-нибудь в средних рядах.
На сцене, как во времена их бурной комсомольской юности, группа ребят из молодежного движения «Ахъца» с энтузиазмом расставляла столы и стулья для президиума, а над трибуной колдовали двое юношей, устанавливая и проверяя микрофон. Между рядов сновали опоздавшие и искали свободные места. Повсюду, даже в унылом фойе и поблекших от безвременья фотопортретах артистов, ощущалась приподнятая, почти праздничная атмосфера школьного утренника, на котором строгий директор и зануды учителя на время разрешили ученикам поиграть во взрослых. И они, искренне веря им, всей душой отдавались коварной политической игре старших.
Вскоре сутолока в проходах и на сцене улеглась, президиум занял места, и из старых, осипших динамиков зазвучал гимн. Грохот стульев и шарканье ног на время заглушили его, но вскоре молодые и сильные голоса, подпевавшие певцу, вернули залу строгость и торжественность. Затем наступила многозначительная тишина, в президиуме умело держали паузу, еще больше подчеркивавшую важность всего действа. Наконец председатель с легким волнением в голосе объявил об открытии собрания.
В первых рядах громыхнуло кресло, в воздухе прошелестел легкий шепоток и по ступенькам к трибуне взлетел молодой человек. Он и еще несколько ораторов-застрельщиков, волнуясь, произнесли речи, как плохо заученный урок, но постепенно дух грядущей революции, витавший в воздухе, поднял пафос выступлений. В зал «камнями» полетели гневные тирады, обличавшие «погрязших в вызывающей роскоши и рвущихся к власти коррупционеров и бывших партократов».
На перерыв ребята выходили, уже готовые со знаменами в руках верхом на броневике брать приступом штабы движений «Амцахара» и «Возрождение» с засевшими там «коррупционерами» и примкнувшими к ним «партократами». Оживленная толпа выплеснула меня в фойе, и там я столкнулся с Тали Джопуа, одной из героинь моего очерка «Абхазские мадонны».
За прошедшее с последней нашей встречи время она мало изменилась. Та же стройная спортивная фигура, уверенная и решительная походка, те же милые ямочки, появляющиеся при улыбке на щеках, напомнили мне прежнюю Тали. И в то же время, как мне показалось, это была другая Тали, в ее взгляде появилось больше жесткости, а жесты и движения стали более резкими, видимо, должность министра образования наложила свой отпечаток.
Мы узнали друг друга и с нескрываемой радостью пожали руки, но, к сожалению, спокойно поговорить не смогли. Тали — Герой Абхазии, давно ставшая живой легендой, всегда находилась в центре внимания, и на этот раз ребята обрушились на нее с вопросами. Перерыв подошел к концу, и все дружно повалили в зал, а у меня пропало всякое желание снова окунаться в наэлектризованную нетерпимостью атмосферу. Я вышел на улицу, с облегчением вздохнул и отправился в офис общественно-политического движения «Возрождение», чтобы встретиться с Бесланом Кубравой и потом, вместе с сыновьями: средним — Иналом и младшим — Асланом отправиться искупаться на море.
Но, похоже, в тот день неудачи преследовали меня. Политическая горячка захлестнула всех, в том числе уравновешенного и спокойного как удав Беслана. Нашел я его в кабинете одного из лидеров «Возрождения» Леонида Лакербаи. Они о чем-то оживленно говорили, к ним внимательно прислушивалась группа молодых активистов. Беслан заметил меня и только развел руками. Я с сочувствием покачал головой, вышел в коридор и там нос к носу столкнулся с Майей, еще одной героиней, которая дала жизнь очерку «Абхазские мадонны».
Она тоже была искренне рада неожиданной встрече. Мой удрученный вид тронул ее и, несмотря на занятость, Майя нашла время и пригласила в свободный кабинет. Пока готовился кофе, я делился впечатлениями от встречи с Тали. Шесть лет назад именно Майя познакомила нас. Странно, но она не проявила к этому интереса, рассеянно слушала и перебирала бумаги на столе. Я так увлекся рассказом, что не заметил, как на ее лицо набежала тень, а в глазах появился обжигающий холодок. В какой-то момент она не сдержалась и сказала так, словно отрезала:
— Николай, Тали меня не интересует! Мы с ней слишком далеко разошлись!
— Как же так?! Вы же вместе воевали? И потом… — изумился я.
— Мне бы не хотелось говорить об этом, — остановила меня Майя.
— Но почему?..
Телефонный звонок прервал этот вдруг ставший трудным для нас обоих разговор. Майя подняла трубку, из которой донесся гневный голос руководителя одного из отделений «Возрождения». Он с возмущением сообщил о том, что местная администрация пытается закрыть офис и вставляет палки в колеса в работу активистов. Она внимательно слушала, изредка задавала вопросы, что-то помечала в тетрадь, и, когда разговор закончился, у меня почему-то не нашлось слов вернуться к беседе. Неловкую паузу разрядила шумная группа ребят. Грядущая предвыборная лихорадка и бескомпромиссная политическая борьба безжалостно диктовали свои правила и не оставляли места для житейских мелочей. Майе стало не до меня, я, почувствовав себя лишним, незаметно покинул кабинет и вышел на улицу.
Погода, даже по сухумским меркам, стояла просто на загляденье. На небе не было ни облачка, и солнце, ставшее необыкновенно ласковым, растворилось в бирюзовой дымке, висевшей над морем. В хрустально-чистом воздухе витал нежный аромат поздних роз. К нему примешивался сладковатый запах созревшей изабеллы, иссиня-черные гроздья которой обильно усыпали узловатые ветви лозы, плотным ковром покрывавшей фасады домов и беседки. Сквозь пышную зелень садов мириадами маленьких солнц проглядывала хурма. Желтоватый цвет уже окрасил плоды и напоминал о приближении сбора урожая.
Под ногами шуршал красно-желтый ковер из опавших листьев, и я, как когда-то в детстве, широко загребая ногами, погнал «волну» перед собой. По пути попадались гостеприимно распахнутые двери уютных забегаловок. Маняще звала музыка из «Кафе-студии Батала», но я не стал останавливаться — слишком хорош был день — и брел туда, куда меня вели ноги.
Впереди белоснежным миражом возникла знаменитая сухумская колоннада, за которой серебрилась морская гладь. За кустами олеандра, полыхавшими нежно-розовым огнем, проглянула главная достопримечательность «брехаловки» — «Кофейня Акопа». Прошло три года с тех пор как он умер, но его имя, похоже, навечно прикипело к этому неповторимому уголку Сухума, ставшему своеобразным «абхазским Гайд-парком».
Я прошел к свободному столику, спрятавшемуся под раскидистой кроной олеандра, и, подчиняясь безотчетному чувству, присел на лавку. Рука невольно потянулась к простенькой металлической пепельнице, а взгляд искал незамысловатую, прочерченную гвоздем на доске надпись. Она была на месте, лишь слегка потускнела от времени и непогоды. Казалось, здесь ничего не изменилось после той нашей первой беседы с Ириной, натолкнувшей меня на мысль об очерке о трех замечательных женщинах, с двумя из которых я только что встретился.
Нахлынувшие воспоминания снова возвратили меня к тем прекрасным дням, подарившим незабываемую радость встреч с ними. Я повернулся к центральной аллее, и мои глаза невольно остановились на арке…
Ирина… Когда, в какой момент появилась она?! Она возникла из этого пьянящего воздуха, бесконечного неба, теплого моря и ярких солнечных лучей. Легкой уверенной походкой пересекла улицу и вышла на нас с Виталием Чамагуа, главным редактором газеты «Республика Абхазия».
Светло-синий брючный костюм, темный с искоркой жакет подчеркивал достоинства ее статной фигуры. Перехваченные кокетливым бантом пышные каштановые волосы задорно развевались на ветру, а волнистая прядь озорно ниспадала на высокий лоб. Большие серые глаза, смоляные крылья бровей, тонкий овал лица с чувственными губами и маленькой родинкой над верхней губой завораживали и, как магнит, притягивали взгляды мужчин.
Занимавшие соседний столик «новые абхазы» перестали обращать внимание на попискивание сотовых телефонов и откровенно пожирали ее глазами. Два усача, долбившие вопросами журналиста Сергея Арутюнова о том, что станет с Грузией, если Абхазия нанесет упреждающий удар по ее хозяину — Америке (знай об этом в Вашингтоне и Тбилиси — наверняка бы содрогнулись), резко поумерили пыл и переключили свое внимание на нее. На что уж степенны шахматисты и заядлые «козлятники», но и те забыли про игру и приняли охотничью стойку. Мы с Виталием их всех обломали.
— Ирина. Красивая женщина! — с восхищением произнес он и приветливо помахал ей рукой.
Она заметила нас и прошла к столику. Я не без гордости, с превосходством посмотрел в сторону «новых абхазов», а Виталий не удержался и сказал:
— Если такие женщины не проходят мимо, значит, мы еще чего-то стоим.
Ирина властным взглядом прошлась по нам, как по больному на операционном столе, и скептически заметила:
— Не стоит обольщаться.
— Это почему же?! — в один голос возмутились мы.
А она продолжала безжалостно разрушать возникшие у нас иллюзии.
— Тем более с такими золотыми цепями.
— Какие цепи?! Так, одно название, — скромничали мы.
— По нынешним временам с подобным снаряжением долго не протянешь, — вынесла Ирина суровый вердикт.
— Совершенно верно! Киллеры их давно заждались, — тут же поддержал ее подсевший к нам Сережа Арутюнов.
— Тебе, с твоим навороченным сотовым, конечно, виднее, — подозрительно быстро согласился Виталий и потом не преминул подпустить яду: — Хитрый ты мой, а зачем цепь снял?!
— Жить хочется, вот и пришлось сдать в ломбард. Кстати, там такая давка, что вы вряд ли успеете, — нанес ответный укол Сергей.
И пока старые приятели обменивались взаимными колкостями, Ира маленькими глотками пила кофе и с живым интересом наблюдала за ними. Ее строгое и кажущееся холодным лицо время от времени согревала мягкая улыбка, глаза лучились лукавыми морщинками, и в этот миг в ней появлялось что-то от озорного мальчишки и коварной обольстительной цыганки. Необыкновенной женственностью и притягательностью были исполнены ее жесты и движения.
Виталий и Сергей, продемонстрировав во всем своем блеске ораторский арсенал, затем деликатно перевели разговор на тему войны. Мрачная тень ее воспоминаний легкой тучкой прошлась по лицу Ирины, но она не замкнулась и, к моей радости, согласилась на встречу с Тали и Майей, о мужестве и героизме которых во время войны я уже был наслышан. После короткого обмена мнениями мы сошлись на том, что более подходящего места, чем фотостудия Володи Попова, нам не найти. Вопрос был решен, и Виталий предложил выпить еще по чашке кофе, но все дружно отказались.
К этому времени солнце поднялось над кронами могучих эвкалиптов и стало припекать спины. Ожил и запищал сотовый телефон у Сергея, звонили из корпункта, он извинился и отправился к себе. Виталий еще какое-то время оставался с нами, но подошел час сдачи газеты в набор, и мы с Ириной, проводив его до редакции, не сговариваясь, решили прогуляться по тенистым улицам города.
Дорога, описав замысловатую петлю среди полыхающих осенним пожаром цветочных клумб, круто пошла в гору. Начались старые — конца XIX века — кварталы аристократического Сухума. Время и война не пощадили их, но даже они не смогли уничтожить тот особенный дух, которым дышали каждый камень мостовой и стены так не похожих друг на друга двух— и трехэтажных особняков.
Это был особенный мир, и мне уже почудилась в густых зарослях одичавшего инжира и виноградника хорошо знакомая по фильмам и фотографиям коренастая фигура, затянутая в серый френч. Из-за спины вождя зловеще поблескивал стекляшками пенсне «всесоюзный палач» Лаврентий Берия. Из венецианской беседки, чудом уцелевшей после взрыва авиабомбы, доносился бархатистый голос Антона Чехова. Его заглушал заразительно-звонкий смех артиста Геннадия Хазанова. Главный герой известной кинокомедии «Маленький гигант большого секса» нашел в этом чарующем уголке земли не только самых замечательных красавиц, а и лучшее на всем побережье от Анапы до Батума вино.
Веселый перестук молотков возвратил нас к действительности. У недавно отремонтированной больницы вокруг медицинского оборудования и груды ящиков оживленно сновали врачи, медсестры и рабочие. Незлобно подзуживая друг друга, грузчики осторожно спускали по доскам импортную аппаратуру и заносили в здание.
Ира приостановилась посмотреть на это заграничное медицинское чудо, ее лицо помрачнело, и она с горечью произнесла:
— Эх, тогда бы все это! Сколько ребят могли бы спасти! Нам не хватало элементарного, и от безысходности порой не хотелось жить. Даже не знаю, откуда только брались силы!
— Испытания мобилизуют, — обронил я.
— Наверное, — согласилась Ира. — И, если бы не мужество ребят, я не знаю… Нет, они не упрекали нас, а когда подступала смерть…
Она осеклась, ее глаза затуманились, и я услышал тронувшую меня до глубины души исповедь-рассказ:
— Его привезли на рассвете. Старенькая «нива», на которой, казалось, не осталось живого места, каким-то чудом добралась до полевого госпиталя, затерявшегося в горах. Два усталых и запыленных бойца бережно вынесли и положили на траву завернутое в одеяло тело. В слабом свете керосиновой лампы бледным, бескровным пятном отсвечивало лицо, и лишь по слабому трепету ресниц можно было понять, что жизнь еще не оставила его.
На шум голосов из палатки вышел Даур — хирург, воспаленными от бессонницы глазами посмотрел на бойцов, раненого и устало сказал: «Немедленно в операционную!»
Ребята подняли товарища, внесли под навес и положили на обрызганный кровью кухонный стол, отошли в угол и без сил рухнули на лавку. Борясь со сном, они не спускали с нас глаз. Даур нахмурился, но ничего не сказал. Сколько этих молящих, наполненных болью и живущих робкой надеждой взглядов пришлось вынести ему и нам. Они заставляли забывать об усталости, о крови, текущей по твоим рукам, не слышать пилы, вгрызающейся в плоть и кость. Мы жили только одним — вырвать у смерти еще одну человеческую жизнь.
Началась операция, фитилек в лампе задрожал и стал гаснуть — в керосине оказалась вода. Анетта тут же зажгла другую и подвесила на крюк под потолком. Вторая операционная сестра пододвинула табурет с кухонным подносом, на котором лежал скудный инструмент. Сейчас это может показаться невероятным, но тогда мы были рады альпинистскому ледорубу, принесенному ребятами с турбазы на Ауадхаре, ножовке по металлу и бинтам из нижнего белья.
Каждое слово Ирины было наполнено болью, но она продолжала свой рассказ:
— Мы лихорадочно спешили в этой гонке со смертью, кромсая ножницами и ножом заскорузлые, пропитанные кровью и гноем повязки. Даур заскрипел зубами от горечи, и было от чего: раны оказались ужасны, обе голени превратились в сплошное кровавое месиво, а таз и позвоночник раздробили осколки. Гангрена синюшными пятнами расползлась по ногам, надежды на спасение уже не оставалось, но мы продолжали бороться за жизнь.
Санитары телами прижали руки и ноги раненого к столу, Даур разжал ножом зубы, и чача обожгла гортань едва дышащего человека. Он судорожно закашлял и открыл глаза, губы силились что-то произнести, но с них слетал еле слышный шелест. Его взгляд остановился на мне, пальцы тронули и затем сжали мою руку. И потом, когда Даур осколок за осколком извлекал из истерзанного тела, а острые зубцы пилы кромсали кость, мы были вместе, и это давало ему силы вынести нечеловеческие страдания и невыносимую боль.
Давно был потерян счет времени в этой схватке со смертью. Солнце встало из-за гор, потухли фитили в керосинке. Вместе с ними угасала и надежда на спасение, гангрена довершала свое страшное дело. Он умирал, гримаса боли покинула лицо, ставшие огромными глаза, в которых плескалась неземная тоска, не отпускали меня, слабеющая рука продолжала бережно удерживать мою. Собрав остатки сил, он прошептал: «Как холодно. Не отпускай меня туда…»
В этот последний миг он не думал о боли и смерти. И потом еще долго трепетное тепло его ладони жило во мне. Оно согревало и поддерживало в самые трудные и роковые минуты, спасало и очищало от мерзости и грязи войны.
Дружный и заразительный смех прервал рассказ Ирины. У подъезда больницы шла веселая возня. Женщины, подхватив смущенного и робко сопротивлявшегося водителя, усадили в стоматологическое кресло. Над его головой со зверским выражением лица воинственно крутил рычагом бормашины здоровенный детина, а юркий юноша энергично щелкал фотоаппаратом. Оттуда, где резвилась эта куча-мала, нам что-то кричали и махали руками. Улыбка тронула губы Ирины, и облачко грусти сошло с лица. Она озорно подмигнула, в ней снова проснулся задорный мальчишка-сорванец, и, бросив на ходу:
— До встречи у Володи! — Ирина присоединилась к ним.
На следующий день в фотостудии Попова я с волнением ждал ее в надежде на скорую встречу с Майей и Тали. Людской круговорот ни на минуту не замирал в небольшом и по— домашнему уютном зале. На помосте в свете ярких ламп две актрисы из филармонии весело пикировались между собой и кокетливо поглядывали на мужчин. Володя, молча поигрывая желваками на скулах, в который раз вынужден был перетаскивать треногу с фотоаппаратом. В углу, дожидаясь своей очереди, три долговязых школьника, смущаясь, примеряли отцовский пиджак. За журнальным столиком пили чай и листали фотоальбом журналисты из редакции «Нужной газеты».
В очередной раз хлопнула входная дверь, и в студию вошли те, кого я с таким нетерпением ожидал. За спиной Ирины скромно держалась худощавая стройная девушка. Она не бросалась в глаза яркой красотой, которой с такой щедростью природа юга одаривала здесь женщин.
— Майя! — представила спутницу Ирина.
В свете бра трепетное лицо девушки сразу приковало к себе внимание. В огромных распахнутых глазах отражалась вся ее душа, искренняя и открытая. Быстрым взглядом она прошлась по мне, остановилась на фотографии, которую я держал в руке, и беспокойный огонек погас в ее глазах.
— Одна из лучших работ Володи, — оценила она мой выбор.
На фоне изуродованного пожаром здания Совмина пробуждалась новая жизнь. Радостные и счастливые улыбки озаряли лица юных танцоров и певцов. Их простенькие костюмы нежными красками альпийских цветов украшали скромную сцену. Польщенный такой оценкой Майи, я достал из альбома еще несколько фотографий и положил на стол. Ира предложила присесть, мы заняли свободные стулья и продолжили обсуждение достоинств этих работ.
Здесь уже Майя, словно опасаясь потревожить трагическое прошлое, робко открыла свою папку, и на стол легли фотографии, отснятые во время войны.
Среди них находились разные снимки: простые черно-белые и сочные цветные, четкие и размытые. При всей расхожести их объединяло одно общее — они не оставляли равнодушным. Жестокий лик войны был схвачен и передан Майей с поразительной точностью и правдивостью…
Безмерное горе овладело бойцом. Еще не остывший после боя автомат выпал из рук, плечи бессильно обвисли, а глаза потухли. Тонкая струйка крови сочится из раны на голове, заливает щеку и темным пятном расплывается на куртке, но он не чувствует этого, душевная боль опустошила его.
— Несколько минут назад погиб родной брат! — пояснила Майя.
Черные клубы дыма поднимаются над крышей. Пышущие нестерпимым жаром языки пламени вырываются из окон здания. В воздухе, подобно подраненным птицам, кружат обгоревшие листы бумаги. Перед подъездом фигуры в камуфляжной форме, перепоясанные пулеметными лентами, швыряют в костер древние рукописи и книги.
…Что это?! Фашистская Германия 1930-х годов?! Увы, нет — это Абхазия в конце XX столетия.
— Варвары! Уничтожают государственный архив Абхазии, — с презрением произнесла Майя.
Грудами искореженного бетона и металла, скорбными могилами проходили перед глазами эти успевшие пожелтеть и выцвести от времени бесстрастные свидетели минувшего лихолетья. Иногда среди них попадались фотографии, запечатлевшие редкие на войне минуты радости и торжества.
— Война — это тоже жизнь. Даже в ней есть место для любви, и это чувство согрето особым теплом и имеет необыкновенную чистоту. Жестокое горнило войны очищает ее от всякой накипи и фальши, — просто и буднично сказала Майя.
— Ты там, как на ладони, — согласилась Ирина.
— И все-таки война — это прежде всего боль и страдание, — заключила Майя и положила передо мной очередную фотографию.
Исхудавшие восковые лица детей и подростков, на которых, казалось, остались одни только глаза, печально смотрели с нее.
Где, когда я мог видеть их?! Память подсказала страшные картины из далекого прошлого: Саласпилс, Минское и Варшавское гетто — фашистские лагеря для детей!
— Блокадный Ткуарчал — это наш Ленинград, — скорбно обронила Майя.
— Там люди такого натерпелись… — больше у Ирины не нашлось слов.
— Об этом надо всегда помнить и говорить! — сурово заметила Майя.
Вслед за этим я услышал еще один рассказ о том трагическом времени.
— Прошло больше двух месяцев, как кольцо блокады замкнулось вокруг Ткуарчала — этого города шахтеров. В нем жили в основном русские и украинцы, так что пусть Шеварднадзе не врет, будто воевал против «абхазских сепаратистов», — напомнила Майя и вернулась к своим воспоминаниям: — Стылый декабрьский ветер по-волчьи завывал в развалинах разбомбленного еще во время первого авианалета железнодорожного вокзала, разбойничьи посвистывал в прострелянных трубах обогатительной фабрики, шершавым и колючим языком поземки хлестал по лицам редких прохожих, сквозь щели и трещины забирался в дома и высасывал последние капли тепла. Город, а вместе с ним и люди медленно умирали от холода и голода. Первыми жертвами становились дети и старики, с каждым днем росло их число, а единственная дорога из этого ада пролегала через небо.
Российский вертолет из Гудауты 12 декабря 1992 года прорвался сквозь плотный огонь зенитных батарей и взял на борт шестьдесят два блокадника Ткуарчала: стариков, женщин и детей. Старенький «Ми» тяжело оторвался от земли, совершил разворот и, прячась за скалами, обошел первые огневые точки. Казалось, на этот раз экипажу и блокадникам удастся добраться до своих. Впереди показались позиции ополченцев, и в этот миг яркие вспышки озарили склон горы. Две ракеты устремились к цели. Пилот заметил опасность, но что он мог сделать на перегруженной машине?.. Ничего!
Двигатель ревел и захлебывался от перегрузки. Экипажу с трудом удалось совершить маневр, и первая ракета прошла в десятке метров, но вторая попала прямо в топливный бак. Чудовищный взрыв сотряс горы и унес с собой шестьдесят пять человеческих жизней. Страшная весть пришла в семьи, убитые горем родственники собрались на летном поле. Проходил час за часом, гнетущее безмолвие нарушали рыдания и всхлипы. Поздно вечером доставили погибших, а точнее, то, что осталось от тел. Людское море на миг застыло в оцепенении, потрясенное увиденным, а затем, сметая все на своем пути, хлынуло на поле. Голоса слились в одном безумном стоне, леденящий душу плач заглушал все остальные звуки.
Майя осеклась и побледнела, груз прошлых воспоминаний спустя столько лет вновь напомнил о себе.
— А я… снимала этот страшный лик войны. Потрясенные горем женщины набросились на меня, и охране с трудом удалось сдержать их. Я сердцем понимала глубину постигшего несчастья, но, сцепив зубы, сквозь слезы продолжала снимать и снимать! Ради живых и мертвых. Ради нашего будущего, чтобы потом, когда придет мир и наступит другая жизнь, эти фотографии и кинопленки не дали угаснуть памяти, а время не окрасило только в один ореол героизма трагедию, разыгравшуюся на нашей земле, — закончила рассказ Майя и, смутившись, посмотрела на часы.
— Вот-вот должна подойти Тали. Может, пройдем на улицу и там встретим? — предложила Ира.
Мы вышли из студии, не успели сделать нескольких шагов, как Майя приостановилась и с теплотой в голосе произнесла:
— А вот и Тали! Как всегда точна.
Навстречу по противоположной стороне улицы шла невысокая, изящная, с тонкими чертами волевого лица девушка. Темный цвет делового костюма и белоснежный воротничок подчеркивали горделивую посадку головы и строгую осанку.
После короткого знакомства Тали пригласила в кафе на набережной и пояснила:
— Там, у моря, легче говорить на такие тяжелые и сложные темы.
Я охотно принял предложение, меня поддержали Майя с Ириной, и все вместе мы спустились к набережной. На этот раз решили не останавливаться в «Нарте», а поднялись по крутым ступенькам на верхнюю площадку причала в «Апру» и заняли свободный столик.
Из бара приглушенно звучала музыка, с кухни доносились запахи жареной барабульки и фасоли акуд. Молоденькие официантки неспешно двигались между столиками. В нем, как в любом другом месте Сухума, есть то, чего не найдешь ни в каком московском или питерском кафе. Здесь никто никуда не спешит, каждый находит истинное наслаждение в неторопливой беседе. Здесь умеют радоваться простым и незатейливым вещам. Здесь чувствуешь себя счастливым от того, что можешь дышать воздухом особой сухумской свободы и любоваться завораживающим простором такого разного и неповторимого Черного моря.
Внизу о гранит ленивой волной тихо плескал слабый прибой. Легкий бриз ласкал наши лица, забирался в волосы девушек и шалил с ними. Взгляд Тали смягчился, и в голосе все чаще стали звучать веселые и ироничные нотки. На мою шутливую фразу о том, что герои, оказывается, живут рядом, она в тон ответила:
— А вы думали, как Карлсон, — под крышей?!
— Упаси бог! В России нет такой «крыши», под которой даже герой может чувствовать себя в безопасности, — не остался в долгу я.
Тали рассмеялась. Герой Абхазии, член парламента, кандидат наук — за этим иконостасом официальности открылась обаятельная женщина. От нее повеяло необыкновенной теплотой, и ты уже не замечал уродливых развалин гостиницы «Абхазия» и развороченных снарядами причалов морского порта. И тут улыбка исчезла с ее лица, привычную атмосферу кафе нарушил рокот моторов. Мои спутницы тревожно встрепенулись и повернулись к морю. Над ним со стороны Кяласура заходила на город пара военных вертолетов.
— Возвращаются из Гали, — предположила Майя.
— Вот так же семь лет назад с воем вертолетов война пришла на нашу землю, — с болью в голосе произнесла Тали и задумалась.
Я деликатно молчал, не торопил с рассказом, и мое терпение было вознаграждено. Проводив взглядом вертушки, скрывшиеся за высотками Нового района, Тали вернулась к тем уже далеким событиям августа 1992 года.
— День 14 августа мало чем отличался от других дней, — вспоминала она, — но ощущение надвигающейся опасности витало над всем: городом, горами, морем и поселилось в наших душах. Но все равно в худшее не хотелось верить! Дело шло к обеду, многие из института разошлись по домам, а я задержалась, когда внизу, на площади, раздались крики, потом послышался топот ног. Я выглянула в окно, это были ребята из охраны Владислава Григорьевича. Они на ходу заряжали автоматы и бежали к Красному мосту, на повороте к ним присоединился Мушни Хварцкия со своей группой. Внутри меня все похолодело, разум отказывался поверить в то, что случилось самое худшее. Не помня себя, пронеслась по коридору, лестнице, выскочила на улицу и по лицам ребят все поняла. Они пришли! Они уже в городе! Они стреляют! Зачем?! Почему?!
Красный мост! Это словосочетание жгло мое сознание и гнало вперед. Как тогда, так и сейчас не могу найти объяснения тому, что заставило меня броситься туда, а не прятаться дома или искать спасение в горах. Да, был страх, но не страх перед тем, что тебя убьют. Это было нечто иное! В тот миг я стремилась к ребятам, чтобы вместе остановить то чудовищное, что надвигалось на всех нас. Навстречу бежали растерянные и до смерти напуганные люди, чем меньше оставалось до Красного моста, тем пустыннее становились улицы и все отчетливее была слышна яростная перестрелка.
Прячась за стенами домов, я обогнула Круглую площадь и выскочила к кинотеатру. В его окнах и на крыше мелькали фигуры бойцов. Воспользовавшись затишьем, незаметно проскользнула в фойе и там столкнулась с Мушни. Несмотря на пыль и клубы дыма, он узнал меня, схватил за плечи и попытался вытолкнуть на улицу. Я цеплялась за него, совала в руки бинты и лекарства, которые успела прихватить в детской поликлинике, и доказывала, что без медсестры им не обойтись…
Тали прервала рассказ и, грустно улыбнувшись, призналась:
— Никакой медсестрой я не была и до того часа ничего другого, кроме пальца, не перевязывала.
— В тот день каждый из нас все делал впервые, — тихо обронила Майя.
— Все так, — согласилась Тали и вернулась к рассказу: — Мушни смирился, а ребята, как мне показалось, обрадовались. Их было немного. Чуть позже к нам присоединились Батал Табагуа, Асик Атба и Ренат Корчава. С собой они принесли автоматы, а с этим оружием уже можно было отбиваться. Но не столько оно, сколько каждое новое пополнение придавали нам силы. Мы были не одиноки и с удвоенной энергией продолжали отстреливаться. Несмотря на то что наш огонь был слаб, он остановил колонну гвардейцев.
Как когда-то в Фермопилах триста спартанцев с царем Леонидом встали на пути армады персидского царя Дария и спасли Грецию, так и наши: Мушни, Володя Аршба, Артур Читанава, Володя Анцупов, Батал Табагуа и другие ребята навсегда останутся в памяти народа и истории Абхазии. Перед ними — горсткой отчаянных смельчаков — растерялись уверенные в своей безнаказанности бандиты Китовани.
Их замешательство продолжалось недолго, в бой вмешались военные спецы. Головной танк и три БМП взревели моторами, попятились назад и рассредоточились вдоль реки. Жерла орудий и стволы пулеметов рыскали по этажам, выбирая цели. Гранатометчики, скрываясь за перевернутыми машинами и развороченными торговыми киосками, занимали передовые позиции. В центре колонны, возле штабной машины, ощетинившейся штырями антенн, в плотном кольце охраны мелькала бегемотообразная туша Китовани. Он размахивал руками и что-то кричал своим головорезам.
Судя по всему, они готовились к решительному штурму. Как его грозные предвестники над морем появились вертолеты и закружили над нами, танки выдвинулись на прямую наводку. Гвардейцы попросту решили сровнять нас с землей. Наступил момент истины, лица ребят побледнели, но на них не было ни тени страха, ни тени сомнения. Они озарились каким-то особенным внутренним светом, который в час испытаний возносит тебя к самым вершинам человеческого духа — любви к Родине! Да-да, к Родине!
Голос Тали звучал тихо, но от этого не менее убедительно:
— Сейчас это, может, звучит напыщенно, но именно любви, а не ненависти к врагу. В те роковые минуты в тебе остаются и живут только самые светлые и добрые чувства к родным и близким, все остальное становится мелким и ничтожным. Впервые там, у Красного моста, и потом не раз перед атакой я наблюдала это удивительное состояние души.
Часы отсчитывали последние минуты и секунды наших жизней. И тогда, — лицо Тали озарилось особенным светом, — Мушни с трогательной заботой поправил на молоденьком студенте неумело надетую каску, затем отошел в угол, привалился к стене, достал из кармана фотографии и нежно погладил рукой. Что он думал в те минуты? Наверное, то же, что и все те, кто когда-либо стоял перед выбором между жизнью и смертью.
Арзамет Тарба приподнялся над подоконником и пристально вглядывался в знакомые улицы, пытаясь за пеленой дыма разглядеть родной дом. Его губы что-то беззвучно шептали. Там оставались отец, мать и младший брат Дмитрий.
Батал Табагуа и Асик Атба, последний раз державшие автомат в руках во время срочной службы в армии, заново примерялись к ним.
Артур Читанава в который уже раз пересчитывал скудный запас патронов и, отсыпав горсть, передал Иналу. В это время снизу, где сосредоточивались для атаки гвардейцы, донеслись отрывистые команды.
Мушни встрепенулся, быстрым взглядом окинул бойцов и охрипшим голосом произнес те самые слова, которые потом не раз повторяли командиры ребятам перед решающим штурмом:
«Сегодня на их стороне сила, но на нашей — вера и правда. Пока нас мало, а врагов намного больше. Этот бой может стать последним, но мы не страшимся смерти, потому что пришли сюда не по приказу, а по зову сердца. Мы сделали свой выбор — свободная Родина или смерть! Этот бой и жертвы станут той искрой, что разожжет пламя народной войны. За нами встанут сотни, тысячи бойцов…»
Разрыв снаряда вздыбил металлическую крышу над кинотеатром и, словно листок бумаги, скрутил в трубу. В злобном лае зашлись пулеметы. Залпы гранатометов и танкового орудия сотрясли здание. Рухнуло перекрытие над залом, клубы пыли и дыма заволокли помещения. Из-под развалин послышались стоны раненых, появились первые убитые…
Здесь Тали прервала рассказ, и ее взгляд обратился к городу. За деревьями виднелись изуродованная крыша кинотеатра «Апсны» и мрачные развалины Совмина. Спустя столько лет ее разум отказывался понимать чудовищность того, что происходило в Сухуме 14 августа 1992 года. Она тяжело вздохнула и вернулась к рассказу:
— В тот миг мир для меня раскололся надвое. Там, за спиной, на маяке и в Гаграх все так же ярко светило солнце и весело шуршал галькой морской прибой. На пляжах негде было яблоку упасть, от восторженного писка и визга детворы, барахтавшейся в море, шум стаял, как на птичьем базаре. В Новом Афоне в Пантелеймоновском монастыре после многих лет забвения возобновилась служба, первые прихожане возносили молитву во имя добра, справедливости и мира. А здесь, у Красного моста, в кромешной мгле витал запах крови и смерти. Ад в раю! Точнее и правдивее, чем это выразил Алексей Аргун, не скажешь.
Тот день для нас превратился в ночь, а время будто остановилось. Давно смолк наш единственный пулемет, снайперы выбили расчет. Не стало слышно выстрелов на крыше. Ребята, вооруженные ружьями и автоматами, не могли долго сопротивляться убийственному огню вражеских вертолетов. Пламя охватило крышу и верхний этаж. Танк и БМП методично били по окнам первого и второго этажей. Садисты! Они рассчитывали загнать нас в подвал и сделать из него братскую могилу.
Мушни с Артуром окинули взглядом ребят, их лица были суровы и сосредоточенны. Они, вчерашние школьники и студенты, понимали, что наступил решающий момент боя, и приготовились стоять насмерть.
Гвардейцы тем временем перегруппировались и мелкими перебежками стали подтягиваться к зданию кинотеатра. Некоторые, осмелев, выбрались из укрытий, просочились к парапету набережной и взяли под прицел наши позиции и пути отхода. Экипаж танка нахально выдвинулся на прямую наводку, а вслед за ним заворочалась и залязгала гусеницами остальная колонна.
Мушни от бессилия и злости заскрипел зубами и в сердцах воскликнул:
— Один бы гранатомет — и я бы захлопнул ему пасть!
— Сволочь! Ближе не подходит, боится, что бутылкой достанем, — сокрушался Артур.
— Еще пара минут, они развернут на позиции второй танк — и тогда нам крышка, — подвел печальный итог Мушни.
Артур продолжал наблюдать за маневрами гвардейцев, в надежде найти выход из положения. Мушни, к сожалению, оказался прав, танк торчал как кость в горле. Он нервно сглотнул и чужим, деревянным голосом произнес:
— Мушни, я остаюсь с ребятами Беслана и прикрою, а ты забирай молодых и отходи.
— Нет! Мы не уйдем! — с ходу отмел это предложение он. — Мои парни уже понюхали порох, и гадам так просто нас не взять. Они еще умоются своей поганой кровью!
— Ты должен уйти! Я военный… — настаивал Артур.
— Мы сейчас все военные! И если…
Очередь крупнокалиберного пулемета прошлась над их головами и прервала спор. Они залегли под подоконником и через пробоины в стенах принялись высматривать пулеметчика.
— Вон он, сволочь, где засел! — первым заметил Артур.
С последнего этажа высотки санатория ПВО, изрыгая огненные струи, рокотал ПКТ.
— Теперь поздно думать об отходе. С такой позиции эта сволочь половину из нас положит, — с ожесточением произнес Мушни.
В это время внизу раздался топот ног, ребята схватились за оружие, а через минуту опасения рассеялись. Из дыма и пыли, как ангелы-спасители, появились ребята Астамура Бганбы и принесли с собой целый арсенал: автоматы и пистолеты. В нас снова ожила надежда.
Голос Тали дрогнул, она замолчала, но через мгновение продолжила рассказ:
— Прав был Мушни, когда говорил, что на место каждого павшего встанут десятки, сотни новых бойцов. Арзамет, Беслан Джелиа, остальные ребята набросились на них с вопросами:
«Что происходит в городе?»
«Когда подойдет подкрепление?»
«Где русские десантники?»
«Почему они не остановят эту бойню? Почему?..»
Мушни и Артур с грустью смотрели на них и не оставляли без внимания перемещения гвардейцев. Второй танк заканчивал разворот для выхода на позицию, а БМП попятилась назад, освобождая ему место.
— Надо немедленно атаковать, пока они не развернулись! — предложил Артур.
Его поддержал Беслан. Мушни мучительно размышлял. То, что предлагали Артур с Бесланом, с точки зрения военной тактики, возможно, было оправданно и правильно, но именно с точки зрения военной, когда под рукой обученные и хорошо вооруженные солдаты. «Именно солдаты», — с тоской подумал он и посмотрел на ребят.
Большинство из них только сегодня взяли в руки оружие, впервые нажали на курок и метнули гранату. Они, еще не успевшие пожить, подчиняясь его воле, через несколько минут могли полечь в отчаянной и рискованной контратаке. Имел ли он право на их жизнь?
«А может, пока не поздно, собрать все силы в один кулак и вырваться из капкана, который гвардейцы готовились захлопнуть? Но тогда ополченцы из Гудауты и Эшер не успеют подтянуться и занять позиции, а редкие заслоны из батальона милиции вряд ли смогут задержать набравшую обороты бронированную армаду. Разрозненные очаги сопротивления будут смяты, и город останется без защиты, — терзался перед выбором Мушни. — Артур с Бесланом правы, надо атаковать! И пусть простят меня отцы с матерями за те жертвы, что будут принесены сейчас», — принял он решение и отдал команду:
— Приготовиться к атаке!
Ребята подтянулись, и их решительность придала ему уверенности.
— Я с моими, группой Беслана и Абзагу выбиваем пехоту и гранатометчиков, затем выходим на танк и БМП. Любой ценой их надо подорвать и заблокировать дорогу! Артур, остаешься здесь, чтобы прикрыть! — распорядился Мушни.
Тот попытался возразить, но он был непреклонен:
— Не будем спорить! Действуем быстро! Только вперед! — и осекшись, коротко обронил: — Раненых и убитых забираем на обратном пути! Вопросы есть?
Их не последовало, каждый сделал свой выбор. Мушни махнул рукой и первым шагнул вперед.
Стремительная атака ополченцев обескуражила и посеяла панику среди гвардейцев. Они дрогнули и, ища спасения, бросились под защиту стен домов и ограду военного санатория. Танк и БМП, оставшись без прикрытия пехоты, попятились назад. В них полетели бутылки с зажигательной смесью. Зеленое пламя растеклось по броне танка, ствол поник, башня замерла, из нижнего люка выскочили трое в черных комбинезонах. Автоматные очереди настигли их у реки. Арзамет, Беслан и Абзагу не раздумывая ринулись к брошенному танку, чтобы завладеть трофеем, и принялись сбивать пламя. Их засек пулеметчик, засевший на высотке, и перенес огонь с кинотеатра на площадь.
Пули просвистели над головой Абзагу, рядом кто-то пронзительно вскрикнул. Пулеметная очередь осеклась, и он в несколько гигантских прыжков проскочил пустырь и спрятался под аркой моста. Мушни что-то прокричал вслед, но Абзагу ничего не слышал и жил только одной мыслью — уничтожить проклятого пулеметчика!
Прячась под берегом в зарослях кустарника, он проскользнул мимо вражеских автоматчиков и затаился у ограды санатория. За ней тоже бушевала война. Пожар охватил здание приемного корпуса. Языки ядовито-желтого пламени пожирали верхушки пальм у центрального входа, густой дым заволок дорожки парка, по которым метались люди, потерявшие голову от страха.
Выбравшись из кустарника и пользуясь дымовой завесой, Абзагу, не замеченный гвардейцами, добрался до боковой аллеи, подобрал брошенное полотенце, завернул автомат и окунулся в людской поток, устремившийся к четырнадцатиэтажной высотке.
Четверо гвардейцев дежурили перед входом. Секундное раздумье — и, подхватив под руку женщину, Абзагу смешался с толпой и протиснулся в фойе. Там у лифта наткнулся еще на один пост, но удача снова улыбнулась ему, проход на лестницу оказался свободен. На одном дыхании он пролетел тринадцать этажей и остановился на лестничной клетке.
Над головой отчетливо барабанил пулемет, всего десяток метров отделял Абзагу от цели, и тут за спиной хлопнула дверь. Он метнулся к простенку и повел стволом автомата. Из дверного проема на него смотрела остановившимся взглядом парализованная страхом девушка. Ему было не до нее — там, на площади, гибли ребята, и, набрав полные легкие воздуха, он безоглядно бросился вперед, ногой вышиб дверь и выскочил на крышу.
Перед ним бугрилась темными потными пятнами необъятная спина гвардейца. Бычья шея от напряжения налилась кровью, плечи ходили ходуном, а тело сотрясала судорожная дрожь. Гвардеец слился с пулеметом и посылал очередь за очередью на цепи ополченцев.
Абзагу вскинул автомат, нажал на спусковой крючок и выпустил весь магазин в ненавистную спину. Сухо лязгнул затвор и выбросил последнюю гильзу, а побелевший от напряжения палец продолжал давить на спуск. Теперь его не страшила встреча с гвардейцами, он сделал свое дело — помог ребятам и, сменив магазин на автомате, ринулся вниз.
В фойе почувствовали неладное и бросились на подмогу пулеметчику. Абзагу стремительно спускался, на площадке третьего этажа столкнулся с гвардейцами, но успел их опередить. Автоматная очередь припечатала одного к стенке, а второй успел откатиться за кабину лифта. Ниже на лестничном пролете мелькнули головы других гвардейцев. Путь к выходу был отрезан, Абзагу, не целясь, выстрелил в них, затем ногой выбил стекло в окне и спрыгнул на газон.
Удар о землю отозвался острой болью в правом колене, и первый шаг дался с трудом. Припадая на поврежденную ногу, Абзагу ринулся к гаражам и, пока среди гвардейцев царила паника, успел скрыться в кустах у реки. К этому времени ополченцы отбили у гвардейцев танк, ставший первым военным трофеем будущей армии Абхазии.
Здесь Тали перевела дыхание и с гордостью произнесла:
— Там, у Красного моста, мы поняли и поверили, что, несмотря ни на что, устоим и погоним эту нечисть обратно! Сколько продолжался тот бой у Красного моста, трудно сейчас сказать, но для меня, Мушни, Артура, Володи и остальных ребят он останется вечным. Вечным в том смысле, что там, в разрушенном кинотеатре с символическим названием «Апсны» («Страна души»), мы боролись не за будущую сытую и беззаботную жизнь, а за право думать и говорить на родном языке, за душу будущей родины.
Возможно, в конце прагматичного и циничного XX века подобное звучит наивно, но это действительно так. Мушни, Арзамет, Артур, Володя и остальные три с половиной тысячи, что сложили головы в той страшной войне, были лучшими из лучших, цветом нашей нации. Талантливые и энергичные, они без труда могли устроить богатую и безбедную жизнь не только себе, а и своим близким в России, Турции, Америке и бог знает где еще. Но они избрали другой путь, остались с родиной в ее самый трудный час, чтобы отстоять свободу и независимость.
И сейчас, когда развалины поросли травой, а время смягчило горе, я с горечью слышу: «А зачем нужна была эта свобода и такие жертвы, если мы стали жить хуже?» Понятно, когда это говорят те, кто спит и видит себя на куче денег. У них родина там, где платят больше. Вдвойне обидно за тех, кто во время войны не щадил себя, а сегодня, столкнувшись с нуждой и несправедливостью, растерялся и потерял веру.
Государство, как и человек, рождается в муках. Моя многострадальная Абхазия родилась в страшных муках, и пусть пока ее не признают, но я не сомневаюсь, что время все расставит по своим местам. Моя маленькая страна никогда не затеряется и не исчезнет, как канули когда-то в Лету могучие империи монголов и османов, потому что мы отстояли самое главное и самое важное — свою землю, свой язык и свою культуру. И я надеюсь, что через пять — десять лет мы будем жить в свободной и процветающей Абхазии!
Тали закончила рассказ и, смутившись своего порыва, отошла к краю причала.
На фоне изумрудной морской волны и лазурного неба ее тонкая, изящная и будто устремленная в будущее фигурка напоминала изображение богини на древнем «Арго», бесстрашный экипаж которого, презрев все опасности, отправился в далекое странствие на поиски золотого руна и счастья в неведомую Апсны — Страну Души.
Я любовался Тали, прекрасными и одухотворенными лицами моих собеседниц и невольно задавал себе один и тот же вопрос: почему именно они смогли запечатлеть в фотографиях, кинопленках и памяти, а затем пронести через время столь глубокие и выразительные по силе и правдивости судьбы людей и страны в прошедшей войне?
Талант и смелость — несомненно! Но среди профессионалов, работавших тогда в Абхазии, было немало отважных и одаренных. Почему все-таки они? Может, в силу того, что беда коснулась и опалила огнем потерь каждую из них? Но горе и утраты не обошли стороной многих журналистов и фотокорреспондентов. А может, потому, что само естество женщины противно войне? Наделенная природой великим даром продолжения жизни, только она способна так глубоко ощутить и передать ту боль и то страдание, которые несет с собой война. И они: Тали, Майя, Ирина, Марина, Катя и Леля делали то, что из века в век совершала Женщина, — хранила вечную любовь и возрождала из пепла новую жизнь…
Прошли годы после окончания войны и тех наших встреч, и эта новая, мирная жизнь с массой житейских проблем стала непростым испытанием даже для моих героинь. Она странным и непостижимым образом так далеко развела их, что мне казались сном те прошлые наши встречи и беседы, а яркие и цельные образы девушек — плодом моего воображения.
— Тали! Майя! Ирина!.. Ну почему?! Как такое могло произойти? — невольно вырвалось у меня.
За соседними столиками стихли разговоры, и я, почувствовав на себе любопытные взгляды и неловко помявшись, поспешил ретироваться. До обеда еще оставалось много времени, и мне ничего другого не оставалось, как просто убивать его в приморском парке. В этот час там было немноголюдно. Несколько пожилых супружеских пар сонно клевали на лавочках в тени гигантских эвкалиптов. Шумная стайка ребятни, вырвавшаяся из школы, гомонила на песчаной отмели. Неподалеку от них по тенистой аллее гуляла высокая и статная женщина с мальчуганом лет пяти. Ее походка, движения головы показались мне знакомыми, и я невольно ускорил шаг.
«Ирина?!» — не поверил я собственным глазам, а когда подошел ближе, понял, что не ошибся. Она, привлеченная шумом шагов, подняла голову, и наши взгляды встретились. Ее огромные серые глаза от удивления стали еще больше, и в них вспыхнул радостный огонек. От неожиданности и внезапно нахлынувших теплых чувств мы какое-то время не могли произнести ни слова и с любопытством разглядывали друг друга.
За прошедшие шесть лет Ира почти не изменилась, разве что слегка пополнела, но это ее нисколько не портило, наоборот, она стала еще миловиднее и женственнее. В выражении лица и во взгляде прибавилось теплоты и спокойствия, волосы стали еще гуще и пышными волнами растекались по плечам. Пикантная родинка над верхней губой, казалось, стала еще привлекательнее. В очередной раз я убедился, что дети и счастливая семейная жизнь любую женщину, а тем более такую как Ира, делают еще прекраснее.
Мы заговорили наперебой, прошлые воспоминания путались с нынешними впечатлениями, но это нас нисколько не смущало. Говорили так, как будто и не было прошедших шести лет. Ира с увлечением рассказывала о своей работе — она по-прежнему трудилась в той же самой поликлинике, о новой квартире в районе Синопа, куда переехала на днях, и, конечно, о сыне Гаррике. Он был тем центром вселенной, вокруг которого крутилось все в семье, и здесь мне пришлось выслушать такую массу интереснейших подробностей, что этому вполне мог позавидовать знаменитый врач Рошаль.
И когда разговор зашел о наших общих знакомых, в нем вольно или невольно мы коснулись последних событий, сотрясавших Абхазию. Не обошли они стороной и семью Ирины, она симпатизировала Раулю Хаджимбе, а муж Алхас был горячим сторонником Сергея Багапша. Ирина с большой неохотой заговорила об этом, но в ее голосе не было того ожесточения и нетерпимости, с которыми я так часто сталкивался в последние дни. Она по-житейски относилась ко всему происходящему, а ее слова больше напоминали медицинский диагноз:
— Новой Абхазии всего одиннадцать, в историческом масштабе это возраст младенца. Младенца, у которого нет прививки ни от кори, ни от золотухи, вид которых ужасен, но не смертелен. Наши выборы то же самое, в конце концов перебесимся и здравый смысл возобладает. Нас слишком мало и мы слишком много отдали в прошлом, чтобы сейчас пусть даже ради самого важного президентского кресла пойти стенка на стенку. Это понимаю я, это понимает Алхас, рано или поздно поймут и самые отмороженные…
В это время с дороги просигналила машина. Ира встрепенулась и, подхватив Гаррика, поспешила к ней. Я проводил их, а когда мы расставались, она, с прежней теплотой пожав мне руку, сказала:
— Заходи в гости, только предупреждаю сразу: ни слова о политике! Я не хочу, чтобы наша квартира превратилась в сумасшедший дом.
— Непременно! — заверил я, а сам подумал: «Возможно, она глубоко права в том, что место политики в кабинетах, а порой и в самом деле в сумасшедшем доме, но никак не в семье!»
Глава 15
К сожалению, ни в тот день, когда состоялись эти неожиданные для меня встречи с Тали, Майей и Ириной, ни на следующий нам с Бесланом Кубравой так и не удалось встретиться, чтобы вместе с его сыновьями отправиться на море и там испытать мое новое ружье для подводной охоты. Он с головой ушел в избирательную кампанию Сергея Багапша и дома появлялся только по вечерам, а я на время вынужден был отправиться по делам в Гагру и там надолго застрял.
Лишь через неделю мы смогли исполнить свое обещание перед ребятами. У Беслана выдалось несколько свободных часов, я же в одиночестве маялся в пустой гостинице и не знал, куда себя девать. Его звонок поднял меня на ноги, и спустя пятнадцать минут я находился в гостеприимном доме Кубрава. К сожалению, при мне не оказалось подводного ружья, оно осталось в Гагре у Ашота и Артура, которые заразились подводной охотой и теперь не могли с ним расстаться. Однако Инал и малыш Аслан не слишком огорчились и были рады тому, что вместе с отцом смогут вволю накупаться.
По пути на городской пляж мы зашли на центральный рынок купить арбуз, и здесь наши глаза разбежались от их изобилия. Небольшие, идеально круглые и напоминающие футбольный мяч кутолские, бледно-зеленые, с легким матовым налетом на «пуповине» кубанские, ядовито-зеленые, походящие на пушечные ядра от крепостной мортиры астраханские и невесть как оказавшиеся тут продолговатые узбекские. Все это напоминало одну огромную бахчу.
Беслан, а вслед за ним и я зарылись в арбузные кучи и никак не могли сделать окончательный выбор. Выручил нас племянник моего старого приятеля и партнера по волейболу Феликса Цикутании — добродушный великан по имени Ахра, с которым я познакомился пару лет назад на скачках в Лыхнах. Он издалека узнал меня, энергично помахал ручищей и решительно, словно ледокол, легко пробил дорогу сквозь толпу.
Я едва не задохнулся в его медвежьих объятиях. После дежурных приветствий мы минут пять вспоминали наших общих знакомых и, естественно, не обошли вниманием Феликса, ставшего в свои пятьдесят шесть чемпионом Абхазии по волейболу на проходившем 14 августа в селе Ачандара первенстве республики.
Нежданно-негаданно свалившаяся победа вскружила его седую голову, и на следующий день в посудном магазинчике только и было разговоров о том, как дядя Феликс вытащил команду сухумчан на первое место. Он «рыбкой» пластался по всей площадке и доставал такие «мертвые» мячи, о которых «чистильщик» Батал Табагуа мог только мечтать, сажал «колы» на первую линию, когда у «кувалды» Гены Квицинии опустились руки. К обеду о «подвигах» Феликса знал весь центральный рынок, и у дверей магазина выстроилась очередь из восторженных поклонниц этого и других его талантов. Сам он скромно умалчивал о том, что больше всего блистал золотозубой улыбкой за столом, накрытым хлебосольными ачандарцами, чем на волейбольной площадке.
Наш затянувшийся разговор об ачандарском «триумфе» дяди Феликса надоел маленькому Аслану, сгоравшему от нетерпения поскорее окунуться в море, он требовательно теребил отца за брюки. Беслан, отбросив последние сомнения, решительно нацелился на заманчиво поблескивающий свежим окрасом арбуз. Его остановил Ахра, и стоило ему сурово повести бровями, как загорелый, словно головешка, продавец юркнул под прилавок и, тяжело пыхтя, выкатил красавец-арбуз. Беслан без разговоров полез в кошелек, но «благодарный» за покупку хозяин под пристальным взглядом Ахры замахал руками и, как черт от ладана, стал отнекиваться от денег. Все наши попытки расплатиться оказались безуспешными, и мы, сгибаясь под тяжестью пудового арбуза, потащились на пляж.
Несмотря на прекрасную погоду, нам не пришлось искать свободное место — большинство горожан на выходные отправились в села помогать родственникам в уборке урожая, и мы расположились у развалин древнегреческой крепости Диоскурия. Солнце еще не успело подняться высоко, и в воздухе сохранялась та бодрящая свежесть, от которой приятно кружится голова, а в теле появляется необыкновенная легкость. Легкий ветерок, налетавший с гор, приносил с собой нежный аромат осенних цветов и разогретой смолы могучих сосен, покачивавших за нашими спинами мохнатыми лапами. В зыбком мареве серебрилась бесконечная морская даль, по кромке горизонта осторожно крались легкие перистые облака, а ласковая морская волна лениво набегала на берег и маняще шуршала мелкой галькой.
Аслан с Иналом, на ходу сбросив майки и шорты, со счастливым визгом окунулись в теплую, будто парное молоко, воду. Мы с Бесланом старались не отстать и, забыв про возраст, гонялись за юркими, словно ставридки, мальчишками. Потом, выбравшись на берег, валялись на теплых камнях и уплетали за обе щеки сочный и сахаристый арбуз. Это райское блаженство продолжалось недолго: перед обедом ожил и требовательно зазвонил сотовый у Беслана — его вызывали в избирательный штаб Сергея Багапша, и нам пришлось срочно сворачиваться. Возвращались с моря мы усталые, но довольные, не подозревая, что это был наш последний безмятежный и лишенный серьезных забот день.
Приближающееся 3 октября — дата президентских выборов — взбудоражило и без того не отличавшуюся в последние месяцы особым спокойствием жизнь в Абхазии. Предвыборная горячка давно выплеснулась за стены чиновных кабинетов и, подобно чуме, стала поголовно заражать взрослое население республики. Накануне масла в огонь подлил очередной слух о том, что из-за угрозы совершенно распоясавшегося Саакашвили захватить Сухум Владислав Ардзинба якобы решил перенести президентские выборы на более поздний срок. Но эта «утка» умерла, так и не успев «опериться», — 3 сентября в центральной газете «Республика Абхазия» на первой полосе появился долгожданный президентский указ. В нем черным по белому было написано, что в строго определенный Конституцией срок — 3 октября состоятся выборы нового главы государства. Он положил конец кривотолкам и дал старт официальной избирательной кампании, которой суждено было войти в историю современной Абхазии.
Ее начало не предвещало грядущих потрясений, глава ЦИК Сергей Смыр выступил с дежурным заявлением о соблюдении законности и приличий в предвыборной борьбе. В ответ кандидаты в президенты дружно поклялись в приверженности демократическим ценностям и закону. Но не прошло и недели, как одного из основных претендентов на президентское кресло — Александра Анкваба ждал коварный подвох.
Александр Золотинскович, порой напоминающий бульдозер своим напором и мощью, безнадежно забуксовал на еле заметной кочке, о которой вряд ли подозревал. Круглый отличник в школе и институте, когда-то самый молодой и перспективный в МВД СССР начальник политуправления, в течение двух часов безуспешно пытался доказать специальной приемной комиссии, что он не меньший, чем они, абхаз. Но то ли бзыбский акцент в его речи, то ли что-то иное смутило «неподкупных и бесстрастных» экзаменаторов абхазского языка. Выставленная ими жирная двойка поставила крест на президентских амбициях Александра Анкваба.
Для любимца власти Рауля Хаджимбы поход к «строгим» экзаменаторам оказался легкой прогулкой. Остальные четыре кандидата: Сергей Багапш, Анри Джергения, Сергей Шамба и Якуб Лакоба отделались легким испугом, и хотя не блеснули отличными знаниями, но с оговорками, как и претендент от партии власти, получили зачет. И все же их радость оказалась преждевременной, знание абхазского языка еще не освобождало от подозрений в тайных и от того еще более тяжких, чем незнание абхазского языка, прегрешениях.
Первыми получили «черную метку» Сергей Багапш и кандидат в вице-президенты Станислав Лакоба. «Всезнающие и неподкупные» журналисты не оставили без внимания научные изыскания историка Лакобы в далекой Японии в Центре славянских исследований университета Хоккайдо. К его, а еще больше к изумлению ничего не подозревавшего отца «розовых» и «оранжевых революций» господина Сороса, писаки обнаружили тайную связь между ними. Дальше даже несведущему в операциях специальных служб читателю «желтой прессы» не составило большого труда догадаться, что на острове Хоккайдо Станислав Зосимович под «руководством Сороса» проходил специальную подготовку в тайных лагерях и получил «сверхсекретную» задачу — осуществить в Абхазии заговор с целью ее присоединения к Японии.
Несладко пришлось и Сергею Багапшу. Он расплачивался за «ошибки» молодости. Ретивые «шерлоки холмсы» после «долгих и изнурительных» поисков раскрыли его самую «страшную тайну». Тридцать с лишним лет назад он допустил «преступную» потерю бдительности и не разглядел в обаятельной красавице Марине Шония будущего «конфидента» грузинской «пятой колонны» в Абхазии. А чтобы «скрыть» этот «преступный» факт и войти в доверие к ревнителям расовой чистоты абхазской нации, лучший центровой баскетбольной команды Сухума решил пожертвовать будущей блестящей спортивной карьерой и во время матча в Тбилиси так далеко послал судью, что его дисквалифицировали на целый год.
На остальных претендентов тайные режиссеры президентских выборов в Абхазии и их послушные, щедро проплаченные черные пиарщики не стали размениваться. Они — «жалкие пигмеи» — не заслуживали даже мимолетного внимания накачанного до неприличия административным ресурсом «Голиафа» — Хаджимбу, победно смотревшего на электорат с громадных плакатов и ярких баннеров, развешанных на всем пути от Псоу до Ингура. Для острастки по ним изредка постреливали мелким компроматом, а главный калибр продолжал «мочить» по полной программе основных конкурентов — Сергея Багапша и Станислава Лакобу. Ежедневно на наивный и не искушенный в современных политтехнологиях электорат Абхазии лились реки чернухи. В этой ситуации остальные три кандидата в президенты, дабы «сохранить лицо» и доплыть до финиша президентской гонки, перестали лезть на рожон, сбавили обороты и вяло «жевали пресную предвыборную жвачку».
«Железный», так окрестила народная молва Александра Анкваба, тоже быстро смекнул, что, за то время пока будет сутяжиться в судах и доказывать свое цинично попранное приемной комиссией право называться абхазом, успеет покрыться «коррозией», и сделал неожиданный и решительный шаг. Шаг, который не учли режиссеры «Голиафа», совершив, как впоследствии оказалось, роковой просчет. Видимо, сама судьба решила разрушить их сценарий и 10 сентября сказала свое веское слово. В тот день Александр Золотинскович, наплевав на будущие президентские лавры, присоединился к Сергею Багапшу и Станиславу Лакобе, чтобы сообща свалить «Голиафа».
Для партии власти это была не критическая, но близкая к чрезвычайной ситуация, и первым, как водится, ринулся ее спасать российский министр по ЧП Шойгу. Под вой сирен и клацанье затворов вооруженной до зубов охраны он вихрем пронесся по Абхазии, оставив после себя дурно попахивающий душок грязных денег. Вслед за ним приехал «защитник» всех сирых, обездоленных и «радетель» пенсионеров министр Зурабов и пообещал озолотить всех абхазских стариков и старух полнокровной российской пенсией. Предпоследний и громкий аккорд в прелюдии к будущему триумфу «Голиафа» исполнил министр путей сообщения Фадеев. Не обращая внимания на зубовный скрежет Саакашвили, он под бравурный гром фанфар вместе с запланированным победителем в президентской гонке — Хаджимбой перерезал красную ленту на перроне сухумского железнодорожного вокзала. Заключительный аккорд в этой расписанной по всем нотам партитуре «Рауль — наш президент» должен был прозвучать 30 сентября на республиканском стадионе.
В тот день с раннего утра Сухум будоражили самые невероятные слухи. Одни — редкие счастливцы, кому достался билет на трибуны, — говорили, что на праздничный концерт прилетит сам Владимир Путин, чтобы на глазах у сомневающихся еще раз пожать руку Раулю Хаджимбе. Другие — те, кому ничего другого не оставалось, как глотать слюну у экранов телевизоров, — злопыхали, что на концерте будет только один Владимир Жириновский, но зато в трех лицах — крутой «хохлацкой» бабы Верки Сердючки, главного российского «голубого» Борьки Моисеева и самого «шоколадного» во всей «Фабрике звезд» — Пьера Нарцисса.
Как бы там ни было, после обеда, несмотря на солнцепек, толпы молодежи потянулись к республиканскому стадиону, чтобы заранее занять места ближе к сцене, раскинувшейся посередине футбольного поля. На пути к нему через каждую сотню метров с огромных плакатов их зазывал «Вместе в счастливое будущее» кандидат в президенты номер один. Остальные четыре претендента, которых на серых, истрепанных ветром афишах трудно было отличить друг от друга, уныло и без всякой надежды на успех взирали на шумные толпы электората, волнами катившиеся к стадиону. А он, наспех выкрашенный, выглядел настоящим франтом на фоне уродливых развалин и сверкал в лучах солнца, словно новая копейка.
Через несколько минут на этой ставшей главной сцене страны должен был начаться концерт залетных московских звезд. Ему, по замыслу далеких и нездешних режиссеров, предстояло навсегда похоронить наивные надежды остальных претендентов на президентское кресло. Те из них, кому «не успели подвезти» пригласительный билет, и избранные «счастливцы» с местами у туалетов грустно смотрели на экран, где крупными буквами светилось: «Торжественный концерт, посвященный победе абхазского народа в Отечественной войне 1992–1993 годов». Для них эта надпись выглядела как не подлежащий обжалованию приговор всем усилиям, направленным на то, чтобы сокрушить надутого до неприличия административным ресурсом и щедрыми денежными вливаниями «Голиафа».
Сам он в плотном кольце телохранителей, окруженный особами, особо приближенными к власти, и местными олигархами, занимал почетное место в центральной ложе, излучал собой уверенность в предстоящей через три дня победе и лучезарной улыбкой триумфатора дарил толпу фанатичных поклонников. Она в предвкушении еще невиданного в Абхазии действа рокотала и колыхалась, словно предштормовое море у скал маяка.
Неспокойно было и за стенами стадиона, у проходов на трибуны и перед центральными воротами, блокированными двойным милицейским кордоном, с каждой минутой прибывала толпа неудачников. Последними из дальних сел подъехали ветераны войны, мрачная охрана встала на пути неприступной стеной, и между ними завязалась яростная перепалка. Еще больше ее распалила шумная группа бойскаутов, подкатившая к стадиону на автобусах. Перед ними, не нюхавшими пороха войны, ряжеными в футболки и кепки, с которых самоуверенно улыбался «Голиаф», как по мановению волшебной палочки ворота распахнулись. Взрыв негодования всколыхнул возмущенную толпу, она ринулась на милицейские цепи, но они устояли.
В тот день не только рядовым ветеранам не нашлось места на трибунах, но и подъехавшему из Гагры вместе с женой и сыном Нартом «абхазскому Маресьеву» — Герою Абхазии Руслану Харабуа. Он вынужден был развернуться и отправиться домой. Кроме него еще не одной сотне заслуженных ветеранов войны не нашлось места на этом празднике одного.
К шестнадцати часам на трибунах негде было упасть яблоку. Они, словно осенняя клумба перед Домом правительства, полыхали от пестрых маек зрителей, с которых электорату то ли загадочно улыбался, то ли многозначительно подмигивал Рауль Хаджимба. Перед правительственной ложей, у кромки футбольного поля, Владимир Жириновский и заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников пикировались за право построить по ранжиру вихляющую из стороны в сторону шеренгу из политиков и артистов. В итоге победил хитроумный Иосиф Кобзон.
Обласканный всеми российскими партиями власти, но не любимый капризной и подозрительной американской Фемидой, разглядевшей за его неотразимым шармом «русского дона Корлеоне», он первым догадался схватить микрофон. Во время его зажигательной речи даже у самого закоренелого скептика отпали сомнения в том, что в абхазском Синопе рядом с приметной, стыдливо прятавшейся за традиционно зеленым забором дачей самой «крутой кепки» в Москве — Лужкова уже завтра вырастут сияющие стеклом и бетоном корпуса лучших в мире отелей, борделей и дансингов, от одного вида которых «Мише тбилисскому» придется от зависти кусать локти и «забивать стрелку кремлевским пацанам».
К концу выступления большинство зрителей было покорено первым «соловьем» российской эстрады и безоговорочно верило, что в это счастливое будущее их должен привести не кто иной, как верный продолжатель дела Владислава Ардзинбы и большой друг российской эстрады Рауль Хаджимба. Закончилась речь не совсем «святого» Иосифа под бравурные звуки шлягера «Нам песня строить и жить помогает».
Робкий выкрик недоброжелателя «А где нам взять такую песню, чтобы жить, как ты?» потонул в шквале аплодисментов. И когда они стихли, то в шеренге снова начались разброд и шатание. На этот раз Владимир Вольфович не стал дожидаться, когда дадут слово, и взял его сам.
Преданный слуга кремлевских небожителей, кумир полублатной московской тусовки и неверный друг Саддама Хусейна, как всегда, был ярок, убедителен и неповторим. Видимо, от захватывающих дух красот Нового Афона, а еще больше от приглянувшегося маленького кусочка земного рая по соседству с Пантелеймоновским монастырем ему расхотелось отправляться в дальний поход, чтобы мыть сапоги в далеком Индийском океане, и он решил бросить якорь ближе — на берегах Черного моря.
Неистовый пассионарий грозил топить обнаглевшие вконец грузинские пограничные катера, шнырявшие под самым носом у залегшего в безнадежном дрейфе у сухумского пирса «флота» Абхазии. И, войдя в раж, обещал при случае «макнуть» как следует этого «американского Мальчиша-Плохиша Саакашвили». А чтобы ни у кого не возникало сомнений, поклялся лечь костьми на золотых пляжах Агудзеры за их защитника Рауля Хаджимбу.
Публика ревела от восторга, и только львиный рык заместителя генерального прокурора России Владимира Колесникова заставил ее притихнуть Он и его родной братишка— «близняшка» Виктор, проведшие свое босоногое детство и бурную юность на пляжах родной Гудауты, были в Абхазии не чужими. Будучи своим в доску, «Вовка-прокурор» не стал церемониться с земляками и заговорил привычным для него языком:
— Бандитов и коррупционеров — на нары! Проституток — в гарем! Крестьянину в руки большую мотыгу, чтобы сначала думал о родине, а потом о себе!..
Окончательный его «приговор» был суров и беспощаден:
— Только с Раулем Хаджимбой народ Абхазии ждет светлый путь на свободу и с чистой совестью.
Последние фразы прокурора падали в гробовую тишину, нависшую над стадионом. Перспектива снова поднимать БАМ в далекой Восточной Сибири или улучшать генофонд в арабских борделях мало кого прельщала. В ответ с верхних ярусов послышался свист и раздались гневные крики:
— Канай сам на нары, а нам и на лежаках хорошо!
— Скажи, сколько тебе на лапу дали?
— Бери в «грабли» свои лыжи и кати, откуда прислали!
В правительственной ложе нервно засуетились. «Голиаф» метнул грозный взгляд на свиту, и она пришла в движение, озабоченные милиционеры и охрана забегали по проходам, выискивая возмутителей торжества. И только появление на сцене певца Олега Газманова сбило нараставшую волну возмущения. Но и этот «московский соловей» тоже подкачал, то ли тряска в армейском вертолете, то ли нещедрый гонорар хозяев, обещавших заплатить через полтора месяца — и то только мандаринами, расстроили звезду до такой степени, что она запуталась в элементарной географии.
С кислым видом Газманов изобразил на сцене несколько вялых па, а затем микрофон визгливо всхлипнул, и над стадионом тысячекратно усиленное киловаттами электроники повторилось:
— Привет, Аджария!.. Аджария-я-я-я!
Ведущему концерта Зурабу Аргуну стало не по себе, в памяти тысяч абхазцев, включая его самого, еще была свежа недавняя драма, разыгравшаяся в этой республике. Там начатый с такой же помпой концерт звезд московской эстрады, осененный присутствием самого мэра Лужкова, закончился оглушительным провалом. Бурные овации, прозвучавшие из Вашингтона, достались другому «солисту», спустя несколько недель торжествующий триумфатор Саакашвили въехал на американском бульдозере в павший к его ногам Батум.
Растерянный Зураб метнулся к Газманову и принялся что— то торопливо нашептывать, но было уже поздно. Стрелка избирательного марафона резко качнулась в другую сторону — совсем не в ту, на которую рассчитывали режиссеры.
— Аджария?.. Аджария?!! — выдохнула ошарашенная публика и затем взорвалась оглушительным ревом и свистом.
Это стало последней каплей, переполнившей терпение тех, кто не захотел играть роль послушных статистов в спектакле под названием «Рауль — наш президент». В центральной ложе растерянно наблюдали за тем, как на футбольное поле полетели флажки, кепки и плакаты с портретом «Голиафа», самые горячие сдирали с себя футболки и рвали на куски.
Возмущенная людская река выплеснулась на площадь перед стадионом, а там уже бушевал стихийный митинг тех, кто остался за плотной цепью милицейского кордона. Они негодовали от того, что светлый праздник победы и памяти жертв прошедшей войны превратили в политическое шоу. Два кипящих гневом и возмущением потока слились в один и, подобно огнедышащей лаве, устремились к центру города.
Сухум забурлил, вечером тут и там стали возникать стихийные митинги. В избирательном штабе Рауля Хаджимбы, похоже, не почувствовали угрозы. Сам он в узком кругу единомышленников вместе с московскими политическими и эстрадными звездами в тиши госдачи продолжал отмечать будущую победу. А послушное проправительственное телевидение шестой час подряд «бомбило» концертом сознание электората, вызывая у него все большее негодование и разнося в щепки, казалось бы, так умело выстроенную для фаворита лестницу к вершине власти.
К полуночи на площади у здания правительства собралось несколько тысяч человек, в толпе кое-где мелькали бойцы в камуфляжке и с автоматами за спиной. Возбужденная толпа, подобно вскрывшемуся кратеру вулкана, вскипала яростными эмоциями то в одном, то в другом месте и грозила в любой момент рвануть чудовищным взрывом. Президент Владислав Ардзинба молчал. Правительство безмолвствовало. Окна кабинета министров безжизненными темными глазницами взирали на происходящее, и лишь появление на площади Сергея Багапша, Станислава Лакобы, Александра Анкваба, Сократа Джинджолии и примкнувшего к ним позднее Сергея Шамбы с ближайшими соратниками смогло пригасить накал страстей и эмоций.
До утра охрипшими голосами они и еще двадцать четыре парламентария уговаривали возмущенных людей успокоиться и мирно разойтись по домам. Сам возмутитель спокойствия — Рауль Хаджимба ни в ту ночь, ни потом на чрезвычайной сессии парламента так и не появился. За все то, что произошло накануне, пришлось отдуваться руководителю абхазского телевидения Руслану Хашигу. Он как уж на сковородке извивался перед негодующими парламентариями, но, взятый за горло и зажатый за кое-что ниже, вынужден был признаться, что на то была «воля свыше», и, окончательно припертый к стенке, заявил:
— Прямого эфира заседания сессии не будет, так решил Владислав Ардзинба.
Но ни Владислав Ардзинба, ни Рауль Хаджимба и никто другой были уже не в силах остановить время, оно требовало перемен и новых героев. Первого октября «нерушимый» блок партии власти дал серьезную трещину. Поздно вечером вся Абхазия увидела на своих экранах в первый и последний раз одновременно пятерых кандидатов в президенты. То, что они наблюдали, скорее походило на заседание «военно-полевого суда» в сельской школе.
Мрачный Рауль Хаджимба напоминал самоуверенного любимчика директора школы, оставшегося один на один с обманутыми и рассвирепевшими старшеклассниками. Он отстраненно сидел в торце стола и из-под насупленных бровей зло поблескивал глазами на своих оппонентов. Те с плохо скрываемой обидой пытались устыдить его за то, что он за три дня до выборов пытался устроить себе инаугурацию. Больше часа продолжалась словесная перепалка кандидатов в президенты, во время которой они, не забывая покусывать друг друга, безжалостно терзали Рауля Хаджимбу, надеясь вырыть поглубже яму под фаворитом гонки.
В тот сумасшедший вечер, похоже, сами кандидаты, а вместе с ними и электорат выпустили пар, и последний перед выборами день прошел на удивление тихо и спокойно. Третье октября, до которого многим, казалось, не удастся дожить — столько перед этим было потрачено сил и нервов, начался буднично и рутинно. Как обычно, заработали пекарни, и запах свежеиспеченного хлеба можно было уловить за версту. Чуть позже задымили трубы над пацхами, там готовились к предстоящему наплыву будущих победителей. Ни свет ни заря поднялись на ноги члены избирательных комиссий и руководители штабов кандидатов в президенты. Ровно в восемь ноль-ноль открылись избирательные участки, и с боем курантов знаменитых часов на центральной аптеке Сухума вся Абхазия двинулась в непредсказуемый поход за своим будущим.
Не прошло и часа после начала голосования, как на избирательный штаб Сергея Багапша обрушился шквал телефонных звонков. Тревожные сообщения поступали из Гальского и Очамчырского районов. Там группы неизвестных вооруженных молодчиков откровенно запугивали жителей и мешали работе участковых избирательных комиссий. Наблюдатели из Гулрыпша сообщали о вбросе «левых» бюллетеней. В Новом Афоне и Верхней Эшере со списками избирателей творилось что-то непонятное: голосовали мертвые, а живые не находили себя в них. Но Сократ Джинджолия, а вместе с ним остальные члены «мозгового центра» не поддавались панике и продолжали работать как хорошо отлаженная машина.
С наступлением сумерек человеческая река, захлестнувшая в первые часы избирательные участки, иссякла, улицы городов и сел на глазах стали вымирать. Подошло время новостей, все от мала до велика собрались у экранов телевизоров и, затаив дыхание, ждали первых сообщений о результатах выборов. В избирательном штабе Сергея Багапша на короткое время воцарилась непривычная тишина, все с нетерпением ждали, что скажет о выборах Сухум, а главное — Москва.
Стрелки часов невыносимо медленно ползли по циферблату, монотонно отсчитывая минуты и секунды, когда наконец диктор российской программы «Вести» произнес слово «Абхазия». Затем на экране крупным планом возникла сухумская набережная. Камера бегло прошлась по Президентскому дворцу, толпе, бурлившей у «Кофейни Акопа», и крупным планом выхватила поблекшую на солнце вывеску на здании Центризбиркома. Дальше диктор, как хорошо заученный урок, сообщил, что впервые в истории Абхазии прошли по— настоящему демократические, альтернативные выборы, в результате которых, по предварительным данным, победил действующий премьер-министр Рауль Хаджимба…
После этих слов в кабинете Сергея Багапша и холле, где у телевизора толпился народ, стало так тихо, что было слышно, как между стекол зудела сонная осеняя муха, а через мгновение тишину взорвали негодующие возгласы:
— Они что там — охренели?!
— Это же бред!
— Какой еще Хаджимба?!
— Какие 57 %?!
— Когда успели посчитать?!
— Надо звонить Смыру!
— Похоже, за нас уже решили, кто будет президент! — в качестве завершающего аккорда с ожесточением произнес кто-то.
Эта последняя фраза еще больше накалила и без того нервную и напряженную обстановку. В адрес неизвестных кукловодов раздались неприкрытые угрозы.
— Тихо, друзья! Сохраняйте спокойствие! Это сообщение пока ничего не значит! — пытался успокоить возмущенных соратников Сергей Багапш и затем распорядился: — Сократ Рачиевич, немедленно звони в ЦИК, пусть дадут разъяснение, откуда такие данные!
Тот пододвинул телефон и набрал номер. Несмотря на его настойчивые требования, председателя избирательной комиссии долго не могли найти. Наконец в трубке раздался усталый, лишенный интонаций голос Сергея Смыра, каких— либо вразумительных пояснений по поводу заявления, прозвучавшего в российских новостях, он не смог дать. Прошел еще час, но ни Сократ Джинджолия, ни Леонид Лакербая, ни другие начальники избирательных штабов за все это время так и не смогли добиться от членов ЦИК вразумительного ответа, и только следующее сообщение, прозвучавшее по каналу НТВ, несколько разрядило обстановку. Его корреспондент в Абхазии Вадим Фефилов в своем сюжете никаких цифр о результатах выборов не привел, а лишь ограничился общими фразами и двумя репортажами с избирательных участков.
Работа штаба Сергея Багапша снова вернулась в дежурное русло, теперь все с нетерпением ждали докладов наблюдателей с избирательных участков. Они поступили ближе к полуночи, и первые результаты оказались неутешительны: по Сухуму Рауль Хаджимба опережал на 10 %, а в Сухумском районе на все 35. Но еще оставались Абжуйская и Бзыбская Абхазия — два ее главных барометра, и там не подкачали. Обнадеживающая новость поступила около часа ночи — Гудаута проголосовала за Сергея Багапша, но это был ожидаемый успех, земляки Александра Анкваба сказали свое слово. Настала очередь своенравной Гагры, и она оправдала надежды — дала чуть ли не 40 % сверху! Еще более сокрушительное поражение ждало Рауля в Очамчырском и Гальском районах, в них он проиграл вчистую.
И хотя цифры не были окончательными, так как еще не поступили данные с отдаленных сельских участков, они, по большому счету, уже ничего не меняли. К пяти утра картина выборов в штабе Сергея Багапша окончательно прояснилась, и колоссальное нервное напряжение, царившее в кабинете, где безвылазно колдовали над таблицами и цифрами начальник избирательного штаба Сократ Джинджолия и его помощники Беслан Кубрава и Климентий Джинджолия, сменилось бурной радостью.
Произошло то, что накануне показалось бы чудом, — это была абсолютная победа! Победа в первом туре! Они все еще не могли поверить собственным глазам, в который раз пересчитывали итоговую цифру, и каждый раз подрагивающая рука Сократа Рачиевича выводила — 51,1 %. Пунктуальный и дотошный Александр Анкваб перепроверил расчеты и начертал ошеломляющие 51,1 %. Воистину рука Александра Золотинсковича оказалась золотой.
Через несколько минут эта магическая цифра просочилась за двери кабинета и пошла гулять по коридору, холлу, а затем выплеснулась на улицу тысячекратно повторенным восторженным «ура!». На победный клич со всех концов города к штабу стекались сторонники Сергея Багапша. Толпа счастливых победителей росла на глазах и, уже не в силах сдержать переполнявший ее восторг, принялась самозабвенно скандировать:
— Сергей! Сергей!
В холле возникло легкое движение, и на ступеньках крыльца в окружении смертельно усталых, но безмерно счастливых Станислава Лакобы, Александра Анкваба, Леонида Лакербаи, Артура Миквабиа, Беслана Кубравы, Сократа и Климентия Джинджолия появился Сергей Багапш, посеревший от нечеловеческого напряжения, но не поддавшийся невероятному «накату» безжалостной административной машины.
Он затуманенным взглядом прошелся по бушующему от избытка эмоций людскому морю, вскинул вверх обе руки и благодарно воскликнул:
— Спасибо всем! Мы победили!
Толпа качнулась и откликнулась громовым «ура!». В сквере напротив из автоматов и пистолетов стали палить в воздух, а дальше начало твориться что-то невообразимое. Старики и молодые, кто на асфальте, а кто прямо на кузове безнадежно застрявшего ГАЗ-66, принялись лихо отплясывать лезгинку. На одном из балконов третьего этажа затянули песню, и ее тут же дружно подхватил целый хор. Возле сияющего Феликса Цикутании и его «газели» выстроилась очередь, он, похоже, вывез из подвалов все запасы превосходного домашнего вина и теперь щедрой рукой разливал по кружкам и стаканам.
Масик Дарсалия, Бесик Джинджолия и Адгур Бжания, охваченные всеобщим восторгом, с трудом втиснулись в старенькую двадцать девятую «Волгу» Дениса Читанавы. Продравшись сквозь ликующую толпу, они пристроились в хвост колонны из «жигулей», «москвичей» и подержанных иномарок, которая, ревя клаксонами и полыхая флагами в руках восторженных победителей, носилась по улицам Сухума. Эйфория победы, казалось, охватила весь город, такого количества счастливых лиц столица не видала с 30 сентября 1993 года. Наивные победители в эти счастливые мгновения своего торжества даже не предполагали, как мучительно долго им еще предстояло идти к ней, и тем более не знали, да и не могли знать, какова будет истинная ее цена.
Технократы, умницы, смелые и честные люди, они лишь смутно догадывались, что за силы им противостояли. Но ни умудренный жизнью Сергей Багапш, ни провидец Станислав Лакоба, ни холодный аналитик Александр Анкваб не могли даже вообразить мощь и цинизм той громадной машины, что спустя сутки обрушилась на них, чтобы, как асфальтовый каток, раскатать их судьбы вместе с судьбами тысяч граждан Абхазии, сделавших наперекор ей свой мужественный выбор.
Все это — беспардонная ложь, откровенное шельмование и прямые угрозы были впереди, а пока они веселились, как дети. В воздухе повсюду витал запах победы, и вездесущие журналисты, дежурившие всю ночь у штаба Сергея Багапша, после такой сенсационной новости сломя голову ринулась к избиркому.
Несмотря на то что шел десятый час, там царила странная, походившая на похоронную тишина. В Абхазии, как и повсюду на Кавказе, самые важные новости быстрее всего передаются по «беспроволочному телефону», и журналисты лишний раз смогли убедиться в этом на встрече с Сергеем Смыром. Председатель ЦИК явно чувствовал себя не в своей тарелке, и, похоже, только он один «не знал» результатов выборов. Победа Сергея Багапша для него оказалась «новостью». Вяло и путано он пытался убедить настырных журналистов в том, что ЦИК располагает данными только по нескольким округам, где Рауль Хаджимба набрал 52 %.
Но если у Сергея Смыра были нелады с математикой, то в штабе Рауля Хаджимбы считать умели, и когда подсчитали, то испытали настоящий шок. Тридцать с небольшим процентов хоронили все надежды и будущие честолюбивые планы. Потрясенные таким сокрушительным поражением, члены избирательного штаба впали в прострацию. И без того неулыбчивый Рауль после возвращения со встречи в санатории МВО, где вдали от чужих глаз окопалась особая группа консультантов, и последовавшего затем телефонного разговора с Владиславом Ардзинбой выглядел мрачнее тени отца Гамлета. Ничего не сказав поникшим соратникам, он заперся в своем кабинете.
После такого сокрушительного нокаута, казалось, уже было невозможно подняться, но тренеры, готовившие его к бою, не спешили выбрасывать на ринг белое полотенце. Оправившись от потрясения, они перешли в контратаку на наивных и ничего не подозревавших счастливых победителей. К шестнадцати часам у обветшавшего здания республиканской филармонии, ставшего в последний месяц местом политических обрядов, колыхалась мрачная, наливавшаяся гневом тысячная толпа сторонников Рауля Хаджимбы. Чуть позже к остановке подъехал «Икарус» с жителями сел Варча и Арасадзых. В основном это были молодежь и женщины— вдовы, которым предстояло «зажечь» потухшую толпу. С их появлением все пришло в движение и в воздух понеслись гневные выкрики:
— Что творится?!
— Господь забрал у них разум! Они голосуют за грузин?!
— Гальский район выбирает нам президента?!
— Завтра мы все строем пойдем к Саакашвили!
Волна негодования снова всколыхнула толпу, выплеснулась в зал филармонии и растеклась по рядам. Царивший прохладный полумрак несколько остудил страсти. Постепенно шум стих и все взгляды устремились на ярко освещенную сцену и сиротливо стоявший стол, застеленный красным кумачом, который, видимо, должен был напомнить поникшим сторонникам Рауля Хаджимбы, что революция еще впереди.
Нетерпение публики нарастало, когда за левой кулисой возникло легкое движение и на сцене появился тот, в кого они фанатично верили и кому, кажется, готовы были отдать последнее, лишь бы не победили «отступники». Рауль Хаджимба, решительный и подтянутый, будто и не было позади бессонной ночи и этой убийственной для него цифры 32 %, что стыдливо замалчивал Сергей Смыр, стремительной походкой прошел к столу, вслед за ним потянулись руководители избирательного штаба. Он терпеливо ждал, когда телевизионщики настроят аппаратуру, и мужественно терпел яркий свет софитов. В эти минуты сотни растерянных и вопрошающих взглядов тянулись к нему, и в них читался один и тот же вопрос: Рауль, почему мы проиграли, почему?!
Они никак не могли поверить в то, что он, который последние два года, сжав зубы, тянул на себе весь воз государственных дел, оказался в числе проигравших. Он, который не сел на задние лапки перед этим бешеным псом Саакашвили, уступил им — этой «жалкой кучке обиженных и недовольных». Как вообще они, называющие себя абхазами, посмели отвергнуть его, получившего благословение самих Владислава Ардзинбы и Владимира Путина? Как они осмелились?! Как?! Кто они после этого?!
И эти вопросы поднимали в их душах глухую ненависть к ним — «изменившим и предавшим» Владислава и отказавшим в доверии его ученику Раулю. Ослепленные обидой, они не хотели замечать очевидного: страна давно уже проснулась и за последний месяц стала совершенно другой. Но им казалось, что с уходом Владислава Ардзинбы все рухнет и не сегодня, так завтра полчища грузин хлынут в Абхазию.
Эту неминуемую катастрофу мог предотвратить только он один — их неподкупный и несгибаемый Рауль.
Вначале тихо, а затем все громче из разных углов зала зазвучали ободряющие возгласы:
— Рауль, мы с тобой!
— Мы не отступим!
— Мы не отдадим грузинам Абхазию!..
Он еще несколько секунд держал паузу, заряжаясь их энергией, а потом заученным движением простер руку к залу и вспыхнувшим взглядом прошелся по лицам. Аудитория замерла, где-то в задних рядах и в левой ложе прозвучали истеричные женские всхлипы. Она жаждала услышать от него заверений в неизбежной победе и не обманулась в своих надеждах и ожиданиях.
Рауль поднял голову, и в его голосе зазвучал металл. Он уличал главного противника в черных технологиях, бил в самое «уязвимое» место — «фальсификацию и подтасовку» итогов выборов в Гальском районе и обвинял во всех остальных смертных грехах. В ответ и без того наэлектризованная публика взрывалась овациями. Затем к трибуне выстроилась очередь из обличителей, которая не оставила камня на камне от победы Сергея Багапша.
Апофеозом действа стало неожиданное появление в президиуме аутсайдера президентской гонки Якуба Лакобы и начальника его избирательного штаба Гиви Габнии. «Абхазский Жириновский» в своем выступлении пролил бальзам на души проигравших. Он страстно говорил о том, что душой и сердцем с ними — «истинными защитниками Абхазии», гневно обличал бывших «партократов», но для трезвых умов сухие цифры — всего несколько сотен проголосовавших за него — служили слабым утешением.
Гневные и страстные выступления ораторов находили отклик в изболевшихся сердцах Ибрагима, Кавказа и Отара, но то, что перед этим им пришлось наблюдать на улицах, не подкрепляло той уверенности, что звучала в речах лидеров. Покидали они митинг-собрание с тяжелым осадком в душе. Несмотря на упорное молчание ЦИК, пятьдесят с лишним процентов, полученных Сергеем Багапшем, о которых знала вся Абхазия, говорили сами за себя. Красноречивое подтверждение его абсолютной победы встречалось на всем пути от филармонии и до ворот госдачи. Из переполненных пацх доносились веселая музыка и радостные голоса захмелевших победителей. Лобовые стекла встречных машин через одну пестрели портретами Сергея Багапша и Станислава Лакобы.
От этого всего Ибрагиму, Кавказу и Отару стало не по себе. Им стоило немалых сил, чтобы сдержать скопившуюся злость на них, посмевших предать его — Владислава Ардзинбу! Его, отдавшего всего себя без остатка им и Абхазии! Его, положившего на них полжизни и свое здоровье. И вот теперь, когда пришло время возвращать долги, они отплатили ему черной неблагодарностью. Ему, который за все эти годы ничего не просил для себя, они посмели отказать, всего в одной-единственной просьбе — поддержать его выбор и доверить будущую судьбу Абхазии верному ученику!
В эти, пожалуй, самые горькие минуты своей жизни Кавказ и Ибрагим с особой остротой переживали за него — Владислава Ардзинбу, ставшего для них за время войны и нелегкого мира всем: и терпеливым отцом, и строгим учителем. Сегодня во вдруг ставшей пустой и холодной квартире президента они почувствовали в себе такое леденящее одиночество и бездонную пустоту, что от горечи и жалости едва не зарыдали. Они не находили себе места под его наполненным жгучей болью взглядом и чувствовали себя безмерно виноватыми за все произошедшее. В тот ранний утренний час, когда президент узнал от заикающегося от волнения председателя ЦИК шокирующие цифры, он постарел на глазах. Его, не раз смотревшего смерти в глаза и не дрогнувшего перед сильными мира сего, убила эта безгласная цифра — 51 %.
И сейчас, поднимаясь к госдаче дорогой, по которой сотни раз приходилось проезжать вместе с Владиславом Ардзинбой, Кавказ, Ибрагим и Отар мысленно снова и снова возвращались к последней встрече с ним, и горькие воспоминания о ней болезненными гримасами отражались на их мрачных лицах. Отар чувствовал себя не лучше и угрюмо молчал, не желая травить душу пустым и уже ничего не решающим разговором. Остановившись у центрального подъезда госдачи, они не стали заходить внутрь. Она смотрела на них потухшими глазницами-окнами, и Ибрагим, развернувшись на смотровой площадке, свернул к гостинице. Ее четырехэтажный корпус, словно рождественская елка, светился яркими огнями, в холле царила нервозная суета, журналисты и телевизионщики «бомбили» звонками редакции и спешили переслать горячие репортажи.
Ибрагим в сердцах ударил по газам. «Мерседес», расшвыряв по сторонам каменную крошку, взлетел на подъем и, пронзительно повизгивая тормозами на крутых поворотах, покатился вниз. За воротами госдачи они снова окунулись в атмосферу праздника, царившую на центральных улицах. На перекрестке перед Красным мостом, у «Кафе Тимура», расположенного у въезда в российский санаторий ракетных войск, Отар попросил притормозить, надеясь встретить здесь добряка Масика и вместе с ним отвести душу.
На «пятачке» — самом бойком месте, куда с наступлением темноты истомленные жаждой ракетчики стремились ускользнуть от ревнивых жен, чтобы «подзаправиться» одним-другим стаканом вина, — было на удивление тихо и безлюдно. Разгадка нашлась быстро — на двери кафе болтался замок, и Отар, потоптавшись между летних столиков, направился к проходной санатория, надеясь отыскать Масика в «Стекляшке». Беззаботная атмосфера, царившая в санатории, смягчила ожесточение в его душе. Мягкий свет ночных фонарей, придававший загадочность и таинственность встречавшимся на пути женщинам, их кокетливый и манящий смех, вальяжно фланирующие по набережной пары на время заставили Отара отвлечься от мрачных мыслей. Он оживился, прибавил шаг и легко взлетел по ступенькам на площадку перед входом в «Стекляшку».
За ее цветными стеклянными витражами угадывался хорошо знакомый силуэт великана Масика, нависшего горой над Мариной и Ириной, воздушными тенями скользившими вокруг него в медленном танце. С открытой террасы доносились веселые голоса Дениса Читанавы и Адгура Бжании. Ревнивое чувство кольнуло Отара. Он будто натолкнулся на невидимую стену, когда сквозь веселый гам прорвался и сразу стал ненавистен жизнерадостный голос Феликса Цикутании.
— Я вам еще когда говорил, что Василич станет президентом — торжествуя, воскликнул он.
— А что сейчас делает Хаджимба? — допытывался чей-то голос.
Отар не расслышал ответа, он потонул во взрыве громового хохота. Его передернуло, и мутная волна бешеной ярости поднялась в груди. В эти секунды он, казалось, готов был растерзать на куски не только Феликса, но и Адгура — того, с кем прошел всю войну. Обрушив кулак на жалобно треснувшую дверь и не замечая боли, он бросился прочь от ставшей ненавистной «Стекляшки». Вслед звучали смех и веселая музыка.
Счастливые победители гуляли в «Стекляшке» до глубокой ночи. Изрядно захмелевший Адгур с трудом мог вспомнить, как добрался до дома. Последнее, что осталось в памяти, это раскатистый смех Бесика. Пробуждение было внезапным. Перед ним покачивалось бледное и неправдоподобно огромное лицо Масика. Остатки сна сняло как рукой. И, замирая от недобрых предчувствий, Адгур воскликнул:
— Что случилось?!
— У нас рвануло.
— Где?!
— В штабе!
— Ка-а-к?! — и, страшась услышать ответ, Адгур с трудом выдавил из себя: — Василич жив?!
— Вроде да. Но толком ничего не известно. Там такое… — У Масика больше не нашлось слов.
Адгур уже ничего не слышал, как ужаленный выскочил из постели, натянул брюки, рубашку, в прихожей сорвал с вешалки куртку, на бегу проверил пистолет и с разгону влетел в «Волгу». Рядом приземлился Масик. Дрожащая рука никак не могла попасть ключом в замок зажигания, наконец он проскользнул в щель. Холодный двигатель чихнул и завелся лишь на третий раз, Адгур не стал ждать, когда он прогреется, и тронулся с места.
Хмурый рассвет нехотя окрасил горизонт розовой полоской, а на Гоголя — перед избирательным штабом уже тревожно гудела толпа. Подтверждались ходившие накануне слухи о том, что победа на выборах им дорого обойдется. Об этом красноречиво свидетельствовали развороченная взрывом «самоделки» крона платана и посеченные осколками стволы соседних деревьев. Если бы он произошел чуть раньше, то количество жертв трудно было бы сосчитать.
Происшествие добавило нервозности в штабе Сергея Багапша, но его самого не вывело из равновесия. Позеленевший от усталости и потерявший голос от выступлений на митингах, он находился в своем кабинете и говорил по телефону с Москвой. Разговор продолжался недолго и, видимо, был не из приятных — на осунувшемся лице Багапша поигрывали желваки, — и, когда он закончился, рука все еще продолжала сжимать трубку.
Стук в дверь и появившийся на пороге Беслан Кубрава заставили Сергея Багапша встрепенуться. Отшвырнув в сторону телефон так, словно в нем таилась змея, он провел по лицу рукой, будто прогоняя тяжелые мысли, и затем спросил:
— Беслан, кто есть из штаба?
— Почти все, Сергей Васильевич.
— Зови, ждать больше нечего!
Прошло несколько минут, и ближайшие соратники Сергея Багапша снова собрались вместе. Последним зашел генерал Кишмария, горой взгромоздился на подоконник, и в кабинете сразу потемнело.
— Мераб, ты закрываешь солнце, — пошутил кто-то.
— Похоже, сегодня у нас солнце одно и то восходит на севере, — с горькой иронией заметил Станислав Лакоба.
— Солнце не солнце, но ты, Мераб, — подходящая мишень, — предостерег лихого генерала Беслан.
Тот даже не повел бровью и с усмешкой заметил:
— Кишка у них тонка. Ну а если…
Красноречивый жест генерала вызвал сдержанный смех, а затем все взгляды снова обратились к Сергею Багапшу. Старательно подбирая слова, он вернулся к разговору с Москвой:
— Я только что беседовал с Москвой. Меня пригасили на встречу…
— Из Администрации президента?! — радостно воскликнул кто-то.
— Наконец проснулись! — оживился Александр Анкваб.
— К сожалению, Александр Золотинскович, этого я пока сказать не могу. Разговор носил общий характер, — не стал вдаваться в детали Сергей Багапш.
— А кто был инициатором? — уточнил Станислав.
— Они!
— Уже хоть что-то, — сказал Лакоба, и его суровое лицо прояснилось.
— Наверное, Хаджимбу тоже вызовут? — высказал предположение Артур Миквабиа.
— Нам он точно докладывать не станет! — с усмешкой произнес Кишмария.
— Сергей Васильевич! — и голос Беслана дрогнул, он задал самый главный вопрос: — В Москве признают нашу победу?
В кабинете воцарилась звенящая тишина, все взгляды сфокусировались на Сергее Багапше. Он медлил с ответом, так как хорошо знал ему цену. Не только они — друзья и соратники, а сотни сторонников, толпившиеся в коридорах и на улице, измотанные неопределенностью, третьи сутки ждали от него только одного: «Мы победили!» Но что он мог им сказать, когда «карманный» Центризбирком, накрученный кукловодами, все больше запутывал ситуацию.
Ничего не прояснил и звонок из Москвы, беседа оставила в душе горький осадок. Там то ли не понимали всей серьезности ситуации, то ли не хотели в нее вникать. Меряя все громадным, сделанным на авось российским аршином, кто-то, видимо, самонадеянно полагал, что какие-то двести пятьдесят тысяч абхазов, армян и русских, зажатые между молотом грядущей войны с жаждущим реванша озлобленным Саакашвили и наковальней — блокадой, нависшей на границе по Псоу, никуда не денутся и примут тот выбор, который за них сделали те, кто всеми правдами и неправдами продавливал Рауля Хаджимбу в президентское кресло.
— Так что думает Москва, Сергей Васильевич?
— Что?! — наседали на него соратники.
И он, осторожно взвешивая каждое слово на невидимых весах, ответил:
— Прямо об этом со мной не говорили, но дали понять, что вопрос с выборами будет рассматриваться на предстоящей встрече.
— Рассматриваться?.. А они что, избирком?! — с сарказмом воскликнул Станислав и мрачно закончил: — Теперь все ясно, в Москве, а не в Сухуме решают, кто будет президентом Абхазии!
— Там что, сидят полные идиоты?! Мы им не враги! Пора начать шевелить мозгами, а не задницей! Им что, Аджарии мало?! — вспыхнул Мераб.
— Почему они не хотят признать нас и выбор народа?! Мы победили вчистую! — кипятился Беслан.
— А потому, что наша победа кой-кому как кость в горле! Те, кто в августе в Дагомысе подводил Хаджимбу к Путину, наверняка доложили, что «наш Рауль» пройдет на ура. Но «ура» не получилось, и теперь не знают, как дать задний ход! — заключил Артур Миквабиа.
— Но какой тогда смысл в поездке Сергея Васильевича? Если нас и дальше будут прессовать, то неизвестно чем она обернется, — задался вопросом Александр Анкваб.
— А тем же, чем закончились поездки в Тбилиси для Нестора в декабре тридцать шестого и для Владислава в августе девяносто седьмого! — напомнил Станислав Лакоба о их печальных итогах.
— Все может быть, когда такие бабки сюда вбухали, — согласился с ним Кишмария и осторожно заметил: — Сергей Васильевич, наверное, не стоит ехать. Всякое может случиться, отморозков сейчас хватает.
— Действительно, может, отложить поездку? Пусть дадут железные гарантии вашей безопасности, — поддержал Артур Миквабиа.
— Да, надо все как следует взвесить, — присоединился к ним Александр Анкваб.
Сергей Багапш слушал доводы соратников и оценивал все «за» и «против» поездки в Москву. Его и Станислава Лакобы неожиданная для многих не только в России, а и в Абхазии победа, видимо, смешала кем-то старательно выстроенную схему президентских выборов. Судя по тому, как в Москве налоговики принялись прессовать сына, а у дочери на ровном месте возникли проблемы, президент Сергей Багапш явно не вписывался в нее. Вопрос заключался только в том, насколько далеко противники готовы зайти, чтобы помешать.
«Насколько?! — размышлял он. — Через детей уже не достанут! Слава богу, Зурик и Лика здесь. Черт с ними — с работой и карьерой! Молодые еще, свое наверстают.
Марина?! — и здесь сердце кольнула острая боль. — Сколько же тебе досталось! Эта омерзительная грязь! Эти трусливые анонимные звонки!
Мерзавцы! Неужели у вас нет ничего святого? Кто позволил вам судить, у кого больше права любить Абхазию — у абхазки, мингрелки или армянки? Мы все дети своей земли!
Может, бросить эту проклятую власть? Пусть подавятся! Что хорошего она мне дала?.. Ничего! В восемьдесят девятом, когда мхедрионовцы брали Очамчыру, и то было легче. Тогда одного меня трепали, а сейчас достается всем. За что?! Может, плюнуть на все и уйти на «фазенду»?
Уйти?.. Легко сказать. Права Марина, я уже не принадлежу и не буду принадлежать только ей и детям. Все мы: Станислав, Сократ, Артур, Анкваб, Лакербая теперь принадлежим им, тем, кто 3 октября сделал свой выбор, и тем, кто пока ослеплен обидой. Уйти сейчас, когда горячие головы готовы схватиться за оружие?! И что дальше? Нет и еще раз нет! Люди этого не простят и потом проклянут меня и детей.
Время выбрало нас! Станислав прав, многое, но не все решается в Москве! Третье октября показало — наш народ не послушное голодное стадо!
Значит, надо ехать! А там будь что будет. Ведь в Москве сидят не круглые идиоты! Ладно, просчитались, с кем не бывает, в конце концов поймут, что ни я, ни Станислав — тоже мне нашли друзей Саакашвили, — ни Анкваб, никто другой не собирается уводить Абхазию в Грузию.
Это же надо до такого додуматься?! Да стоит об этом только заикнуться, как народ в тот же миг вместе с креслом выкинет!
Все, решено! Надо лететь и там лицом к лицу разговаривать.
А если это случится?! Случится?.. Останутся Станислав, Анкваб, Артур, Лакербая, а за ними тысячи, и их уже ничем не свернешь…»
В тот же день в четырнадцать часов сорок минут из сочинского аэропорта обычным рейсом Сергей Багапш вылетел на встречу в Москву.
В зале вылета аэропорта «Сочи» и потом в толпе пассажиров он и его телохранители, только-только начинающие познавать азы искусства охраны, вряд ли обратили внимание на худощавую, близоруко щурившуюся девушку с переброшенным через плечо потертым футляром от скрипки, неброского и живого, как ртуть, парня в длиннополом плаще, который буграми топорщился на мощной груди, и седовласого, судя по выправке, военного. Все они, то ли случайно, то ли по чьей-то воле, оказались в одном салоне с ним. Видимо, в Москве не все были согласны с избирательным пасьянсом, что с таким оглушительным треском рассыпался 3 октября, и старались незримым щитом оградить будущего президента.
Через несколько минут турбины пронзительно взвыли, и самолет, набирая скорость, промчался по взлетной полосе и взмыл в воздух. Слева в иллюминаторах промелькнули коричневая лента разлившейся после половодья реки Псоу и вздыбившаяся горами Абхазия.
Глава 16
К исходу дня 6 октября команда Рауля Хаджимбы безнадежно шла ко дну под грузом цифр, что водопадом обрушились на нее из избирательных штабов Сергея Багапша и других кандидатов в президенты. О них теперь говорили вовсю не только на «сухумской брехаловке» — у знаменитой «Кофейни Акопа», но и на каждом углу. Они были известны даже в высокогорном селе Псху полуглухому Тамелу, не говоря уже о независимой прессе. Она откровенно издевалась над неуклюжими попытками проигравшей власти всеми правдами и неправдами протащить своего ставленника во второй тур выборов. Первые полосы газет «Чегемская правда», «Нужная газета» и «Амцахара» пестрели убийственными заголовками: «Будем выбирать, пока не выберем Хаджимбу?!», «Привет, Аджария!..», «День победы как личный праздник Рауля Джумковича», «ЦИК или Пшик».
Растерянный и жалкий глава Центральной избирательной комиссии Сергей Смыр, загнанный в угол не столько требовательными звонками из самых высоких и не только сухумских кабинетов, сколько собственной беспринципностью, уже ничем не мог помочь несостоявшемуся кандидату в президенты от партии власти. Его жалкий лепет на пресс-конференции, на которой он чувствовал себя как на эшафоте, о якобы имевшей место фальсификации сторонниками Сергея Багапша результатов выборов на 33, 34 и 35-м избирательных участках в Гальском районе вряд ли кого мог убедить.
Смятые в дрожащей руке «протоколы» участковых избирательных комиссий, что за ночь наспех сляпали сценаристы спектакля под названием «Рауль — наш президент» и которые Смыр упорно подсовывал под объективы телекамер, но почему-то отказывался передать в руки представителям Сергея Багапша, вызывали у публики лишь ироничный смех и язвительные вопросы.
В этой ситуации избирательному штабу Рауля Хаджимбы, чтобы как-то потянуть время и попытаться развернуть ситуацию в свою пользу, ничего другого не оставалось, как идти и сутяжиться в Верховный суд республики. Но там сидели не слепые, безгласные цифры говорили сами за себя, а негодовавшие под окнами люди, требовавшие от них правды и справедливости, не оставляли сомнений в конечном вердикте судей. В самой ЦИК большинство ее членов уже не боялось говорить во всеуслышание об абсолютной победе Сергея Багапша и Станислава Лакобы и том беспрецедентном давлении, которое оказывалось на них из известного в Сухуме красного кирпичного особняка, а также господами в черном, скрывавшимися в главном корпусе военного санатория.
Дальше просто сидеть и спокойно наблюдать за происходящим президент Владислав Ардзинба уже не мог — ситуация выходила из-под контроля — и со свойственной ему решимостью решил перехватить инициативу. Своим указом он 6 октября освободил Рауля Хаджимбу от обязанностей премьер-министра Республики Абхазия и назначил на этот пост экс-мэра Сухума Нодара Хашбу, последние годы проживавшего в Москве и работавшего в МЧС России.
И уже вечером «лучший друг» российского министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и якобы лично известный самому Владимиру Путину как снег на голову свалился в республику. Тут же по городу поползли слухи, что Нодар приехал не столько для того, чтобы «развести», а затем «загасить» обоих кандидатов, сколько с дальним прицелом — занять президентское кресло. До этого, четыре месяца назад, он уже предпринимал первую, но неудачную попытку заявиться на президентскую гонку. Сияя белозубой улыбкой из приоткрытого окошка бронированного БМВ, Нодар Хашба в окружении вооруженных до зубов то ли телохранителей, то ли головорезов вихрем промчался по Абхазии, будто по минному полю, и, оставив после себя неприятный душок, исчез, как фантом, в лабиринте загадочных московских властных коридоров.
В тот раз «абхазского Юлия Цезаря» — «Пришел! Увидел! Победил!» — из него не получилось. Многозначительная улыбка и намеки на будущий золотой дождь, который вот-вот должен был пролиться на седые головы будущих, но так и не ставших соратниками представителей движений «Амцахара» и «Единая Абхазия», на них не произвели большого впечатления. Они не разглядели в щедром на обещания Нодаре будущего «спасателя» отечества и на объединенном заседании политсовета движений ему не нашлось места даже в президиуме. Как говорится, с «товарищами» у него вышел полный облом, те решительно указали на дверь, и, разобидевшись до смерти на неблагодарных, «московский спасатель» на прощание пригрозил страшными карами и, громко хлопнув бронированной дверцей БМВ, вывез на колесах своего «танка» половину асфальта и без того совсем обветшавшей дороги.
Второе «пришествие» Нодара Хашбы в Абхазию можно было бы назвать почти триумфальным, если бы не та подозрительная поспешность, с которой его начали пиарить. Не успели еще высохнуть чернила на указе президента Владислава Ардзинбы о его назначении, как он тут же засветился в выпусках экстренных новостей не только на местном, но и одновременно на всех трех центральных российских телеканалах.
Спешно установленные в зале заседаний правительства телекамеры старательно крупным планом показывали оживленную пишущую публику, а за ее спинами редких представителей «ликующей общественности». Объективы буквально пожирали суровое лицо нового премьера. Оно было печально, он всем своим видом словно укорял бывших неразумных и несостоявшихся соратников, совершивших непростительную глупость и не сумевших разглядеть в нем будущего «спасителя» Абхазии. И когда Нодар Хашба заговорил, то в его голосе не было ни горечи, ни обиды, в нем звучали твердость и уверенность.
В начале выступления он не преминул отметить, что является продолжателем курса Владислава Ардзинбы и, недвусмысленно намекнув на поддержку в самом Кремле, заявил о «своей равноудаленности от конфликтующих сторон», приверженности Конституции и закону, призвал граждан к спокойствию. В заключение короткой и энергичной, явно написанной не в Сухуме речи Нодар Хашба предупредил «деструктивные силы», что предоставленной ему властью не допустит «эскалации насилия» и «дестабилизации» обстановки в республике. В течение всей пресс-конференции он так и не обмолвился ни одним словом о победе Сергея Багапша на завершившихся президентских выборах.
В штабе вновь избранного, но пока не признанного ЦИК и старой властью президента внимательно выслушали это выступление «момент-премьера» и пришли для себя к неутешительным выводам. Новый хозяин «желтого дома», похоже, не собирался искать истину и, видимо, преследуя далеко идущие цели, был намерен потянуть время, чтобы дать возможность оскандалившимся режиссерам заново переписать сценарий провалившихся с таким оглушительным треском выборов.
Косвенным подтверждением тому служила резко возросшая на следующий день активность уже было сникших сторонников Рауля Хаджимбы. По городу снова пошли гулять грязные слухи и анонимные листовки, задевающие честь победителей президентской гонки. В них Сергея Багапша обвиняли в давнем сговоре с бывшим вождем грузинских коммунистов Мжаванадзе, состоявшемся, как это раскопали «новоявленные Мюнхгаузены», еще во время приема юного Сережи в пионеры. Станиславу Лакобе припомнили его поездку в Центр славянских исследований университета Хоккайдо и заподозрили ни много ни мало в связях с японской разведкой, по заданию которой он должен был организовать переворот в Абхазии и затем привести ее под знамена солнцеподобного микадо. Досталось и генералу Мерабу Кишмарии: спустя пятнадцать лет ему аукнулась служба в Афганистане. Злопыхатели пугали слабонервных скорым приходом его «друзей» — душманов и талибов во главе с самим Усамой бен Ладеном. А Александра Анкваба услужливые борзописцы превратили в настоящее исчадие ада, которым перед сном стращали малолетних детей и зарвавшихся коррупционеров.
Этот абсурд как они, так и их соратники Сократ Джинджолия, Артур Миквабиа и Беслан Кубрава отмели в сторону и не позволили втянуть себя в подобную грязную игру. Но сейчас их больше всего волновало то, чем закончится поездка Сергея Багапша в Москву. Все время, пока он находился там, их не покидало чувство тревоги. Они — и на то были основания — опасались за его жизнь и успокоились лишь тогда, когда прозвучал долгожданный звонок из аэропорта «Домодедово», что абхазская делегация без потерь, в полном составе возвращается в Сухум. Поэтому на улице Гоголя, несмотря на поздний час, никто не расходился по домам.
Московский борт приземлился в сочинском аэропорту точно по расписанию, и небольшая абхазская делегация быстро потерялась в шумной толпе пассажиров, спешивших в санатории и дома отдыха, чтобы успеть насладиться последними теплыми денечками клонящейся к закату осени.
Охрана Сергея Багапша беспокойно крутила головами по сторонам, и было от чего: после встреч в Москве он выглядел мрачнее грозовой тучи. Акун Квирая, Володя Гоголин, Эрик Воуба, Адгур Бжания и Теймураз Хагба бросали на него короткие взгляды и не решались задать один и тот же мучивший всех вопрос: признали ли в Москве их победу? Но и без слов им стало ясно, что дела совсем плохи, и поэтому в любой момент готовы были к действию — закрыть своими телами будущего президента. Газовые пистолеты, которые они купили втайне от него взамен боевых, что остались на пограничном посту «Псоу», вряд ли могли остановить подготовленную группу ликвидаторов, но сохранить несколько секунд его жизни и дать призрачный шанс выжить — это было еще в их силах.
В плотном кольце телохранителей Сергей Багапш вышел из аэровокзала, и здесь им пришлось пережить несколько тревожных минут. Живой коридор из милиционеров выстроился от выхода из зала прилета до «мерседеса» с тонированными стеклами, вокруг которого нетерпеливо переминалась охрана. С каменными лицами абхазская делегация прошла по нему до конца, но никто ее не остановил — это, оказывается, встречали прилетевшую на осенние гастроли в Сочи эстрадную знаменитость.
Оставшиеся до границы пятнадцать километров охрана Сергея Багапша провела как на иголках. И лишь когда отвалился «хвост» — серый «форд» и позади остался пограничный пост на Псоу, а в пустовавшие кобуры снова легло боевое оружие, Акун, Володя, Эрик, Адгур и Теймураз перевели дыхание. Через полтора часа бешеной гонки абхазская делегация благополучно добралась до Сухума, и, не заезжая домой, Сергей Багапш направился в избирательный штаб. Там его ждала возбужденная толпа. Она, как морская волна, прихлынула к машине, а затем раздалась в стороны, и он под прицелом сотен полных робкой надежды и затаенной тревоги взглядов поднялся по ступенькам на крыльцо. Толпа вновь всколыхнулась и подалась вперед, ожидая от него только одного: подтверждения своей победы.
— Нас признали?!
— Чего от нас хотят?
— Почему они тянут резину?
— Хватит! Нечего больше ждать!
— Мы победили! Ты, Василич, наш президент!
Но что он мог ответить им — тем, нервы которых за эти несколько прошедших после выборов дней были на пределе? Ничего!!! Надменные и чванливые московские чиновники, севшие в лужу со своим ставленником, не хотели видеть в упор ни самого Сергея Багапша, ни народ, сделавший свой выбор и решительно отказавший в доверии прежней, опостылевшей и сидящей уже в печенках власти. Они — околокремлевские комбинаторы, трясущиеся за кресла и привилегии, как наперсточники на блошином рынке, пытались повести с ним циничную игру. Спасая свои шкуры от жестокой трепки в Кремле, эти комбинаторы от политики, не стесняясь, вели открытый торг, предлагая ему отступить в сторону и не путать так старательно расставленные ими фишки, взамен обещали «крутой откат» и «хлебные должности» в Москве. Они даже не считали нужным искать каких-либо объяснений для народа и требовали от него отказаться от победы «в связи с резким обострением здоровья и госпитализацией на длительное лечение».
Циники! Дураки!!! Они не понимали одного — что в таком случае им вслед за ним пришлось бы положить в больницы Станислава Лакобу, Александра Анкваба, Мераба Кишмарию и еще добрую половину Абхазии. А такого количества пациентов, «страдающих» отменным здоровьем, зверским аппетитом и неутолимой жаждой к хорошему вину, даже богатая Москва вряд ли выдержала бы.
Но разве мог он — Сергей Багапш сказать это им, кто 3 октября выбрал не столько его, сколько свою надежду на будущую более счастливую жизнь в обновленной Абхазии. Нет, он не имел на это права. Сегодня, сейчас он мог дать им только одно — веру в нее. И, стараясь придать голосу твердость и уверенность, Сергей Багапш воскликнул:
— Все будет нормально, ребята! Все решим миром!
— Миром?! — откликнулась толпа.
— Да, миром! — подтвердил он и, избегая вопрошающих взглядов, стремительно прошел по коридору в кабинет.
Там в полном составе собрался весь его штаб: Станислав Лакоба, Александр Анкваб, Мераб Кишмария, Сократ Джинджолия, Артур Миквабиа, Климентий Джинджолия, Виталий Корсантия. Они, ставшие для него в эти сумасшедшие месяцы избирательной кампании самыми близкими и надежными друзьями, дружно поднялись навстречу.
В их глазах, так же как и во взглядах тех сотен, что терпеливо стояли на улице, смешались тревога и надежда. Теперь, когда все опасения за его жизнь остались позади, их интересовало только одно: что сказала Москва. И они не пытались скрывать этого, даже на невозмутимом лице генерала Кишмарии, сохранявшего выдержку во время самых ожесточенных боев, читался один огромный вопрос. Сергей Багапш еще не успел сесть за стол, как генерал первым ринулся в атаку и дрогнувшим в последний момент голосом спросил:
— Сергей Васильевич, они признали нашу победу?!
Вслед за ним прорвало и остальных:
— С кем встречались?
— В Кремле были?
— А Путин с вами говорил?
Это был главный вопрос, и все взгляды обратились на Сергея Багапша.
Он с печалью посмотрел на соратников и с трудом произнес ставшее вдруг таким невыносимо тяжелым и горьким слово.
— Нет! — и, не в силах сдержать душившую его горечь, в сердцах бросил: — Они как с луны свалились, ничего не хотят понять и ничего не хотят слышать!
В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Первым не выдержал и нарушил ее Климентий Джинджолия.
— Но почему?! — с болью в голосе воскликнул он. — Мы что, против России? Мы всегда были за нее! Даже когда нас душили блокадой.
— А в октябре 2001 года в Кодорском ущелье — что, духи воевали?! — возмутился генерал Кишмария.
— Да если бы не мы, то Гелаев устроил бы такой отдых в Сочи, что после него Чечня показалась бы цветочком! — поддержал его Виталий Корсантия.
— Лучших наших парней положили, чтобы не пропустить этих отморозков в Россию! Так какие еще нужны доказательства?! — продолжал возмущаться генерал.
— Доказательства, говоришь! А они им вообще нужны? — мрачно обронил Станислав Лакоба.
И в кабинете вновь воцарилась тишина. Он сказал то, о чем каждый догадывался, но пока не решался высказать вслух. Кто-то за Псоу, видимо, сделал выбор за них и народ, и теперь вопрос заключался в том, на каком уровне было принято решение и как далеко могли зайти его исполнители. Он мучил и терзал.
Возмущенные возгласы вновь зазвучали в кабинете:
— Кто они такие?
— Почему кто-то решает за наш народ?
— Чем мы хуже Рауля Хаджимбы?
— Чем?
Задавали эти вопросы соратники Сергея Васильевича и не находили ответа. В их головах не укладывалось, почему они, получившие образование в Москве, Питере, Ростове и Алма-Ате, отдавшие не один год службе в Советской армии, а затем после распада Союза все тринадцать лет не отделявшие себя от той страны, которая была родиной для их отцов, вдруг оказались неугодными каким-то чванливым чиновникам в Москве. С этим не могли смириться ни Сергей Багапш, ни его ближайшие соратники, ни те тысячи простых граждан, что стояли на улице. Они не могли принять того, что ими будет править послушный чужой воле президент.
Станислав дождался, когда улягутся эмоции, и решительно заявил:
— Друзья, ждать больше нечего! И без Смыра всем известно, что мы победили. Надо идти, занимать кабинеты и начинать работать, пока Абхазию не превратили в сумасшедший дом!
— А Конституция? А решение ЦИК? — возразил Сократ Джинджолия.
— Конституция? Решение ЦИК?! А как тогда назвать то, что они сейчас вытворяют? — возмутился Станислав.
— Бардак! И с ним пора кончать! — решительно, по-военному заявил Мераб Кишмария.
— Друзья, наверное, не стоит торопиться, — попытался сдержать накаляющиеся страсти Сократ Джинджолия. — Еще не сказал своего последнего слова Владислав. Надо с ним встречаться и гово…
— Первое он уже сказал! — перебил генерал. — Да так сказал, что теперь от Хашбы всю Абхазию трясет.
— Народ до ручки довели! Скоро брат на брата пойдет! — с горечью произнес Климентий Джинджолия.
— Прав Станислав, надо действовать! А если и дальше будем сидеть и болтать, то народ точно за оружие возьмется и потом мало никому не покажется, — не уступал генерал.
Не спеши, Мераб! — пытался охладить его пыл Артур Миквабиа. — Еще не все возможности исчерпаны. Надо встречаться и говорить с Хаджимбой. Сейчас в нем кипит обида, но он абхаз и в конце концов поймет, что ради спокойствия в Абхазии надо признать поражение. Как бы то ни было, но выбор народа нужно уважать.
— Так он и признает! Если бы хотел, то давно бы пришел и пожал руку Сергею Васильевичу, — горячился Климентий Джинджолия.
— Жди, пожмет! Прав Станислав, пока они не раскачали лодку, надо занимать кабинеты и начинать работать, — стоял на своем Мераб Кишмария.
— Так они нас туда и пустят! Слышал, что Хашба сказал? — напомнил Виталий Корсантия о последнем заявлении «момент-премьера».
— Пусть говорит что хочет! Тоже мне нашелся «крутой Уокер», — отмахнулся от этого генерал.
— Друзья! Давайте не накручивать друг друга, — пытался сбить накал бушевавших в кабинете страстей Сергей Багапш. — Мы обязаны… Нет, мы не имеем права пролить хоть одну каплю крови. Мы должны помнить не о креслах и власти, а о том, как нам всем жить дальше. Один выстрел, одна безвинно загубленная жизнь могут взорвать Абхазию, и тогда ни нам, ни нашим детям не будет прощения. Нас проклянут навеки. Поэтому давайте наберемся терпения и проявим благоразумие. Пусть Верховный суд и ЦИК скажут свое слово, а там посмотрим!
В тот день это была последняя фраза, сказанная в избирательном штабе Сергея Багапша. После совещания он и его соратники взяли паузу, воздерживались от резких заявлений и с нетерпением ожидали решений ЦИК и Верховного суда. Их противник тоже сбавил обороты и принялся активно бомбардировать суд бумагами, видимо еще надеясь похоронить в них победу на выборах Сергея Багапша и Станислава Лакобы.
После долгих проволочек, 11 октября Верховный суд республики начал рассмотрение жалобы Рауля Хаджимбы. Заседание продолжалось недолго и было перенесено на два дня. В тот же день состоялось очередное совещание многострадальной Центральной избирательной комиссии. Шло оно около четырех часов и завершилось сенсационно. К сгоравшим от нетерпения журналистам и многочисленным сторонникам обоих кандидатов вышел не председатель ЦИК, а его представитель Александр Адлейба. По его напряженному лицу и слегка подрагивающему голосу они догадались, что сейчас услышат ответ на главный для всей Абхазии вопрос.
По мере того как Адлейба читал итоговый протокол этого без всякого преувеличения самого драматичного заседания ЦИК, его голос становился все тверже, а тишина в зале все пронзительнее. Перед последним абзацем волнение вновь заговорило в нем. Александр оторвал взгляд от текста и пробежался по аудитории. Она пожирала его глазами и, затаив дыхание, ждала этих самых главных и важных слов. Он взял в руки протокол, придвинул микрофон и твердым голосом, чеканя каждое слово, зачитал решение:
«Сергей Васильевич Багапш признан избранным Президентом Республики Абхазия».
Истинную цену этих нескольких слов знали только сам Александр Адлейба и одиннадцать из пятнадцати присутствовавших на заседании членов ЦИК, проголосовавших за такое решение. Сразу после него теперь уже бывший председатель Центризбиркома Сергей Смыр и двое его членов подали в отставку.
Александр еще продолжал зачитывать последние строчки из протокола, но его уже никто не слышал. Он сказал главное, и публика ответила взрывом эмоций. Одни — сторонники Сергея Багапша — ликовали. Другие — те, кто поддерживал Рауля Хаджимбу, — пылали гневом и посылали проклятия в адрес Адлейбы и остальных одиннадцати «предателей». Страсти перехлестывали через край и выплеснулись на улицу, где все это время возбужденная толпа ждала решения ЦИК.
На этом короткое и зыбкое перемирие закончилось. В тот же день местное телевидение обрушилось с абсурдными обвинениями теперь уже не только в адрес Сергея Багапша, его соратников и сторонников, но и членов ЦИК, записав всех скопом в «грузинских пособников». Вслед за этим, как из канализационной трубы, в Интернет грязным валом на них хлынул черный компромат.
Закусивший удила Рауль Хаджимба ринулся в атаку на Верховный суд, на этот раз он подал жалобу на решение ЦИК. А на следующий день — 12 октября его сторонники собрали немногочисленный, но шумный митинг у здания Абхазского института гуманитарных исследований. Теперь уже не стесняясь в выражениях, они обвиняли победителей во всех смертных грехах. Те, потерявшие дар речи от такого неслыханного вероломства, вскоре пришли в себя и 14 октября на площади Свободы собрали народный сход.
Огромная, до этого пустовавшая площадь к одиннадцати часам заполнилась до отказа, свободного места не оставалось даже в прилегающем к ней сквере, а люди все продолжали и продолжали подходить. В глаза бросались абхазские, русские, армянские, украинские лица, казалось, что в тот день здесь собралась вся многонациональная Абхазия. На них читались боль и тревога, но не было того ожесточения и ненависти, которыми всего в нескольких сотнях метров, на «пятачке» у здания филармонии бушевал немногочисленный митинг сторонников Рауля Хаджимбы.
Время приближалось к двенадцати, когда на выходе из сквера людское море всколыхнулось и раздалось в стороны. Сергей Багапш, Станислав Лакоба, Александр Анкваб, а с ними весь избирательный штаб в полном составе, под одобрительные возгласы прошли по этому живому коридору и поднялись на трибуну. Там к ним присоединились действующие вице-президент Валерий Аршба, спикер парламента Нугзар Ашуба, генеральный прокурор, председатель Верховного суда и представители большинства общественных организаций.
Митинг начался. Его ораторы заявляли о своей победе и решимости добиваться ее мирным и законным способом, призывали к терпению и спокойствию горячих и нетерпеливых. Абхазскую речь сменяла русская, затем армянская, мощные микрофоны разносили ее далеко за пределы площади. Она была хорошо слышна и у республиканской филармонии. Но несколько сот сторонников Рауля Хаджимбы не хотели и не желали слышать эти обращения, а, ослепленные поражением, продолжали обвинять соперников в «сговоре с Саакашвили и предательстве Абхазии».
День 14 октября еще больше отдалил и ожесточил победителей и побежденных. Он стал последним, после которого соперники перешли от слов к действиям — конфронтация нарастала. Абхазия все глубже погружалась в кризис, который уже угрожал самой государственности. Власть премьера Нодара Хашбы, и так едва державшаяся на чужих подпорках, стала рушиться, будто карточный домик, а надежды Рауля Хаджимбы вернуться в нее таяли, как весенний снег.
28 октября Верховный суд республики похоронил их навсегда. Он принял решение:
«Отклонить жалобу Рауля Хаджимбы и объявить выборы состоявшимися на всей территории республики, а Сергея Багапша и Станислава Лакобу — избранными президентом и вице-президентом».
Но закон — даже в здании суда — недолго торжествовал: около сотни разъяренных сторонников Рауля Хаджимбы смели немногочисленную милицейскую охрану и, круша все на своем пути, ворвались в зал судебных заседаний. Перед этим судья Георгий Акаба успел спрятать в карман только что собственноручно подписанное решение суда, и остервеневшая толпа не заметила, что разорвала копию. Затем, угрожая расправой, его заставили огласить другое решение, по которому прошедшие выборы признавались недействительными.
Тут же, перед зданием суда, в окружении охраны появился мрачный Рауль Хаджимба. В темноте, в свете телевизионных юпитеров его лицо напоминало маску из фильмов ужасов. В интервью журналистам НТВ и РТР он обвинил соперника в «попрании закона и провоцировании массовых беспорядков». Чуть позже в местных новостях ему вторил Нодар Хашба. А на следующий день Владислав Ардзинба издал указ о проведении повторных выборов. Но он оказался холостым выстрелом. Георгий Акаба, освободившийся из «плена», заявил перед телекамерой НТВ, что последнее решение — о признании прошедших выборов недействительными — он принял под давлением сторонников Рауля Хаджимбы, и затем зачитал подлинник.
После этого у действующего президента Владислава Ардзинбы, Рауля Хаджимбы и Нодара Хашбы были исчерпаны все легитимные возможности остановить приход к власти Сергея Багапша и Станислава Лакобы. На их стороне было большинство парламента, который вне всякого сомнения объявил бы их новыми президентом и вице-президентом, но его заседание сорвали сторонники Рауля Хаджимбы. 30 октября они блокировали входы в здание Народного собрания республики и не допустили к работе депутатов. С этого дня закон в Абхазии перестал действовать.
Наступивший неожиданно холодный ноябрь не остудил накал страстей. Никто и никому не хотел уступать. Теперь соперники, особо не выбирая выражений, наотмашь хлестали друг друга. Очередной день, отшумев дежурными митингами перед филармонией и на улице Гоголя, подошел к концу.
Заканчивали свою работу и абхазские телевизионщики. Кристиан Бжания, Алхас Чолокуа, режиссер, операторы уже собрались отключать аппаратуру, когда в студию бесцеремонно вломились трое вооруженных автоматами бойцов. Вели они себя по-хозяйски. Старший — крепыш, половину лица которого скрывали темные очки, поигрывая мускулатурой под камуфляжкой, плотно облегавшей его литое тело, достал из кармана куртки видеокассету и тоном, не терпящим возражений, приказал:
— Хватит всякую туфту гнать! Сейчас будем кино смотреть!
— Кто вы такие? Кто вам позволил… — возмутился Кристиан.
— Тебя забыли спросить! Смотри, а то довякаешься и без второй клешни останешься!
— Эфир уже закончился! — поддержал друга Алхас.
— Для кого закончился, а для нас только начинается! Я кому сказал, крути! — рявкнул на них очкастый.
— Без разрешения не имеем права! — продолжал упорствовать Алхас.
— Вот тебе наше разрешение! — И три ствола угрожающе нацелились на телевизионщиков.
— Мы будем звонить премьеру! — в один голос воскликнули Кристиан и Алхас.
— Звони-звони! — презрительно усмехнулся очкастый и, потеряв терпение, заорал: — А ну, крути! Я два раза не повторяю!
Аппарат сухо лязгнул и проглотил видеокассету. Алхас схватился за телефон и принялся звонить в приемную премьера Нодара Хашбы, но там ему сухо ответили: «Нодар Владимирович во всем разберется».
А тем временем те, кто остался в студии и кто в этот поздний час не выключил телевизор, с растерянностью наблюдали за тем, что происходило на экране. Для них время словно повернуло вспять и напомнило об ужасах недавней войны и оккупации. Три часа на потрясенных зрителей лился зловонный и высосанный из пальца компромат на Сергея Багапша и его соратников.
На следующее утро город буквально кипел от негодования. Премьер Нодар Хашба что-то невнятное лепетал в оправдание и обещал во всем разобраться. Но вышедшие из себя сторонники Сергея Багапша не стали ждать и нанесли ответный удар.
Поздним вечером Акун Квирая вместе с бывшими сослуживцами из легендарной разведывательно-диверсионной группы «Катран», наводившей во время войны ужас на гвардейцев, при поддержке добровольцев-ополченцев Адгура, Масика, Бесика, Энрика и Эрика, подобно ночным призракам, возникли перед самым носом остолбеневшей охраны телецентра. В считаные минуты и без единого выстрела он перешел под контроль сторонников Сергея Багапша, но, как оказалось, ненадолго. Не прошло и суток, как мощный взрыв сотряс центр Сухума. Трансформаторная подстанция была выведена из строя, и экраны телевизоров погасли.
Теперь уже никто не помышлял о работе. Политическая паранойя, казалось, лишила людей рассудка. С раннего утра у избирательных штабов собрались возбужденные толпы и, вскипая праведным гневом, готовы были вот-вот схлестнуться в рукопашной схватке. Здания правительства и парламента, взятые в двойное кольцо осады сторонниками Рауля Хаджимбы и блокированные по внешнему кольцу теми, кто стоял за Сергеем Багапшем, все больше походили на осажденную крепость.
Это противостояние окончательно загнало Нодара Хашбу в угол и лишило разума. На крышах зданий правительства и парламента появились вооруженные снайперы, а в кабинетах на первых этажах стали спешно оборудовать пулеметные гнезда. Снялся со своей базы и прибыл для усиления охраны «момент-премьера» и так называемого правительства печально знаменитый СОБР.
По Сухуму и всей Абхазии поползли зловещие слухи о высадке российского спецназа на бывшей военной базе в Гудауте и сосредоточении еще двух батальонов на границе за Псоу. Теперь ни Сергею Багапшу, ни Станиславу Лакобе, ни Александру Анквабу, ни генералу Мерабу Кишмарии уже было не под силу остановить своих сторонников, а те не собирались покорно, как стадо баранов, идти под нож и тоже взялись за оружие. Дальнейшее промедление грозило перерасти в кровавое столкновение, и тогда Сергей Багапш решил обратиться к народу — призвать его на общеабхазский сход, который и примет окончательное решение.
Накануне схода до глубокой ночи не гасли огни в кабинетах обоих избирательных штабов. В одном опасались, что в эту ночь противник при поддержке СОБРа и спецназа попытается раз и навсегда закрыть вопрос с победителем в президентской кампании, и поэтому группы добровольцев во главе с Мерабом Кишмарией готовы были стоять насмерть. В другом царил нервный мандраж, потому что как сам Рауль Хаджимба, так и его соратники отдавали себе отчет в том, что завтра им придется иметь дело не только с ополченцами и милиционерами, большая часть которых перешла на сторону Сергея Багапша, а с многотысячной кипящей гневом толпой.
С особой остротой все то, что происходило сейчас в Абхазии, воспринималось в квартире президента Владислава Ардзинбы. Он, несший на своих плечах тяжкое бремя ответственности за судьбы Абхазии и ее народа, закованный тяжелой болезнью в четырех стенах и смотревший на то, что происходило за ними, глазами своих, зачастую недобросовестных, подчиненных, не мог поверить, а тем более примириться с тем, что выбор будущего преемника состоялся наперекор его железной воле. Пять лет мучительных раздумий и поиск того, кому он без колебаний мог доверить власть, оказались безрезультатно потерянными. Его преемник — Рауль Хаджимба был отвергнут.
Президент неподвижно застыл в кресле и, казалось, был отрешен от того, что происходило в квартире и за ее стенами. Ибрагим с Кавказом нерешительно переступили порог и, неловко переминаясь с ноги на ногу, остановились посреди комнаты. Пауза затягивалась, и Кавказ деликатно прокашлялся. Владислав Григорьевич встрепенулся, тяжело поднялся из кресла и двинулся им навстречу.
Ибрагим сделал несколько шагов, и внезапно щемящая жалость к тому, с кем последние годы была связана вся жизнь, захлестнула его. Таким Владислава Ардзинбу он видел дважды: после убийства близкого его друга и верного соратника Юрия Воронова и смерти матери. Как тогда, так и сейчас в уголках глаз Владислава Григорьевича плескались такая боль и такое страдание, что Ибрагим не смог сдержать слез. Это не укрылось от президента, он тепло обнял его, затем Кавказа и поинтересовался:
— Как дела, ребята?
Ответить они не успели, с улицы донеслись оскорбительные в адрес президента выкрики и свист. Их не могли заглушить даже плотно закрытые окна. Гримаса гнева исказила лицо президента, а глаза полыхнули яростным огнем. Оскорбления, подобно отравленным пулям, терзали и рвали ему душу. Для него, отдавшего всего себя без остатка свободной Абхазии и свободе тех, кто хотел поскорее забыть и вычеркнуть его из истории, а сейчас надрывался в кустах, это было хуже смерти. Он, устоявший перед жестокими ударами судьбы и не согнувшийся под чудовищным прессом сильных мира сего, пытавшихся загнать его и его народ снова в Грузию, был потрясен вероломством и черной человеческой неблагодарностью.
Ибрагим, не в силах сдержать душивший его гнев, воскликнул:
— Владислав Григорьевич, это не люди! Они хуже зверей! Разве люди могут…
— Не надо, Ибрагим! — остановил его он. — Они тоже люди, но без памяти. Придет время, и оно расставит все по своим местам.
— Но почему они. — но договорить Ибрагиму не удалось.
В комнате появился взъерошенный Гембер и поторопил:
— Кавказ, Ибо, бегом вниз, эти отморозки уже в ворота долбятся!
— Сволочи! Сейчас я им покажу! — вспыхнул Кавказ.
— Стоп! — остановил президент. — Не порите горячку!
— Владислав Григорьевич, надо действовать, а то будет поздно! — настаивал Гембер.
— Оружие не брать! — потребовал он.
— Как?! У них же в руках не палки!
— Я сказал — не брать! — отрезал Владислав Ардзинба, и его взгляд остановился на них, кто все эти немыслимо долгие и тяжелые двенадцать лет был рядом с ним и не изменил ни словом, ни делом.
Бушевавший в нем гнев внезапно угас, и рука легла на плечи Ибрагима и Кавказа. Они уже не слышали воплей, доносившихся с улицы, в эти мгновения оба были готовы без колебаний отдать жизнь за президента. Владислав Григорьевич понял все без слов, кончики его губ дрогнули, и потеплевшим голосом он произнес:
— Я никогда этого не забуду. Вам — ребятам надо жить! А за меня не бойтесь! Меня невозможно убить! Президента можно только забыть!
— Владислав Григорьевич!.. Владислав Григорьевич! — слова застряли в горле Ибрагима.
— Это надо просто пережить, ребята! — подбодрил его и Кавказа президент.
И они, провожаемые его благодарным взглядом, вышли в холл, сложили на диван автоматы, пулемет и поспешили во двор. Там на них обрушился новый залп оскорблений. За кустарником трудно было разглядеть того, кто больше других злобствовал, и Ибрагим рванулся к нему. Кавказ благоразумно придержал друга за плечо. Угрозы горластого, казавшегося в темноте карликом, оказались не пустым звуком, в свете тусклых фонарей блеснул ствол пистолета.
— Ребята, что вы делаете?! Так же нельзя! Идите по домам! — пытался образумить Кавказ.
— По домам?! — хмыкнуло из темноты. — Тоже мне нашелся советчик. Это вам пока не поздно надо по норам разбегаться.
— Ты что несешь! Забыл, здесь живет президент?! — вспыхнул Ибрагим.
— Был президент, да весь вышел!
— Что-о-о?! — здесь уже не выдержал Кавказ. — Ты кто такой? Ты — пустое место! А за ним народ!
— Народ, говоришь?! — прорычал злобствующий кривоногий «карлик». — А когда в последний раз он видел этот самый народ?
— Да он давно забыл про него! Окружил себя холуями, которые ему в ухо напевают про свою хорошую жизнь, — вторили из толпы.
— Засиделся на нашей шее! Пора слазить! — не унимался «карлик».
— Тебя забыли спросить! — рыкнул Ибрагим.
— Реваз, чего с ними базарить! Это же турки! — кто-то узнал Ибрагима.
— А… турки?! — взвился «карлик». — С этими разговор будет короткий.
— Ну, давай поговорим, если ты такой смелый! — И кажущаяся в темноте исполинской тень Кавказа накрыла «карлика».
Тот шарахнулся назад и скрылся за чужими спинами. Казалось, еще одно мгновение — и они схлестнутся, но кому-то в толпе хватило благоразумия остановить перепалку, грозившую перерасти в перестрелку. Еще какое-то время из кустов доносились вялый мат и крики, но вскоре запал у горлопанов пропал, и к полуночи улица опустела.
Остаток ночи прошел относительно спокойно, смена подошла к концу, но Ибрагим и Кавказ не покинули президента и остались вместе с Гембером и Асланом. Из города поступала все более тревожная информация. Кто-то заметил будто бы вооруженных бойцов Мераба Кишмарии на крышах Абхазского драмтеатра и Академии наук. Ближе к полудню на площади Свободы начали собираться люди, они все прибывали и прибывали. Это лишний раз убеждало в серьезности и твердости намерений Сергея Багапша и его сторонников провести всенародный сход.
Около двух часов дня он вместе со своим избирательным штабом появился на трибуне. Сход начался. Ораторы один за другим подходили к микрофону. Справедливо возмущаясь, они в порыве праведного гнева обличали «зарвавшуюся власть», «беспредел Хашбы» и «попрание закона». В ответ из одобрительно гудевшей толпы раздавались все более жесткие и категоричные требования:
— Хватит! Сколько можно терпеть!
— Пора кончать с этим беспределом!
— Надо освобождать парламент!
— Мы вам дали власть! Идите и берите ее!
Атмосфера схода все больше накалялась. Сергей Багапш, Александр Анкваб, Сократ Джинджолия и их соратники увещевали и пытались охладить самых горячих и нетерпеливых, напоминали о вооруженном до зубов президентском спецназе и СОБРе, засевших на крышах парламента и правительства снайперах. Но их обращения тонули в глухом ропоте, с разных концов площади неслись призывы:
— Чего больше ждать?!
— Хватит перед ними пресмыкаться!
— Мы пойдем с детьми, если они люди, то не станут стрелять! — требовали женщины.
— Мы будем без оружия! — поддержали их мужчины.
— Идем! Идем! — гудела уже вся площадь.
И, подчиняясь этому могучему и неудержимому порыву тысяч своих сторонников, Сергей Багапш призвал:
— Друзья! Я вас прошу, не берите с собой оружие! Там находятся наши дети. Они не будут стрелять! Они нам не враги! Мы будем говорить с ними как с братьями!
— Охране тоже оставить оружие! — вслед за ним напомнил генерал Кишмария.
Митинг на площади Свободы подошел к концу. Сергей Багапш, Станислав Лакоба, Александр Анкваб, Леонид Лакербая, Мераб Кишмария, Сократ Джинджолия спустились с трибуны, и дальше эта человеческая река выплеснулась на улицы, ведущие к зданиям парламента и правительства. По пути, подобно горным ручейкам, в него вливались все новые и новые сторонники. Сколько их было — четыре, пять, десять тысяч?
Подобного шествия Сухум за свою долгую историю вряд ли когда видел. Это была необычная и удивительная демонстрация силы духа и веры в то, что у мощных каменных стен комплекса правительственных зданий, ощетинившихся с крыш хищными «жалами» снайперских винтовок, воронеными стволами автоматов и пулеметов из окон первого и второго этажей, их ждет победа, а не смерть.
Сергей Багапш, Станислав Лакоба, Александр Анкваб и тысячи абхазов, армян и русских, сомкнув ряды, шли к Президентскому дворцу. В те ноябрьские дни для многих он стал местом, где ненавистное зло свило свое гнездо. Но они верили в то, что инстинкт самосохранения, позволявший в течение двух с половиной тысячелетий выжить и сохраниться крохотной Абхазии и ее народу, и на этот раз остановит палец на спусковом крючке тех еще почти мальчишек, что стали заложниками в безжалостной политической игре. Они наивно верили в то, что под напором добра зло не устоит и рухнет.
Но охрана Сергея Багапша не была столь наивна и готовилась дать отпор любой вылазке противника. Они: Акун Квирая, Володя Гоголин, Теймураз Хагба, Юра Долгоруков, Вартан Гургенян и Эрик Воуба образовали живую стену вокруг Сергея Багапша и Александра Анкваба. Денис Читанава, Адгур Бжания и Авик Маркарян старались не оставить Станислава Лакобу открытым для выстрела снайпера. Они внимательно обшаривали взглядами крыши, окна и балконы верхних этажей, готовясь предугадать предательский выстрел. Авик в эти минуты не видел лиц Дениса и Адгура, но ощущал колоссальное напряжение, что владело ими. Где-то там — за окнами одного из кабинетов правительства с автоматом в руках находился лучший друг Адгура — Отар Берзения, с которым он прошел войну от ее первого и до последнего дня. Там же был и племянник Дениса. Авик понимал, что за чувства сейчас владели ими, и, подавшись к Денису, произнес:
— Все будет нормально, Денис. Вот увидишь.
— Может быть, — неуверенно ответил тот и нервно повел плечом.
— Он нормальный парень и не станет стрелять.
— Он… А другие? Эти «гориллы» Хашбы — они только и ждут, чтобы столкнуть нас лбами.
— «Гориллы», но не самоубийцы! Ты посмотри, сколько здесь народу. Пусть только попробуют, мы их сметем, как мусор!
— Голыми руками против автоматов и пулеметов?
— Ну, пусть они положат первую цепь. А дальше что?.. Нас тысячи, а там всего сотня, и большинство не отморозки. Они не идиоты и понимают, что потом их просто порвут на куски.
— На куски, говоришь? Порвем, а потом тут такое начнется! — И страдальческая гримаса искривила и без того посеревшее от нервного напряжения лицо Дениса.
— Нет, не будет этого! — уверенно ответил Авик.
— Почем ты знаешь?
— Есть предчувствие. У вас, абхазов, имеется что-то такое, чего нет у других. Русские уже давно бы пустили друг другу кровь. Грузины до смерти бы переругались. Евреи просто бы ушли. А у вас, как у того скакуна — в самый последний момент на краю пропасти он поворачивает обратно. В общем, не так как у нас, армян, вроде не дураки, — и, тяжело вздохнув, Авик продолжил: — В Ереване что натворили! Нашлись отморозки, их нельзя даже армянами назвать, расстреляли на глазах всего мира половину парламента.
— Может быть, может быть! Скорее бы все это кончилось и потом…
Но Денис так и не успел договорить. В это время зычный голос Мераба Кишмарии напомнил всем, что до цели осталось совсем немного:
— Те, кто с оружием, на площадь не выходить. Группам прикрытия выдвинуться вперед и занять исходное положение.
— Женщинам и детям остаться на месте! — полетело по рядам.
Бывшие бойцы с Восточного фронта с полуслова понимали своего боевого командующего. В толпе произошло еле заметное глазу движение, и три группы крепко сбитых и решительных парней быстро заняли места впереди колонн манифестантов. После перегруппировки они двинулись к зданиям правительства, парламента и администрации президента.
Там в полупустых и выстуженных ноябрьскими холодами кабинетах, где большинство министерских кресел давно пустовало, а в ручках высохли чернила, ежедневно, ежечасно множилось мерзкое и коварное зло, которое выплескивалось за стены и отравляло души людей ядом ненависти и злобы.
Нодар Хашба, власть которого в те дни распространялась не дальше порога премьерского кабинета, подстегиваемый кукловодами, окопавшимися на втором этаже самого крутого корпуса военного санатория, так далеко зашел в погоне за ней, что, кажется, потерял всякое чувство реальности и упрямо гнул свое. Попытки придушить независимую прессу, отказав ей в публикации материалов «по техническим причинам», игнорирование решений ЦИК, Верховного суда республики и откровенное хамство по отношению к тем сотням и тысячам, что просили только об одном — не разжигать вражду, возбуждали к нему лютую ненависть.
Едва ли не каждый новый день в Абхазии начинался с того, что «момент-премьер» грозил с экранов телевизоров самыми жестокими карами «смутьянам и экстремистам», а сомневающимся намекал на некую силу, которая вот-вот готова положить конец «хаосу и беспределу». Все эти заявления вели к тому, что власть Хашбы съеживалась, подобно шагреневой коже.
В последнее время комплекс правительственных зданий все больше походил на осажденную крепость. На его крышах круглые сутки дежурили снайперы. Западный и восточный входы были наглухо заблокированы вооруженной до зубов охраной. Сам Нодар Хашба если и выбирался из кабинета в военный санаторий, чтобы получить новое ЕБЦУ (еще более ценное указание), то этот его выход скорее напоминал отчаянную вылазку в захваченный врагом город. Его держиморды зачищали все вокруг маршрута, и только потом он в своем бронированном «саркофаге» отваживался на прорыв.
С раннего утра 12 ноября по кабинетам «правительства» начали гулять зловещие слухи о том, что после народного схода сторонников Сергея Багапша на площади Свободы «взбунтовавшаяся толпа экстремистов» предпримет попытку взять штурмом «последнюю цитадель демократии и законности». На этот раз слух подтвердился. Около трех часов дня могучий и неудержимый шаг огромной людской толпы был уже отчетливо слышен даже в кабинете Нодара Хашбы и загнанного в угол обстоятельствами вице-премьера Астамура Тарбы.
Подстегиваемые истеричными командами снайперы рассыпались по крыше и заняли позиции за ее парапетом. Внизу, на первом этаже, засуетилась охрана, в вестибюль западного входа напротив дверей выставили тяжелый пулемет. Самые нервные сняли автоматы с предохранителей и дослали патрон в патронник. Теперь их взгляды были прикованы к улицам, выходящим на площадь, и то, что они там увидели, вызвало в ногах нервную дрожь.
Жидкая цепочка сторонников Рауля Хаджимбы, пытавшаяся преградить демонстрантам путь к парламенту и правительству, подобно зыбкой песчаной плотине в считаные минуты была размыта и растворилась под напором тысяч и тысяч тех, кому уже было невмоготу терпеть то сумасшествие, что устроила власть. И только несколько десятков человек, облепив гроздьями запертые изнутри двери подъездов, пытались своими телами закрыть тех, кто сейчас за полуметровыми стенами дрожащими руками досылали патрон в патронник.
Во внутреннем дворе автоматчики заняли исходные позиции, а на крышах угрожающе зашевелились снайперы.
В свете заходящего солнца над парапетом грозно сверкнула оптика, и стволы винтовок прошлись по толпе, выискивая свои жертвы. Огромное людское море замерло, но только на мгновение, а затем наступившую пронзительную тишину нарушил неясный гул, который с каждой секундой становился все сильнее и напоминал грозный накат океанского вала. Нервная волна прокатилась по толпе, безоружные женщины и мужчины, старики и юноши решились сделать этот немыслимо трудный шаг.
Теперь противников разделял какой-то десяток метров, и один роковой выстрел мог положить конец тому хрупкому равновесию, что каким-то чудом еще сохранялось в Абхазии, и похоронить навсегда робкую надежду на то, что противоборствующие стороны не схлестнутся в кровавой резне. Напряжение достигло своего предела. Снайперы растерянно крутили стволами и что-то кричали в сотовые телефоны. Во внутреннем дворе автоматчики и пулеметчики передернули затворы. Наступил момент истины.
На площади вновь воцарилась абсолютная тишина, в которую вкрался мерный стук. Он становился все громче и громче и был уже слышен не только в толпе, но и тем, кто сейчас сжимал в руках автоматы и застыл у пулеметов за стенами зданий правительства и парламента. Он уже властвовал повсюду. Это сердца участников всенародного схода слились в одно в надежде, что не случится непоправимое. Они сделали еще один шаг. И в этом молчаливом и сосредоточенном движении тысяч безоружных людей чувствовалась такая огромная и несокрушимая сила, что, казалось, перед ней не устоят две сотни вооруженных до зубов «преторианцев Нодара Хашбы».
Но они по-прежнему безмолвствовали и не покидали позиций. Прошла одна, за ней другая невыносимо долгая минута, и в разных концах площади, набирая силу, зазвучали женские и мужские голоса:
— Братья! Мы пришли к вам без оружия!
— Мы пришли к вам с миром!
Этот призыв, как молитву, повторяли тысячи. И он был услышан. Двери западного входа распахнулись, из них вышел с посеревшим, как пепел, лицом вице-премьер Астамур Тарба. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, он обернулся и севшим от напряжения голосом воскликнул:
— Ребята, не стреляйте! Сложите оружие!
Вздох общего облегчения, подобно шелесту леса, пронесся над толпой. Но уже в следующее мгновение женский вопль стеганул по натянутым, как струна, нервам:
— Чего стоите?! Стреляйте!.. Это идут грузины! Стреляйте!
Толпа оцепенела. И тут случилось то, во что никто не хотел верить. Пулеметная очередь хлестанула свинцом из дверей западного входа. Вслед за ней тявкнул автомат. На землю посыпались осколки стекла, куски штукатурки, и из подъезда на площадь поползли клубы серой пыли, запахло едкой пороховой гарью.
Глава 17
Эхо выстрелов хлестануло по взведенным нервам Алхаса Чолокуа и Олега Амичбы. Телекамера едва не вывалилась из вдруг ставших ватными рук. Алхас вжал голову в плечи, сердце екнуло и провалилось куда-то вниз. Сидевший где-то в глубине каждой его клеточки и уже, казалось, позабытый детский страх ожил с прежней силой. За какие-то доли мгновения в памяти пронеслись, словно в гигантском калейдоскопе, трагические события двенадцатилетней давности.
Зловещий вой артиллерийских снарядов и мин плющил и вгонял в землю. Злобный лай пулеметов и остервенелое тявканье автоматов заставляли ребячье тело сжиматься в комок. От нестерпимого жара, исходившего от пылающих развалин, трещали волосы на голове, а кожа на ладошках становилась похожей на наждак. Остановившимся взглядом он смотрел на раздавленного гусеницей танка и корчившегося в предсмертной агонии старика. В тот день, 14 августа 1992 года, он узнал и запомнил навсегда удушающий запах едкой гари и разлагающегося на жгучем солнце человеческого тела — это был запах смерти и запах войны. И сегодня, спустя столько лет, 12 ноября 2004 года она снова подбиралась к Абхазии.
Поборов минутную слабость, Алхас и Олег продолжали снимать то, что происходило на площади, чтобы потом, когда улягутся страсти, а из памяти сотрутся события сегодняшнего дня, беспристрастная видеозапись напомнила забывчивым и рассказала несведущим суровую, без всяких прикрас, правду.
Тем временем события перед зданием правительства приобретали все более драматичный характер. Вслед за пулеметом из подъезда тявкнул автомат, очередь прошила дверь и брызнула в толпу деревянной щепой.
Острая боль полоснула Адгура Бжанию по левой ноге. Горячее дыхание близкой смерти обожгло правую щеку Дениса Читанавы. Где-то за спиной вскрикнул раненный в руку «Малыш» Джопуа. Но ни они, ни Авик Маркарян, ни Леван Бжания, ни Кесоу Дарсалия, ни Энрик Якуб-оглы, ни десятки других ребят, ставших в эти мгновения живым щитом для других, не думали о боли и смерти. Они свой выбор сделали еще там, на площади Свободы, и не по приказу генерала Мераба Кишмарии, а по зову собственного сердца.
Дробный грохот пулемета и двух автоматов уже не в силах был их остановить. Одним отчаянным броском они преодолели последние метры и ворвались в подъезд. На этот раз пулеметная очередь прошла над головами и обрушила на пол штукатурку со стен. И когда рассеялись пыль и дым, то в вестибюле уже никого не было. В конце коридора, на лестничном пролете мелькнули спины драпающих пулеметчика и автоматчиков. В холле о них напоминали валявшиеся на полу стреляные гильзы и корчившаяся на ступеньках в предсмертной агонии женщина — то была Тамара Шакрыл. Помочь ей они ничем не могли, шальная пуля оборвала ее жизнь.
Чуть позже остальные группы деблокирования без единого выстрела ворвались в здание со стороны восточного и центрального подъездов. Президентский дворец переходил в руки сторонников Сергея Багапша. «Момент-премьер» Нодар Хашба и его охрана выскочили во внутренний двор и искали спасения в бронированном «саркофаге». Но их не пытались задержать, вслед им из распахнутых окон второго этажа неслись презрительные крики:
— Может, задницу скипидаром смазать?!
— Штаны не забудь постирать!
— Скатертью дорога!
Под этим словесным градом «момент-премьер» съежился, юркнул в бронированную пасть БМВ и на бешеной скорости понесся в военный санаторий под защиту миротворцев.
День 12 ноября закончился в шестнадцать часов освобождением зданий парламента, правительства и администрации президента, и многим тогда показалось, что на этом избирательный кошмар завершился. На самом деле лишь окончился один и начался новый виток в абхазской драме. В те минуты ликующие победители были счастливы тем, что Провидение уберегло их от большого кровопролития, и не думали об этом. За все годы своего существования безликие и холодные кабинеты министров и депутатов парламента не видели столько радостных и опьяненных успехом лиц. Самого страшного, что еще несколько минут назад им казалось неизбежным, — бессмысленной бойни, удалось избежать, поэтому эмоции перехлестывали через край. Кресло ненавистного «момент-премьера» и забытый им при бегстве портфель с документами выбросили в коридор. Его грозные постановления и распоряжения, так и оставшиеся на бумаге, ворвавшийся в распахнутые настежь двери сквозняк швырял пачками из окон в ликующую толпу.
В соседних кабинетах из шкафов и ящиков на столы вываливались коробки с конфетами, бутылки с шампанским и коньяком, еще месяц назад приготовленные, чтобы обмыть так и не состоявшуюся победу Рауля Хаджимбы. Счастливые и потерявшие от радости головы победители в горячечном запале спешили воспользоваться этими сладкими трофеями. С оглушительным треском в воздух взлетали пробки, игристое шампанское пенилось в стаканах, бокалах и во всем том, что попадалось под руку. Это по праву была их победа! Победа над ненавистным злом, которое после 5 октября поселилось в этих стенах и затем ежечасно и ежеминутно множилось, отравляя разум людей и превращая закадычных друзей в заклятых врагов.
Сновавшие в толпе тележурналисты тщательно, крупным планом снимали этот разгул людской стихии, который спустя несколько часов в экстренных новостях будет представлен ни много ни мало, а как «путч и государственный переворот коррумпированных и экстремистских группировок». Но в те мгновения им — тем, кто не испугался смерти, хлестнувшей навстречу свинцом, и первыми ворвался в западный подъезд, было глубоко наплевать на эту мышиную суету. Ребята из охраны и добровольцы-ополченцы, как когда-то на фронте, решительно и без колебаний поднялись в атаку и теперь, сделав свое дело, отошли в сторону, предоставив слово политикам.
И они — Станислав Лакоба, Александр Анкваб, генерал Кишмария, пережившие в эти последние минуты то, чего не пожелаешь и врагу, появились в коридоре. Перевернутые кресла и разбросанные по полу бумаги красноречиво свидетельствовали о паническом бегстве тех, кто, прикрываясь законом, цинично его попирал и не давал все эти двенадцать дней сказать свое веское слово.
Навстречу им из кабинетов и с лестниц спешили люди, чтобы пожать руку или сказать доброе слово. Некоторые, не в силах сдержать переполнявшие их чувства, встречали криками «ура!». Но на осунувшихся и пожелтевших, как воск, лицах Станислава, Александра и Мераба не было ни радости, ни торжества. Неимоверный груз ответственности за жизни сотен и тысяч людей все еще продолжал давить на них. Они шли по этому живому коридору, ясно понимая, что на какое-то время роковую черту, за которой маячила мрачная тень гражданской войны, удалось отодвинуть, но насколько далеко, теперь зависело от Рауля Хаджимбы и его сторонников.
А они в эти самые минуты находились в полной растерянности. Хваленый СОБР и натасканная охрана Нодара Хашбы оказались бессильны перед отчаянным бесстрашием безоружных людей, и казавшаяся несокрушимой цитаделью оборона правительства и парламента в считаные минуты рухнула, будто карточный домик. Униженные и раздавленные бесславным поражением, собровцы и охрана, бежавшие в избирательный штаб Рауля Хаджимбы, вскоре отошли от шока, и теперь было достаточно одной искры, чтобы ответная волна яростного и слепого возмездия обрушилась на тех, кто торжествовал свою победу.
Это прекрасно понимали как Сергей Багапш, так и опытный военный Мераб Кишмария. Генерал не выпускал из рук трубки мобильных телефонов. Звонки следовали один за другим. Разведчики сообщали, что на турбазе «Абхазия» пока все оставались на местах, зато тревожная информация поступила с набережной. Кто-то заметил, как группа вооруженных бойцов заняла позицию в Абхазском драмтеатре, кому-то почудились снайперы, засевшие на крыше Академии наук. К счастью, сообщения оказались ложными. Окончательно пригасило напряжение и развеяло тревожные слухи появление в коридорах парламента Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы.
Чего стоило Сергею Багапшу и какие он нашел слова, чтобы убедить Рауля Хаджимбу покинуть свой избирательный штаб, где его потерявшие от гнева и ярости головы сторонники призывали к мести, чтобы выступить и успокоить людей, известно только ему одному. С почерневшим, словно головешка, лицом Рауль Хаджимба понуро шел по коридору за Сергеем Багапшем. У него хватило мужества пройти через строй испепеляющих ненавистью взглядов и сохранить выдержку под градом оскорбительных упреков. Телерепортеры неотступно следовали за ними и держали в фокусе камер их лица, будто заранее пытаясь прочесть ответ, которого, в прямом смысле слова затаив дыхание, ждала вся Абхазия.
Они поднялись в кабинет сбежавшего «момент-премьера», там к ним присоединились Станислав Лакоба, Александр Анкваб, Мераб Кишмария, и охрана захлопнула за ними двери. Несколько минут Сергей Багапш и Рауль Хаджимба молчали, увиденное и услышанное и, конечно, смерть Тамары Шакрыл потрясли обоих и давили на них грузом тяжкой вины. Долго, будто примеряясь, они прощупывали друг друга изучающими взглядами, затем сели за стол, достали из карманов пачки с сигаретами, и каждый закурил свою. Кольца сиреневого дыма закручивались в причудливые загогулины над их головами. Сергей Багапш сделал глубокую затяжку, погасил сигарету в пепельнице и первым начал этот мучительно трудный разговор. Он не стал вспоминать прошлые обиды, но в его словах продолжали звучать боль и горечь.
— Сегодня по нашей вине произошла страшная трагедия! Пролилась невинная кровь! Мы в ответе за нее! — заговорил он рублеными фразами.
Голова Рауля поникла, смерть Тамары Шакрыл и для него стала потрясением, но он не мог найти слов. Они застряли в перехваченном спазмами горле. И тогда Сергей Багапш продолжил:
— Рауль Джумкович, мы должны, нет, мы просто обязаны сделать все возможное и невозможное, чтобы тот роковой выстрел стал последним, иначе нам не будет прощения.
— Да! — выдавил из себя Хаджимба.
— Люди нас ждут и хотят услышать это от нас обоих. Сегодняшняя трагедия не должна еще больше разделить наш народ на чужих и своих.
— Мы и так слишком далеко зашли!
— Пора всем остановиться. Власть не стоит того, чтобы отдавать за нее жизни безвинных.
— Одна жизнь уже заплачена, — обронил Хаджимба.
— Это наша общая трагедия, и вокруг нее не надо нагнетать страстей. Пора с ними кончать и говорить нормальным языком, а не языком ультиматумов. Мы готовы вернуться к нашему последнему предложению.
— Какому? — оживился Хаджимба.
Сергей Багапш бросил вопросительный взгляд на Станислава Лакобу, тот одобрительно кивнул головой. То, что Сергей Багапш собирался предложить своему сопернику, вряд ли когда-либо происходило в современной избирательной практике. За несколько дней до этой встречи они вместе с Александром Анквабом, Сократом Джинджолией, Артуром Миквабиа, Леонидом Лакербаей в очередной раз ломали голову над тем, как выбраться из заколдованного круга, в котором не только они, но вся Абхазия оказались по вине председателя ЦИК Сергея Смыра и по роковому стечению обстоятельств.
Ситуация была патовая, и выход из нее нашел Станислав Лакоба. Он, сделавший немало для победы, отказывался от поста вице-президента и ради согласия и примирения предлагал передать его Раулю Хаджимбе. В первые мгновения это предложение вызвало бурный протест и всплеск эмоций, но когда они поутихли, все согласились с тем, что это был, пожалуй, единственный выход из тупика.
И теперь, когда они с Раулем Хаджимбой могли посмотреть друг другу в глаза, Сергей Багапш решил использовать этот последний шанс. Он, благодарно глянув на Станислава и медленно выговаривая каждое слово, предложил:
— Рауль Джумкович, внимательно выслушайте и не торопитесь с ответом. То, что сейчас мы вам предлагаем, пока не прописано ни в Конституции, ни в одном из законов, но жизнь людей и единство нашего народа превыше всего.
— Безусловно, — согласился Хаджимба.
— Так вот, — продолжил Сергей Багапш, — ради нашей Абхазии Станислав Зосимович отказывается от поста вице-президента, который ему по праву доверил народ, в вашу пользу.
— Но такое невозможно! Это не по Конституции! Нас никто не поймет и не признает! — после затянувшейся паузы ответил Рауль Хаджимба.
— И что из того? Нас уже двенадцать лет не признают, но Абхазия как была, так и остается! — напомнил Станислав Лакоба.
— Рауль Джумкович, не сомневайтесь, народ нас поймет и поддержит, а с заграницей потом будем разбираться. Сейчас главное — успокоить людей! Они нас ждут! Надо идти! — продолжал убеждать Сергей Багапш.
Болезненная гримаса исказила лицо Рауля Хаджимбы, но после коротких раздумий он кивнул головой и шагнул к двери. Сергей Багапш поднялся со стула и уже на ходу распорядился:
— Акун, здесь ничего не трогать! Дверь кабинета опечатать!
— Все будет сделано, Сергей Васильевич! — заверил его Квирая.
В это время в коридоре возник шум — к премьерскому кабинету пытался пробиться гэбэшник. Теймураз Хагба решительно перекрыл ему путь и вызвал Акуна Квираю. Тот не стал особо церемониться — сотрудники Службы государственной безопасности с давних пор вызывали стойкую аллергию, с раздражением посмотрел на гэбэшника и затем спросил:
— Тебе чего?
— Акун, мне срочно надо увидеть Рауля! — торопил тот.
— Вам сейчас надо срочно не сюда, а в сортир! — отмахнулся от него он.
— Акун, ну мне только на пару слов!
— Я сказал — потом!
— Акун, ты чего? Слава богу, все кончилось! Вы победили, к чему упираться?! — не унимался гэбэшник.
— Ладно, проходи! — согласился Квирая и нехотя отступил в сторону.
Гэбэшник вьюном проскользнул сквозь цепочку охраны, протиснулся к Раулю Хаджимбе и стал что-то торопливо говорить. Обрывки фраз разговора заглушали царивший в коридоре невообразимый шум и гул многотысячной толпы, доносившийся с площади. С каждым новым словом и без того мрачное лицо Рауля Хаджимбы все больше чернело. То, что ему говорил гэбэшник, видимо, вряд ли когда-либо станет известно. Болезненная гримаса искривила лицо Рауля, а с запекшихся губ совалось:
— Опять меня подставляют!
Тяжкая ноша ответственности, которую в очередной раз перекладывали на плечи Хаджимбы те, кто всячески сопротивлялся и не хотел выпускать из своих рук ускользающую власть, гнула к земле. Он спускался по лестнице и, кажется, ничего не замечал перед собой, его отрешенный взгляд скользил поверх голов тысяч тех, кто с нетерпением ждал самых важных слов от него и Багапша.
Но они услышали только одного Сергея Васильевича. Он вышел на крыльцо перед подъездом кабинета министров. Люди на площади стихли, и все взгляды, как в перекрестие прицела, сошлись на нем, а через мгновение тревожный ропот прокатился по рядам. Из задних тянулись на носочках и теребили тех, кто стоял впереди, вопросами:
— Василич вышел?
— Хаджимба с ним?
— А Хашба?
— Кто?! Да этот… — прошлись матом по сбежавшему «момент-премьеру», — уже за Псоу смылся!
— И штаны там стирает! — продолжали словесно добивать Хашбу.
— А Хаджимба, Хаджимба появился?! — сыпались из задних рядов вопросы.
— Нет! — похоронили надежду забравшиеся на деревья пацаны.
— Как — нет? Говорят, приехал!
— Жди, приедет!
— Значит, не договорились, — произнес кто-то убитым тоном.
— Да подожди ты каркать!
— Кажись, стоит твой Хаджимба.
— Он такой же мой, как и твой! Тоже мне нашелся родственник! — огрызнулись в ответ.
— Да замолчите! Дайте послушать, что скажет Василич!
Усталый голос Сергея Багапша тонул в монотонном гуле толпы, люди старались поймать каждое его слово и затем передавали по рядам.
— Самое трудное осталось позади!
— Больше не прольется ни одной капли крови!
— Мы говорили с Раулем Джумковичем! И я сделаю все, чтобы он был рядом!
— Мы начинаем с чистого листа!
— Мы один народ!
— Мы были и будем вместе!
— Мы сделаем все, чтобы в Абхазии снова были мир и спокойствие!
Его внимательно слушали как сторонники, так и немногочисленные противники, но тревога не покидала их сердец. Они так и не услышали от Рауля Хаджимбы слов о том, что сегодня, 12 ноября 2004 года, поставлена последняя точка в абхазской драме под названием «президентские выборы». Не услышали они и своего первого президента, с именем которого во время войны связывали надежду на победу, а после ее окончания жили верой в то, что он не позволит разрушить боевое братство и святое единство, что было оплачено самой дорогой ценой — кровью самых лучших сынов и дочерей Абхазии.
К концу выступления голос Сергея Багапша совсем сел, но его последние слова на притихшей площади услышали даже в самых дальних рядах:
— Никто и никогда не забудет вашего мужества и терпения! Пока будут такие, как вы, — Абхазия непобедима! Расходитесь с миром!
Через полчаса площадь перед кабинетом министров опустела. Северный ветер раздольно гулял по ней, грустно шурша опавшими листьями и обрывками бумаги. На его порывы листья финикийских пальм отвечали трепетной дрожью, они словно укоряли людей за то безумство, что в последние дни и часы творилось здесь. И лишь гигантские ливанские кедры, застывшие в почетном карауле у центрального президентского подъезда, надменно взирали с высоты своих веков на человеческую суету. Последний луч заходящего солнца, скользнув по их макушкам, стремительно покатился вниз и затерялся среди мохнатых лап. Холодный, блеклый диск тщетно пытался зацепиться за скалы у маяка, очередная отчаянная попытка удержаться не удалась, и он рухнул в бездну тревожно рокотавшего моря. Через мгновение оно слилось с иссиня-черным небом, и Сухум погрузился во тьму.
Непривычная для последних дней тишина опустилась на город, и сухумчане забылись в беспокойном сне с робкой надеждой на то, что завтрашний день будет лучше прошедшего. Но добровольцы из числа сторонников Сергея Багапша, охранявшие избирательный штаб, парламент и кабинет министров, не смыкали глаз и продолжали бдительно нести службу.
Заканчивался второй час ночи. Наур, Алмысхан и Инал завершили очередной обход территории и готовились к сдаче смены, когда Иналу почудился подозрительный шорох и невнятный говор, прозвучавший в парке. Он замер, вслед за ним остановились Алмысхан с Науром. Слух его не обманул, они тоже услышали, как под чьей-то неосторожной ногой хрустнула ветка, и затаились за кустарником.
Прошла минута-другая, и две человеческие тени проскользнули по краю поляны. Неизвестные, похоже, пытались подобраться к парламенту, им оставалось не больше сорока метров. Дальше медлить было нельзя, и, прикрываясь кустарником, Алмысхан, Наур и Инал незаметно подкрались к ним и в броске сшибли на землю.
Шум отчаянной борьбы, отборный мат и яростные крики подняли на ноги охрану парламента и правительства. Лязгнули затворы автоматов, и гулкий топот раздался в пустынных коридорах. Задремавший от навалившейся свинцовой усталости Акун Квирая вскочил из-за стола, схватил висевший на вешалке автомат и выскочил из кабинета. Навстречу ему Инал, Наур и Алмысхан тащили двоих, густо измазанных грязью.
— Что случилось?! — воскликнул Акун.
— Гады, хотели подорвать! — выпалил Инал и смахнул рукой кровь с разбитой губы.
— Что?!
— Можешь не сомневаться! Взяли прямо тепленькими! — подтвердили в один голос Наур и Алмысхан.
— Вот суки! — выругался Акун.
— Таких на месте кончать надо!
— Сволочи, все им неймется! — бушевали за спинами задержанных ребята из охраны.
— Стоп! — остановил Акун готовую вот-вот начаться расправу и распорядился: — Тащите их ко мне, там и будем разбираться!
Задержанных втолкнули в кабинет, они жались друг к другу и страшились оторвать глаза от пола. Алмысхан и Инал на всякий случай взяли их на прицел, Наур выложил на стол перед Квираей боевую гранату РГД-5, нож десантника и два удостоверения сотрудников седьмого отдела. Он повертел их в руках, внимательно посмотрел на фотографии, затем бросил взгляд на заляпанные грязью и залитые кровью лица и не узнал. Имена задержанных — Денис и Сергей также ничего говорили.
Квирая насупился и с угрозой процедил:
— Вы что тут забыли?!
— Там грязь… С дороги сбились… Решили срезать и… — мямлил тот, что назвался Денисом.
— Ты, сволочь, эти сказки детям рассказывай! — оборвал его Квирая. — А граната зачем? Чтоб нам подсветить?!
— Акун, чего этих гадов слушать! Не хотят по-хорошему, развяжем языки по-плохому, — кричали возмущенные ребята из охраны.
Задержанные испуганно жались к стене и затравленно озирались по сторонам. Вещественные доказательства лжи лежали на столе и не оставляли им никаких шансов. И лишь непререкаемый авторитет Акуна Квираи спас их от жестокого мордобоя.
— Ребята, стоп! Это может быть провокацией! Вы там все проверили? — спросил он.
— Все! Кроме них, никого! — ответил Инал.
— Никого! — подтвердил Алмысхан.
— Ладно, хрен с ними! Будем вызывать милицию, а то потом на нас всех собак повесят! — решил Квирая.
— Да ты че, Акун?!
— На хрена они ментам! Завтра их выпустят!
— Сами сволочей расколем! — раздались возмущенные голоса.
— Я сказал — отдадим ментам! — отрезал Акун и взялся за трубку телефона.
Начальник УВД полковник Отар Хеция не спал, не спало и большинство его подчиненных, после того как митингующие покинули парламент и площадь, он, опытный служака, хорошо знал, что так просто все не закончится. И его худшие предположения подтвердились. Звонок Квираи не оказался неожиданным, и по распоряжению Хеции через десять минут усиленный наряд прибыл в парламент, задержанных загрузили в «обезьянник» и отвезли в городское управление. Больше до рассвета охрану парламента никто не тревожил.
Наступило хмурое ноябрьское утро. Время приближалось к девяти. Первым к штабу подъехал как всегда пунктуальный Александр Анкваб. Несмотря на весь драматизм событий прошедшего дня и вечера, он внешне выглядел невозмутимым, и только по глубоко запавшим глазам можно было понять, что это спокойствие далось ему немалой ценой. Коротко поздоровавшись с охраной и добровольцами, которые помогали ей, он прошел в кабинет. Вслед за ним один за другим подъехали Сергей Багапш, Станислав Лакоба и Мераб Кишмария. Вчерашнее противостояние сказалось и на них, даже «железный генерал» дал слабину. Его командирский голос подсел.
Новый день пока не предвещал неожиданностей, и избирательный штаб Сергея Багапша впервые за последние полмесяца не напоминал фронтовой командный пункт. Все с нетерпением ожидали начала сорванного еще 30 октября сторонниками Рауля Хаджимбы заседания парламента. Заседания, которому предстояло дать окончательный ответ по результатам выборов президента Абхазии и поставить в этом вопросе жирную точку.
К десяти часам часть депутатов собрались в своих кабинетах, чтобы навести в них порядок и начать работу, когда центр Сухума сотрясли автоматные и пулеметные очереди. Это бойцы СОБРа и седьмого отдела брали штурмом здание УВД города.
На полной скорости битком набитые навороченными и натасканными бойцами спецназа УАЗ-«таблетка» и еще шесть машин вынеслись на площадь перед зданием УВД и по всем правилам военной науки блокировали его. Натиск был настолько стремителен, а действия настолько нахальны, что растерявшиеся милиционеры не смогли ничего сообразить и тем более оказать сопротивление. Прозвучавшие выстрелы показали им, кто закон и хозяин в их доме. Под стволами автоматов и пулеметов милиционеры вынуждены были отдать спецназовцам задержанных.
Это взорвало ситуацию в городе. На улице Гоголя все бурлило и кипело от негодования. Самые решительные требовали идти к турбазе «Абхазия», которую заняли вооруженные сторонники Рауля Хаджимбы и «раздербанить отморозков». Стихийно возникший митинг вот-вот мог выйти из-под контроля и, в слепой ярости сметая все на своем пути, обрушиться на оборонительные заслоны, выставленные у избирательного штаба Рауля Хаджимбы и турбазы «Абхазия». Сергею Багапшу, Станиславу Лакобе, Александру Анквабу и Мерабу Кишмарии с трудом удалось пригасить полыхавший в душах их сторонников справедливый гнев и жажду мести. Но только на время.
Масла в огонь противостояния подлило новое заявление президента Владислава Ардзинбы. В нем он расценил события, произошедшие накануне в Сухуме, ни много ни мало как «вооруженный государственный переворот, осуществленный сторонниками С. Багапша, С. Лакобы и А. Анкваба».
Ему вторил на пресс-конференции 13 ноября Нодар Хашба. Его угрозы «о введении в республике чрезвычайного положения» и намеки на вмешательство третьей силы, которая должна положить «конец хаосу и восстановить конституционный порядок», только еще больше обострили обстановку.
Взаимные угрозы взяться за оружие с обеих сторон посыпались, как из дырявого решета, и заставили содрогнуться весь Сухум. Улицы города опустели, во дворах не стало слышно детских голосов. Даже на набережной у «Кофейни Акопа», где собирались ее завсегдатаи, было непривычно тихо и пусто. К вечеру десятки вооруженных и разгневанных бойцов столпились у избирательных штабов и требовали от своих лидеров решительных действий. Город замер в ожидании, что этот сумасшедший вечер может перерасти в «ночь длинных ножей».
В который уже раз Сергею Багапшу, Станиславу Лакобе, Александру Анквабу и Леониду Лакербае пришлось уговаривать своих сторонников остановиться, но не все соглашались с ними. Горячие и непримиримые требовали от них решительных действий. Подобное положение наблюдалось и у избирательного штаба Рауля Хаджимбы. Ослепленные ненавистью его фанатичные сторонники требовали:
— Прогнать грузин!
— Положить конец беспределу!
— Защитить Абхазию от предателей!
Но и ему уже было не по силам загнать джинна назревающей войны в бутылку. Ожесточение и нетерпимость достигли своего предела, после которого действовали слепые инстинкты. Необузданная, дикая стихия толпы, казалось, окончательно победила здравый смысл. Те, кто ничего не хотел слышать и понимать, забряцали оружием. Воздух все чаще и чаще сотрясали воинственные призывы.
И тогда в сквере на улице Гоголя в кафе с давно уже позабытым в Абхазии названием «Сказка» собрались Акун, Аслан, Лесик, Батал, Владимир и Лакут. За ними не было сановных должностей, они не кичились княжеской кровью и не расталкивали локтями, когда раздавались «хлебные должности», но у них было нечто гораздо более весомое в Абхазии, что нельзя измерить ни на каких весах и оценить ни в золоте, ни в серебре, — у них было Имя.
С ними в Абхазии не могли тягаться раздутые до неприличия Голливудом хваленые американские рейнджеры или выходящий сухим даже из личных покоев английской королевы суперагент Джеймс Бонд. Двенадцать лет назад они: экономист, инженер, строитель, студент — городские и деревенские парни, только начавшие жить взрослой жизнью и мечтавшие о своем доме, семье и куче ребятни во дворе, вынуждены были сделать иной выбор. Беспощадно вломившаяся в их жизнь вероломная война не оставляла ничего другого, как только — свободная родина или смерть. И им, чтобы спасти и защитить свою родину, пришлось поневоле стать беспощаднее, хитрее и коварнее своего врага. Дух древних абхазских воинов заговорил в их генах, а безжалостный огонь войны только еще больше закалил его и превратил когда-то мирных и не помышлявших о военной карьере парней в сущих дьяволов.
Они сражались с ненавистным врагом так, будто имели в запасе еще одну жизнь. И старуха-смерть отступила перед их отчаянной смелостью и бесстрашием. И вот теперь, спустя столько лет, произошло то, что тогда в окопах им не приснилось ни в каком кошмарном сне. Проклятая политика, от которой они старались держаться подальше, безжалостно вмешалась в их жизнь и поставила на этот раз перед еще более жестоким выбором.
В кафе «Сказка» они — Герои и просто «рядовые» Абхазии, когда разум отказал, а обида застлала глаза друзьям, нашли в себе силы встретиться, чтобы остановить это безумие. Они не произносили громких слов, настоящие мужчины в них не нуждаются. Они тихо и незаметно делали свое такое нужное и важное дело. И потом еще не раз, когда очередная волна взаимной нетерпимости грозила обернуться девятым валом, они гасили ее. Но вскоре даже им стало не под силу остановить набравший обороты маховик противостояния.
Президент Владислав Ардзинба 24 ноября обратился к народу Абхазии с очередным заявлением. На этот раз оно было выдержано в самых жестких тонах. В нем говорилось:
«На 6 декабря 2004 года организаторами вооруженного захвата государственной власти в Республике Абхазия намечено проведение так называемой инаугурации, не имеющей ничего общего с конституционными нормами нашей страны…» — Далее он возлагал всю вину за все произошедшее на Сергея Багапша, его сторонников и констатировал: — «В результате давления и беспорядков ни один из органов государственной власти, призванных осуществлять и контролировать законность избирательного процесса, не выполнил своих функций, и я, как действующий президент, сохраняю свои полномочия после 6 декабря, вплоть до законного избрания законного главы государства».
Однако это грозное заявление так и осталось на бумаге. Сам того не подозревая, Владислав Ардзинба констатировал горькую правду: его власть с каждым днем сжималась, словно шагреневая кожа, а вновь назначенные и до поры до времени хранившие верность министры являлись лишь ее бледными тенями, за их сановными креслами зияла абсолютная пустота.
Лишним тому подтверждением служило принятое спустя два дня постановление парламента «Об итогах выборов Президента Республики Абхазия». В нем говорилось прямо противоположное: «Выборы Президента Республики Абхазия были проведены в срок и в порядке, установленном Конституцией Республики Абхазия», а победивший на выборах 3 октября Сергей Багапш признавался избранным Президентом Республики Абхазия. Этим постановлением всем государственным органам предписывалось: «6 декабря 2004 года обеспечить торжественную церемонию вступления в должность вновь избранного Президента Республики Абхазия».
Вольно или невольно, но 6 декабря стало для Абхазии тем Рубиконом, за которым поднималась грозная тень гражданской войны. Сергей Багапш вместе со Станиславом Лакобой и Александром Анквабом в очередной раз ради сохранения мира предложили Раулю Хаджимбе на выбор посты вице-президента и премьер-министра, но тот их категорически отверг, и на этом переговоры были окончательно прерваны.
Конфронтация между двумя противоборствующими лагерями нарастала с каждым часом. В те последние ноябрьские дни Сухум все больше и больше походил на фронтовой город. От армейской камуфляжки начинало рябить в глазах. Сторонники Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы уже открыто разъезжали по городу с оружием, а избирательные штабы стали походить на командные пункты перед началом решающего наступления. Теперь уже никто и никого не хотел ни слушать, ни понять.
В Сухуме 30 ноября высадился «силовой российский десант» — это были заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин и заместитель генерального прокурора Владимир Колесников. Их появление только усилило циркулировавшие по республике зловещие слухи о возможном военном вмешательстве. На встречах в МВД республики и с Нодаром Хашбой они уклонились от вопросов настырных журналистов на эту тему, но их прозрачные намеки, адресованные Сергею Багапшу и его сторонникам, не оставляли сомнений в том, что такая угроза вовсе не плод разыгравшегося воображения. В конце своего выступления Владимир Колесников, видимо, не просто так «запутался» в географии, записав скопом целое государство и его народ в Краснодарский край, и объявил журналистам:
«Генеральный прокурор России дал указание прокурору города Сочи расследовать дело по факту гибели Тамары Шакрыл».
И уже вечером из-за Псоу Колесникову вторил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Не стесняясь в выражениях, он обозвал победителей и тех, кто за них проголосовал, «ничтожной горсткой зарвавшихся политиканов, не получивших власти, за которыми стоят криминальные силы, желающих в одночасье разрушить дружеские связи с Россией». А чтобы ни у кого в Абхазии не возникло сомнений, что эта «зарвавшаяся горстка» будет безжалостно раздавлена, в заключение своей воинственной речи Ткачев пригрозил закрыть границу.
После такого мощнейшего пропагандистского обстрела 2 декабря чиновничий шлагбаум обрушился на пеший и автомобильный переходы на реке Псоу. Движение по ним замерло, и лишь редким счастливчикам со спецпропусками на руках удавалось проскочить через границу. Десятки машин, доверху загруженных абхазскими мандаринами и апельсинами, сотни тележек, которые катили за собой крестьяне, чтобы продать и заработать на зиму хоть какую-то копейку, стали колом на дороге. Мандариновая и апельсиновая река, служившая для многих единственным средством пропитания, уперлась в тупость российских чиновников, умудрившихся из Москвы рассмотреть на абхазских цитрусовых доселе никогда сюда не залетавшую «средиземноморскую мошку».
Они, видимо, цинично считали, что угроза полной блокады поставит на колени несговорчивых и заставит их отшатнуться от Сергея Багапша и Станислава Лакобы. Но чиновники жестоко просчитались — это вызвало обратный эффект. Уже к обеду не только на пограничном переходе, а и на улице Гоголя, перед избирательным штабом Сергея Багапша, на сухумской набережной, центральной площади в Гудауте и перед зданием администрации в Гагре стихийно собрались сотни людей. На митинги пришли не только «победители», но и «побежденные», не остались в стороне даже те, кто все эти месяцы старался отсидеться дома. Тот, кто рассчитывал на «ветер», который должен был смести Сергея Багапша и его соратников, в итоге пожал бурю гнева.
В тот день — 2 декабря у жителей Абхазии, и не только у абхазов, но и у русских, армян, вновь заговорила природная гордость и неистребимый дух к свободе. Возмущенные крики:
— Мы за мандарины не продаемся!
— Подавитесь своими подачками!
— Мы не за них воевали!
— Не вам, а нам выбирать, кто наш президент!
— Василич — наш президент!
Эти и другие — еще покрепче — слова звучали повсюду: у «Кофейни Акопа», в пацхах, на улицах и во дворах. Такая поддержка придала уверенности и силы Сергею Багапшу и Станиславу Лакобе, теперь они уже бесповоротно решили 6 декабря провести инаугурацию. Но Рауль Хаджимба и те, кто за ним стоял, тоже не собирались просто так сдаваться и готовы были любой ценой сорвать ее.
Абхазия стремительно приближалась к роковому рубежу, после которого должны были заговорить пушки. И в эти последние перед инаугурацией часы полевые командиры и рядовые ополченцы, отбросив все в сторону, вплотную занялись подготовкой будущей операции. Они скрупулезно подсчитывали свою и чужую живую силу, процент безвозвратных потерь, намечали сектора обстрела, определяли мертвые зоны и намечали направления основного и ложного ударов. В обоих штабах ночь прошла в лихорадке военных приготовлений.
Наступило утро 5 декабря. День, окончания которого, вне всякого сомнения, никто в Абхазии не хотел. Впервые за все время перед филармонией и на улице Гоголя не было видно митингующих. Пронзительно-гнетущая тишина опустилась на город. Казалось, что сам воздух стал недвижим и налился свинцовой тяжестью, как это бывает перед бурей.
И только с появлением в Сухуме заместителя председателя Государственной думы России Сергея Бабурина у людей появился проблеск надежды. Сергей Николаевич был старым и надежным другом народа Абхазии и в трудные времена всегда приходил на помощь. Не один раз его спокойный, но твердый голос охлаждал горячие головы и заставлял противников расходиться по разным углам.
Не прошло и часа с того времени, как он заселился в гостиницу на госдаче в Сухуме, а всезнающее сарафанное радио уже сообщило, что перед поездкой в Абхазию его принял сам Владимир Путин. О чем они говорили, можно было только догадываться, но здесь, где все сидели как на пороховой бочке, уже сам этот факт встретили с облегчением. Это породило надежду на то, что кто-то смог достучаться до Президента России и сообщил ему правду о том, что на самом деле происходит в Абхазии. Теперь Сергею Николаевичу предстояла сложнейшая задача — остановить рвущихся в бой «силовиков» и вытащить из рук сошедшихся в мертвом клинче соперников запальные фитили.
Сергей Багапш и Станислав Лакоба с нетерпением ждали встречи с Бабуриным, но когда узнали, что будут присутствовать Хашба и Колесников, у них закрались сомнения в ее успехе. Станислав категорически отказался говорить о чем-либо с заместителем генерального прокурора, который, казалось, слышал только самого себя, упрямо продавливал свою позицию и уже заранее «припаял» им приговор — «рвущийся к власти криминалитет». Против такой встречи было и большинство тех, кто сейчас собрался в тесном кабинете на улице Гоголя и шумел за дверьми в коридоре. Их не покидало чувство того, что они будут обмануты и затем выставлены перед тысячами сторонников мелкими интриганами, которые банально покупаются «хлебными» должностями или «крутым откатом».
Споры в кабинете Сергея Багапша не утихали. Сам он, выдержав долгую паузу, еще раз пробежался взглядом по лицам соратников — многие из них опустили глаза к полу — и по этому суровому молчанию догадался: в душе они были против такой встречи. Возможно, кто-то полагал, что ему не удастся устоять под напором Колесникова и Хашбы. Но он не держал обиды на своих товарищей, слишком много они сделали для его победы и теперь ни за что не хотели ее отдавать в чужие руки.
«Ни за что?!» — подумал Сергей Багапш, и горестная гримаса исказила его осунувшееся от нечеловеческой усталости лицо.
Он слишком хорошо знал их — с кем провел детство и десятки лет проработал бок о бок. Не раз их дружбу проверяли война и последние месяцы, оказавшиеся не менее тяжким, чем она, испытанием. Не хуже соратников ему были известны и те, кто по злой воле политики оказались рядом с Раулем Хаджимбой. Среди них тоже хватало решительных и смелых, которых не остановит даже пуля.
«Пуля?! Неужели ничего другого не остается?! Нет! Нет! И еще раз нет! Кровь не должна больше пролиться!.. Но завтра уже будет поздно! И тогда…» — но об этом Сергею Багапшу не хотелось даже думать.
Он принял окончательное решение, порывисто поднялся из-за стола и заявил:
— Все, точка! Надо ехать и встречаться! Бабурин приехал не с пустыми руками!
Вслед за ним встали все остальные, в последний момент кто-то неуверенно предложил:
— Сергей Васильевич, а может, сначала послать посредника? Черт его знает, что у них на уме!
— Времени уже нет! Это последний шанс решить дело миром! — не согласился он и стремительным шагом направился к выходу.
Поездка на «дачу Сталина», где под охраной спецназа «работал» премьер Хашба, могла обернуться чем угодно. Поэтому Акун, Теймураз и Адгур взяли по второму пистолету и запасной обойме, а Володя Гоголин прихватил с собой «калаш» и, взгромоздившись на переднее сиденье, богатырской фигурой закрыл Сергея Васильевича. Тот ушел в себя и оживился, когда обвешанный с ног до головы оружием спецназовец перекрыл дорогу. После короткого разговора с Акуном и затем телефонного звонка дежурному часовой распахнул ворота. Через пару минут позади остался крутой подъем, справа промелькнула гостиница, битком забитая вооруженными бойцами, и машина остановилась у центрального подъезда госдачи. Володя первым выскочил на площадку, вслед за ним Акун, Теймураз, Адгур и, окружив живым кольцом Сергея Багапша, поднялись по ступенькам на крыльцо. На верхней площадке дорогу им преградили шкафы с бычьими затылками из личной охраны Хашбы и Колесникова. Акун с Володей решительно двинулись на них.
— Стоп, ребята! — остановил Сергей Багапш.
— Это у себя дома пусть они командуют! — возмутился Квирая.
— Все будет нормально, Акун! Ждите меня здесь!
Тот бросил презрительный взгляд на телохранителей и процедил сквозь зубы:
— Смотрите, если с Василичем что случится, то мы этот скворечник по кирпичику разберем, а вас, шкафы, штабелем упакуем и пошлем с приветом к тем му…ам, что сюда прислали.
В ответ с крыльца донеслось невнятное рычание, но Акун не стал слушать, развернулся и вместе с ребятами спустился на смотровую площадку.
Тяжело, будто на его ногах висели пудовые гири, Сергей Багапш поднялся на последнюю ступеньку. Мордастый, с пшеничными усами телохранитель распахнул дверь и пропустил вперед. На ее скрип в конце длинного коридора показалась знакомая фигура. Теплая волна симпатии к Сергею Бабурину согрела грудь Сергея Багапша, и он двинулся к нему навстречу. Коротко поздоровавшись, они прошли в крайнюю по правой стороне коридора комнату, которая прежнему хозяину госдачи — Сталину служила гостиной и столовой одновременно. С тех пор в ней мало что изменилось. Сталинский дух ощущался во всем — в строгом рисунке деревянных стенных панелей, в массивных старинных часах и громадном, напоминающем аэродром обеденном столе.
Сергей Багапш остановился на полпути. Навстречу с диванов поднялись Владимир Колесников, Нодар Хашба и Рауль Хаджимба. Возникла неловкая пауза, никто не решался первым пожать руку, и здесь Сергей Бабурин взял на себя инициативу. Чтобы растопить лед взаимного отчуждения и недоверия он шутливо заметил:
— Как говорится, в ногах правды нет! Давайте присядем! — И широким жестом пригласил к столу.
Колесников первым по-хозяйски расположился во главе, рядом с ним присел Сергей Бабурин, в дальнем конце заняли места Рауль Хаджимба и Нодар Хашба. Большого удовольствия видеть их мрачные, давно сидевшие в печенках физиономии Сергею Багапшу не доставляло, поэтому он сел подальше и вопросительно посмотрел на посланцев из Москвы.
Колесников переглянулся с Бабуриным, но тот держал паузу, и тогда он первым ринулся в атаку. Как всегда энергично и красноречиво, будто на суде, заместитель генерального прокурора выстраивал, как ему казалось, убедительную цепочку доказательств. Из них следовало, что у Сергея Багапша нет никаких шансов стать следующим президентом Абхазии. Мрачная картина, обрисованная в самых черных красках того, что ждало Абхазию в случае несговорчивости, похоже, не испугала его. Дальше слушать вошедшего в раж прокурора он не стал и резко оборвал:
— Достаточно, Владимир Ильич! Я все понял! Поберегите свое красноречие для другого места!
Колесников поперхнулся, а Сергей Багапш продолжил:
— Вы родились и выросли в Абхазии и не хуже меня знаете, что наш народ через колено бесполезно ломать!
— Сорок тысяч, что проголосовали за вас, — это еще не народ! — огрызнулся Колесников.
— Не сорок, а сорок шесть тысяч двести шестьдесят четыре человека, — делая ударение на каждом слове, ответил Сергей Багапш.
— Какая разница! Принципиально это ничего не решает!
— Может, где и не решает, но только не в Абхазии!
Разговор приобретал все более резкий характер, поэтому Сергей Бабурин поспешил возвратить его в конструктивное русло и предложил:
— Владимир Ильич, я полагаю, надо переходить к обсуждению конкретных предложений, чтобы разрядить ситуацию на улице.
Тот, подавив закипавший гнев и пытаясь придать своему командирскому голосу большую убедительность, заявил:
— Сергей Васильевич, поймите наконец, что в сложившейся ситуации вам и Раулю Джумковичу необходимо пойти на «нулевой вариант». Страсти настолько накалены, и если вы будете упорствовать дальше, то чем все это закончится, ведомо одному Господу Богу. Поэтому…
— Скорее черту, который замутил все это! — перебил Сергей Багапш.
— Давайте не будем цепляться к словам, а станем мыслить фактическими категориями, — старался сохранить спокойствие Колесников.
— Хорошо! Вы предлагаете мне отказаться от того выбора, который подтвердили ЦИК, Верховный суд и народ! Так?
— Не только вам, но и Раулю Джумковичу, а он согласен.
— В таком случае — это новые выборы?
— Да! — оживился Колесников.
— Но это невозможно! — категорично отрезал Сергей Багапш.
— Но почему?! — один за другим повторили вопрос Колесников и Бабурин.
— Легко говорить о новых выборах здесь и под охраной спецназа. А попробуйте такое сказать на площади перед людьми, которые доведены до ручки и вот-вот схватятся за оружие! — с горечью произнес Сергей Багапш.
— И скажу! — вспыхнул оскорбленный Колесников.
— Лучше не надо! 30 сентября на стадионе вы уже сказали.
— Вы на что намекаете?! — Лицо Колесникова пошло бурыми пятнами, а в голосе зазвучала неприкрытая угроза: — Не забывайте — я гудаутский!
— Помню! Вот только вы в Москве подзабыли, что абхазы не стадо ослов и им руководящие бараны не нужны.
— Что?!! — Выдержка изменила Колесникову.
Сергей Багапш тоже не стерпел и, отшвырнув стул в сторону, выскочил из-за стола. Сергей Бабурин бросился между ними. В эти минуты он крепко рисковал. Два кипящих гневом гиганта ростом под два метра и весом за сотню килограммов могли запросто расплющить его в лепешку и затем в яростном порыве похоронить под любимым столом Сталина.
— Владимир Ильич!.. Сергей Васильевич!.. Остановитесь! — уговаривал Сергей Николаевич разошедшихся земляков и пытался вернуть за стол переговоров.
Противники, еще раз полоснув друг друга обжигающими взглядами, тяжело дыша, возвратились на прежние места. Теперь все внимание было обращено на Сергея Бабурина. Его доброжелательный тон постепенно разрядил напряженную атмосферу. И впервые за все время переговоров Сергей Багапш услышал то, что жаждали услышать тысячи с нетерпением ожидавших результатов переговоров на госдаче.
— Нельзя быть слепым заложником ошибочных прогнозов, надо следовать букве закона!
Эти слова Сергея Бабурина стали для Сергея Багапша первым обнадеживающим сигналом. Теперь он внимательно прислушивался и взвешивал каждую произнесенную фразу.
— Президент России располагает объективной информацией о ситуации в Абхазии и рассчитывает, что она будет разрешена только мирным и законным путем, — сделав акцент на последней фразе, Сергей Бабурин продолжил: — Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что будущая судьба Абхазии не в руках Москвы, она в ваших, Сергей Васильевич и Рауль Джумкович, руках! Я надеюсь, что вам хватит воли и мудрости, чтобы достичь очень трудного, но крайне важного компромисса, — и, бросив короткий взгляд на Сергея Багапша, заметил: — Сергей Васильевич, многое зависит от вас. Да, вы победитель, но победа любой ценой — это не выход ни для вас, ни для народа Абхазии. Сегодня мы все обязаны найти то единственное соломоново решение, что остановит конфронтацию и успокоит народ Абхазии. Право, он заслуживает гораздо большего!
— Поэтому я здесь! — согласился Сергей Багапш.
— В таком случае слово за вами и Раулем Джумковичем, — заключил Сергей Бабурин.
Хаджимба хранил молчание, и Бабурин снова обратил свой взгляд на Сергея Багапша. Он пожал плечами и заявил:
— Мы свое сказали! — и напомнил: — Рауль Джумкович по его выбору может принять пост вице-президента или премьера. Согласие по этому вопросу Лакоба и Анкваб дали.
Хаджимба нервно повел плечами и глухо произнес:
— Да, такое предложение мне поступало. Но в практическом, и в первую очередь юридическом, плане оно несостоятельно.
— И это так! — поддержал Колесников. — Подобная коллизия не предусмотрена ни в Конституции, ни в законе о выборах президента Абхазии.
— Значит, — и здесь Сергей Бабурин, внимательно посмотрев на Сергея Багапша и Рауля Хаджимбу, заключил: — остается единственный выход — проведение повторных выборов, где вы сможете пойти в одной связке?!
И снова все взгляды сошлись на Сергее Багапше и Рауле Хаджимбе. Окончательное решение теперь зависело от них, и давалось оно им тяжело. На них давили не столько груз взаимных обид и пропасть отчуждения, сколько ненависть и нетерпимость их сторонников друг к другу, которым подобный союз мог показаться чудовищным предательством, и тогда уже никакие самые проникновенные и убедительные слова были не в силах остановить необузданного разгула людской стихии.
Проходила минута за минутой, но ни Сергей Багапш, ни Рауль Хаджимба так и не дали ответа. Тогда Сергей Бабурин предложил сделать перерыв. Он, а вслед за ним и Колесников поднялись наверх и стали звонить в Москву.
Сергей Багапш вышел в коридор и набрал номер сотового Станислава Лакобы. Тот тут же ответил и с плохо скрываемой тревогой спросил:
— С вами все в порядке, Сергей Васильевич?
— Да! А что со мной может случиться?
— Ну, слава богу! До чего договорились?
— Пока ни до чего! Они думают! Как у нас обстановка?
В трубке возникла пауза, и Сергей Багапш, почувствовав неладное, потребовал:
— Станислав, говори как есть!
— У вас все нормально, Сергей Васильевич? Вы ничего не подписали?! — продолжал допытываться Лакоба.
— Да чего ты обо мне печешься?! — потеряв терпение, повысил голос Сергей Багапш. — В конце концов, что у вас происходит?!
— Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля! Люди рвутся на госдачу! Говорят, вы отказались от президентства и подписали…
— Что?!! Подписал?! Я немедленно возвращаюсь!
— Сергей Васильевич, это серьезно! Всякое случиться может!
— Ничего, переживу! Ты скажи, как отнесутся к тому, что могут быть повторные выборы и вместо тебя я пойду в связке с Раулем.
— Я от своих слов не отказываюсь! Но вот что скажут люди? Тут такой кипиш заворачивается! — предостерег Станислав Лакоба.
— Жди! Сейчас буду! — закончил разговор Сергей Багапш.
В это время из кабинетов второго этажа на лестничную площадку вышли Бабурин и Колесников. Оба находились в хорошем настроении, видимо, их доклады и предложения о разрешении «абхазского кризиса» в Москве одобрили. Но вид Сергея Багапша быстро согнал улыбку с лица Сергея Бабурина.
— Что произошло, Сергей Васильевич?! — воскликнул он.
— Еду успокоить людей. Какие-то мерзавцы распускают грязные слухи, что я отказался от президентства! Вы представляете, что там сейчас творится?!
— Я с вами! — предложил Сергей Бабурин.
— Хорошо, — согласился Сергей Багапш.
Они стремительно спустились к машинам и выехали в избирательный штаб на Гоголя.
Глава 18
Хмурый декабрьский вечер опустился на Сухум, и без того безлюдные улицы города совершенно опустели. Порывы студеного, пронизывающего до самых костей северного ветра по-хозяйски гоняли по ним, опавшие листья и ставшие ненужными агитационные листовки, с которых бывшие кандидаты в президенты Абхазии продолжали агитировать за себя и словесно уничтожать противника. Спустя два месяца после состоявшихся, но так и не закончившихся президентских выборов их предвыборные грозные речи давно потонули в грохоте автоматных очередей и казались сегодня наивным детским лепетом.
В эти последние перед инаугурацией Сергея Багапша часы в абхазских, армянских и русских домах задавали один и тот же вопрос: как поведет себя Россия, если Рауль Хаджимба решится осуществить свою угрозу — сорвать инаугурацию? Поэтому все от мала до велика собирались у телевизоров и, затаив дыхание, не пропускали ни одного выпуска новостей, ловя каждое слово дикторов. Но пока ничего утешительного ни из Москвы, ни с госдачи в Сухуме, где велись напряженные переговоры между Сергеем Багапшем, Раулем Хаджимбой, Нодаром Хашбой, Сергеем Бабуриным и Владимиром Колесниковым, не приходило.
Развязка неумолимо приближалась, и все меньше оставалось тех, кто еще продолжал надеяться на то, что удастся избежать кровопролития. Рауль Хаджимба и его сторонники ни в какую не хотели уступать, его штаб и турбаза «Абхазия» ощетинились стволами автоматов и пулеметов. В свою очередь, самые горячие сторонники Сергея Багапша давили на него и требовали «раздавить эти осиные гнезда». Подливали масла в огонь и истерические призывы, звучавшие как внутри самой Абхазии, так и из-за Псоу: «Решительно навести конституционный порядок, покончить с разгулом криминала и не допустить прорыва границы бандитскими группировками».
То, что это не было пустой угрозой, в штабе Сергея Багапша отчетливо осознавали. Его разведка не дремала, от нее поступала одна информация тревожнее другой. По одним данным, на госдачах в Сухуме и Новом Афоне уже больше недели скрывались от посторонних глаз вооруженные до зубов спецгруппы боевиков. По другим — такие же группы засели в одном из санаториев в Гаграх. Кто они такие и откуда прибыли — оставалось загадкой, но каких-либо сомнений в том, на кого они нацелились, в штабе Сергея Багапша не возникало. Российские миротворцы тоже не дремали — вся боевая техника была выведена из ангаров и заняла ключевые позиции, а на подвижных и стационарных постах усиленные наряды несли круглосуточное дежурство.
Самые тревожные сообщения приходили из-за Псоу, там поблизости от границы грозно полязгивала гусеницами российская военная машина. В те критические для Абхазии декабрьские ночи тяжелые армейские транспортники, видимо, не случайно приземлялись в сочинском аэропорту, а два батальона спецназа прибыли в разгар мертвого сезона явно не на отдых. Все, вместе взятое, даже далекому от армии человеку говорило о том, что силовой сценарий разрешения затянувшегося конфликта становился жестокой реальностью.
Эти удручающие новости, усиленные слухами, со скоростью лесного пожара распространялись по Абхазии. Ощущение чудовищной и неотвратимо надвигающейся катастрофы не обошло стороной ни один дом, ни одну семью. С особой остротой они ощущались в доме Беслана Кубравы. Время и судьба так распорядились, что он оказался в самой гуще драматических событий и последние полгода уже не принадлежал ни себе, ни семье. Ему приходилось разрываться между домом, занятиями в университете, митингами и работой в штабе Сергея Багапша. Неумолимая и жестокая логика политической борьбы, подобно кровожадному молоху, пожирала его без остатка.
В последнюю неделю Беслан если и появлялся в доме, то на несколько часов, чтобы на бегу перекусить и отоспаться. И сейчас, весь позеленевший от усталости и нервного перенапряжения, он отрешенно смотрел перед собой и вяло, не замечая вкуса, пережевывал холодный хачапур. Напротив сидели и не притрагивались к тарелкам с давно остывшей мамалыгой жена Амра, сестра Марина, сыновья Инал и Аслан. Они не решались потревожить его и лишь бросали вопрошающие взгляды то на него, то на старенький «Горизонт», тускло поблескивавший в углу на тумбочке.
Экран телевизора судорожно подергивался, а эфир сухо потрескивал электрическими разрядами. И так порядком изношенная аппаратура телецентра, после того как его штурмовали и подрывали, вовсе дышала на ладан. Голос молодого ведущего новостей Алхаса Чолокуа, еще не успевшего как следует освоиться со студией и своей новой ролью, то и дело плыл и прерывался. Но ни Амра, ни Марина, ни быстро повзрослевший за эти сумасшедшие дни Инал не замечали этого, по его лицу они спешили угадать главное — что их ждет завтра.
К сожалению, новости оказались неутешительными, прилет известного российского депутата Сергея Бабурина пока мало что изменил. По-прежнему у избирательных штабов соперников толпились вооруженные люди и звучали воинственные призывы. Более того, с каждым новым часом их становилось больше, а требования приобретали все более жесткий характер. Их подогревали слухи о переговорах на госдаче между Сергеем Багапшем, Раулем Хаджимбой, Сергеем Бабуриным, Владимиром Колесниковым и Нодаром Хашбой — они носили самый противоречивый характер. По одним — Сергея Багапша уже арестовали и отправили вертолетом в Адлер. По другим — его якобы «сломали», и он отказался от дальнейшей борьбы. Российские телеканалы ни одним словом не упомянули о ситуации в Абхазии, как будто ее вовсе не существовало.
Инал выключил телевизор, и на какое-то время в столовой воцарилась тягостная тишина, которую нарушал лишь стук вилки в руках отца. Он еще наклонился над тарелкой, избегая обращенных к нему вопрошающих взглядов. Ему нечего было сказать им. Неподвластная ни его, ни воле тысяч сторонников Сергея Багапша, ни сторонников Рауля Хаджимбы чудовищная машина разрушения, казалось, уже не могла остановиться и через несколько часов готова была пойти вразнос и разгромить вдребезги то хрупкое равновесие, которое каким-то чудом еще сохранялось в обществе.
Беслан еще долго остановившимся взглядом смотрел на давно погасший экран телевизора. Амра, Марина и сыновья не спускали с него глаз и ловили каждое движение. Первой не выдержала и заговорила Амра, с ее дрожащих губ сорвался еле слышный вопрос:
— Беслан, что с нами будет?
Так и не услышав ответа, она принялась снова теребить его:
— Неужели нельзя договориться?
— Мы сделали все, что могли, но они, как глухие, — ничего не хотят слышать! — с ожесточением ответил он.
— Но почему?! Вы же не враги? Ты воевал вместе с Раулем, столько лет проработал вместе, и что, теперь будете стрелять друг в друга?
— Нет!.. Народ с нами, и он этого не допустит! — неуверенно ответил Беслан.
— Народ?.. А те, кто засел на турбазе, они кто?!
— Не знаю!
— Но там же не все отморозки?! — воскликнула Марина.
— Не отморозки?! Но если Рауль заявил, что инаугурации не допустит, то что тогда говорить про остальных! — продолжала терзаться Амра.
— Хватит! — сурово отрезал Беслан. — Мы победили, и теперь пусть они думают! Наше терпение закончилось! Больше перед ними никто стелиться не станет!
— Победили кого?.. Да пропади пропадом эта победа! Кому она такая нужна?! Ты нам нужен живой! Понимаешь, живой!..
И этот полный отчаяния и выстраданной боли крик Амры заставил всех вздрогнуть. Инал сжался в комок, и его испуганный взгляд заметался от отца к матери. Маленький Аслан захлюпал носом, и из глаз ручьем полились слезы. Беслан страдальчески морщился и из последних сил пытался удержать себя в руках. Марина побледнела как полотно и прошептала:
— Беслан, но это же война?
— Война! — тихим эхом прозвучал ответ, и он с трудом выдавил из себя: — Мы не хотим этого. Это они…
— Но надо же что-то делать! Ты слышишь меня, Беслан?! Вы должны остановиться! — умоляла его сестра.
— Как?! Упасть им в ноги?!
— Какие ноги!.. Сумасшедшие! Ну что вам еще надо?.. Чтобы грузины напали на нас! — в отчаянии воскликнула Амра.
— Боже мой, ты что такое говоришь, Амра! — в ужасе всплеснула руками Марина.
— Но, может, хоть это остановит их!
— Замолчи! — глухо произнес Беслан.
— Не могу! У меня уже нет никаких сил! Зачем? Ради чего все это?! Плюньте вы на эту проклятую власть! Пусть они ею подавятся. Я тебя умоляю, Беслан, останься дома ради детей, ради меня! — заклинала его Амра.
Тяжело, будто на плечи легла стопудовая ноша, он поднялся из-за стола. По его изможденному и постаревшему за последние дни на несколько лет лицу пробежала болезненная гримаса. Ему приходилось разрываться между семьей, которую бесконечно любил, и долгом перед товарищами.
В это время за окном просигналила машина, Беслан замер и затем, избегая умоляющих взглядов жены и сестры, шагнул, словно в ледяную воду, в прихожую, торопливо набросил на плечи куртку.
— Беслан! — предприняла последнюю и отчаянную попытку остановить мужа Амра и обхватила его за шею.
— Все будет хорошо! Все будет хорошо! — твердил он, словно заведенный, и, с трудом освободившись от объятий, выскочил на улицу и там, не оглядываясь, боясь, что не сможет устоять перед умоляющими взглядами родных, побежал к машине.
В ней поджидал родной брат — Батал. Он был одет по-военному в пятнистый камуфляж, за его спиной на заднем сиденье под курткой угадывалось оружие. Беслан без сил рухнул рядом с ним и торопливо мотнул головой. Батал понял все без слов — всего несколько минут назад то же самое ему пришлось пережить у себя дома, и до пола утопил педаль газа. Они ехали в штаб Сергея Багапша, и по мере приближения к нему навстречу все чаще попадались вооруженные бойцы.
Город готовился к последней и решающей схватке. Ожидали ее и в «Стекляшке» — небольшом и уютном кафе, расположившемся на границе между двумя военными санаториями — Московского военного округа и Ракетных войск стратегического назначения. В нем, как и везде в последние дни, было тихо и печально, лишь два случайно забредших российских миротворца, забившись в угол подальше от глаз начальства, клевали носами над тарелками с давно остывшим жарким и полупустым графином водки.
Неподалеку от них, сгрудившись у стойки, сидели Адгур Бжания, Марина Джинджолия с мужем Бесланом, а над ними нависал горой молчаливый добряк Масик Дарсалия. Его огромные жгуче-черные цыганские глаза печально смотрели на закадычных друзей. Они еще не успели оправиться после штурма парламента и телецентра — об этом напоминала повязка из бинта на шее Бесика и время от времени появляющаяся на лице Адгура страдальческая гримаса, когда он задевал раненой ногой за ножку стола или стула.
Сваленные кучей в кресло автоматы и груда ручных гранат лишний раз напоминали о том, что война, которой они противились всей душой, вот-вот могла разразиться. Она снова жестоко напомнила о себе с экрана старенького телевизора, тускло поблескивавшего над стойкой бара. Передавали свежую сводку новостей, и Масик, не поднимаясь с места, вытянул свою длиннющую руку и добавил звук. Телеведущий Алхас Чолокуа сбивчиво сообщил о ходе переговоров между Сергеем Багапшем и Раулем Хаджимбой, которые пока ни к чему не привели.
После таких новостей в «Стекляшке» надолго воцарилось гнетущее молчание, каждый ушел в себя. Адгур болезненно поморщился, ноющая боль в раненой ноге снова напомнила о том, что он хотел бы навсегда вычеркнуть из своей жизни.
Его взгляд упал на пустующий уже второй месяц стул, который занимал некогда закадычный друг Отар Берзения, и эти душевные муки только еще больше усилились. Отар, с которым во время войны они делили последний патрон и кусок хлеба, превратился в заклятого врага. И если бы тогда, двенадцать лет назад, кто-то сказал ему, что им придется стрелять друг в друга, то он посчитал бы его за сумасшедшего. Но сумасшедшими оказались они с Отаром! Всего за три месяца старая дружба превратилась в прах.
«Как?! Почему такое могло произойти?» — спрашивал сам себя и не находил ответа Адгур.
Политика, к которой он всегда был равнодушен, безжалостно вмешалась в его жизнь и вывернула наизнанку. Она заставила забыть обо всем и превратила всех в настоящих зомби. В тот день 12 ноября, когда они — Энрик, Авик, Денис, Теймураз, Масик и десятки других ребят — ринулись навстречу автоматным и пулеметным очередям охраны, чтобы разблокировать парламент, кабинет министров и администрацию президента, он страшился только одного — столкнуться лицом к лицу с Отаром. В те мгновения ему не хотелось ни победить, ни жить. Но, к счастью, судьба милостиво сохранила им жизни.
Сегодня в очередной раз они — и не только они, а вся Абхазия — стояли перед неразрешимым выбором. Стрелки часов торопливо бежали по циферблату, неумолимо приближаясь к роковой черте, что в этот вечер незримо пролегла через каждый дом и через душу каждого, в том числе и мою.
Все мое существо восставало против безжалостного бега времени, отсчитывающего секунды и минуты, возможно, этой последней поездки в Абхазию. Красноречивым напоминанием тому служили суматошно суетившиеся в потемках перед гостиницей и на подходах к госдаче бойцы из управления охраны. Несмотря на то что нудный моросящий дождь временами переходил в настоящий ливень, они ни на минуту не прекращали работу и продолжали с ожесточением долбить неподатливую землю кирками и ломами, отрывая в полный профиль окопы и готовя позиции под пулеметные гнезда.
Справа, за летней беседкой, в десятке метров от парадного входа госдачи, на глазах росла внушительная стена из мешков с песком. Наверху, над гостиницей и опустошенной мародерами мрачной трехэтажкой бывшего элитного санатория партийцев, равнодушно взиравшей пустыми глазницами-окнами на замерший в напряженном ожидании город, мелькали чьи-то серые тени и доносился загадочный металлический стук. Время от времени то тут, то там на склоне горы, подобно гигантским светлячкам, вспыхивали таинственные огни. Это минеры в свете электрических фонарей и керосиновых ламп лихорадочно минировали «противопехотками» горные тропы и устанавливали «растяжки» в зарослях рододендрона и папоротника, чтобы не допустить прорыва штурмовых отрядов генерала Мераба Кишмарии со стороны гор.
В самой гостинице и столовой, где которые уже сутки томились в ожидании затянувшейся развязки сторонники Рауля Хаджимбы и бойцы из спецгруппы Нодара Хашбы, казалось, сам воздух начал звенеть от невыносимого нервного напряжения. Слухи один невероятнее другого, едва ли не каждый час приходившие сюда из города, о вот-вот готовом начаться штурме резиденции президента еще больше взвинчивали и без того накрученные нервы бойцов и мрачных телохранителей премьера Нодара Хашбы.
В холле гостиницы непрерывно трезвонили телефоны, им вторили комариным писком сотовые, звучали отрывистые команды, после которых подвижные группы в очередной раз отправлялись «отбивать атаку» «багапшистов». В сутолоке и гаме голосов бойцов как-то потерялись дежурные — Оксана и Индира.
Девушки не спали вторые сутки и были измотаны не столько бессонницей, сколько неумолимо надвигающейся и кажущейся уже неотвратимой страшной бедой. Случайный выстрел или разрыв гранаты в один миг могли разрушить еще каким-то чудом сохраняющийся хрупкий мир и стать тем самым детонатором к чудовищному взрыву, который навсегда похоронит под руинами бессмысленной и братоубийственной войны их всех, а вместе с ними и саму Абхазию.
Чуткие женские сердца Оксаны и Индиры всячески противились и отказывались принимать то, что, возможно, через несколько мгновений безжалостная смерть заберет жизни у таких молодых, сильных и красивых Ибрагима, Кавказа, Аслана, Отара и тех, кто сейчас мок под проливным дождем в окопах и секретах на подступах к турбазе «Абхазия», к госдаче и у дома президента Владислава Ардзинбы. Это было каким-то запредельным абсурдом и не укладывалось в голове! Всего несколько месяцев назад они, тогда еще вместе с Адгуром, Масиком, Бесиком и Тимурчиком, оказавшимися «багапшистами», часами просиживали у стойки бара, на открытой летней площадке и беззаботно, как это свойственно молодым ребятам, смеялись над пустяками и дурачились, словно малые дети.
Три прошедших месяца избирательной горячки, перешедшей в настоящую паранойю, вывернули Абхазию наизнанку. Яд политиканства отравил души и лишил рассудка даже повидавших всякого на своем долгом веку старцев. Голос разума тонул в истеричных воплях одураченных и мутной пене из грязных слухов и сплетен, что распускали мерзавцы. Даже бесконечно терпеливый, всегда спокойный и рассудительный абхазский крестьянин растерялся и потерял голову, в него будто вселился злобный и безжалостный джинн. Добро и радушие, с которыми раньше в деревенском доме встречали гостя и усталого путника, покинули его стены. Теперь за столами и перед телевизорами кипели и бушевали нешуточные страсти. В яростных спорах вспоминались давно позабытые мелочные обиды и грошовые долги, старые друзья становились непримиримыми врагами, а родственники проклинали тот день и час, когда судьба однажды соединила их вместе.
Наступивший вслед за сумасшедшим ноябрем холодный декабрь так и не остудил накал избирательной горячки. Пронизывающий ветер, налетавший с гор, безжалостно трепал неубранную в полях кукурузу, срывал со стен домов и столбов портреты кандидатов в президенты и гонял по улицам ворохи листовок, в которых они сулили счастливое будущее. В садах под тяжестью перезревшей хурмы и апельсинов гнулись до земли ветки деревьев. Золотистый ковер из мандаринов устилал лужайки некошеной травы. Поредевшие и съежившиеся гроздья изабеллы лохмотьями болтались под навесами беседок, на голых ветках яблонь и груш. В винных подвалах пустые бочки утробным звуком напоминали о пропавшем урожае.
Время будто остановилось, и Абхазия в те ненастные и промозглые декабрьские дни в ужасе застыла у последней черты, после которой уже не могло быть и речи о возврате к прежней, пусть нелегкой, но все-таки обыденной жизни с ее маленькими радостями и огорчениями.
С особой остротой воспринималась эта драма, разыгрывавшаяся на улицах и площадях Сухума, Гагры, Очамчыры, в дальних горных селах, здесь, в стенах госдачи. Под ее мрачными сводами произошло немало событий, решительно повлиявших на судьбы вождей и целых народов. Они, хорошо помнящие негромкий голос вождя, от одного слова которого содрогалась половина мира, повидавшие на своем долгом веку и стремительный взлет карьеры всесоюзного палача Лаврентия Берии, и крушение беспощадного и неистового наркомвоенмора Льва Троцкого, ставшие свидетелями трагедии первого председателя Верховного Совета республики Нестора Лакобы и позорного бегства последнего из партийных боссов — Шеварднадзе, могли бы многое рассказать. Но, к сожалению, то, что сейчас происходило в Абхазии, лишний раз подтверждало одно горькое правило — история никого и ничему не учит.
Оксана и Индира, родившиеся в другую эпоху и выросшие уже в другой стране, мало что знали об этих историях, которые понаслышке передавались друг другу немногими оставшимися в живых старожилами «дачи Сталина», но, наделенные природой великим даром рождения новой жизни, девушки всем своим существом, каждой клеточкой своего молодого и сильного тела противились тому безумию, что захлестнуло людской разум и ввергло Абхазию в новые и тяжкие испытания. Их немые и умоляющие взгляды, которые они бросали на ребят, отправлявшихся на посты, вряд ли уже что-то могли изменить. Слепая ненависть и ожесточение в их душах застилали глаза и затмевали сознание. Вчерашний друг, с которым в 1992-м и 1993-м вместе бились, не щадя себя, с ненавистными гвардейцами Китовани, теперь превратился в самого лютого врага. Казалось, уже ничто и никто не мог примирить обе стороны, и они обреченно ждали развязки.
Ожидание, подобно невидимому свинцовому прессу, давило и на меня, я не выдержал, включил телевизор и поискал на пульте местный канал. Время новостей уже прошло, но на экране, к счастью, шло не «Лебединое озеро», ставшее печально знаменитым после так и не состоявшегося в России августовского, 1991 года, путча ГКЧП, а какая-то научно-педагогическая передача. Ведущий и два его собеседника вполне мирно обсуждали проблему нехватки учебников в сельских школах и отсутствие в младших классах набора для первоклассника. Я слушал их вполуха и внимательно ловил каждый звук, доносившийся с улицы.
Дождь на короткое время прекратился, и в наступившей тишине стал отчетливо слышен шум поднимающейся по серпантину машины. Не прошло и минуты, как на стоянке перед гостиницей пронзительно взвизгнули тормоза, затем торопливо хлопнула дверца и на ступеньках дробно застучали каблуки армейских ботинок. Прошло несколько мгновений, и в холле зловеще заклацали затворы пулеметов и автоматов, потом тревожно проскрипела входная дверь, и топот ног грозным эхом пошел гулять по склону горы.
Сердце в моей груди екнуло и провалилось куда-то вниз, рука сама потянулась к пульту, и через мгновение экран телевизора безжизненно погас. На всякий случай, чтобы не стать хорошей мишенью для снайпера, я выключил настольную лампу и весь обратился в слух. Разыгравшееся воображение рисовало крадущихся по расщелине автоматчиков и изготовившихся к стрельбе гранатометчиков, но проходила минута за минутой, и ничего ужасного вокруг не происходило.
Тусклый диск луны, на секунду проглянувший из-за туч, неверным призрачным светом осветил окрестности парка. Ставшая за это время хорошо знакомой территория ночью утратила привычные очертания. Раскидистые кроны эвкалиптов напоминали собой мохнатые папахи джигитов. Пышная финикийская пальма, росшая перед входом в столовую, походила на огромный белый гриб. Мрачным забором вытянулись к небу секвойи и ели. За ними, где-то в глубине парка, несмело раз-другой глухо ухнул филин, ему безмятежно вторил сыч. Птицы не чувствовали опасности, и у меня на сердце отлегло. В очередной раз тревога оказалась ложной, группа разведки благополучно возвратилась обратно, и снова в гостинице и на позициях наступила томительная пауза.
На этот раз она оказалась недолгой, вновь на серпантине натужно заурчал мотор автомобиля. Я приподнялся из кресла и приник к окну. Яркий сноп света полоснул по стеклу, на секунду ослепил глаза и затем потерялся в тумане, косматыми волнами наплывавшего из темного, поросшего непроходимыми джунглями бамбука и банана провала. Перед гостиницей разворачивался джип телекомпании НТВ, последний раз устало вздохнул перегретым двигателем и затих. Из машины выбрались московский корреспондент Вадим Фефилов и оператор. Прикрывая камеру плащами от начавшего моросить дождя, они торопливо поднялись по скользким ступенькам в холл гостиницы, и тот, словно пчелиный улей, отозвался гулом возбужденных голосов.
Вадим здесь давно уже стал своим. За два с лишним месяца он познал Абхазию, а она его. Но тогда, в конце сентября, отправляясь из Москвы в командировку, Вадим, как и большинство журналистов, ничего не подозревал и рассчитывал отснять дежурный репортаж о триумфальной победе того, кого ретивые и самоуверенные московские чиновники преподнесли Президенту России как единственного и последнего после Владислава Ардзинбы несгибаемого борца против совершенно «отвязавшегося» Саакашвили.
На этот раз Вадим приехал из штаба Сергея Багапша и принес добрую весть. Мераб Кишмария, который, по последним слухам, во главе штурмового отряда якобы уже должен был занять исходные рубежи для атаки на позиции «хаджимбистов» у турбазы «Абхазия», в это самое время мирно пил кофе с друзьями, а его малолетний племянник разбирал автомат. «Разоружение» грозного генерала стало, пожалуй, самым весомым аргументом его мирных намерений, и на Вадима посыпался град вопросов:
— А что делает Багапш?!
— Где Лакоба?
— Так это брехня, что они подняли танковый батальон?
— И все-таки, что делает Багапш? — торопили с ответом Вадима.
— В своем штабе ведет переговоры с Бабуриным, — коротко ответил тот.
— И… как?! — дрогнул чей-то голос.
— Не знаю. Они идут за закрытыми дверьми.
— А Рауль с ними?
— Не знаю!
— Может, договорятся?! — выразил кто-то общее для всех желание.
— А как Лакоба? Он что говорит? — кого-то все еще продолжали грызть сомнения.
— Утром в новостях узнаете.
— Так он не в Гаграх армян поднимает?!
— Армяне в Ереване, а он на Гоголя, — попытался отшутиться Вадим.
— Точно на Гоголя?!
— Точнее быть не может. Я только что закончил снимать с ним репортаж.
— Значит, сегодня ничего не будет! Теперь хоть отоспимся, — заключил Отар.
— Смотри, чтобы на том свете не проснулся! — предостерег угрюмый бородач и трижды постучал по прикладу «ручника».
Но на это предупреждение уже никто не обращал внимания. В холле пронесся общий вздох облегчения, и все вдруг разом и наперебой заговорили, а затем принялись похлопывать по спине Вадима. Он, смущенно пожимая плечами, пробрался к стойке, чтобы взять ключ от номера. Оксана встрепенулась, посмотрела на его осунувшееся от усталости и недосыпания лицо и предложила свой знаменитый среди постояльцев гостиницы кофе по-турецки, но Вадим лишь вымученно улыбнулся в ответ и, тяжело ступая, зашагал вверх по лестнице.
Острый на язык Аслан не удержался и пошутил ему вслед:
— Вадим, пока не поздно, пусть тебе из Москвы шапку с тулупом пришлют! А то с нашими выборами ты здесь точно зимовать останешься!
— По мне, так лучше с вами, чем с моим цербером-редактором, — не остался в долгу Вадим.
После этого в холле обстановка окончательно разрядилась. Бойцы разбрелись по свободным номерам, с постов вернулись группы усиления, и вскоре в баре зазвучала приглушенная музыка. Мелодичный и нежный голосок Жасмин напомнил, что где-то там, за бурной и клокочущей в бурунах Псоу, люди по-прежнему пели, радовались и веселились. Здесь же, на госдаче, уже вторую неделю находящейся на осадном положении, было не до веселья, но жизнь все-таки брала свое. Стук костей по доске — это играли в нарды бойцы из резервной дежурной смены, повеселевшие голоса Оксаны и Индиры, грохот посуды в баре и задорный свист чайника на плите на время заставили отвлечься от назойливых мыслей о том, что это хрупкое мирное равновесие в любой момент мог обрушить шквал автоматных и пулеметных очередей.
У меня тоже отлегло от сердца. Усталость и нервное напряжение последних дней сказались и на мне. Я прилег на кровать и не заметил, как уснул. В сумеречном сознании, подобно цветному калейдоскопу, перемешались лица и события последних месяцев, которых в той, другой моей жизни — размеренной, начинавшейся в семь и заканчивавшейся ближе к полуночи, с лихвой хватило бы не на один год. Проснулся я от яркого света, бившего прямо в лицо, и когда глаза освоились, то увидел перед собой моих испытанных друзей — Ибрагима с Кавказом. Их вид невольно заставил меня приподняться, сердце внезапно сжалось, и леденящий холодок обдал грудь.
Пятнистый камуфляж плотно облегал их ладные фигуры — фигуры настоящих воинов. Широкие пояса от армейской портупеи обвисли под тяжестью «беретты» и «браунинга», рукояти которых тускло поблескивали в потертых кобурах. В тени, что отбрасывал платяной шкаф, лица моих друзей напоминали застывшие маски — у рта залегли жесткие складки, во взгляде появился стальной блеск, а черная повязка покрыла лоб и тугим узлом заплелась на затылке. На правой руке Кавказа, как и тогда, в октябре 2001 года, когда он с разведывательной группой уходил на операцию против банды Гелаева в Кодорское ущелье, на безымянном пальце снова появился загадочный массивный перстень со снежным барсом, изготовившимся к прыжку.
В этот миг они, сами того не подозревая, поразительно напоминали другие — давно уже позабытые образы с выцветших и пожелтевших от времени фотографий. Фотографий из фамильных альбомов Авидзба и Атыршба, со страниц которых, так же как и сейчас Ибрагим и Кавказ, смотрели прямым и жестким взглядом воина их далекие предки.
Они — махаджиры, отказавшиеся сдаться войскам генералов Святополка-Мирского, Лорис-Меликова, Багратиона-Мухранского и полковника Коньяра, предпочли свободу и скитания позорному плену. И сегодня они будто снова ожили и сошли с фотографий. Строгие черные черкески подчеркивали горделивую осанку и могучий разворот плеч, а их широкие и длинные полы, подобно орлиным крыльям, трепетали на ветру. Изящные, украшенные серебряной инкрустацией работы лучших самурзаканских мастеров ножны и рукояти кинжалов говорили о том, что не одно столетие они верно служили своим хозяевам. Руки воинов твердо лежали на рукоятях и говорили об их решимости без колебаний отдать жизнь за свободу и друга.
Я смотрел на Ибрагима с Кавказом, так поразительно походивших на своих далеких прадедов, и вздрогнул от внезапно пронзившей меня мысли: «Неужели спустя сто сорок лет все повторится сначала?!..Неужели им и еще сотням добровольцев из Турции, Иордании, Сирии и Ливана, бросившим блестящую карьеру, отказавшимся от сытой и устроенной жизни и по зову сердца безоглядно ринувшимся в пламя разгоревшейся в Абхазии в августе 1992 года войны, предстоит стать махаджирами XXI века?!
Неужели в эту сумасшедшую декабрьскую ночь 2004 года, как и тогда — в середине позапрошлого века, подлое коварство и вероломство соседей посеет рознь среди абхазов и разожжет пламя взаимной подозрительности и ненависти?
…Неужели властолюбие новых вождей, так же как когда-то владетельных князей Абжуйской и Бзыбской Абхазии, замутит разум?
Неужели опять гордыня возобладает над милосердием?
…Неужели эта проклятая власть в очередной раз разделит народы?
…Неужели — и в это не хотелось верить! — абхазы схлестнутся между собой в бессмысленной братоубийственной войне, а те, кто останется жив, будут завидовать мертвым и искать спасения на чужбине?!»
Вернул меня к суровой действительности Ибрагим. Вежливо и твердо он напомнил:
— Николаевич, нам пора! После девяти лучше не ехать, а то, не дай бог, нарвешься на психопата или идиота.
— А может, все-таки обойдется, ведь Сергей Васильевич и Рауль не сумасшедшие, понимают: если тут полыхнет, то потом ни им, ни их детям этого никто не простит, — неуверенно возразил я.
— Вряд ли, слишком все далеко зашло, — мрачно заметил Кавказ.
— Нет никакого просвета! — согласился с ним Ибрагим.
— Но это же конец всему! Вам! Им! Абхазии! Неужели нельзя договориться?! — воскликнул я.
— Пока не получается. Поэтому, Николаевич, тебе лучше перебраться в Новый Афон, а то завтра здесь будет жарко, — мягко, но настойчиво потребовал Ибрагим и распахнул дверь.
— Хорошо! — согласился я и, тяжело опустившись на стул, предложил: — Ребята, присядем на дорожку.
Они сели рядом на кровать, и на несколько секунд в комнате воцарилось тягостное молчание, затем мы поднялись, и я потянулся к сумке с вещами. Кавказ перехватил ее, перебросил через плечо и направился к двери. Вслед за ним на лестницу вышли мы с Ибрагимом и, не задерживаясь, спустились к машине. Кавказ открыл дверцу и предусмотрительно уступил мне место на заднем сиденье, а сам сел впереди и расстегнул кобуру с пистолетом. Я невольно поежился, но сделал вид, будто ничего не заметил, и грустно сказал:
— Ну что, поехали, Ибо!
Он кивнул головой, включил зажигание и опустил ногу на педаль газа. «Мерседес» бесшумно сорвался с места и, легко вписываясь в крутые повороты, быстро скатился вниз по серпантину. На выезде, перед центральными воротами пришлось затормозить — дорогу преградил часовой, но, узнав машину и ее хозяина, без лишних слов распахнул створки. Выехав на приморское шоссе, Ибрагим не спешил набирать скорость и внимательно вглядывался в дорогу. Кавказ настороженно постреливал глазами по сторонам, пытаясь в свете редко горевших фонарей не просмотреть внезапной угрозы.
Позади осталась расцвеченная, как новогодняя елка, яркими огнями база ооновцев, там в ожидании близкой развязки тоже не смыкали глаз. Дорога вильнула влево, и стена из кипарисов вплотную приблизилась к ней. Обочина растворилась во мраке, Ибрагим совсем сбросил газ, и «мерседес» потащился вперед со скоростью черепахи. Мы проезжали самый опасный участок дороги, он буквально кишел автоматчиками, именно здесь в последние дни пролегла та незримая черта взаимного ожесточения и ненависти, расколовшая Абхазию на два враждующих лагеря, которая в любой момент могла взорваться огнем перестрелки и превратиться в линию фронта.
Метр за метром этой пока еще нейтральной полосы исчезал под колесами «мерседеса». Справа проплыла мрачная громада четырнадцатиэтажки, равнодушно взиравшей выбитыми глазницами-окнами на суетящийся у турбазы «Абхазия» людской муравейник. Впереди свет фар выхватил в темноте армейский «Урал», наглухо забранный брезентовым тентом. Ибрагим благоразумно взял от него подальше влево и проехал под железнодорожную эстакаду. Сразу после нее, у турбазы «Абхазия», нас в очередной раз остановил часовой — это был «хаджимбист». Кавказ высунулся из машины и что-то сказал по-абхазски. Тот отступил в сторону и перебросил автомат за плечо.
Ибрагим надавил на газ, но не успели мы проехать и сотни метров, как дорогу снова перекрыл вооруженный патруль. Кавказ с тревогой глянул на друга, тот замотал головой, и его рука соскользнула с пистолета. Сегодня удача и везение, кажется, были на нашей стороне, в патруле оказался наш общий знакомый Масик, и проверка, так и не начавшись, благополучно завершилась. Затем были еще проверки на посту у Ботанического сада и перед мостом над Гумистой, а дальше до самого Нового Афона Ибрагим лишь притормаживал на постах ГАИ. После перевала нам уже не попадались на глаза вооруженные бойцы, но, несмотря на это, чувство глубокой тревоги, которое мы читали на напряженных лицах милиционеров и в поведении редких прохожих, не покидало нас.
Наконец закончился бесконечный серпантин «тещиного языка», и мы скатились с последнего крутого подъема в Новый Афон. Поселок замер в тревожном ожидании, и лишь подслеповатые огни, кое-где пробивавшиеся из-за плотно закрытых ставень и штор, напоминали о том, что там теплится жизнь. Ибрагим остановил машину у заградительных бетонных блоков перед въездом в пансионат. Впереди, в сотне метров, в свете редких фонарей горбилась серая асфальтная лента дороги, ведущей к главному корпусу. Перед ним и на стоянке было непривычно тихо и безлюдно, в дальнем ее конце сиротливо стояла одинокая маршрутка, уныло помигивавшая зеленым огоньком. В эти дни охотников попасть на отдых в Абхазию, сотрясаемую конфликтами, не осталось.
Ибрагим заглушил двигатель, и вновь начавшийся дождь монотонно забарабанил по капоту и холодными струйками покатился по лобовому стеклу. Шальной ветер, налетавший со стороны тревожно рокотавшего моря, сгребал в охапки ворохи опавших листьев и швырял ими в металлический забор. В ответ он отзывался сердитым утробным гулом, ему вторила печальным скрипом болтавшаяся на сорванных петлях калитка.
Минута проходила за минутой, но никто из нас не решался первым выйти из машины. Мы словно боялись потерять нечто очень важное и дорогое, то, что за десять с лишним лет накрепко связало нас тысячами невидимых уз. Это были не только бескорыстная мужская дружба, радости и огорчения, потери и приобретения, что все эти годы мы делили вместе. Нет, это было нечто неизмеримо большее — это была наша общая мечта, которую, как нам еще недавно казалось, мы нашли в Абхазии.
Именно мечта! Однажды самым непостижимым образом она свела нас вместе на этой некогда благословенной земле. Война только закончилась и на каждом шагу напоминала о себе дымящимися развалинами городов, опустошенными и обезлюдевшими поселками, свежими могилами павших, почерневшими от горя и страданий лицами вдов и матерей. И я, волей случая оказавшийся в те дни в Абхазии, был потрясен до глубины души теми чудовищными разрушениями и потерями, что принесла война на эту божественно прекрасную землю.
И тем удивительнее и невероятнее среди этого бескрайнего моря горя и беды казались та чистая, как вечные снега на вершинах Ульгена и Агепсты, дружба и та теплая, подобная целебным источникам Ауадхары и Мархяула, доброта людей, очищающая душу от скверны эгоизма и стяжательства, которые после августа 1991 — го захлестнули Россию. Здесь, в опустошенных войной и мародерами домах Ибрагима Авидзбы, Беслана Кубравы, Феликса Цикутании, братьев Читанава и еще десятка моих новых друзей, слова «Родина» и «друг» по— прежнему значили гораздо больше, чем миллиарды Абрамовича и шестизначный счет в «Бэнк оф Америка».
Тут, в Абхазии, среди новых друзей я постепенно приходил в себя после рокового августа 1991 года, который обернулся невосполнимыми потерями. Рухнула страна, а вместе с ней и привычный, окружавший тебя с самого рождения мир. Мрачная тень гражданской войны зловещими всполохами загромыхала на Кавказе и в Приднестровье. Смута захлестнула Россию, и ее мутная волна вознесла к власти политическое отребье, которое принялось алчно терзать великое наследие своих предков в неуемной жажде наживы.
В те окаянные дни и месяцы душа задыхалась от невыносимой мерзости, наглой лжи и откровенного предательства, которые, как гной из ран, перли из всех щелей. Политическая тусовка, дорвавшаяся до власти, подобно дворовой своре, сорвавшейся с цепи, визжа от нетерпения, ринулась к заветной кормушке. Страна походила на одну огромную зловонную зону, в которой неограниченный произвол чиновников и нормы уголовщины превращались в «закон», а расстрельные команды киллеров выступали его исполнителями.
Тогда, десять лет назад, здесь, в Абхазии, вместе со своими новыми друзьями я обрел веру и надежду. И вот теперь у стен Пантелеймоновского монастыря мы прощались со своей, наверное, наивной мечтой. В очередной раз человеческие грехи — властолюбие и гордыня — грозили разрушить ее. Я первым распахнул дверцу и шагнул на улицу, вслед за мной вышли Ибрагим и Кавказ. В те последние минуты перед расставанием, наверное, одна и та же мысль бродила в наших головах: возможно, сегодняшний вечер станет последним. Ибрагим и Кавказ не решались сказать прощальные слова, а у меня в горле тоже внезапно застрял ком, и я с трудом выдавил из себя:
— Ребята, может, останетесь?
— Нет, нам надо ехать, — глухо ответил Ибрагим.
— А зачем? Ради чего? Ведь если что, то вас первых не пощадят. Для тех и других вы все равно чужие. Они до сих пор считают вас турками!
— Турками?! — вспыхнул Кавказ, а затем сник и с горечью произнес: — Ну когда же это закончится?! Почему я, который воевал с первого и до последнего дня, должен кому-то доказывать, что я больший абхазец, чем тот, который во время войны отсиживался за Псоу, а сегодня катается на «трофейном» грузинском «мерсе»?! Ну почему?
Я тоже не находил ответа на этот проклятый и мучительный для моих друзей вопрос и без всякой надежды уныло повторял:
— Ребята, останьтесь! Пусть расхлебывают эту кашу те, кто ее заварил.
— А как же Владислав Григорьевич?! — И лицо Ибрагима исказила болезненная гримаса.
— А что он? Его и пальцем никто не тронет, — возразил я.
Зато он сидеть не будет, когда мы друг друга мочить станем. Первым кинется разнимать, а в том дурдоме, каким стала сегодня Абхазия, псих всегда найдется, — мрачно ответил Кавказ.
— Это точно! — согласился с ним Ибрагим и с ожесточением в голосе продолжил: — Мы ведь, Николаевич, не крысы, которые после 3 октября побежали с корабля. Прав или не прав Владислав Григорьевич, но мы останемся с ним до конца. Он для нас — все! Я пришел к нему еще мальчишкой, и он стал для меня больше чем отцом. Мне, Кавказу и сотням махаджиров Владислав Григорьевич дал то, что под силу было только ему одному. Он вернул нам нашу мечту — Абхазию! И потом… — Ибрагим на мгновение смолк, а затем продолжил: — Меня сюда позвало сердце, а не звон монет. Я здесь нашел то, что не имел и не мог иметь ни в Турции, ни в Лондоне, — Родину! Поэтому как трусливый шакал поджимать хвост и забиваться в нору не стану! Мы с Кавказом сделали свой выбор двенадцать лет назад. Наша Родина здесь, рядом с Владиславом Григорьевичем, а не в Турции, и если что со мной случится, то останутся сыновья — Арсол и Апсар. И им уже никто и никогда не скажет: «Ты турок!»
После этих перевернувших мою душу слов мне нечего было сказать Ибрагиму и Кавказу, мы молча обнялись. Потом я долго стоял на стоянке, не замечая моросящего дождя, и провожал взглядом тускнеющие в темноте габаритные огни «мерседеса». Вскоре они погасли, мрак ночи скрыл от меня Ибрагима с Кавказом, и в эти мгновения мне стало так пронзительно одиноко, что я не сдержался и горестный стон вырвался из груди. Во мне все восставало против того сумасшествия, что толкало моих друзей с той и другой стороны к братоубийственной войне. Войне, которая, как это ни горько было осознавать, не оставляла выбора для Ибрагима с Кавказом и могла стать последней в их жизни.
Порыв холодного ветра хлестанул меня по лицу и привел в чувство. Я взвалил на плечи сумку, пролез в дыру в заборе и поплелся к корпусу пансионата прямо через парк, в котором всего полгода назад бродил вместе со Станиславом Лакобой и Олегом Бгажбой, беззаботно смеясь над забавными историями моего старого приятеля и управляющего пансионатом Тимура Папбы.
Сейчас они были там, в напоминающем кипящий от страстей и готовый вот-вот взорваться, словно перегретый паровой котел, Сухуме. И только в силах Сергея Багапша, Станислава Лакобы, Александра Анкваба, Рауля Хаджимбы и Владислава Ардзинбы было остановить тот чудовищный и разрушительный маховик президентской избирательной кампании, который грозил навсегда похоронить их мечты о свободной и счастливой Абхазии.
Владислав, Сергей, Станислав, Александр, Рауль… Я снова и снова мысленно обращался к ним. В той прошлой войне они не раз доказали, что в их жизни нет ничего дороже Абхазии. И мой разум отказывался верить в абсурдность того, что они, кого время и судьба вынесли на самый гребень политической власти, ради этой проклятой власти пожертвуют жизнями таких ребят, как Ибрагим, Кавказ, Адгур, Отар, Масик и сотен других, доказавших в прошлой войне, что Родина и честь для них дороже любых денег и кресел.
Я не хотел принимать этого и всем своим существом противился одной только мысли, что ради пусть даже самого высокого — президентского, вице-президентского и премьерского — кресла Сергей Багапш, Станислав Лакоба и Александр Анкваб пожертвуют хоть одной чужой жизнью. За прошедшие после 3 октября два месяца маятник войны не один раз застывал над роковой отметкой, и каждый раз они находили в себе силы остановить его.
И во мне затеплилась робкая надежда, что это всеобщее сумасшествие наконец закончится, люди прозреют и я снова встречусь за одним столом с моими друзьями, которых проклятая и безжалостная политика развела по разные стороны баррикад. Я надеялся, что эта встреча будет уже в другой Абхазии, которая, пройдя через очередное испытание, станет только сильнее и духовно чище. Я искренне и страстно хотел верить в то, что это будет Абхазия нашей давней и прекрасной мечты, которую мы однажды полюбили всем сердцем раз и навсегда.
В качестве эпилога
После отъезда Ибрагима с Кавказом, оставшись один в безлюдном трехэтажном корпусе пансионата, я недолго потолкался в холле и, дождавшись дежурного, взял у него ключ от номера. На этот раз разговора с обычно словоохотливым Платоном Шаликовичем не получилось. У несчастного старика состояние было не лучше моего, он мучился больше от неизвестности, чем от приступа радикулита. Накануне оба его сына с полной военной выкладкой уехали в Сухум, и с тех пор о них не было ни слуху ни духу. Я, к сожалению, тоже ничего утешительного о его детях сообщить не мог, а мои уклончивые ответы об обстановке в городе не успокоили старика. Кряхтя и костеря на чем свет стоит и правых и виноватых, он проковылял к себе в дежурку и уткнулся в телевизор.
Я взвалил сумку на плечо и поднялся на второй этаж, с трудом нашел в потемках свой номер, открыл дверь, нащупал на стене выключатель и зажег свет. В тусклом свете, к своему немалому удивлению, обнаружил в углу телевизор, прошел к нему и ткнул пальцем в расхлябанную кнопку. Старый, еще ламповый «Горизонт» натужно треснул своими стеклянными внутренностями, затем в нем что-то угрожающе хрустнуло, прошло около минуты, и экран ожил, на нем замельтешили размытые силуэты. Я пощелкал переключателем по каналам. По местному шел какой-то старый, еще советских времен фильм, два российских хранили гробовое молчание о событиях в Абхазии, а остальные вообще не работали.
До очередного выпуска новостей оставалось чуть больше десяти минут, но мне было тоскливо и одиноко находиться в холодном и неуютном номере. Я швырнул сумку на кровать и вышел на балкон. К этому времени небо над Новым Афоном очистилось от туч, тонкий серп луны выплыл из-за гор, и в его призрачном свете очертания Пантелеймоновского монастыря с поразительной точностью напомнили мне библейские сюжеты со знаменитых полотен художников Бруни, Иванова, Брюллова и Куинджи.
Позолоченный купол колокольни, подобно Вифлеемской звезде, загадочно мерцал на фоне величественной панорамы гор. Они, как драгоценное ожерелье, обрамляли монастырь, таинственно поблескивая гостеприимно светящимися окнами рассыпанных по склонам гор домов. У подножия знаменитой Анакопийской горы о чем-то еле слышно перешептывалась с берегом лениво накатывающая на прибрежную гальку морская волна. Все вокруг дышало миром и покоем.
В какой-то миг мне показалось, что само время умерило свой неумолимый бег у стен этой христианской святыни, освященной Великим Словом — Веры, Добра и Надежды, две тысячи лет назад произнесенным здесь учеником Христа — апостолом Симоном Кананитом. Словом, оказавшимся крепче крепостных стен некогда неприступной Анакопийской цитадели и власти самых жестоких тиранов. Словом, перед которым выглядели такими жалкими тщеславие и властолюбие прошлых и нынешних политиков, вождей и диктаторов, возомнивших себя повелителями и вершителями судеб целых народов. Рано или поздно, но все они превратились во вселенскую пыль.
Внезапно эту божественную и умиротворяющую тишину нарушил писк сотового телефона — сработал будильник. Время подходило к десяти, я снова возвратился в комнату и с робкой надеждой на благополучный исход развязки в Сухуме включил телевизор. По местному каналу продолжал идти фильм, а на российском НТВ дикторы вечерних новостей говорили обо всем, но только не о том, что в эти минуты происходило в Абхазии.
Я с раздражением выключил телевизор и, чтобы как-то отвлечься от назойливых и мрачных мыслей, мутивших душу, вытащил из сумки рукопись романа «Загадка для «Гиммлера», ручку и попытался продолжить работу над новой главой. Но работа не пошла, перо спотыкалось на каждом слове, а предложения напоминали полупьяный строй загулявших ландскнехтов. Промучившись еще несколько минут, я отложил рукопись в сторону и снова вышел на балкон в надежде, что покой и тишина, царившие в Новом Афоне, успокоят разгулявшиеся нервы. И напрасно надеялся, нервный зуд продолжал донимать меня, я чуть ли не каждые пять минут возвращался в комнату и включал телевизор, рассчитывая в душе услышать экстренный выпуск новостей. Но Москва и Сухум продолжали хранить гробовое молчание, и только в одиннадцать эфир взорвался сенсационным сообщением, которого, без всякого преувеличения затаив дыхание, ждала вся республика.
От одних только слов «Только что в столице Абхазии — Сухуме завершились переговоры между Сергеем Багапшем и Раулем Хаджимбой», произнесенных диктором местного телевидения Алхасом Чолокуа, у меня внезапно пересохло в горле и перехватило дыхание. Я превратился в слух и впился глазами в экран телевизора. На нем крупным планом возникли пожелтевшие и изможденные бессонницей и невероятным нервным напряжением лица соперников — Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы. Затем камера ушла вправо и остановилась на заместителе председателя Государственной думы России Сергее Бабурине. Его усталая улыбка сказала мне все, и с моей души словно свалился огромный камень.
Этот полный драматизма вечер 5 декабря 2004 года, которому, казалось, никогда не будет конца, к счастью, завершился без стрельбы, захватов правительственных зданий, телецентра или управления внутренних дел и, судя по всему, шел к мирному завершению. Как назло, слова Сергея Бабурина потонули в треске разрядов эфира, но для меня это было уже не столь важно. Главное состояло в том, что ему с непримиримыми соперниками — Сергем Багапшем и Раулем Хаджимбой удалось сделать, казалось, невозможное — найти путь к примирению.
Мирное будущее Абхазии для Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы оказалось выше их политических амбиций, жажды власти и взаимных обид. В немалой степени этому способствовал и беспрецедентный шаг, совершенный Станиславом Лакобой. Такого поступка политика современная история вряд ли когда знала. Соратник Сергея Багапша ради сохранения мира в Абхазии и примирения конфликтующих сторон отказался от поста вице-президента в пользу проигравшего выборы Рауля Хаджимбы. Об этом искренне и горячо говорил сам Сергей Багапш. Вслед за ним выступил Сергей Бабурин и, отдавая должное одному из организаторов победы на президентских выборах, заявил: «Это большое счастье, что в Абхазии есть такие люди, как Станислав Лакоба».
После них выступил Рауль Хаджимба. На мрачном и замкнутом лице будущего вице-президента трудно было прочесть какие-либо эмоции, он умел владеть собой, но для меня и десятков тысяч абхазов, армян и русских это уже не имело никакого значения. В эти минуты для всех нас было гораздо важнее то, что угроза вооруженного противостояния миновала. Не дослушав до конца Рауля Хаджимбу, я выключил телевизор, не раздеваясь, плюхнулся на кровать и тут же заснул мертвецким сном.
Разбудил меня громкий стук в дверь. Я с трудом продрал глаза, на ходу натянув джинсы, выскочил в коридор и открыл дверь. Передо мной стояли живые и невредимые Кавказ и Ибрагим. Они по-прежнему были одеты в камуфляжную форму, но оружия при них я не заметил. Из-за их спин из холла доносились беззаботные и жизнерадостные детские голоса. Сыновья Ибрагима — Апсар и Арсол пытались оседлать сиротливо стоявший в углу велотренажер.
Я все еще не мог проснуться и, сонно хлопая глазами, пытался по лицам моих друзей прочесть, что за эти несколько часов изменилось в Сухуме. На них еще сохранялась печать недавних переживаний, но в глазах уже не осталось следов той смертельной тоски и обреченности, что была накануне. Поддавшись невольному порыву, мы крепко обнялись. Их объятия окончательно привели меня в чувство. Через пять минут я был уже готов и, подхватив так и не распакованную сумку, спустился в холл. Платона Шаликовича на месте не оказалось, он на радостях, что сыновья вернулись из Сухума живыми и невредимыми, сбежал домой. Я оставил ключ на стойке и прошел на стоянку, но там никого не застал. Задорный смех Апсара и Арсола подсказал мне, где искать моих друзей. Плотная стена из зарослей олеандра отделяла меня от них, я проломился через кустарник, по тропинке спустился к морю и приостановился на берегу.
Передо мной на песчаной косе копошилась куча-мала. В ней переплелись тела взрослых и детей. Этот хохочущий и пищащий клубок походил на большущую игрушку. Такими беззаботными и счастливыми мне уже давно не доводилось видеть моих друзей.
С тихой радостью я наблюдал за Ибрагимом, Кавказом и в душе испытывал гордость за них, за Сергея Багапша, Станислава Лакобу и Александра Анкваба, за Владислава Ардзинбу и Рауля Хаджимбу, за абхазов, русских, армян и всех тех, кто сумел простить друг другу смертельные обиды и подняться выше личных амбиций и интересов.
У меня не возникало и тени сомнения в том, что, когда остынут выборные страсти, а разум, ослепленный коварной ложью, просветлеет, к ним рано или поздно, но придет понимание того, что 6 декабря 2004 года они одержали самую важную победу в истории Абхазии! Они победили самого главного ее врага, который сидел внутри них, — властолюбие, гордыню и тщеславие! На этот раз они не позволили, чтобы их многострадальная Родина стала легкой добычей для врага! Ради будущей свободной и независимой Абхазии они переступили через самих себя и сделали первый и очень трудный шаг навстречу друг к другу.
Я твердо верил, что этот день навсегда войдет в историю Абхазии и станет той самой точкой отсчета для Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы, Владислава Ардзинбы и Станислава Лакобы, Александра Анкваба и всех остальных на долгом и непростом пути возвращения к самим себе и тем подзабытым бесценным духовным и нравственным ценностям, что так бережно на протяжении многих веков хранили их мудрые предки. И как бы тяжел и труден он ни был, я уже не сомневался в том, что они больше никогда не свернут с него. Свет Амцахара — родовых огней, который снова запылал в их сердцах и стал путеводной звездой, должен был рано или поздно привести этот гордый и самобытный народ к заветной цели — свободной и независимой Абхазии.
История и Провидение так распорядились, что все они — те, кто свыше ста лет назад вынужден был покинуть Абхазию и на дальних турецких берегах сумел пронести через годы и тяжкие испытания священную память и трепетную любовь к Родине, и те, кто остался на родной земле и, несмотря на безжалостные сталинские репрессии, этнические зачистки, сохранил дух своих великих предков, — оказались поневоле махаджирами. В течение этих лет даже здесь, рядом с древними святилищами и могилами, они не были хозяевами своей судьбы, каждый раз ее решали то в Тбилиси, то в Москве. И только 30 сентября 1993 года, изгнав захватчиков, они уже вместе вернули себе надежду на будущее. Будущее, в котором уже никогда не будет разделенного народа, а горькое слово «махаджир» навсегда останется в прошлой истории Абхазии.
Сухум, октябрь 2006 г.



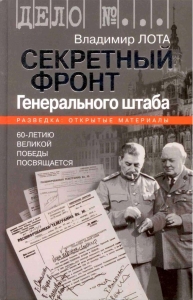


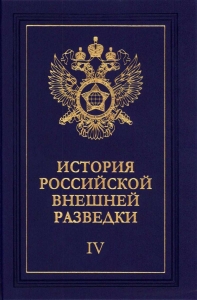
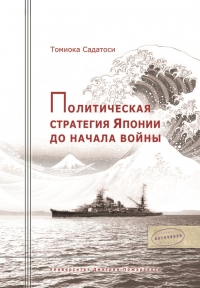




Комментарии к книге «Между молотом и наковальней», Николай Николаевич Лузан
Всего 0 комментариев