Олег Черенин Очерки агентурной борьбы: Кёнигсберг, Данциг, Берлин, Варшава, Париж. 1920–1930-е годы
© Черенин О. В., 2014
© ООО «Живем», 2014
* * *
Посвящается другу Александру Наговицыну, павшему при выполнении воинского долга
Предисловие
В 1920–1930-е годы разведывательные аппараты основных европейских государств были крайне малочисленными в сравнении с разросшимися в военные и послевоенные годы их преемниками. Так, например, в основном органе внешней разведки СССР – Иностранном отделе ОГПУ по штатному расписанию 1933 года числилось 110 человек, причем численность агентурных работников, находящихся за рубежом, была чуть больше половины[1].
В военной разведке ситуация была примерно аналогична.
Их противники в Германии могли противопоставить несколько десятков профессиональных разведчиков, основные усилия которых были равным образом распределены на Западе (Франция, Великобритания) и Востоке (Польша, страны Прибалтики и СССР). Но качественные характеристики спецслужбы никогда не определялись численностью ее штатов. Они определялись профессионализмом сотрудников и, соответственно, агентурного аппарата, состоящего у них на связи.
Так, военная разведка Веймарской республики, а позже нацистской Германии, за счет использования своей зарубежной агентуры, надо признать, добилась впечатляющих успехов в освещении военного и экономического потенциала своих противников. Ее достоянием стали внешнеполитические и военные планы ведущих европейских держав и США в критические периоды истории: ремилитаризации Эльзаса, аншлюса Австрии, Мюнхенских соглашений и т. д. Вклад Абвера в осуществление внешнеполитических и военных планов Гитлера был значительным, тем более что его кадровый состав вплоть до 1936–1937 годов всегда отличался малочисленностью.
Активная контрразведывательная деятельность ведущих мировых спецслужб способствовала тому, что кадровый состав и частично агентура противника были во многом известны. Например, для профессионалов разведки СССР и Германии никогда не было тайной, что так называемые легальные резидентуры английской разведки традиционно скрывались под прикрытием консульских отделов дипломатических представительств Великобритании за рубежом. Хрестоматийной является творчески спланированная и несколько авантюрно реализованная операция контрразведки Абвера по разгрому английских агентурных сетей, замыкавшихся в своей работе на консульство Великобритании в Гааге.
На практике перечисленные обстоятельства приводили к тому, что сотрудники многих спецслужб знали своих противников, что называется, «в лицо». В этом нам не раз придется убедиться по мере обращения к истории конкретных агентурных операций и их участникам – героям нашей книжки. Это нужно учитывать при обращении к событиям, имеющим отношение к описываемым эпизодам агентурной борьбы.
Обращаясь к заявленной теме, мы ставили перед собой прозаические задачи. Во-первых, ознакомить русскоязычного читателя с деятельностью некоторых неизвестных или малоизвестных сотрудников зарубежных спецслужб, имена которых вошли в историю международного шпионажа как исключительно эффективных профессионалов. Во-вторых, продемонстрировать читателю на конкретных примерах, что на основе имеющейся источниковой базы на сегодняшний день однозначные толкования исследуемых в области специальной деятельности сюжетов просто невозможны.
При выборе героев повествования автор руководствовался личными пристрастиями, обусловленными интересом к персонам незаурядных профессионалов разведки: майора Жихоня, капитана Незбжицкого, капитана 2-го ранга Протце. Их жизнь и практическая деятельность позволит нам «окунуться» в мир довоенного шпионажа как явления, оказавшего большое влияние на развитие межгосударственных отношений Польши, Германии и СССР. Находясь в эпицентре политических событий того времени, они прямо или косвенно воздействовали на характер решений, принимаемых руководством спецслужб и правительствами своих стран.
Кроме того, их примеры позволяют расширить наши знания и представления об основных направлениях специальной деятельности разведок Польши, Германии и Советского Союза накануне Второй мировой войны, описать, насколько это возможно, ход и последствия важнейших разведывательных операций, инициаторами и участниками которых, в силу занимаемого служебного положения, были наши герои. Этим объясняется также желание автора не ограничиваться написанием простых биографических очерков, а на их основе представить связную картину агентурного противоборства в довоенной Европе.
Немаловажным мотивом обращения к биографиям Жихоня и Незбжицкого было также наличие и доступность источников. Так получилось, что, в силу определенных обстоятельств, вызванных сохранностью архивных фондов довоенных польских спецслужб, польская историография внесла значительный вклад в изучение их истории и их отдельных представителей.
Как правило, работы польских историков хорошо фундированы, содержат значительные по объему сведения по конкретным операциям и отдельным эпизодам агентурного противоборства. Значительная их часть, имея прямое отношение к работе польской разведки против Советского Союза, расширяет наши представления о характере противостояния разведок и контрразведок Польши и СССР.
Обращение к биографии Незбжицкого как одного из организаторов работы 2-го отдела Главного штаба Войска Польского на советском направлении вызвано тем, что в российской историографии относительно мало внимания уделено истории противоборства польских и советских спецслужб. И это несмотря на то, что в межвоенное двадцатилетие два соседних государства постоянно находились в состоянии «холодной войны», а противоборство их разведок и контрразведок по степени накала и понесенным потерям не имело аналогов во всей предвоенной Европе.
Советская внешняя (ИНО ОГПУ, ГУГБ НКВД) и военная (Разведывательное управление) разведки все межвоенное двадцатилетие рассматривали Польшу как одного из потенциальных противников, вооруженный конфликт с которым мог вспыхнуть в любой момент. Соответственно, на разведывательное изучение будущего противника были брошены серьезные силы и средства. Поэтому нам кажется несправедливым, что такому важному направлению специальной деятельности исследователями не уделено должного внимания[2].
Разведка по причине своей специфики и последствиям крайне персонифицирована. Каждый успех или поражение имеет, по большому счету, свое имя. Иногда они становятся достоянием общественности, но чаще всего надолго, если не навсегда, сведения об этих успехах и поражениях будут «похоронены» за крепкими дверями ведомственных архивов. Этим также вызвано обращение автора к названным персонам, так как, в силу сложившихся обстоятельств, источники, отражающие их профессиональную деятельность, за рубежом уже прочно вошли в научный оборот, но, к сожалению, малоизвестны или вовсе не известны русскоязычному читателю.
Так получилось, что зарубежная историография довоенных разведок, включая советскую, обогащенная поистине огромным массивом документальных свидетельств и авторских работ, по их вводу в научный оборот оставила далеко позади себя российскую историографию предмета. Складывается парадоксальная ситуация, когда за рубежом, в рамках национальных историографий, история советской разведки подчас изучена лучше и качественнее, чем в самой России.
В этой связи трудно не согласиться с выводами участников научной конференции по истории отечественных органов безопасности о необходимости количественного и качественного пополнения источниковой базы предмета[3].
А пока же при описании отдельных сюжетов агентурного противоборства в довоенной Европе без версий и гипотез никак не обойтись.
Любую гипотезу, относящуюся к тематике деятельности и истории спецслужб, можно и нужно рассматривать, какой бы невероятной она ни казалась на первый взгляд. Но только непременным условием такого анализа должно быть наличие хоть каких-нибудь документальных свидетельств, доказывающих или опровергающих исследуемую версию. Пусть они напрямую не относятся к предмету исследования, пусть фрагментарны, но они должны как минимум дать возможность исследователю точно сформулировать вопросы, касающиеся существа проблемы. Ведь, как известно, правильно поставленный вопрос – половина ответа.
При описании эпизодов тайной войны в предвоенной Европе мы не ставили перед собой задачу дать ответы на такие вопросы, относящиеся к исследуемым сюжетам. При существующей источниковой базе, несмотря на большой объем свидетельств, сегодня это вряд ли возможно.
Поэтому сразу хочется предупредить читателя, что при описании некоторых разведывательных операций мы будем вынуждены ступать на «зыбкую» почву догадок и предположений, обусловленных самим характером специальной деятельности в целом и недостатком достоверных источников, которые могли бы пролить свет на некоторые тайные страницы истории.
В ней будут участвовать многие знаковые фигуры международного шпионажа тех лет, судьбы которых причудливым образом переплелись на поприще тайной войны и которые прямо или косвенно повлияли на исход многих эпизодов агентурного противоборства между спецслужбами европейских стран, включая СССР.
Автор благодарит профессора Российского государственного университета им. И. Канта Ю. В. Костяшова за содержательные рекомендации и информационную помощь.
Вводная часть
В научно-популярной литературе и публицистике, посвященной истории специальных служб, давно уже прижились такие понятия и образные выражения, как «крот» и «троянские кони», отражающие использование в разведывательной и контрразведывательной деятельности спецслужб института агентов-двойников как одного из самых эффективных средств борьбы со своими противниками. На образном русском языке, понятном всем кинолюбителям, аналогом этих понятий является уже плотно вошедшее в обиход выражение – «засланный казачок». Когда оно произносится, всем вспоминаются незабываемые образы героев советского кинематографа, запечатленные в трилогии о неуловимых мстителях, и образ самого «засланного казачка» – Даньки.
Официальный же язык практиков от спецслужб, то есть язык, на котором в документальном виде отражаются ход и результаты проводимой ими работы, далек от такой образности и оперирует более конкретными понятиями, такими как «агент-наводчик», «агент-вербовщик», «агент внедрения», «разработка» и т. д.
В многочисленных публикациях на тему деятельности спецслужб бросается в глаза не всегда оправданное употребление авторами отдельных понятий и специфических терминов, обусловленное подчас уже сформированными в общественном сознании стереотипами и уводящее читателя в сторону от существа исследуемых вопросов. Как риторический прием (автор этих строк сам им пользуется, не стараясь, впрочем, «злоупотреблять») такое употребление вполне уместно, но не совсем уместно, если вкладываемый в такие понятия смысл имеет мало общего с реальной практикой специальной деятельности.
Для пояснения сказанного приведем самый простой пример. Понятие «разведка» во многих публикациях имеет в большинстве случаев расширительное толкование, особенно в уже ставших «притчей во языцех» формулировках типа «разведка доложила точно» или, возьмем «смягченное» выражение, – «разведка установила» и т. д.
Так и представляется огромное здание где-нибудь на Тирпицуфер или Лубянской площади, где в тиши кабинетов трудятся многочисленные аналитики и направленцы, во всех подробностях и деталях осведомленные о проводимых по всему миру важных разведывательных операциях, результаты которых их коллективными усилиями через некоторое время будут доложены первому лицу государства. На самом деле число участников и самих операций и лиц, имеющих отношение к полученной информации в штаб-квартире разведки, всегда было небольшим.
Попробуем приблизительно подсчитать их число на примере стандартной агентурной операции так называемой «легальной» резидентуры, действующей, например, под дипломатическим прикрытием в описываемый нами период. Отдельно оговорим, что содержание агентурной информации, равно как и данные на ее источник, будет доступно еще меньшему кругу лиц. Также укажем, что в данном примере речь идет о конечном ее «продукте», своеобразной квинтэссенции всех проводимых агентурных и аналитических мероприятий – итоговом документе за подписью начальника разведслужбы, направляемом в высшие государственные инстанции. При этом в расчет не берем копии такого документа, передаваемые в другие заинтересованные службы и взаимодействующие органы.
Итак, агент – источник информации, кадровый сотрудник разведки, у которого этот агент находится на связи, заместитель (помощник) резидента по направлению работы (если резидентура многочисленна), сам резидент и шифровальщик, производящий первичную обработку (зашифровывание) информации. Без первоисточника всего получается максимум четыре человека, осведомленных во всех деталях о существе операции в самой зарубежной резидентуре. Курьеры, связисты в данном случае в расчет не берутся, так как в их руки попадает уже обработанная для направления в Центр (запечатанная в дипломатические вализы или зашифрованная) информация.
Получателем дипломатической почты либо радио– (телеграфного) сообщения в центральном аппарате разведки является так называемый «направленец», то есть сотрудник центрального аппарата, отвечающий либо за конкретную страну и расположенные в ней резидентуры, либо за линию работы. В его обязанности входит вся техническая организационная работа Центра по руководству зарубежными разведывательными аппаратами в стране их пребывания. Для направления в руководящие инстанции он готовит итоговые документы в виде различного рода сопроводительных записок к оригиналам агентурных материалов, сводки, делает «редакторскую правку» агентурных сообщений и т. д. В обратном направлении он направляет санкционированные его руководством директивные указания по работе с агентом, высылает оценки ранее полученным информационным сообщениям, дает советы и, если необходимо, вносит коррективы в ход операции и т. д.
Первой такой руководящей инстанцией является начальник отдела (сектора), отвечающий за организацию деятельности в разведываемой стране (группе стран), который и докладывает итоговые документы либо заместителю начальника разведки, либо ему самому. Вот и получается, что число лиц, причастных к конкретной разведывательной операции, конечным итогом определенного этапа которой является доложенный в инстанции документ, не превышает десяти человек. Поэтому, когда мы пользуемся выражением типа «разведка доложила», мы должны отдавать себе отчет, что речь идет не о всем ее аппарате, а об относительно небольшой группе ее сотрудников.
Разумеется, когда начальник разведывательной службы докладывает или направляет руководству страны обобщенные документы по важным военным, военно-политическим, политическим и другим проблемам, число участников, задействованных в перечисленных мероприятиях, заметно возрастает, как возрастает и степень противоречивости содержащихся в таких материалах сведений.
Это вполне объяснимая ситуация, обусловленная множеством субъективных и объективных факторов, в обиходе выраженная поговоркой «сколько людей, столько мнений». В нашем случае мнения людей – это «мнения» добывающих сотрудников и аналитических служб разведки, основанные на той части информации, которая им стала доступна в ходе выполнения служебных обязанностей.
В этой связи второй пример демонстрирует, насколько высока степень ответственности любого должностного лица, имеющего отношение к подготовке столь важной информации.
Всем исследователям истории советских спецслужб известен доклад начальника советской военной разведки генерал-лейтенанта Голикова «Высказывания (оргмероприятия) и варианты боевых действий германской армии против СССР» от 20 марта 1941 года. Нам не известно, в какой степени сам Голиков приложил руку к составлению этого доклада, но автором, скорее всего, он не является.
Напомним вкратце содержание этого важного документа, который до сих пор еще неоднозначно оценивается исследователями. Мы тоже возьмем на себя смелость прокомментировать некоторые положения доклада, имея целью не критический анализ всего столь важного для понимания мотивации действий Сталина накануне войны документа, с точки зрения объективности содержащихся в нем сведений, а всего лишь попытку с формальной точки зрения оценить его структуру и методику составления. Этот небольшой пример также даст нам возможность еще раз обратить внимание на необходимость критического осмысления документов советской разведки, введенных в научный оборот в последнее двадцатилетие.
В преамбуле доклада Голиков пишет, что «большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходит от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. Вместе с тем, исходя из природы возникновения и развития фашизма, а также его задач – осуществление заветных планов Гитлера, так полно и “красочно” изложенных в его книге “Моя борьба”, краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за период июль 1940 – март 1941 года заслуживают в некоторой своей части серьезного внимания»[4].
В сфере функционирования государственных институтов, где средством управленческой деятельности является документ, призванный письменно зафиксировать решение компетентной инстанции, существуют определенные универсальные «правила» подготовки такого рода информационных материалов. По содержанию в упрощенном виде эти правила сводятся к ясности и объективности излагаемых в нем данных. По форме же эти правила выглядят следующим образом. Во вступлении (преамбуле) излагается положение (тезис), требующее доказывания. Далее перечисляются все данные по существу излагаемой проблемы, имея целью «доказывание» или подтверждение исходного тезиса. И последней, завершающей частью документа является его выводная часть, подводящая своеобразный итог всему вышеизложенному. С точки зрения следования этим «правилам», более противоречивого документа советской разведки, доложенного Сталину, трудно отыскать.
В изложенной Голиковым преамбуле доклада ключевыми словами и выражениями (требующими доказывания) являются:
– «большинство агентурных данных»;
– «исходит из англо-американских источников»;
– «стремление ухудшить отношения между СССР и Германией»;
– «заслуживают в некоторой своей части серьезного внимания».
Если следовать перечисленным выше правилам, то во второй части документа в идеале должны содержаться данные на эти самые «англо-американские источники» с изложением сведений, подтверждающих их стремление «ухудшить отношения между СССР и Германией». Но мы видим обратное. Из шестнадцати нижеследующих пунктов, содержащих конкретные данные на источники и характер информации, только два из них (п. 5, 10), и то с большой натяжкой, можно отнести к «англо-американским источникам».
В пятом пункте речь идет о том, что посол США в Румынии в своем докладе в Вашингтон ссылается на разговор между Джигуржу и Герингом, в котором последний говорит, что, в случае неуспеха Германии в войне с Англией, она будет вынуждена напасть на СССР.
В десятом же пункте, со ссылкой на неназванных английских и французских журналистов, говорится о переговорах между Германией и Великобританией, якобы состоявшихся в Стокгольме, где английскую сторону представлял Ллойд Джордж.
Все остальные четырнадцать пунктов фиксируют информацию, исходящую из каких угодно германских, турецких, румынских, югославских, но только не «англо-американских» источников.
Еще большую оправданность утверждению о расхождении между «тезисом» и «доказательством» вызывают слова Голикова о том, что «американские, английские и другие источники говорят о готовящемся якобы нападении Германии на Советский Союз». Еще раз обратим внимание на то, что о «других источниках» в основной части доклада, собственно, и идет речь.
В советском и российском чиновничьем обиходе всегда была хитрая формулировка в виде устоявшегося словосочетания – «вместе с тем». Ее употребление зависит от многих обстоятельств, вызываемых формой, содержанием самого документа, а также целью, задачами, стоящими перед его автором.
Эта формулировка является своеобразной границей между, условно говоря, «позитивной» и «негативной» частями документа, причем их содержание и соотношение могут меняться. Например, в стандартной комсомольской характеристике, выдаваемой комсомольцу для поступления в ВУЗ, после перечисления всех его заслуг и других объективных данных обязательно следовало указать и некие «негативные» моменты в его поведении или характере. Без этого пресловутого «вместе с тем» считалось, что характеристика отличается необъективностью и своеобразной ангажированностью.
Одним из самых показательных примеров на этот счет являются воспоминания одного советского разведчика, когда при составлении характеристики перед окончанием разведывательной школы куратор учебной группы, не найдя никакого «негатива» в характере и поведении выпускника, вспомнил, что один раз он опоздал на утреннюю физзарядку. Вот в характеристике после слов «вместе с тем» и появилось выражение, что имярек следует больше внимания уделять занятиям спортом. При составлении очередных служебных характеристик эта фраза и «кочевала» из года в год, вплоть до увольнения награжденного многими государственными наградами за успешную работу за рубежом ветерана разведки.
Или другой пример. Представим, что составляется документ по результатам какой-либо проверки вышестоящими инстанциями и нужно «утопить» проверяемого начальника. При таком раскладе «основная» (объективная) часть документа в «куцем», усеченном виде фиксирует его, условно говоря, достижения, а разделенная формулой «вместе с тем» другая часть с многочисленными подробностями описывает все его «грехи».
В нашем же случае Голиков, используя формулу «вместе с тем», решал лично для себя сложнейшую задачу соблюдения равновесия между объективностью излагаемых разведывательных данных и стремлением не вызвать неудовольствие или – хуже всего – гнев Сталина на содержание доклада. В русском языке на этот счет есть немало поговорок, применительно к Голикову гласящих, что он хотел, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», или другое, более жесткое выражение – «влезть на елку, и … не поцарапать».
Особый интерес представляют исходные, первичные, информационные материалы, на основании которых и составлялся доклад Голикова. Здесь мы и встречаем серьезные противоречия, вызванные неизвестно какими обстоятельствами. На этот счет мы можем только строить догадки.
Например, в 15-м пункте доклада читаем: «Руководитель восточного отдела министерства иностранных дел Шлиппе сказал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнить с посещением Бека. Единомыслия достигнуто не было ни в вопросе о Финляндии, ни о Болгарии. Подготовка наступления против СССР началась значительно ранее визита Молотова, но одно время оно было приостановлено, так как немцы просчитались в своих сроках победы над Англией. Весной немцы рассчитывают поставить Англию на колени, развязав тем самым себе руки на Востоке».
Эта часть пункта основана на агентурном сообщении «Альты» (Ильзы Штебе), направленном в Москву резидентом Разведывательного управления «Метеором» (Н. Д. Скорняковым) 4 января 1941 года[5].
При сравнении этого агентурного сообщения «Альты» с 15-м пунктом доклада сразу бросается в глаза, что важнейшая часть сообщения в доклад попросту не попала. А там сказано, что «“Альта” запросила у “Арийца” подтверждения правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 г. “Ариец” подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам».
А ниже приводятся дополнительные доводы в подтверждение первичной информации «Арийца» и процитированные в пункте 15-м доклада.
Таким образом, получается, что проблема заключается в правильной расстановке акцентов. Немного пофантазируем на этот счет. Представим себе, что автор доклада, формулируя пункт 15-й, написал бы примерно следующее: «От немецкого источника поступило подтверждение ранее полученной им информации, исходящей из информированных военных кругов, о подготовке на основании секретного приказа Гитлера наступления Германии на СССР весной 1941 года». А дальше – оставшаяся часть 15-го пункта. Читатель, наверное, согласится, что в таком виде акценты были бы правильно расставлены и по форме документа, и по существу информации.
То же самое можно сказать о самой преамбуле доклада Голикова. Если поменять местами положения преамбулы, разграниченные формулой «вместе с тем», а к утверждению об «англо-американских» источниках добавить всего одно слово «возможно», то акценты в докладе можно было бы признать более правомерными, если не по существу, то по форме уж точно.
Само структурное построение этого документа, как и отбор для него конкретных фактов, также не может не вызывать многочисленных вопросов. Почему, например, самая важная информация о возможных планах нападения Германии на СССР, как написано в докладе «вероятных вариантов действий», оказалась в его середине, без каких-либо попыток текстуально или по смыслу выделить ее среди остального «информационного мусора», и без того затуманивающего содержание доклада. Причем, в свою очередь, из трех возможных вариантов реальный план «Барбаросса», представленный в вольном изложении на основании сообщения «Альты» от 28 февраля 1941 года, также не выделен как наиболее вероятный[6].
Часто в работах по истории советской разведки усилиями их авторов она выглядит как цельный, эффективно действующий организм, а ее деятельность описывается только в «мажорной тональности» как путь от успеха к успеху. Информация, добываемая по разведывательным каналам, отличалась точностью, своевременностью, актуальностью. Агентура приобреталась не иначе, как в высших эшелонах военного командования, спецслужб, руководстве государств. Сотрудники разведки представлены как высокие профессионалы, а их начальники исключительно как прозорливцы, просчитывающие развитие ситуации на много ходов вперед, и т. д.
Особенно такая «мажорная тональность», на наш взгляд, неуместна, когда исследуется такая важная и болезненная тема, как деятельность советской разведки накануне Великой Отечественной войны. Кроме исследования частных проблем, работы по этой тематике призваны ответить на главный вопрос: выполнила ли она, а если выполнила, то в каком объеме, свой долг и профессиональную обязанность перед государством в освещении хода подготовки Германии к нападению на Советский Союз в июне 1941 года.
Исследователи этой проблематики давно уже разделились на два противостоящих в своих выводах лагеря, назовем их условно «апологетами» и «критиками». Первые считают, что советская разведка свой долг перед страной выполнила, вторые же, признавая ее несомненные успехи, склонны более критично относиться к исходному тезису о том, что «разведка доложила точно». Причем обращает на себя внимание то обстоятельство, что лагерь «апологетов» представлен в основном бывшими руководителями и сотрудниками советских спецслужб и их органов (Павлов, Кирпиченко, Соцков, Корабельников, Голиков), что, кстати, невольно вызывает вопрос: не обусловлены ли их выводы простым и понятным желанием защитить «честь мундира», а не стремлением найти истину, тем более что поводов для такого суждения они сами дают множество.
Так, большинство исследователей истории предвоенной советской разведки ориентированы лишь на изучение информационной составляющей критериев ее эффективности. Другими словами, какого качества и насколько получаемая по каналам разведки информация удовлетворила потребности ее конечных получателей на всех уровнях властной вертикали? Никто не спорит, что это – важнейшая и главная обязанность всех субъектов разведывательной деятельности. Но, изучая эту проблематику, нельзя упускать из виду другую, не менее важную, проблему мобилизационной готовности разведки к войне, напрямую связанную с результатами ее деятельности уже непосредственно в годы войны, особенно на ее начальном этапе.
После обрушившихся на разведку репрессий, когда большая часть кадровых разведчиков двух основных ее ветвей была либо уничтожена, либо подверглась аресту или увольнению, ее аппарат, по существу, пришлось создавать заново. Руководство военной и внешней разведок и соответствующие их подразделения предприняли максимум возможного в тех условиях, чтобы восполнить кадровые потери. Но совершенно ясно, что полностью решить эту проблему не удалось. Особенно это касается зарубежных разведывательных аппаратов.
Много фактических данных указывает на то, что не только в самой Германии, но и в ряде других европейских стран к началу войны мобилизационные мероприятия завершены не были. Это привело к тому, что после нападения Германии на Советский Союз наиболее ценные и проверенные на практической работе агенты остались без связи. Какой ущерб делу разведки на начальном этапе войны это принесло, можно проиллюстрировать одним примером.
Одной из наиболее результативных предвоенных резидентур внешней разведки была берлинская. К февралю 1941 года на связи у ее сотрудников находилось восемнадцать агентов («Старшина», «Корсиканец», «Брайтенбах», «Август», «Цопот», «Юн», «Экстерн», «Чернов», «Старик», «Лесовод», «Эразмус», «Фильтр», «Франкфуртер», «425», «Хайдерсбах», «Винтерфельд», «Лицеист», «Венера»)[7]. Как минимум на двоих из них («Старшину», «Корсиканца»), в свою очередь, замыкалось не менее двадцати субисточников, также являвшихся поставщиками ценной разведывательной информации.
В опубликованных источниках нет ни одного упоминания о том, что работа с этими агентами была продолжена после начала войны. При этом разовый контакт резидента военной разведки Гуревича (Кента) с Шульце-Бойзеном можно рассматривать только как одну из судорожных попыток восстановления связи с агентурой, оставшейся без связи. Да и сам факт обращения руководства внешней разведки к своим военным коллегам за помощью твердо указывает на его неспособность своими силами решить проблему связи.
Эта проблема вплоть до 22 июня 1941 года была самой больной и так до конца и нерешенной. Сегодня нам известно, что, несмотря на активную работу В. Короткова, плановые мероприятия по созданию нелегальных резидентур во главе с Харро Шульце-Бойзеном («Старшина») и Арвидом Харнаком («Корсиканец») завершены не были. Подготовка к переходу на радиосвязь велась усиленными темпами, но обеспечивать группы Шульце-Бойзена и Харнака действующими радиопередатчиками Короткову пришлось уже в экстремальных и драматических условиях кануна войны. Не зная всех обстоятельств дела, мы не вправе осуждать советского разведчика и его руководителей. Но сформулировать вопрос о несвоевременности их действий, повлекших за собой фактическое прекращение агентурной деятельности нескольких десятков человек в самый ответственный период вооруженной борьбы с Германией, наше право. То же самое относится к парижской и венской резидентурам внешней разведки.
Незавершенность мероприятий по переводу разведки на работу в условиях военного времени привела к тому, что после начала войны предпринимались судорожные попытки восстановления связи с фактически «брошенной» агентурой в Германии, приведшие в конце концов к ее почти полной ликвидации. Это прежде всего относится к внешней разведке.
Лагерь «апологетов», доказывая тезис об исчерпывающем информировании разведкой руководства страны о ходе подготовки нападения Германии и, соответственно, о выполнении возложенных на нее задач, почти полностью игнорирует вышеприведенный пример и другие многочисленные известные факты, свидетельствующие о неготовности самой разведки к войне.
Таким образом, общая оценка эффективности советской разведки накануне войны может быть дана только при условии комплексного исследования трех основных проблем в их единстве: собственно, информационной (соответствие полученных разведкой сведений реальному положению дел), мобилизационной готовности (исчерпанность мер по переводу разведки на условия военного времени), способности противостоять инфрормационному влиянию противника (распознание дезинформации).
Доказательства, подтверждающие «аксиому», что «разведка доложила точно», основываются на большом объеме опубликованных архивных документов, в которых действительно содержится огромное количество фактов, свидетельствующих о ходе подготовки Германии к войне против СССР. Но, помимо противоречивого характера значительной части таких сообщений, есть некоторые сомнения относительно «научной добросовестности» некоторых составителей сборников архивных документов.
Поясним наш «скепсис» на следующем примере. Подавляющее большинство опубликованных документов по разбираемой теме относится к зарубежным резидентурам военной и внешней разведок в Берлине, Бухаресте, Софии, Будапеште, Париже, Токио. Сопоставимый по количеству объем разведывательных материалов поступал также из центральных и территориальных органов НКГБ-НКВД, органов оперативно-тактической (разведотделы штабов военных округов) и пограничной разведок. О качестве получаемой Центром по этим каналам информации – отдельный разговор.
Исследователям истории отечественных спецслужб стали известны многие интереснейшие подробности работы берлинских резидентур внешней и военной разведок. Имена таких агентов, как Ильза Штебе, Рудольф фон Шелия, Арвид Харнак, Вилли Леман, Харро Шульце-Бойзен, а также других агентов, замыкавшихся на берлинские точки, навсегда вписаны в действительно самые славные страницы истории советской разведки.
Но почему, например, никогда не публиковались документы о предвоенной деятельности и оперативных возможностях данцигской и кёнигсбергской резидентур внешней и военной разведок? Из разрозненных и не всегда поддающихся обоснованным оценкам высказываний сотрудников германских спецслужб известно, что агентурные аппараты этих точек были буквально «пронизаны» агентами-двойниками Абвера и гестапо.
Например, какую роль сыграл внедренный в агентурную сеть советской разведки агент данцигского гестапо Формелл в информировании советских политических и военных инстанций о планах германского руководства? Внес ли он свою лепту в грандиозный провал данцигской резидентуры, когда в самом начале войны гестапо арестовало около пятидесяти человек, в разной степени задействованных в операциях советской разведки?
Или как начальником контрразведывательного реферата (3F) Абверштелле «Кёнигсберг» майором Вильгельмом Крибицем были перевербованы источники резидента советской разведки Киселева?
Почему бывший начальник указанного аппарата Абвера подполковник Ноцны-Гаджински, а в 1941 году начальник реферата 3F тильзитского «Абвернебенштелле», однозначно считал своим крупным успехом операцию по продвижению через агента-двойника в разведотдел штаба Прибалтийского военного округа документальных материалов о передислокации германских частей из Восточной Пруссии обратно во Францию?
Какого рода дезинформация уходила по этим каналам на Лубянку и в Знаменский переулок и дальше в Кремль? Могла ли она влиять на решения Сталина и советского военного командования? В каком виде, документальном или в форме агентурных сообщений, ретранслировались эти сведения в Москву? Об этом нам из отечественных источников ничего не известно.
Если предположить, что указанные выше факты действительно имели место, а тем более если будут опубликованы советские материалы, проливающие свет на эти события, то многие устоявшиеся представления и мифы о деятельности советской разведки придется пересматривать.
В данном случае мы говорим не о тех «мифах», которые на наших глазах складываются на основе многочисленных изданий, привносящих в историю советской разведки сенсационный и несколько скандальный оттенок. Мы имеем в виду серьезные исторические работы, которые, основываясь на солидной источниковой базе, оценивают прошедшие события без должного критического осмысления опубликованных документов советской разведки.
Несколько слов о мифах «первой категории». Некоторые авторы, например, в своих работах стараются убедить читателя в том, что известный всем генерал-лейтенант А. А. Власов, оказывается, был не изменником, а выполнял функции «двойного агента» в целях «дезинформирования военно-политического руководства Германии». При этом не объясняют то обстоятельство, что если принять эту гипотезу к рассмотрению, то, кроме множества второстепенных, они должны будут ответить на несколько главных вопросов, от убедительности ответа на которые зависит вся конструкция исследуемой версии.
Например, можно ли считать поражение 2-й ударной армии в 1942 году, с его катастрофическими последствиями для всего фронта, частью плана по «внедрению» Власова в агентурную сеть противника в качестве «стратегического» агента-двойника? Готов ли был Сталин в ходе Волховской операции пожертвовать одной из своих самых боеспособных армий, чтобы решить столь иллюзорную задачу? Можно ли расценивать яростное сопротивление дивизий РОА на Восточном и Западном фронтах как условие, позволявшее ему решать задачи «агента-двойника»? Как относиться к опубликованным материалам советской разведки о планах по физическому уничтожению Власова (операция «Ворон», вербовочные разработки М. В. Богданова, Г. К. Жиленкова) и т. д.[8]?
Нам объясняют, что-де само назначение Власова на должность командующего 2-й ударной армией состоялось после того, как исход операции был уже предрешен, а поражение было неминуемо. Но самый главный аргумент, опровергающий версию «агента-двойника», заключается даже не в вышеперечисленных вопросах и в полном отсутствии документальных свидетельств в ее пользу, а в законе самой вооруженной борьбы, гласящем, что сражающаяся армия по принципу не может быть средством для реализации самых идеальных и изощренных планов спецслужб. Ее задача и задача ее командующего заключаются в приложении максимальных усилий для достижения победы на любом этапе операции. Если же победы достичь не удается, то сражающиеся войска должны нанести максимальный урон противнику и погибнуть.
Конечно, без выработки версий, касающихся конкретных эпизодов деятельности спецслужб, исследователю никак не обойтись. Но они должны быть убедительны и основаны как минимум на достоверных и документально закрепленных фактах, а не на «высосанных из пальца» домыслах и фантазиях, которые приводят в своих работах некоторые авторы подобных «сенсаций».
Если следовать такой логике допущений, нам придется столкнуться с гипотезами, например, об участии представителей внеземных цивилизаций в разведывательном освещении подготовки нападения Германии на Советский Союз, или что-то в этом роде (версия об участии «экстрасенсов» уже озвучена).
Каждый исследователь истории предвоенных спецслужб сталкивается с двумя связанными между собой проблемами: противоречивым по своей природе характером деятельности спецслужб и недостатком документальных источников.
Применительно к первой проблеме поясним сказанное примерами, оговорив, что развернутое изложение «парижских интриг», равно как и «дело Севрюка», будет представлено ниже.
В 1934–1937 годах советская внешняя разведка имела несколько ценных источников информации, освещавших многие важные аспекты внешней политики санационной Польши. В частности, в окружении близких связей польских генералов Сикорского и Галлера действовал агент советской разведки, о котором речь пойдет ниже, представлявший много информационных сообщений о польско-германских отношениях, включая сведения о «секретном военном соглашении» между Польшей и Германией[9].
Итак, можно ли однозначно расценивать как успех советской разведки получение из «важных польских источников» информации о существовании особого секретного договора между Польшей и Германией, авторитетно подтвержденное мнением известных оппозиционных санационному режиму деятелей – генералов Сикорского и Галлера? С точки зрения оперативной практики и оценочных критериев результативности разведывательной работы этот факт можно однозначно оценивать как несомненный успех советской внешней разведки. Агентурное внедрение в близкое окружение весьма информированных генералов само по себе ценно, как ценно и содержание получаемой по этому каналу информации.
А вот по политическим последствиям такую информацию однозначно оценить как успех уже проблематично, так как имеются важные указания на то, что и сами генералы, и, соответственно, агент советской разведки в этой области своей информированности могли стать жертвами как минимум непроверенных слухов, а как максимум – инспирированной неизвестной разведкой широкомасштабной дезинформационной операции. Также нельзя исключать вероятность того, что сами польские генералы, преследуя свои политические цели, сформулировали тезис о договоре Пилсудского с Гитлером.
Если принять такую версию к рассмотрению, получается, что руководство СССР в выстраивании политических отношений со своими европейскими партнерами, и прежде всего с Польшей и Германией, исходило из неверной посылки о существовании между ними «секретного военного соглашения», направленного против Советского Союза, информация о котором была получена по разведывательным каналам. Насколько было ущербной для интересов Советского государства восприятие советским руководством этой посылки – тема отдельного разговора.
Сохранившиеся польские источники позволяют значительно дополнить и более «выпукло» отобразить картину международных интриг, ареной которых выступили Париж и Варшава 1930-х годов. Для того чтобы понять смысл и потаенные пружины происходивших тогда событий, нам придется обратиться к фактам политической истории и фону, на котором главные персонажи играли отведенные им роли.
Или другой пример. В некоторых источниках известный украинский политик, а позже ответственный сотрудник германского министерства авиации Александр Севрюк называется ценным агентом советской внешней разведки. Информация о его сотрудничестве основана на воспоминаниях жены бывшего резидента ИНО ОГПУ И. Порецкого (Рейса) Элизабет Порецки, которая прямо указала и на факт сотрудничества, и на некоторые детали его разведывательной работы в пользу советской разведки. Можно ли вслед за ней считать А. Севрюка «ценным агентом» советской разведки в Германии? При почти полном отсутствии документов о его деятельности, основываясь только на информации Э. Порецки, наверное, можно.
Но как в таком случае интерпретировать следующий абзац в одном из документов римской резидентуры польской разведки, датированном ноябрем 1936 года: «Инсабато показывал письмо Севрука (Севрюка. – Авт.), который как агент 2-го отдела немецкого (Генштаба) постоянно ездит по Европе (Вена – Прага – Берлин – Мюнхен и т. д.) и скоро снова будет в Вене. В показанном письме Севрук приглашает Инсабато в Берлин»[10]?
Основано ли утверждение польского резидента о работе Севрюка на германскую военную разведку на каких-либо фактических данных или является всего лишь бездоказательным предположением? Нам об этом ничего не известно. Кроме того, участие Севрюка как представителя Абвера в зондаже по вопросу восстановления связи между германской и советской разведками ставит под большое сомнение версию о его «честном» сотрудничестве с последней. Но в любом случае такие документальные свидетельства необходимо учитывать при построении самостоятельных версий.
Представим себе, что в 1945 году советская контрразведка не получила в качестве трофея материалы гестапо о деятельности агента-двойника «Лицеиста» (О. Берлингса), а его кураторы от гестапо и МИД Германии Мюллер и Ликус ускользнули из рук СМЕРШа. Возможно, агентурные сообщения «Лицеиста», направляемые в Москву, попали бы в сборники документов советской разведки в их «позитивный» раздел, отражавший ход подготовки Германией нападения на СССР. В этом случае откровенная дезинформация, подготовленная германскими спецслужбами, почти наверняка трактовалась бы исследователями как сведения, отражавшие возможные сомнения и колебания в руководстве Германии о направлениях дальнейших действий на Востоке или Западе Европы.
Подобных примеров можно привести множество. А это значит, что исследователь, обращаясь к проблематике деятельности спецслужб, при анализе документов и других свидетельств должен очень критично относиться к их содержанию.
За последние годы исследователям стали доступны многие важные и исключительно интересные архивные материалы советской разведки. Они не только пролили свет на многие ранее неизвестные факты ее истории, но и ознакомили общественность с именами ранее неизвестных советских разведчиков, которые и составили советской разведке славу как одной из самых эффективных спецслужб того периода. Еще относительно недавно список известных на этом поприще лиц исчерпывался парой десятков фамилий, включая Рихарда Зорге, Леопольда Треппера, Шандора Радо, Льва Маневича и др. Причем информация об их работе и свершениях содержалась, как правило, в художественных произведениях, написанных, правда, на основе рассекреченных архивных материалов.
В наши дни такой список состоит уже из нескольких сотен имен, представленных и в серьезных энциклопедических справочниках, и в многочисленных публикациях по истории советской разведки.
Но за официальными биографиями действительно заслуженных сотрудников разведки, построенными по определенным шаблонам (родился, учился, служил там-то и там-то), подчас не видно реальных человеческих лиц, с их достоинствами и недостатками, мнимыми и реальными успехами и поражениями.
Тем ценнее свидетельства участников тех далеких по времени событий. Иной раз отдельное высказывание одного из таких свидетелей для характеристики героев «тайной войны» дает больше, чем сухие и многостраничные биографии. Например, жизнь и деятельность венского резидента внешней разведки Василия Петровича Рощина достаточно подробно описана в соответствующей литературе. Но только одно высказывание завербованного им агента позволяет нам представить в совокупности личные и профессиональные качества советского разведчика.
Так, после состоявшейся вербовки бывший депутат Рейхстага от Германской национальной народной партии Рейнхольд Вулле дал такую характеристику своему вербовщику – Рощину, озвученную другим участником комбинации – советским агентом Хомутовым (А/1): «Это – “настоящий боец, видавший виды парень”, производит, судя по ответам и осведомленности, довольно хорошее впечатление. По-видимому, искусен в ведении переговоров»[11].
Такие слова Вулле – опытного и проницательного политика – дорогого стоят. К сожалению, таких характеристик в опубликованных источниках содержится немного.
Тайны майора Жихоня
Что такое «двуйка»
Приступая к изложению событий, связанных с деятельностью некоторых героев нашего повествования, проявивших себя умелыми и результативными разведчиками, следует сказать несколько слов о том, что собой представляла система польских военных спецслужб, вошедшая в историю под названием «двуйки». В коротком очерке невозможно описать весь ход двадцатилетнего существования 2-го отдела Главного штаба Войска Польского, но конспективное изложение истории создания и функционирования этого важного государственного института Второй Речи Посполитой все же необходимо. Для того чтобы читатель имел общее представление о том, в каких условиях действовали Жихонь, Сосновский, Незбжицкий, что собой представляли отдельные подразделения польской разведки, какова была система взаимодействия между ними, ограничимся короткой исторической справкой.
После обретения Польшей независимости, одновременно с созданием ее государственных институтов, начался процесс формирования высших военных властей и органов военного управления. 17 октября 1918 года, в рамках Военной комиссии Временного военного департамента, полковник Влодзимеж Загорский приступил к созданию Генерального штаба Войска Польского, который по замыслу Юзефа Пилсудского и в соответствии со сложившейся военной традицией должен был стать «мозгом армии». В первые месяцы своего формирования Генеральный штаб состоял из шести самостоятельных отделов, реализующих разноплановые функции военного управления (расквартирования, информирования, боевой подготовки и т. д.). К 10 марта 1919 года их число возросло до десяти. В условиях подготовки к военным действиям против Советской России Генеральный штаб приказами от 18 февраля и 10 марта 1919 года был преобразован в Верховное командование Войска Польского[12].
Выполнение разведывательно-информационных функций, то есть решение совокупности всех задач сбора, аналитической обработки, реализации разведывательных материалов, приказом начальника Генштаба от 13 ноября 1918 года вначале было возложено на 6-й (информационный) отдел Генштаба, который на следующий год стал называться 2-м отделом. В состав 6-го отдела под руководством майора Мечислава Мацкевича входило семь секций – подразделений, решавших информационные и специальные задачи по географическому и функциональному принципам.
Так, 1-я секция под руководством ротмистра Кароля Андерса занималась обобщением и анализом информационных сообщений, затрагивающих проблематику строительства и развития зарубежных армий.
2-я секция, разделенная на две подсекции («Восток», «Запад»), занималась организацией и проведением так называемой «позитивной» разведки по географическому принципу. В этой же секции концентрировались материалы контрразведывательного характера (поручик Бронислав Витецкий).
В задачи сотрудников 4-й секции входила подготовка разведывательных материалов о положении в сопредельных государствах, а после начала советско-польской войны – сводок о положении на фронте (поручик Феликс Врублевский). Получателем разведывательного «продукта» 5-й секции выступали органы власти и управления Второй Речи Посполитой, в соответствии с характером информационных материалов. В задачи 6-й секции входило руководство деятельностью польских военных атташе за рубежом. Секция 7-я проводила работы по созданию собственных шифровальных систем и занималась дешифровкой иностранной корреспонденции[13].
Указанные подразделения непосредственно не занимались разведывательной работой, а проводили аналитическую обработку получаемых из 2-й секции разведывательных материалов с последующим докладом в заинтересованных инстанциях.
В нестабильных условиях внутриполитической и военной обстановки продолжавшихся военных столкновений между польскими вооруженными силами и частями советского Западного фронта строительство польских военных органов управления было связано с многочисленными кадровыми и организационными изменениями. Этот процесс затронул также и вновь создаваемые польские специальные службы, включая органы военной разведки.
Руководство польской военной разведки придавало большое значение формированию дееспособных и эффективных периферийных специальных структур – подразделений войсковой, агентурной, радиотехнической разведки, их кадровому и финансовому обеспечению.
После завершения советско-польской войны и подписания Рижского мирного договора начинается этап реформирования Войска Польского и его организационных структур в направлении перехода на условия мирного времени. Декретом Пилсудского от 3 апреля 1921 года Верховное командование Войска Польского было ликвидировано, а входившие в его состав отделы передавались в ведение воссозданного Генерального штаба и Военного министерства[14]. По новому положению Генеральный штаб включался в Военное министерство с подчинением его начальника военному министру на правах заместителя и постоянного члена Военного совета.
Приказом военного министра генерала Казимежа Соснковского от 22 июня 1921 года в сферу компетенции 2-го отдела Генерального штаба были отнесены все вопросы специальной, разведывательной, информационной деятельности польских вооруженных сил. На следующий день начальником Генерального штаба генерал-поручиком Владиславом Сикорским был подписан приказ, определяющий новую структуру 2-го отдела Генштаба и его задачи в условиях мирного времени. В их число входили: организация разведывательной, информационной деятельности, формирование и обучение кадрового состава отдела, информирование органов власти и военного управления, совершенствование форм и методов специальной деятельности, подготовка собственных мобилизационных планов на случай войны, контрразведывательное обеспечение Войска Польского и других государственных полувоенных формирований.
Согласно штатному расписанию, в 1921 году число сотрудников центрального аппарата 2-го отдела Генерального штаба Войска Польского насчытывало: 64 штаб– и обер-офицера, 13 младших офицеров, 20 гражданских служащих. Обязанности начальника польской военной разведки исполнял подполковник Игнацы Матушевский, имевший одного заместителя – полковника Люциана Сикорского[15].
В 1921 году в состав 2-го отдела входило три номерных отделения, поделенных, в свою очередь, на функциональные и географические рефераты (секции, отделения). 1-е (организационное) отделение занималось вопросами функционирования польской военной разведки в сфере обучения, кадрового, материально-технического, финансового обеспечения. Начальник отдела – майор Болеслав Сикорский. 2-е (информационное) отделение занималось разработкой информационных заданий для 3-го (разведывательного) отделения и аналитической обработкой всех разведывательных материалов, получаемых по каналам военной разведки, с последующей их реализацией в военных и государственных инстанциях Второй Речи Посполитой. Начальник – майор Тадеуш Шатцель.
3-е (разведывательное) отделение осуществляло непосредственно (через соответствующие рефераты центрального аппарата) и через подчиненные территориальные органы разведывательную и контрразведывательную деятельность. Начальник – майор Казимеж Кешчиньский.
Кроме рефератов 3-го отделения, руководивших деятельностью зарубежных плацувок (резидентур), в подчинении его начальника находились номерные территориальные органы польской военной разведки – экспозитуры, дислоцированные в городах Вильно (№ 1), Варшаве (№ 2), Познани (№ 3), Кракове (№ 4), Львове (№ 5), Бресте (№ 6). После реорганизации 1933 года территориальные экспозитуры стали напрямую подчиняться начальнику 2-го отдела.
Приказами начальника польской военной разведки определялись места дислокации, характер повседневной деятельности, объекты разведывательного изучения экспозитур. Их общие задачи впервые после окончания боевых действий были определены приказом военного министра генерала Казимежа Соснковского от 1 августа 1921 года. К ним относились:
– проведение разведывательных мероприятий в четко определенных зонах прикордона (глубина до 250 километров);
– разведывательное изучение воинских частей и соединений противника, объектов его военной инфраструктуры;
– учет и первичное изучение всех поступающих разведматериалов;
– проведение контрразведывательных мероприятий в отношении спецслужб противника, дислоцированных в прикордоне.
В конце 1921 года Генеральный штаб начал принимать под свое командование расформированные органы разведки ликвидированного 2-го отдела штаба Верховного командования Войска Польского.
Юзеф Пилсудский как опытный революционер-практик, прошедший школу борьбы с политическим сыском царской России на практике, прекрасно понимал, какие возможности представляли эффективно действующие спецслужбы. Поэтому неслучайно то внимание, какое он уделял процессу формирования и функционирования польской военной разведки, подбору ее руководящих кадров, сохранению и поддержанию традиций подпольной ПОВ (польской организации войсковой). Ни одно назначение на руководящие посты во 2-м отделе Генерального штаба не проходило без личной санкции руководителя государства. Подавляющее большинство из них были лично известны Юзефу Пилсудскому по их прошлой совместной деятельности в качестве «повяков», «Союза стрелков» и т. д.
В условиях установившегося с 1926 года авторитарного режима, предполагавшего концентрацию власти в одних руках с опорой на вооруженные силы и другие силовые структуры, система назначения на руководящие должности в государстве строилась в значительной степени на «личностном факторе», когда к кандидату, кроме его личных и деловых качеств, предъявлялись повышенные требования преданности Пилсудскому и их совместная прошлая деятельность. Пришедшие к руководству 2-м отделом выходцы из польских легионов полностью им отвечали.
Проведенная к январю следующего года реорганизация не затронула структуру трех основных отделений (организационного, учетного и разведывательного) аппарата польской разведки. К ним добавились вновь сформированные три отдельных реферата, которые вобрали в себя ряд функций указанных подразделений.
Так, отдельный общий реферат был ответственен за поддержание официальных контактов всей польской разведки с другими государственными органами Второй Речи Посполитой, руководство деятельностью польских военных атташе, аккредитованных в иностранных государствах, и за поддержание связей с военными атташатами этих стран в Польше.
Договорно-транзитный реферат проводил юридическую и военную экспертизу готовящихся к подписанию двусторонних договоров с другими иностранными государствами. Небольшой по численности (2 офицера) реферат Лиги Наций занимался проблематикой этой и других международных организаций.
Возрастающая потребность в подготовке качественного аналитического «продукта» привела к тому, что исследовательские функции перешли из рефератов «Восток» и «Запад» разведывательного отделения во вновь сформированные рефераты «Россия» и «Германия» учетного отделения, а рефераты «Юг» и «Север» были вовсе ликвидированы[16].
В 1920–1930-е годы аппарат 2-го отдела неоднократно подвергался структурным реформам, вызванным требованиями изменяющейся оперативной обстановки, но его деление на добывающие, информационно-аналитические и организационно-кадровые подразделения продолжало сохраняться вплоть до начала Второй мировой войны.
Приказами начальника Главного штаба в 1933 году была утверждена измененная структура и штатное расписание 2-го отдела, в соответствии с которым в центральном аппарате проходили службу 47 офицеров, 64 подофицера, 9 гражданских служащих. Кроме того, за отделом числилось 30 офицерских должностей в территориальных экспозитурах и 80 офицеров «внешней службы», работавших в зарубежных плацувках[17].
Разведывательная, контрразведывательная, диверсионно-повстанческая работа 2-го отдела Главного штаба была сосредоточена в разведывательном отделении, поделенном на региональные и функциональные рефераты (сектора, отделения). Крупнейшими и, соответственно, наиболее значимыми в системе польской разведки были рефераты «Восток» и «Запад», призванные руководить и координировать специальную деятельность зарубежных плацувок (резидентур).
Практика деятельности 2-го отдела Главного штаба применительно к его структурному построению и в части использования специальной терминологии предусматривала проведение так называемой «глубокой» и «ближней» разведки. Первая проводилась через зарубежные разведывательные плацувки, как правило, действовавшие с позиций польских дипломатических учреждений и других официальных представительств. «Ближняя» же разведка, проводимая на глубину от 100 до 160 километров, осуществлялась силами и средствами территориальных аппаратов польской разведки – экспозитур, замыкавшихся на одного из заместителей начальника 2-го отдела[18].
После ликвидации в 1926 году экспозитуры в г. Бресте крупнейшими территориальными органами 2-го отдела, проводившими разведку против соседних стран (СССР, Литвы, Чехословакии), стали Экспозитуры № 1 в г. Вильно и № 5 в г. Львове.
В 1929 году варшавская Экспозитура № 2 как территориальный разведывательный орган также была ликвидирована. Вместо нее под тем же номером в Варшаве была сформирована экспозитура, призванная решать широкий спектр разведывательных, разведывательно-диверсионных и информационно-подрывных задач, включая проблематику «Прометеизма». Исходя из их характера, начальник вновь созданного органа напрямую подчинялся заместителю начальника 2-го отдела Главного штаба. Данная структура кроме информационно-аналитического обобщения поступавших материалов и выработки перспективных планов по инспирированию повстанческих движений на национальных окраинах СССР также руководила повседневной деятельностью замыкавшихся на нее плацувок, расположенных в ряде европейских и восточных стран.
Центральный аппарат Экспозитуры № 2 по функционально-географическому принципу был поделен на семь рефератов:
– реферат «Запад» (работа по Германии, Данцигу, Чехословакии) занимался созданием и руководством разведывательных, диверсионных и информационно-подрывных звеньев в указанных странах;
– реферат «Восток» проводил аналогичную деятельность в СССР и Литве. Основным же направлением работы реферата стало проведение мероприятий по инспирации повстанческо-сепаратистских движений в национальных республиках СССР;
– объединенный реферат «Юг» и «Юго-Восток» руководил работой специализированных плацувок, расположенных на польской территории;
– реферат диверсионной техники;
– реферат технической безопасности;
– реферат пропаганды;
– административный реферат.
С расформированием в 1930 году старых экспозитур в Познани (№ 3) и Кракове (№ 4) и формированием новых в Быдгоще и Познани в целом была завершена реформа территориальных органов польской разведки.
Большие организационные и организационно-штатные изменения во 2-м отделе Главного штаба произошли в 1931–1932 годах и были связаны с общей реформой системы управления польскими вооруженными силами. Дополнительной причиной также явился крупный шпионский скандал, связанный с разоблачением в Главном штабе советского агента майора Петра Демковского[19].
Период с конца 1920-х – начала 1930-х годов пришелся на поиск наиболее оптимальных вариантов подчиненности и эффективных механизмов взаимодействия между экспозитурами и разведывательными подразделениями Пограничной стражи (Запад) и Корпуса пограничной охраны (Восток). Объективные условия, практика и относительно низкие результаты работы пограничных разведывательных аппаратов показали их недостаточную эффективность. Было принято решение о более тесном взаимодействии с экспозитурами, одним из элементов которого стало включение аппаратов «разведывательных офицеров» Пограничной стражи и КПО в состав территориальных органов военной разведки. Но такое включение не предполагало механического объединения аппаратов экспозитур и разведывательных офицеров. Оставаясь в составе Пограничной стражи и Корпуса пограничной охраны, последние в строевом отношении продолжали подчиняться соответствующим окружным инспекторатам. Таким образом, отличительной особенностью функционирования аппаратов приграничной разведки стала ее двойная подчиненность, которая, несмотря на организационные сложности, в целом способствовала решению чисто разведывательных и контрразведывательных задач.
После завершения советско-польской войны и начала строительства новых органов власти и управления было принято решение о разделении функции военной и «гражданской» контрразведки, соответственно, во 2-м отделе Генерального штаба и Государственной полиции МВД. В первом органе задачи по контрразведывательному обеспечению Войска Польского и других военизированных формирований были возложены на соответствующие подразделения 2-го отдела. После очередного изменения всей структуры 2-го отдела вопросы организации и руководства контрразведывательной деятельностью и обеспечением безопасности в 1929 году были возложены на отделение IIb.
В его состав входили следующие рефераты: общий, контрразведывательный, охраны тайны (секретности), национальный, центральной агентуры. Вспомогательные функции были возложены на внутреннюю картотеку и канцелярию.
Практической работой по борьбе с иностранными спецслужбами занимались территориальные органы военной контрразведки, так называемые Отдельные информационные рефераты Корпусных окружных командований (Samodzielne Referaty Informacyjne Dowódstw Okręgów Korpusów, сокр. SRI DOK). Они также имели двойную подчиненность, обусловленную спецификой их функционирования. По линии контрразведывательной деятельности они подчинялись отделению IIb центрального аппарата, а по вопросам строевой службы – начальникам (командирам) окружных командований.
Подводя предварительный итог, можно сказать о том, что в межвоенное двадцатилетие 2-й отдел Главного штаба Войска Польского представлял собой внушительную силу, способную профессионально решать широкий спектр задач в области разведки, контрразведки и информационно-аналитической деятельности. Насколько этот потенциал был использован, попробуем оценить на известных примерах деятельности его незаурядных сотрудников: Яна Жихоня, Ежи Сосновского, Антония Незбжицкого.
Начало
В истории польской разведки было немало персонажей, которые по совокупности результатов своей деятельности составили ей славу как одной из наиболее эффективных европейских спецслужб в межвоенное двадцатилетие. Но даже среди большого числа таких профессионалов от разведки имя майора Яна Хенрика Жихоня стоит особняком. И дело не только в его неоспоримых заслугах в тайной войне разведок, но и в том, что он был по-настоящему неординарной и одновременно исключительно противоречивой личностью. До сих пор в среде польских специалистов по истории спецслужб ведутся споры о его месте и роли в событиях, предшествовавших Второй мировой войне.
Наш герой родился 1 января 1902 года в небольшом польском городе Скавине, располагавшемся на территории Австро-Венгерской империи. Свое двусоставное имя он получил в честь героя войны за независимость Польши генерала Домбровского, что свидетельствует о соответствующей обстановке и воспитании в семье, проникнутой ностальгическими воспоминаниями о «незалежной» Польше.
С началом Первой мировой войны будущий ас польской разведки Ян Хенрик Жихонь двенадцатилетним мальчиком (!) записывается добровольцем в 1-й польский легион. Все годы войны он провел на фронте и за боевые заслуги в 1919 году был произведен в подхорунжии. С мая этого года Жихонь в составе 12-го пехотного полка принимает участие в боевых действиях против вооруженных сил Украинской Центральной Рады, а после их завершения – в боях против отрядов «германской самообороны» в Верхней Силезии[20].
В этих событиях молодой польский офицер настолько хорошо себя зарекомендовал в глазах командования, что в октябре 1919 года он в звании поручика откомандировывается в распоряжение начальника 2-го отдела Верховного командования Войска Польского. Соответствующий приказ был подписан вице-министром Военного министерства Казимежем Соснковским. С этого времени и началась двадцатилетняя беспокойная служба Жихоня в польской военной разведке.
После обучения основам «шпионского» ремесла и непродолжительной стажировки в центральном аппарате разведки в должности референта он направляется в распоряжение начальника 2-го отдела Восточного фронта, где до октября 1920 года занимается вопросами организации разведки против советских войск.
После завершения советско-польской войны Жихонь в составе так называемой группы «Вавельбург», созданной 2-м отделом Верховного командования, ведет работу по обучению и комплектованию разведывательных и разведывательно-диверсионных групп, направлявшихся в Верхнюю Силезию для борьбы с военизированными формированиями немцев.
Для получения необходимого для присвоения очередного воинского звания командного стажа в феврале 1921 года Жихонь назначается на должность командира роты 45-го пехотного полка. Уже со следующего года он – сотрудник 2-го отделения 13-й пехотной дивизии в г. Ровно.
В 1924–1926 годах он вновь проходит службу в центральном аппарате в Варшаве офицером для особых поручений при начальнике 2-го отдела Генерального штаба полковнике Михале Байере[21].
1926 год стал особо значимым для дальнейшей карьеры Жихоня. Впервые он был назначен на самостоятельный участок работы в должности начальника «офицерского поста» (постерунок офицерски) № 2 в Катовицах, входившего в состав территориального разведывательного органа 2-го отдела Главного штаба – Экспозитуры № 4 (г. Краков).
На этом посту и проявились в полной мере профессиональные и организаторские способности капитана (с 1927 г.) Жихоня. Обстановка в зоне деятельности указанной экспозитуры отличалась высокой напряженностью в польско-германских отношениях, проявлениями которой были многочисленные акции противоборства между польскими и германскими спецслужбами. Как профессионал разведки, Жихонь сразу же проявил себя способным вербовщиком. Одной из его удачных вербовок стало привлечение к сотрудничеству некоего Шнайдера, младшего офицера в одном из штабов Рейхсвера. Часть материалов, поступавших по этому каналу, подтверждала сведения плацувки «In.3» – нелегальной резидентуры польской разведки в Берлине под руководством Ежи Сосновского – и получала хорошие оценки польского Центра[22].
Другим значимым результатом деятельности Жихоня стало изобличение в разведывательной деятельности руководителя местного отделения «Фольксбунда» – националистической немецкой организации в Польше Отто Улитца, при помощи которого было организовано массовое переселение этнических немцев в Германию. В марте 1928 года Жихонь был назначен начальником экспозитуры в Данциге[23].
Несомненные успехи Жихоня на профессиональном поприще сильно подпортили два эпизода с криминальным «душком», непосредственным участником которых он стал. До сих пор неясны обстоятельства происшествия, но относительно благополучный выход Жихоня из сложной ситуации косвенно указывает на его невиновность в инкриминируемых ему деяниях.
Вначале последовало обвинение в его адрес в присвоении части денежных средств, предназначавшихся на оплату услуг агентуры, выдвинутое бывшим начальником Жихоня полковником Я. Драпелло.
В суде обвиняемому удалось доказать свою невиновность, и полковник был вынужден отказаться от своих обвинений и принести капитану свои извинения.
В 1929 году случилась другая неприятность. На квартире Жихоня в Данциге был обнаружен труп его коллеги поручика Грюнвальда с огнестрельным ранением. Специальная комиссия, занимавшаяся расследованием, установила невиновность Жихоня, признав, что причиной смерти поручика стало неосторожное обращение с огнестрельным оружием. После того как неприятности Жихоня закончились, он всецело отдался своей профессиональной деятельности[24].
«Дело Нейхёфен» как прелюдия к «инциденту в Венло»
В мае 1930 года разразился очередной кризис в германо-польских отношениях, вызванный широко освещавшимся в прессе инцидентом на пограничном посту «Нейхëфен» (Новый Двор). Для описания майских событий и представления главных участников инцидента будет целесообразно сделать экскурс в прошлое, который позволит продемонстрировать специфику германо-польского противоборства, а также формы и методы деятельности польских и германских спецслужб в межвоенное десятилетие.
Главным участником описываемых ниже событий с польской стороны являлся кадровый сотрудник польской разведки Адам Биеджиньский. Известно, что в годы Первой мировой войны он проходил службу в германской армии, принимал участие в боях на Западном фронте, где был ранен и за проявленную на поле боя храбрость награжден Железным крестом. После провозглашения независимости польского государства он вступил в Войско Польское и, принимая участие в советско-польской войне в должности командира роты, был награжден Крестом Виртути Милитари 5-го класса. После кратковременного обучения на юридическом факультете Познаньского университета он продолжил службу в польских вооруженных силах.
С мая 1924 года Биеджиньский становится кадровым сотрудником 2-го отдела Главного штаба под прикрытием должности в Генеральном комиссариате Польши в Данциге. Действовавшая там разведывательная плацувка под условным наименованием «BIG» входила в состав 2-й экспозитуры польской военной разведки[25]. Около двух лет Биеджиньский исполнял функции офицера связи между аппаратом экспозитуры и ее периферийными заграничными точками в Кёнигсберге, Алленштайне, Берлине.
Приобретенный опыт разведывательной деятельности и знание французского и немецкого языков позволили Биеджиньскому в 1927 году занять самостоятельную должность руководителя отдельной разведывательной точки под прикрытием вице-консульства Польши в Штеттине. Объектом изучения этого разведаппарата являлись военные и военизированные структуры Рейхсвера, расположенные в провинции Померания. Кроме «позитивной» разведки германских военных объектов, в задачи Биеджиньского входила работа по выявлению деятельности штеттинского аппарата Абвера, который со второй половины 20-х годов начал проявлять активность в Польском Поморье. В число первоочередных задач, поставленных начальником данцигской экспозитуры капитаном Альфредом Бинкенмайером перед штеттинской плацувкой, входили: изучение объектов обороны канала «Оберланд» (Эльблонгский), добывание документации о системе радиотелеграфной связи, применяемой в Рейхсвере, и изучение гарнизона г. Штеттина[26].
На решение этих задач была выделена сумма в 80 долларов США (около 700 польских злотых). За относительно короткий промежуток времени Биеджиньский завербовал нескольких агентов и наладил получение текущей разведывательной информации. Так, в начале 1928 года к сотрудничеству был привлечен капитан ВМФ в отставке Мюллер, исполнявший обязанности руководителя Института морских сообщений, который начал поставлять картографические материалы, схемы портовых сооружений Штеттина и Свинемюнде и т. д. Руководством данцигской плацувки в лице Альфреда Бинкенмайера деятельность Биеджиньского всегда оценивалась положительно[27].
О характере получаемой от него информации свидетельствует, например, отчет за февраль 1928 года, в котором положительно были оценены материалы о деятельности морской и военной школ в г. Штеттине и коллекция фотографий базирующихся в городе миноносцев ВМФ Германии (№ 56, 57, 58).
Биеджиньский, пользуясь своим должностным положением и при благожелательном отношении консула Ежи Леховского, за короткий срок смог установить множество полезных контактов во всех слоях германского общества. Например, к числу его знакомых, используемых в качестве доверенных лиц (не агентов), относились: капитан ВМФ в отставке Цалисс, командир взвода саперного батальона Зуппер, сотрудник полиции Олейник, главный редактор местной газеты и депутат прусского парламента Густав Шуман, функционер регионального отделения «Союза ветеранов» Шорлау и другие[28].
Не ограничиваясь вербовочной работой, Биеджиньский активно занимался визуальной разведкой военных объектов Рейхсвера, расположенных в Штеттине и его окрестностях. Этому способствовало его «увлечение» велосипедными прогулками, причем их маршруты составлялись таким образом, чтобы по пути следования располагались интересующие Биеджиньского объекты (мосты, радиовышки, стрельбища и т. д.).
Его активность не прошла незамеченной для германской контрразведки. Весной 1928 года немцами планировались мероприятия по его задержанию, но, благодаря своевременному предупреждению знакомого офицера германской полиции, Биеджиньскому удалось избежать ловушки[29].
После замены в рамках ротации кадров поручик Биеджиньский был направлен в распоряжение Окружного Поморского инспектората пограничной охраны на должность «информационного офицера». В его обязанности входила организация закордонной разведывательной деятельности в интересах 2-го отдела Главного штаба и Корпуса пограничной охраны. Специфической особенностью функционирования института «информационных офицеров» являлась их двойная подчиненность. По вопросам разведывательной и контрразведывательной деятельности они подчинялись 2-му отделу Главного штаба через региональные экспозитуры отдела. По остальным вопросам службы – начальникам инспекторатов. В нашем случае Биеджиньский, находясь в кадрах Корпуса пограничной охраны, в практических вопросах специальной деятельности в качестве агента под криптонимом «406» входил в состав данцигской экспозитуры под командованием капитана Бинкенмайера.
После ликвидации плацувки в г. Черске, вызванной неудовлетворенностью командования результатами ее работы, в конце 1929 года был создан новый офицерский пост под условным названием «Zabore», руководителем которого и был назначен комиссар Биеджиньский. В своем новом качестве он сразу же попал в поле зрения германской разведки после того, как бывший подкомиссар пограничной охраны Францишек Кулиг нелегально перешел границу и стал в качестве агента-вербовщика работать на сотрудника германской разведки Куршнига. В свою очередь, об этом Биеджиньскому стало известно от его агента в Германии.
Руководимый Биеджиньским пост добился неплохих результатов в освещении процессов, происходящих на территории Восточной Пруссии. К зиме 1930 года он руководил работой шести агентов, поставлявших информацию о различных германских организациях и учреждениях. Так, агент под криптонимом «560» работал по «Союзу молодых немцев» (Jungdeutsche Orden) – всегерманской молодежной националистической организации реваншистского толка. Агент «561» освещал деятельность пограничного поста в г. Мариенвердере (ныне г. Квидзын). Агент «557» – германской полиции порядка в том же городе, «2571» – «Союза ветеранов» и т. д. Кроме них в состав агентурного аппарата плацувки входило еще пять «конфидентов» (осведомителей). Всего за 1930 год в вышестоящую экспозитуру было направлено 16 положительно оцененных информационных сообщений и четыре немецких оригинальных секретных документа[30].
Активность польской разведки в Восточной Пруссии заставила Абвер обеспокоиться сложившейся ситуацией и выработать соответствующие контрмеры. В Кёнигсберге было принято согласованное с Берлином решение: путем проведения активных мероприятий надолго парализовать деятельность поляков. Сейчас уже трудно реконструировать последовательность дальнейших событий, приведших к крупному «шпионскому скандалу», омрачившему и без того сложные польско-германские отношения, но остается несомненным сам факт захвата польских разведчиков на германской территории.
Известно, что поляки обратили внимание на бывшего вахмистра немецкой полиции в г. Мариенвердере Бруно Фуде как на возможного кандидата на вербовку. В ходе состоявшегося с польскими пограничниками знакомства Фуде сообщил, что один из его знакомых имеет доступ к важным секретным сведениям и не прочь подзаработать на их продаже, но ставит непременным условием передачу материалов на немецкой территории. Польские источники считают, что «инцидент» на посту Нойхёфен явился следствием провокации, учиненной германской разведкой для осложнения германо-польских отношений, не исключая возможно имевшего место силового захвата с последующей переправкой польских пограничников на германскую территорию[31].
Однако сомнительно, что Биеджиньский, опытный и результативный разведчик, услышав о таком предложении, без соответствующей подготовки бросился бы в авантюру. Скорее всего, выход Фуде на польскую разведку изначально осуществлялся под контролем Абвера в рамках долговременной операции, причем операции, проведенной немцами исключительно профессионально. В пользу такой версии говорит предположение, что ни один сотрудник разведки, а тем более его руководство, не будут планировать столь острую акцию, как захват на своей территории представителей спецслужб противника, не заручившись санкцией на ее осуществление высших государственных инстанций. Учитывая, что на такое согласование требуется много времени, а интерес польской стороны к персоне Фуде нужно было постоянно «подогревать», Абвер «скармливал» ей сведения, представлявшие интерес для польской разведки в рамках оперативной игры, финальным аккордом которой было предложение продать за большую сумму образец противогаза, только что введенного в обращение в Рейхсвере. По воспоминаниям Оскара Райле, поляки были очень заинтересованы в такой покупке[32].
В ночь на 25 мая 1930 года комиссар Биеджиньский вместе со своим помощником Станиславом Лижкевичем скрытно пересекли германо-польскую границу для встречи с Фуде и его знакомым, предложившим к покупке образец противогаза. В считанные секунды участники захвата ворвались в помещение поста, где находились поляки. Началась стрельба. Раненный в живот Лижкевич через несколько дней умер в немецком госпитале. Биеджиньский был захвачен в плен. Один из участников захвата с немецкой стороны Зендер также был тяжело ранен, но выжил.
На следующий день немецкое, как сейчас бы сказали, медийное пространство было «взорвано» новостью номер один. «Ситуация на польской границе невыносима», «Провокация польской разведки», «Убийство на границе» – с такими заголовками на первых страницах вышли номера крупнейших немецких газет.
Польская сторона, в силу понятных причин, не была заинтересована в освещении данного инцидента. Поэтому первые сообщения польских газет отличались крайней лаконичностью. Так, например, «Република» в короткой заметке отметила: «В ночь с 24 на 25 мая около 23.00 на участке границы в Опалене, на правой стороне Вислы, в ходе патрулирования были захвачены два офицера пограничной стражи: подкомиссар Комиссариата повята Гнев Лижкевич и комиссар Биеджиньский.
Захват произошел на польской пограничной территории в то время, когда офицеры отдалились от сопровождавшего их патруля. Похитители открыли огонь, в результате которого, как стало известно, был ранен подкомиссар Лижкевич»[33].
Крупнейшие европейские газеты на него отреагировали в целом спокойно, только упомянув о происшедшем. Другое дело в Германии. На почве информационной шумихи в прессе в обществе развился настоящий психоз. На границе постоянно возникали мелкие инциденты. Командование германской пограничной охраны отдало приказ об усилении охраны границы и немедленном открытии огня в случае обнаружения нарушителей. Например, ловивший рыбу на пограничном озере Ванжинь рыбак Антонин Ольшевский в июне того же года был обстрелян с немецкой стороны.
30 мая 1930 года на пограничном посту в Чойницах трое немцев на глазах польских пограничников перешли границу. Двое вернулись обратно, а один был задержан поляками. На немецкой стороне пограничного поста собралась толпа немцев, которая скандировала обидные для поляков лозунги.
10 июня польские пограничники задержали некоего Францишека Кубацкого, при обыске которого были обнаружены материалы шпионского характера, указывавшие на его участие в операции Абвера по заманиванию Биеджиньского на германскую территорию. Таких случаев в то неспокойное лето было зафиксировано множество[34].
По официальной линии между внешнеполитическими ведомствами двух стран последовала полоса взаимных обвинений, сопровождавшихся политическими демаршами. Уже 26 мая польский посол в Берлине Роман Кноль направил в МИД Германии протест по этому эпизоду. По его результатам было принято решение о проведении совместного расследования. Комиссии из представителей польских и германских властей приступили к работе, соответственно, в Гниве и Мариенвердере. Предложенное польской стороной коммюнике состояло из пяти пунктов:
Агент немецкой разведки, сотрудник полиции Бруно Фуде по заданию своих руководителей заманил комиссара Биеджиньского и Лижкевича на германскую территорию.
Подкомиссар Лижкевич в результате завязавшейся схватки был убит, а Биеджиньский арестован. Переход границы был осуществлен при помощи и в сопровождении сотрудника немецкой полиции Штуллиха, использовавшего свое служебное положение для указанных целей.
Провокация немецкой пограничной охраны не была вызвана ни потребностями обороны, ни потребностями охраны государственной тайны.
Польские пограничники не вступали на территорию Германии.
Они были обстреляны на территории Германии.
Видно, что подготовленное польской стороной в спешке и представленное на рассмотрение межгосударственной комиссии коммюнике было исключительно противоречивым.
Из немецкой версии инцидента следовало, что с осени 1929 года польская разведка начала предпринимать меры по получению секретной документации германской пограничной охраны. Чтобы воспрепятствовать таким попыткам, германская сторона согласилась на «мнимое» сотрудничество. 24 мая Биеджиньский и Лижкевич, вооруженные револьверами и ручными гранатами, нелегально перешли границу и на законное требование властей предъявить документы внезапно открыли огонь. В ходе перестрелки один был убит, а другой ранен.
Биеджиньского после кратковременного лечения в Эльбинге переправили морским путем в тюрьму полицайпрезидиума в Кёнигсберге, откуда в январе 1931 года он был направлен в Берлин, где предстал перед судом военного трибунала. Для оказания помощи польские власти наняли известного адвоката Ашкенази, принимавшего ранее участие в подобных делах. Для освещения перед польским МИД хода судебного процесса и наблюдения за поведением Биеджиньского в Кёнигсберг был направлен сотрудник польского консульства. Это имело большое значение для возможной организации обмена комиссара на арестованных польской контрразведкой немецких агентов[35].
Прокурор обвинил Биеджиньского в шпионаже, нелегальном переходе границы, вооруженном сопротивлении и покушении на убийство. Адвокат Ашкенази не смог опровергнуть обвинение в шпионаже, так как при убитом Лижкевиче была обнаружена инструкция по организации разведывательной деятельности в Германии, подписанная псевдонимом «Линдау». В ходе заслушивания Биеджиньский признал, что инструкция написана им, а «Линдау» – его рабочий псевдоним. Выступивший в качестве свидетеля обвинения «эксперт» из Рейхсвера указал, что Биеджиньский давно находился в поле зрения германского Абвера как сотрудник польской разведки.
Польский представитель отмечал, что в целом судебный процесс проходил ровно, несмотря на попытки прокуратуры придать делу «политический оттенок». Поведение Биеджиньского также было оценено положительно, как «рыцарское», не нанесшее ущерб интересам Речи Посполитой. Суд приговорил Биеджиньского к десяти годам тюремного заключения по всем обвинениям, доказанным в ходе процесса. Приговор не подлежал апелляции. Отбывать наказание поляк должен был в тюрьме Лукау (земля Бранденбург).
После завершения судебного процесса практически сразу же начались зондажи по вопросу обмена Биеджиньского на ранее осужденных и задержанных германских агентов. Первым в списке значился арестованный польской контрразведкой Бруно Фуде. Позже к списку были добавлены еще три немецких полицейских, арестованных в Польше по обвинению в шпионаже. Размах арестов был таков, что дело Биеджиньского стало своеобразной школой по выработке механизмов взаимного обмена арестованными шпионами.
На межгосударственном уровне начались переговоры об обмене между начальником Западного отдела политико-экономического департамента МИД Польши Юзефом Липским и германским послом в Варшаве Ульрихом Раушером. Целью переговоров являлось снижение напряженности в германо-польских отношениях, вызванных инцидентом на посту Нойхёфен. 30 июля 1930 года было достигнуто «джентльменское соглашение» о возможном обмене Биеджиньского на Фуде.
Примечательно, что поляки относительно быстро провели следствие по делу Фуде и приговорили его к 11 годам заключения. Аналогия с делом Биеджиньского была явная. В соответствии с «джентльменским соглашением», обмен осужденными должен был состояться уже осенью 1931 года. Однако германская сторона пересмотрела свое первоначальное решение, признав, что обмен кадрового сотрудника польской разведки на второстепенного агента не выглядит равноценным, несмотря на то обстоятельство, что, как считал начальник польского реферата германского МИД Вилли Нобель, немецкая сторона «испытывает моральную ответственность за судьбу Фуде»[36].
Поляки испытывали значительные затруднения, вызванные пониманием того факта, что в их распоряжении к тому времени не было персон такого уровня, как Биеджиньский, которых можно было обменять на него. Они также отдавали себе отчет в том, что, в случае успешного проведения подобной акции по захвату германских агентов, это приведет к равнозначным мерам с германской стороны и вызовет очередной взлет напряженности в межгосударственных отношениях. Но тем не менее они сознательно пошли по этому пути.
Первым был арестован сотрудник германской криминальной полиции из г. Намслау Антон Прейсс, неосторожно перешедший границу в Верхней Силезии. Польский суд незамедлительно приговорил его к шести годам заключения за шпионаж. Несколько позже были арестованы немецкие полицейские Ян Август Коппенат, сопровождавший транзитные поезда, и капитан охранной полиции Эдинхард Ноцны[37].
Во время задержания и последующего следствия Коппенат был морально сломлен и не смог отрицать, что изъятые у него записки можно расценивать как шпионские. О его работе на Абвер с 1926 года польской стороне было известно ранее, но добывание доказательств процессуальным путем было затруднено.
В Германии тем временем продолжалась кампания в прессе под лозунгом «Польского судебного террора». Повсеместно раздавались требования о принятии адекватных мер в отношении поляков.
Камнем преткновения в переговорах между внешнеполитическими ведомствами двух стран стало пресловутое «джентльменское соглашение» об обмене Биеджиньского на Фуде. Дело в том, что к тому времени германский посол в Варшаве Раушер уже умер, что придало дальнейшим переговорам некоторый скандальный оттенок, когда германская сторона под предлогом отсутствия некоторых деталей о ходе тогдашних бесед между Липским и Раушером «притормаживала» дальнейшие переговоры.
В конце концов решение об обмене было принято окончательно, и комиссар Биеджиньский 18 мая 1932 года пересек польско-германскую границу по мосту в Збанчжине – традиционном месте обмена политическими заключенными. В обратном направлении границу перешли Прейсс и Фуде. Прецедент этой трансакцией был создан. И сразу же активно продолжились переговоры по вопросу обмена Ноцны и Коппената, которые быстро были завершены. 12 июля 1933 года в том же месте состоялся их обмен на агентов польской разведки Руфина Зерника, Адольфа Бахнера и Чеслава Дзеха.
Примечательно, что последний, сотрудничавший с экспозитурой 2-го отдела в Млаве еще с 1919 года, в двадцатые годы, до своего ареста, руководил группой из пяти агентов в Данциге.
«Инцидент на посту Нойхëфен» был одним из самых громких дел подобного рода в межвоенное двадцатилетие[38]. Германские спецслужбы, «набив на нем руку», использовали приобретенный опыт в будущих акциях по захвату кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, крупнейшей из которых стал так называемый «инцидент в Венло», когда в результате крупномасштабной операции СД и Абвера были захвачены руководители двух независимых друг от друга резидентур английской разведки.
Успехи и поражения майора Жихоня
В 1930 году капитан Жихонь получил новое назначение во вновь созданную Экспозитуру № 3 в г. Быдгоще. Этот территориальный аппарат польской разведки возник не на пустом месте. Указанная структура по решаемым задачам и территории разведывательного изучения в целом стала преемницей познаньской экспозитуры, существовавшей с 1921 года, когда, в свою очередь, она стала преемницей разведывательных, контрразведывательных и информационных служб Великопольского фронта, расформированного после окончания боевых действий[39].
Перевод аппарата в г. Быдгощ был вызван необходимостью совершенствования разведывательной деятельности в пределах Восточной Пруссии и Вольного города Данцига. Но такое решение было неоднозначно воспринято практиками польской разведки. Одни считали передислокацию благотворной мерой, сказавшейся на повышении эффективности работы, другие – что перевод территориального органа, а особенно подчиненных ему постерунков, ближе к границе привел к тому, что экспозитура сама оказалась под прицелом Абвера.
В соответствии с новым распределением зон разведывательного изучения за Экспозитурой № 3 были закреплены: территория Восточной Пруссии, город Данциг, Западное Поморье (Западная Померания), район, ограниченный с севера рекой Вартой и железнодорожной веткой Познань – Берлин.
В качестве региональных приграничных отделений экспозитуры в городах Познань, Грудзендз, Староград, Млава, Лешне (с 1939 года), Белосток, Пиль и Квидзын были сформированы номерные офицерские посты (постерунки офицерски).
Главную роль в организации процесса добывания разведывательной информации и противодействия германским спецслужбам играл неутомимый капитан Жихонь. Официальная должность прикрытия сотрудника комиссариата Второй Речи Посполитой в Данциге позволяла ему длительное время проживать в городе.
Сразу же по приезде в Данциг Жихонь подвергся целенаправленной информационной травле, развязанной германской прессой. В националистической газете «Грейсвальдер Цайтунг» (Greiswalder Zeitung) была опубликована статья, в которой достаточно обстоятельно и правдиво было освещено участие Жихоня в деле Отто Улитца и сделан вывод о том, что назначение в Данциг явилось следствием признания его разведывательных заслуг. Там же содержались сведения о предшественниках Жихоня – Кароле Дубич-Пентере и капитане Биркенмайере, которые якобы скомпрометировали себя кражей документов данцигской полиции и германского консульства[40].
Первая из известных характеристик Жихоня была дана ему одним из руководителей Генерального комиссариата Польши в Данциге Романом Водзицким: «Новый шеф сухопутного отделения капитан Ян Жихонь, достигнувший тогда только 26 лет, выглядел как человек значительно старше своего возраста, имевший большой жизненный опыт. Несмотря на в целом правильные черты лица и крепкое телосложение, ничто в его облике не поражало. Хотя он и любил изображать из себя этакого грубоватого рубаху-парня, будто бы находящегося в приподнятом настроении от выпитого алкоголя и сыпавшего остротами в духе хулигана из краковского предместья, в Жихоне всегда чувствовался какой-то тяжелый, готовый к взрыву заряд энергии.
Так сложилось, что я с детства знал семью доктора Жихоня из Закопан – дядю капитана. К моему удивлению, он не поддерживал никаких контактов не только со своим дядей, но и отцом – скромным железнодорожным служащим в… Гданьске»[41].
Другая характеристика нашего героя выглядит не столь привлекательной. Польский публицист Станислав Струмп-Войткевич, лично знавший Жихоня, отмечал, что в общении с людьми он демонстрировал манеры «подхалянского» крестьянина, а его натуре были чужды какие-либо этические ограничители. Он писал: «Среди элегантных и воспитанных штабных офицеров Жихонь выделялся нетерпимым и провокационным поведением и неряшливостью в одежде. Он был известен экстравагантными поступками, совершаемыми в процессе выполнения служебных обязанностей и остроумным высмеиванием своих начальников»[42].
Капитан Жихонь не был кабинетным руководителем, только отдающим приказы и контролирующим ход их выполнения. Он лично проводил самые ответственные и рискованные вербовки и «вел» завербованных им агентов дальше, неизменно демонстрируя оперативную изобретательность и везение. Его профессиональный почерк был в своем роде неповторим и заключался в холодном расчете, просчитывании возможных ходов противника, сочетании агрессивной и напористой манеры поведения и общения. Он не был чужд обыкновенным офицерским «радостям». С удовольствием посещал рестораны, кафешантаны, «нахт-локали».
Познакомившись в одном из таких заведений с некоей Лотой, он встречался с ней, втайне от жены, на одной из своих конспиративных квартир в Данциге, где в другое время принимал своих же агентов. Понятно, что эта квартира была окружена плотным наблюдательным кольцом со стороны германской контрразведки.
Жихонь мог явиться на встречу с важным агентом или своим противником из Абвернебенштелле «Данциг» Оскаром Райле пьяным, мог в польском военном мундире перед стенами данцигского полицайпрезидиума распевать «Jeszscze Polska nie zginela», но под личиной этакого бесшабашного «рубахи-парня» скрывался целеустремленный и хладнокровный офицер разведки[43].
Как минимум о странном отношении Жихоня к соблюдению требований конспирации говорят эпизоды, описанные в воспоминаниях его противника – Оскара Райле[44].
После назначения на новый пост в 1930 году Жихонь с санкции Центра провел ряд организационных мероприятий, направленных на совершенствование разведывательной и контрразведывательной деятельности. Структура Экспозитуры № 3 за 1930-е годы не претерпела серьезных изменений. В ее состав входило 5 функциональных рефератов (отделений), в которых было задействовано от 30 до 35 сотрудников. В непосредственном подчинении у Жихоня находилось два его заместителя – майор Чеслав Яницкий и майор Витольд Лангенфельд, руководивших одновременно основными рефератами органа.
Ведущую роль в деятельности экспозитуры играл организационно-разведывательный реферат (майор Лангенфельд), сотрудники которого в количестве до семи человек и сами занимались агентурной деятельностью, и руководили работой подчиненных ей офицерских постов[45].
Первичной оценкой и анализом поступающих материалов занимался исследовательский реферат, готовивший итоговые сводки для направления в Центр.
Контрразведывательный реферат занимался организацией и проведением закордонных контрразведывательных мероприятий, направленных на агентурное проникновение в спецслужбы Германии. Через перевербованных немецких и «подставленных» на вербовку немцам своих агентов реферат проводил многочисленные оперативные «игры». С 1936 года этим рефератом в количестве пяти сотрудников руководил ротмистр Ян Каминьский, позже – ротмистр Витольд Сынорадский.
Характер деятельности этого подразделения предопределил высокий уровень взаимодействия с территориальным контрразведывательным органом 2-го отдела Главного штаба – отдельным информационным рефератом (SRI) штаба VIII округа, дислоцированного в г. Торуне. Кроме оперативной деятельности, на контрразведывательный реферат возлагались информационно-справочные задачи. В нем были сосредоточены оперативные учеты, включая данные на всех фигурантов шпионских дел и их связи.
Специфической особенностью функционирования экспозитуры являлось своеобразное сочетание «позитивной» (офензивной) разведки с внешней контрразведкой. Это было вызвано множеством факторов, обусловленных относительно небольшим районом противоборства с германской разведкой, ограниченного территорией Данцига. Последний, в силу своего географического положения и международного статуса Вольного города, являлся местом, где начиналось и проводилось большинство оперативных мероприятий противоборствующих сторон.
Чтобы избегать ненужного параллелизма в работе, нецелесообразного расходования денежных средств, а также совершенствовать механизмы взаимодействия с военными и гражданскими властями, Жихонь большое внимание уделял разграничению сфер компетенции и ответственности подчиненных ему подразделений.
Одним из наиболее результативных приграничных постов быдгощской экспозитуры был постерунок офицерский в Млаве. До вхождения в 1930 году в ее состав этот аппарат подчинялся самостоятельной экспозитуре «BIG», действовавшей под прикрытием польского комиссариата в Вольном городе. В 1931 году офицерами постерунка к сотрудничеству было привлечено 20 человек, в числе которых было несколько ценных и особо ценных агентов[46].
Так, под криптонимом «673» с этого времени активно начал действовать сотрудник германской пограничной охраны Эрнст Тормелен. По роду своей деятельности он имел доступ к сведениям разведывательного характера и за соответствующее денежное вознаграждение делился ими с капитаном Жихонем. Другой ценный агент постерунка Фриц Кювнинг («675»), будучи по профессии архитектором, поставлял важные материалы по вопросам фортификационного строительства Хайльсбергско-Бартенштайнского оборонительного узла, очень интересовавшего в то время польскую разведку[47].
Но не все завербованные в Германии агенты отвечали предъявляемым к ним требованиям. Например, материалы, поставляемые Адольфом Янушкевичем («672») и Эрихом Галлом («674»), в полном объеме не устраивали Жихоня по причине их «корреспондентского» характера. По разным причинам от вербовок целого ряда кандидатов (Францишек Рафиньский, Бернхард Зелиньский, Густав Буковский и др.) вообще пришлось отказаться.
С 1932 года в г. Цехануве при окружном инспекторате пограничной стражи под командованием поручика Станислава Делингера был сформирован постерунок офицерский № 7.
Но не только успехи сопровождали деятельность Жихоня и его подчиненных. Германская контрразведка за 1933 год сумела выявить и арестовать восемь агентов экспозитуры, включая трех ценных («501», «516», «1130»). Кроме них было расшифровано еще восемь агентов и пять кандидатов на вербовку, часть из которых Жихонь был вынужден либо уволить, либо направить в другие районы. Такие неудовлетворительные результаты работы стали предметом всестороннего анализа. Начало «оздоровлению» было положено с ревизии агентурного аппарата экспозитуры. Так, из 120 агентов и конфидентов, замыкавшихся на нее ранее, только с 70 была продолжена работа[48].
Всестороннему анализу были подвергнуты результаты деятельности экспозитуры за 1933 год. Жихонь в отчетной документации признавал, что за указанный период не удалось добиться положительных сдвигов по освещению противостоящих ему разведывательных структур Абверштелле «Штеттин» и «Остпройссен». Полученная информация о кадрах, местах дислокации, о формах и методах их работы была отрывочна и противоречива. По словам Жихоня, только по счастливой случайности удалось избежать ареста агента ПО № 6, деятельность которого была вскрыта германской контрразведкой.
Также была оценена работа по проникновению в органы германской пограничной и криминальной полиции. Первичная информация о формировании в Шнейдемюлле новой немецкой разведывательной школы подтверждена не была. Такие оценки были даны Жихонем каждому из подчиненных ему постерунков и высказаны рекомендации по устранению недостатков в их работе. Положительно оценены были результаты операции «Тетка», вербовка аппаратом ПО № 7/1 агента и получение от него ценных сведений о деятельности германских пограничных и таможенных органов и ряду других[49].
Из отчетной документации Экспозитуры № 3 за 1933 год следовало, что ее агентурный аппарат состоял из 59 агентов, распределенных по разным направлениям деятельности и объектам агентурного проникновения. Из них в частях Рейхсвера действовало 5 агентов, в военизированных организациях (СА, СС, таможне, полиции и т. д.) – 16, на объектах промышленности, транспорта, связи – 3, в политических организациях – 5 и т. д.[50].
В связи с расширением спектра решаемых задач и для повышения эффективности работы подчиненных экспозитуре постов 30 ноября 1935 года Жихонь подписал «Инструкцию по организации и работе постерунков офицерских Экспозитуры № 3, 2-го отдела Главного штаба», в которой подробно излагались все требования к организационной и практической работе Быдгощского разведывательного аппарата. Все старые и вновь созданные плацувки получили новые номерные обозначения по местам их дислокации: постерунки офицерские № 1 (г. Млава); № 2 (г. Гдыня); № 3 (г. Грудзендз); № 4 (г. Данциг); № 5 (?); № 6 (г. Познань); № 7 (г. Белосток).
В служебной переписке с экспозитурой вплоть до начала войны и использовались такие условные обозначения. Например, ПО № 3 Экспозитуры № 3, 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. Исключение было сделано для ПО № 4, обусловленное отличиями в характере разведывательной и контрразведывательной работы этого поста от других «внутренних» плацувок. В официальном делопроизводстве он назывался «Сухопутный реферат военного отдела Генерального комиссариата Речи Посполитой в Вольном городе Данциге».
Инструкцией было предусмотрено расширение прав и компетенции заместителя начальника этого разведывательного аппарата путем закрепления за ним должности заместителя начальника «Сухопутного реферата». Формально же обязанности начальника реферата и, соответственно, постерунка исполнял сам майор Жихонь. Тем самым перед властями города ему и подчиненным офицерам был обеспечен иммунитет от уголовного и административного преследования.
Поле боя – Данциг
Для того чтобы обрисовать характер работы польской разведки в Данциге, необходимо сказать несколько слов о самом городе и тех возможностях, которые его статус и месторасположение предоставляли для разведывательной деятельности 2-го отдела в 1920–1930-е годы. Далеко не полное перечисление государственных, специальных и партийных институций в Данциге, их развитие в динамике позволит нам понять, насколько сложной была работа польской разведки по отслеживанию происходящих в них процессах и агентурному внедрению в их среду.
В то же время большой европейский город был буквально создан для того, чтобы стать «полем битвы» германской и польской разведок. Безвизовый режим пересечения границы гражданами Польши позволял кадровым сотрудникам и агентуре 2-го отдела Главного штаба относительно свободно чувствовать себя в Данциге. Развитая транспортная инфраструктура способствовала их перемещению через границу и внутри зоны Вольного города без особых проблем, снимая большинство ограничений, налагаемых на операции по поддержанию связи между разведчиками.
Но такая благоприятная ситуация порой играла злую шутку с участниками различных оперативных мероприятий. Так, 22 января 1934 года произошел трагикомичный случай, вызвавший множество хлопот у поляков и заставивший их серьезно озаботиться безопасностью проводимых в Данциге операций. В тот день при конвоировании заключенного Леона Виллера польский полицейский Бернард Коповский, решив сэкономить время и вопреки приказу своего руководства, проследовал через территорию Данцига. Нужно сказать, что Виллер был не простой уголовник, а лицо, обвиняемое в шпионаже в пользу Германии. Его-то полицейский и должен был доставить на заседание суда в г. Гдыню.
На границе зоны Вольного города Виллер, воспользовавшись замешательством Коповского, предпринял попытку побега. Во время завязавшейся потасовки он выпал на перрон и поднял крик, на который сбежалось множество зевак. Как и полагается, на шумное сборище через короткое время появились немецкие полицейские, которые, выяснив в чем дело, под предлогом оказания медицинской помощи забрали Виллера с собой. Ясно, что последний был очень доволен таким завершением истории. Вместо положенных ему по приговору суда семи лет заключения за шпионаж в Данциге он приобрел долгожданную свободу[51].
Наличие значительного числа этнических поляков и смешанных браков благоприятствовало тому, что вербовочная база для польской разведки была поистине неисчерпаемой, и только мастерство вербовщиков и лимит денежных фондов, отпускаемых на разведывательную работу, служили естественными ограничителями при создании агентурного аппарата.
Так, в своих послевоенных воспоминаниях бывший руководитель Абвернебенштелле «Данциг» Оскар Райле описывает историю некоего унтер-офицера Коха, который, проходя службу в строевой части, был в 1924 году откомандирован для исполнения секретарских функций в распоряжение Абверштелле «Остпройссен» в Кёнигсберге. Он инициативно через посредника установил контакт с представителем польской разведки и предложил свои услуги в качестве ее информатора о деятельности Абвера. В этих же целях он завербовал двух своих сослуживцев – радистов Абверштелле. Многообещающая для 2-го отдела Главного штаба Войска Польского операция была сорвана путем ареста немцами посредника Коха, у которого при личном досмотре были обнаружены материалы разведывательного характера с реквизитами кёнигсбергского аппарата Абвера. Кох же, по недосмотру сотрудников последнего, сумел бежать в Польшу и был арестован только в 1937 году. В процессе «разбора полетов» выяснилось, что он был по своему происхождению наполовину немцем, наполовину поляком. Райле так комментирует ситуацию: «И все же в случае с Кохом нельзя ограничиться моралью, что “любой предатель не уйдет от расплаты”. Отец его – немец, мать – полька. Где же находилось его Отечество?.. Таких примеров, как Кох, было множество»[52].
Две родные сестры – участницы крупнейшей операции Жихоня, о которой речь пойдет ниже, Паулина Тышевская и Францишка Бруцкая, по личным документам значились одна – немкой, другая – полькой. И таких примеров можно привести множество.
Аналогично складывалась ситуация с вербовочной базой германской разведки. Тот же Райле описывает свои впечатления от первой встречи с польским инициативником поручиком Павлом Пионтеком: «Так, в марте 1926 года я познакомился с Пионтеком – высоким, стройным блондином ослепительной внешности. Любой принял бы его за прусского офицера, носи он немецкую форму. Пионтек к тому же хорошо говорил по-немецки. Среди его предков были не только поляки, но и немцы… Он тоже не обрел своей Родины ни в Польше, ни в Германии»[53].
Сам город с его многочисленными гостиницами, пансионатами, ресторанами, локалями позволял проводить встречи участникам операций, не опасаясь попасть «под колпак» германской контрразведки, естественно, при соблюдении жестких требований конспирации. Конфигурация кварталов и улиц старого города позволяла им легко уходить от слежки, а потом и вовсе «затеряться» среди нагромождения домов.
Эти и другие факторы предопределили сам характер специальной деятельности, проводимой Жихонем и его подчиненными, особенностью которой стало нестандартное сочетание «позитивной» и «негативной» разведки.
По результатам Версальских договоренностей в 1920 году Данциг был объявлен Вольным городом, находившимся под общей юрисдикцией Лиги Наций. При этом странами-победительницами Польше было предоставлено много важных «бонусов», таких как право представлять интересы граждан Данцига за пределами Польши и Германии, право иметь на территории города свои представительства, включая военные. Так называемые «неотъемлемые права» Польши также включали в себя право взимания таможенных пошлин (город входил в зону польской таможенной юрисдикции), право иметь транспортные, почтовые, телеграфные учреждения и т. д.
Данциг был традиционным немецким городом. Несмотря на космополитический характер, обусловленный его ганзейским прошлым, подавляющее большинство жителей были немцами, а число этнических поляков никогда не превышало 10 %. Понятно, что Германия не могла смириться с таким положением, когда ее интересы, прежде всего экономические, постоянно нарушались.
В октябре 1930 года на должность главного руководителя НСДАП (позже – гауляйтера) был назначен молодой и перспективный нацист Альберт Форстер. В Вольный город его направил лично Гитлер с неограниченными полномочиями в области партийного строительства. Организаторские способности Форстера и складывающаяся в пользу нацистов политическая обстановка позволили ему за один год довести численность членов НСДАП с 1310 до 5620 человек. К его приезду партия, имевшая в местном парламенте всего лишь одно место, к маю 1933 года имела уже 28 мандатов[54].
Нацистское руководство всегда заявляло о необходимости решения проблемы Данцига путем включения его в состав Третьего Рейха. Наряду с государственной принадлежностью Верхней Силезии, это было, по существу, камнем преткновения в польско-германских отношениях за все межвоенное двадцатилетие. Практические действия в этом направлении стали осуществляться начиная с 1935 года. На апрельских выборах в Фолькстаг НСДАП получила 42 мандата (58,7 % голосов), что, однако, не позволило нацистам внести изменения в Конституцию города, предусматривающие такую меру, как формальное провозглашение вхождения Данцига в состав Германии[55].
Параллельно шло наращивание «силовой составляющей» в виде различного рода нацистских военизированных формирований. Если ко времени прибытия в город нового руководителя НСДАП число членов штурмовых и охранных отрядов едва достигало ста человек, то к весне 1933 года их уже было более четырех тысяч. Тогда же они были включены во вновь сформированные 36-й полк (штандарт) СС и 6-ю бригаду СА. Полком командовал в будущем оберфюрер СС Александер Райнер, а командиром последней был назначен бригадефюрер СА Макс Линсмайер, уволенный несколько позже в связи с громким шпионским скандалом.
Зимой 1933 года в Данциге был создан XXVI округ СС (Абшнитт), объединивший все структуры СС и замыкавшийся на региональный Оберабшнитт «Норд-Ост» в Кёнигсберге.
Увеличение численности членов СС к следующему году привело к формированию еще одного – 71-го – полка (СС-Штандарт), в который были включены все специализированные службы: моторизованные, кавалеристские, связи и т. д. Его командиром был назначен оберштурмфюрер СС Франц Банах[56].
Процесс «фашизации» действующего административного аппарата Вольного города также шел по нарастающей. После майских выборов 1933 года президентом Сената был избран Герман Раушнинг. По своим политическим воззрениям он не принадлежал к нацистам, но был вынужден приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке. Используя свой пост, Раушнинг как мог противился принятию Сенатом города нацистского антиеврейского законодательства, и нужно сказать, что до 1937 года это ему вполне удавалось.
Но к 1935 году должность президента Сената уже потеряла свое значение, так как фактическая власть уже полностью перешла к гауляйтеру Форстеру и его заместителю Артуру Грейзеру, в иерархии СС носивших чины, соответственно, группенфюрера и бригадефюрера СС. К 1934 году они оба входили в высшую «номенклатуру» СС на правах членов штаба рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
Местная полиция, целиком состоявшая из этнических немцев, подчинялась полицайпрезиденту Данцига Гельмуту Фробессу, который, наряду с Форстером и Грейзером, являлся одним из ключевых деятелей по насаждению нацистами «нового порядка». Под его руководством в 1933 году находилось 1206 чинов охранной полиции (шутцполицай) и около 200 чиновников, работавших в подразделениях криминальной полиции (криминальполицай). В случае необходимости численность охранной полиции могла быть увеличена за счет так называемой «Хильфсполицай» – добровольной внештатной службы полицейского резерва. Начальником шупо Данцига в описываемый период был полковник полиции Вилли Бетке[57].
В состав криминального отдела полицайпрезидиума входило отделение политической полиции (1А), решавшее задачи борьбы с оппозиционными партиями и другими общественными образованиями антинацистской направленности, включая польские. Неофициально, но весьма активно этот отдел занимался разведывательной и контрразведывательной деятельностью. В 1934 году из Берлина «на усиление» данцигской криминальной полиции было направлено десять чинов гестапо во главе с Куртом Гретцнером, который под руководством Фробесса и взял на себя выполнение самой «грязной работы».
Кроме полицейских служб, в Данциге с 1923 года действовало отделение Абверштелле «Остпройссен» (позже «Кёнигсберг»), а с 1937 года местное представительство «внешней» (разведка) Службы безопасности (СД) нацистской партии[58].
Механизмы насаждения «нового порядка» в Данциге принципиально ничем не отличались от других городов Германии. Его единственной отличительной особенностью являлось то, что борьба с внутренней германской оппозицией проходила параллельно с нейтрализацией польского влияния, обеспеченного «исключительными» правами Польши в Вольном городе, предусмотренными Версальским мирным договором.
К зиме 1937 года в кадровом составе данцигского округа СС произошли изменения, заключавшиеся в ротации сотрудников и назначении на руководящие должности новых лиц. Начальником Абшнитта был назначен бригадефюрер СС Бертольд Маак, а его заместителем – штандартенфюрер СС Вильгельм Хут, одновременно исполнявший обязанности вице-президента Сената.
Кроме двух полков СС и бригады СА, начальнику штаба подчинялись отдельные роты (штурмы) СС (именная «Пауль Фрессонке», телефонно-телеграфная, саперная), два кавалерийских эскадрона. Командиром 36-го полка СС был назначен оберштурмбанфюрер СС Манфред Кëрних, а 71-го – штурмбанфюрер СС Макс Паули.
Во второй половине следующего, 1938 года вместо Маака начальником Абшнитта был назначен бригадефюрер СС Йоханнес Шеффер, до этого служивший командиром 18-го полка СС в Кёнигсберге. А командиром 36-го полка СС был назначен прибывший из Германии оберштурмфюрер СС Курт Эйман[59].
В силу политических соображений до 1939 года нацисты не афишировали подготовительную работу по формированию регулярных частей Вермахта. «Отмашка» была дана лишь весной 1939 года, когда прибывший из Германии генерал Фридрих Эберхард на территории Данцига приступил к формированию пехотной бригады в составе двух полков (243-й, 244-й пехотные), закамуфлированной под условным наименованием «Ландесполицай». По мобилизационным планам Вермахта эта бригада должна была действовать в составе 3-й армии под командованием генерала фон Кюхлера[60].
Но главные объекты разведывательного «мониторинга» Жихоня располагались все же не в Данциге. Основное внимание польской разведки было обращено на части и соединения Вермахта, дислоцированные на территории Восточной Пруссии и Северной Померании как будущих театров военных действий.
В соответствии с Версальскими договоренностями, Восточная Пруссия была отделена от основной части Германии Польским Поморьем, имеющим выход к Балтийскому морю на участке в 172 километра. С востока она граничила с Литвой на протяжении 245 километров сухопутной и водной границы. А с запада и юго-запада протяженность польско-германского участка границы достигала 607 километров, из 1912 километров общей польско-германской границы.
В пределах Восточной Пруссии проживало более двух с половиной миллионов человек, из которых более 80 % были немцами, а остальные принадлежали к этническим полякам и литовцам, причем подавляющее их большинство было в значительной мере германизировано.
Кроме быдгощской экспозитуры и плацувок, замыкавшихся в своей работе на реферат «Запад», активную специальную деятельность на территории Данцига и Восточной Пруссии проводила специализированная Экспозитура № 2, расположенная в Варшаве. Отличие этого формирования от других подобных ей по названию структур заключалось в том, что она, строго говоря, не относилась к территориальным аппаратам разведки, а являлась головным органом, планировавшим и осуществлявшим диверсионно-повстанческую деятельность в масштабах всего 2-го отдела Главного штаба Войска Польского.
Эта экспозитура, кроме проведения широкомасштабной работы по инспирированию национально-сепаратистского движения в СССР в рамках операции «Прометей», в Германии занималась организацией конспиративных ячеек, призванных, в случае начала войны, развернуть активную диверсионную деятельность в тылу противника.
Сложная история взаимоотношений поляков и немцев на протяжении нескольких столетий привела к тому, что население приграничных областей отличалось крайне неоднородным этническим составом. Из примерно 2,5 миллиона человек, проживавших в Восточной Пруссии, около полумиллиона владели польским языком, около десяти тысяч идентифицировали себя как поляки. В силу различий, обусловленных конфессиональной принадлежностью, укладом жизни, диалектами польского языка и т. д., поляки – жители Восточной Пруссии – делились на две неоднородные по численности группы: «вармяков» и «мазуров». Первые, будучи католиками, не так сильно подверглись германизации, как мазуры, являвшиеся в большей части протестантами.
Практики польской разведки для решения своих задач делали ставку на вармяков, справедливо полагая, что принадлежность к католицизму будет служить одним из прочных мотивов возможного сотрудничества. Сотрудники Экспозитуры № 2, работавшие по Восточной Пруссии, в начале своей деятельности ориентировались на остатки польских общественных организаций, таких как «Союз поляков Вармии», «Объединение поляков в Штуме», «Союз молодежи Вармии» и др[61].
Несколько позже при непосредственной финансовой и организационной помощи Экспозитуры № 2 было создано «Объединение уроженцев Вармии, Мазур, Земли Мальборкской», призванное быть своеобразным мостом между поляками, проживавшими по обе стороны границы. Польская разведка использовала активистов этих организаций, из которых и подбирались кадры будущих руководителей разведывательно-диверсионных ячеек. Работа с этой категорией поляков – граждан Германии – на первом этапе заключалась в вовлечении их в общественную работу путем организации различного рода кружков и обществ «по интересам». Но по причине организационной слабости этого объединения польская разведка сделала ставку на другие, более дееспособные организации, такие как «Союз обороны восточных границ» и «Союз поляков», в состав которых входило множество бывших польских подпольщиков. Из этой категории граждан подбирались будущие руководители подпольных диверсионных ячеек, призванных в случае начала войны организовать зафронтовую специальную деятельность.
Если посмотреть на довоенную карту Восточной Пруссии и Польского Поморья, даже человеку, далекому от военной теории, станет ясно, что конфигурация этого участка польско-германской границы крайне невыгодна для польской стороны. Она «нависает» над северной и северо-восточной частью Польши, заставляя ее командование в случае войны создать группировку, способную устранить угрозу флангового удара главным силам Войска Польского на западе.
Планы ведения войны с Германией польским командованием в межвоенное двадцатилетие неоднократно подвергались изменениям в зависимости от изменений военно-политической обстановки и роста военного потенциала Германии.
В 1920-е годы польское командование считало возможным вести наступательные действия и на западе страны, и в Восточной Пруссии, несмотря на связанные с этим планом сложности. Оно считало, что для успешного ведения наступательных действий в направлении Восточной Пруссии было необходимо от 138 до 277 дивизий, что многократно превышало мобилизационные и технические возможности тогдашнего Войска Польского. В ходе состоявшихся франко-польских штабных переговоров польская сторона констатировала, что в случае начала войны к активным наступательным действиям она может приступить на 12-й день с начала всеобщей мобилизации главными силами в направлении Восточной Пруссии, при условии, что основные военные действия будут вестись во Франции. В таком случае надежды на успех заметно бы возросли[62].
К числу неблагоприятных для такого наступления факторов польский штаб относил:
– развитую транспортную инфраструктуру Восточной Пруссии, позволявшую германскому командованию быстро осуществлять переброску войск втайне от противника, что в условиях маневренной войны было решающим фактором успешного ведения боевых действий;
– наличие имевшихся и возможно планируемых к возведению многочисленных фортификационных сооружений;
– наличие крайне неудобного для наступательных действий рельефа местности, включая большое число водных преград, особенно в районе Мазурских озер, позволявших противнику обороняться незначительными силами, и т. д.
По мере роста военного потенциала Германии польский Главный штаб при планировании боевых операций был вынужден отказаться от наступательных действий как средства ведения войны[63].
До провозглашенного Гитлером в 1936 году отказа от ограничений Версальского договора на территории Восточной Пруссии было дислоцировано относительно немного кадровых воинских частей. Соединения Рейхсвера – Вермахта, расположенные в провинции к 1937 году, состояли из 1-й (Кёнигсберг), 21-й (Эльбинг), 61-й (Инстербург) пехотных дивизий и 1-й кавалерийской бригады. Дополнительную вооруженную силу составляли также различного рода военизированные формирования милицейского типа.
В этой связи основные усилия Экспозитуры № 3 в Западном Поморье и Восточной Пруссии были направлены на изучение процесса военного строительства на этих территориях и будущего театра военных действий.
Противники майора Жихоня
Основным игроком на поле битвы разведок и, соответственно, главным противником Жихоня и возглавляемой им экспозитуры являлись аппараты Абвера в Кёнигсберге и Штеттине и их территориальные представительства, расположенные в других городах Восточной Пруссии и Западной Померании. Абверштелле «Остпройссен» был создан еще в 1921 году как контрразведывательный орган, призванный обеспечивать безопасность сначала двух, а потом и трех пехотных дивизий и одной кавалерийской бригады Рейхсвера, дислоцированных в провинции. Расширяя пределы своей компетенции, он уже во второй половине 1920-х годов стал головным территориальным органом германской военной разведки на Востоке. Несмотря на крайне малочисленный штат кадровых сотрудников, насчитывавший вплоть до 1936 года не более семи человек, он добился больших успехов в разведывательном изучении восточных регионов Польши и ее вооруженных сил[64].
Залогом успешной работы Абверштелле, кроме чисто объективных факторов (смешанное население, относительно свободное перемещение жителей через границу, наличие Данцига как базы для ведения разведки и т. д.), являлся качественный подбор кадровых сотрудников, со временем ставших в своей области большими профессионалами. Многие выходцы из восточнопрусского аппарата Абвера со временем заняли руководящие должности не только в разведке, но и командные в частях Вермахта.
Незначительность кадрового состава АСТ была компенсирована массовым использованием бывших сотрудников германской разведки и контрразведки времен Вальтера Николаи в качестве внештатных резидентов, вербовщиков и т. д. Когда после 1936 года начался процесс увеличения численности Абвера, многие из них были зачислены в различные подразделения германской военной разведки как лица, имеющие большой практический опыт работы.
Так, долгие годы резидентом Абверштелле «Остпройссен» (Кёнигсберг) в Литве был капитан (позже майор) резерва Кляйн, начавший свою разведывательную карьеру в 1922 году начальником мельдекопфа АСТ в г. Гумбиннене[65]. Не ограничиваясь выполнением своих прямых обязанностей по разведывательному изучению Литвы, он также принимал активное участие в разведывательных операциях против Польши. В сохранившихся документах польской контрразведки имеются указания на проведенные при непосредственном участии Кляйна вербовки трех молодых женщин, направленных им в Данциг. Их задание заключалось в завязывании перспективных контактов в интересующих германскую разведку польских кругах. Некие Маргарита Зедерлинг, сестры Велентина и Марта Дашко в начале 1920-х годов были направлены в Вольный город, где все трое сняли квартиру по адресу Эйзенбаннштрассе, 13. Обратив на себя внимание польской контрразведки своим достаточно «вольным» поведением и активностью в завязывании знакомств среди польских военнослужащих и предпринимателей, они попали в ее разработку. Как она проводилась и чем была завершена, источники сведений не сохранили[66].
Первые сведения об операциях германской разведки против Польши с позиций Вольного города относятся еще к 1921 году и связаны они с деятельностью некоего Фридерика Совы. Известно, что, после завершения своей службы в германской армии в 1920 году, он предпринял попытку зачисления на службу в ряды вновь создаваемого Войска Польского, провалившуюся после возникших у поляков подозрений о его работе на германскую разведку.
Объявившись через некоторое время в Кёнигсберге, Сова, вместе с двумя другими германскими студентами Альбертины, вошел в контакт с местным польским консулом и, очевидно, начал сотрудничать с ним в интересах польской разведки[67]. Как развивалось это «сотрудничество», остается неизвестным, но после ареста германской полицией десяти жителей Восточной Пруссии, обвиненных в шпионаже в пользу Польши, стало ясно, что первичные подозрения поляков о работе Совы на германскую разведку имеют под собой серьезные основания.
Уже с 27 ноября 1922 года указом данцигского Сената Фридерик Сова в чине криминаль-ассистента был зачислен в штат местного полицайпрезидиума, где, работая в интересах германской разведки, проявил себя как весьма активный разведчик и умелый вербовщик[68].
Польские контрразведчики тоже не сидели сложа руки. В 1923 году к Сове был подведен агент Поморской политической полиции Томашевский, который «согласился» работать на германскую разведку в качестве агента. Тогда же поляками была спланирована операция по изъятию документов полицайпрезидиума Данцига, находившихся в распоряжении Совы.
Полякам стало известно, что в служебном «бюро» последнего имелся сейф, в котором он хранил секретные материалы, получаемые от своей польской агентуры. Через Томашевского в контакт с ним вошел начальник отдела политической полиции г. Торуня Мечислав Лисовский. Компания, состоявшая из Совы, Лисовского и Томашевского, расположившись в ресторане данцигской гостиницы «Континенталь», приступила к переговорам об условиях сотрудничества с германской разведкой. Как проходила эта «вербовка», история умалчивает, но, очнувшись на другой день в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, Сова ни в своем портфеле, ни в служебном сейфе своего «бюро» секретных документов не обнаружил.
Зато эти документы в количестве 130 штук попали в руки начальника отдельного информационного реферата Штаба командования корпуса (ДОК-VII) в Торуне Михала Куличковского. Воспользовавшись невменяемым состоянием Совы, Лисовский и Томашевский изъяли у него ключи от «бюро» и сейфа, передав их страховавшему операцию комиссару полиции Альфонсу Новаковскому, который и освободил сейф от документов[69].
Тот же 1923 год для польской контрразведки ознаменовался еще одним успехом, когда ей удалось внедрить своего агента, действовавшего под криптонимом «11», в агентурную сеть Абверштелле «Остпройссен». Вновь «завербованному» немцами агенту было предложено собирать информацию по стандартной военной проблематике: местам дислокации, численности, вооружению частей Войска Польского. Через «11-го» поляки начали поставлять в Абвер тщательно подготовленную дезинформацию, что способствовало укреплению его положения в агентурной сети немцев. За время своего «сотрудничества» с АСТ «Остпройссен» «11-й» смог передать полякам множество ценных сведений о структуре, кадровом составе, объектах заинтересованности германской разведки, оперировавших в регионе Польского Поморья.
В частности, по его сведениям была вскрыта активная разведывательная деятельность немцев под прикрытием кёнигсбергской фирмы «Max Bengs. Import-export», которая, имея в Польше и других европейских странах свои филиалы, использовала их для сбора интересующей Абвер информации[70].
Региональный представитель фирмы Ганс Лау, постоянное представительство которого располагалось в Сопоте на Мольткештрассе, 5, беспрепятственно передвигался во всех направлениях из зоны Вольного города и обратно для встреч со своей польской агентурой. Он выполнял функции резидента Абверштелле «Остпройссен». На него также работали как вербовщики и групповоды некие Мюллер, Бремер и Шеве.
При помощи «11-го» и других польских агентов-двойников удалось установить состав регионального аппарата Абвера в Кёнигсберге, который состоял из начальника – капитана Вальтера Вайсса, двух офицеров и нескольких подофицеров. Вспомогательную работу проводили чертежник и одна секретарь-машинистка.
На Абверштелле «Остпройссен» в Данциге работал также бывший польский полицейский из г. Липне Эдвин Зеляновский, который после своего бегства стал использоваться немцами как наводчик и вербовщик своих бывших коллег по польской полиции.
Один из руководителей германской пограничной полиции Освальд Фогель смог создать эффективно действующий агентурный аппарат в приграничных районах Польши и в зоне Вольного города. В частности, на него работали польские подкомиссары полиции Покживницкий и Хартман[71].
Ценным агентом Абверштелле «Остпройссен-Кёнигсберг» в Польше был начальник жандармерии в г. Тшеве Леон Адамчик.
В 1926 году он был завербован начальником мельдекопфа Абвера в Мариенвердере Генрихом Раухом. Профессиональные навыки и знание системы охраны польского участка границы позволяли участникам операции регулярно проводить встречи в приграничной полосе, на так называемой «зеленке». На начальном этапе сотрудничества с Абвером Адамчик выполнял чисто информационные функции, поставляя сведения о местах дислокации, состоянии польских воинских частей, их командном составе, вооружении.
Приобретенный опыт позволил ему через некоторое время проводить и вербовочную деятельность в интересах германской разведки. Так, он провел успешные вербовки сотрудника штаба корпуса в г. Торуне подпоручика Выборского и неизвестного сержанта из штаба корпуса в Варшаве, представивших в Абвер много ценных информационных сообщений и документов, доступных им лично. Ценность передаваемых в Абвер материалов значительно возросла, когда сержанту удалось сделать копию ключа от сейфа своего начальника.
С изымаемых документов делались фотокопии, которые Адамчик и передавал Рауху в ходе личных встреч либо через тайники.
Все это время сам Адамчик оставался для германской разведки самостоятельным ценным источником информации, особенно после его перехода в Корпус пограничной охраны, где он по роду своей деятельности получил доступ к материалам польской приграничной разведки: данные на польскую агентуру, действовавшую на территории Восточной Пруссии и в Данциге, ход проводимых поляками разведывательных операций, характеристики их участников и т. д.[72].
Значение для Абвера агентурной группы Адамчика еще больше возросло в 1933–1934 годах, когда через руки сержанта начали проходить мобилизационные документы штаба корпуса, позволявшие германским специалистам изучить планы польского командования в случае начала боевых действий.
Работа Адамчика и его группы на Абвер не была вскрыта польской контрразведкой, что может свидетельствовать о высоком профессионализме участников и адекватных мерах по обеспечению безопасности операции. Только в годы войны предательство Адамчика было установлено польскими подпольщиками, и он был ликвидирован.
В мае 1932 года прямо на улице к служащему немецкой полиции в Данциге обратился неизвестный и попросил проводить его к руководителю местного разведаппарата Абвера Оскару Райле, исполнявшему в то время обязанности заместителя начальника данцигской полиции. В ходе состоявшейся встречи неизвестный представился как офицер Войска Польского по фамилии Герасимович и объяснил свою инициативу желанием предложить себя в качестве германского агента, располагающего большими возможностями по добыванию интересующей Абвер информации. Он заявил, что за постоянное жалованье в 2400 злотых в месяц и отдельно выплачиваемые премиальные за наиболее ценные материалы он готов выполнять задания Абвера по предоставлению сведений о польских вооруженных силах. Райле, к которому майор Жихонь регулярно направлял ложных «инициативников», решил не искушать судьбу в очередной раз и под благовидным предлогом отказался от услуг польского офицера. Обстоятельный доклад о встрече с поляком Райле направил своему руководству в Абверштелле «Остпройссен». Полученные сведения там решено было использовать для изучения Герасимовича как возможного кандидата на вербовку.
Через агентурные возможности кёнигсбергского аппарата Абвера было установлено, что Герасимович действительно в прошлом был офицером уланского полка, дислоцированного в Познани. За проступки, несовместимые с честью польского дворянина, выразившиеся в присвоении крупных денежных сумм из кассы взаимопомощи, он был уволен из Войска Польского и, переселившись в Варшаву, влачил жалкое существование. Польская агентура Абвера смогла раздобыть адрес Герасимовича, куда и было направлено несколько писем с предложением продолжить встречи с представителями германской разведки в Данциге. На очередных встречах поляк сообщил много полезных для Абвера сведений о состоянии польских вооруженных сил, что и предопределило решение ответственного за операцию Ганса Горачека продолжить постоянное сотрудничество с Герасимовичем как агентом. Ему был присвоен агентурный псевдоним «Гапке»[73].
Представляемые поляком сведения быстро теряли для германской разведки свою значимость по причине «оторванности» агента от первоисточников и, соответственно, процессов, происходивших в войсках. Руководство Абверштелле, убедившееся к тому времени в искренности своего агента «Гапке», решило использовать его в качестве «наводчика» и «разработчика» потенциальных кандидатов на вербовку из числа польских военнослужащих.
Первая крупная вербовочная разработка Герасимовича была успешно завершена в 1935 году, когда к сотрудничеству с Абвером был привлечен его бывший сослуживец по 7-му уланскому полку подполковник Юзеф К., также находившийся в трудной финансовой ситуации. Сложность разработки заключалась в том, что мотивы, которыми руководствовались ее участники с двух сторон, были диаметрально противоположными. Если Юзеф К. стремился к разовому решению своих материальных проблем путем продажи нескольких ценных для Абвера документов, то сотрудники последнего были заинтересованы в долговременном, постоянном сотрудничестве, исключавшем своеобразный «диктат» со стороны своего агента в выборочном характере передаваемых материалов. Все мастерство вербовщика и было направлено на то, чтобы убедить кандидата в целесообразности его постоянной связи с германской разведкой. Видно, совокупность факторов была благоприятна для последней, и Абвер сумел заполучить нового ценного источника информации под псевдонимом «Ковалевский», который через некоторое время был напрямую выведен на Ганса Горачека.
Наиболее крупного успеха в качестве агента-вербовщика Герасимович достиг, когда им был завербован офицер Главного штаба Войска Польского, до сих пор скрытый под псевдонимом «Марковский». На первых же встречах с Гансом Горачеком польский офицер представил такие сведения, что вопрос о его информационных возможностях и «честных мотивах» в работе на германскую разведку был автоматически снят. Путем этой вербовки Абверу стала доступна документация оперативного характера, исходившая из штаба польской армии под командованием генерала Владислава Бортновского. В частности, наиболее высокую оценку специалистов-аналитиков в Берлине получили документы о структуре, местах дислокации, оперативных планах использования армии в случае начала военных действий. Всего за время сотрудничества с германской разведкой Герасимович получил 145 000 злотых – огромную по тем временам сумму[74].
Учитывая высокие возможности агентурной группы Герасимовича и желая обезопасить ее от происков польской контрразведки, в Абверштелле «Кёнигсберг», по согласованию с Центром, было принято решение вызвать Герасимовича в Кёнигсберг для обучения работе на приемо-передающей радиостанции. Однако польской контрразведке в 1938 году удалось выйти на след Герасимовича, и он предстал перед судом военного трибунала. После окончания польской кампании в сентябре 1939 года Герасимович вновь подвизался в германской военной разведке уже в качестве кадрового сотрудника, работавшего по СССР.
В польских источниках деятельность Герасимовича как немецкого агента оценивается неоднозначно. По одной из версий, высказанной польским профессором Лешеком Гондэком, майор Жихонь с самого начала был осведомлен о характере связи Герасимовича с Абвером и, используя эту связь, «подставил» «Марковского» и «Ковалевского» германской разведке для продвижения туда сфабрикованных польским Главным штабом сведений дезинформационного характера[75].
Такая версия не выглядит несостоятельной. В практике польских спецслужб имелись многие положительные примеры таких операций. Однако обращают на себя внимание некоторые противоречия в высказанной версии.
Во-первых, материалы, передаваемые через Герасимовича в Абвер, постоянно получали там высокую оценку со стороны специалистов-аналитиков. Такая оценка была возможна потому, что в распоряжении Абвера находились аналогичные материалы, полученные по другим, не выявленным польской контрразведкой каналам.
Во-вторых, осведомленный в характере проведенной операции Оскар Райле в своих послевоенных мемуарах однозначно называет «Гапке», «Марковского» и Адамчика «ценнейшими» германскими агентами. Трудно предположить, что он мог прийти к противоположному выводу после того, как в распоряжении германской разведки оказались архивные документы 2-го отдела Главного штаба Войска Польского, захваченные в Варшаве в сентябре 1939 года. Известно, что материалы по всем польским разработкам в Германии после их обнаружения подверглись самому тщательному изучению со стороны компетентных сотрудников Абвера и гестапо, и если бы в них содержались сведения, изобличавшие «Марковского», «Ковалевского», Герасимовича в «двойной игре», то Абвер не стал бы представлять операции, проводимые с их участием, как свой успех. Кроме того, гестапо, как «конкурирующий» с военной разведкой орган, в случае обнаружения в польских архивах сведений о проведенной поляками «контригре», попытался бы обвинить Абвер в некомпетентности, и тем более последний не стал бы представлять эти операции как образцовые.
В 1931 году, с разоблачением польской контрразведкой агента Абверштелле «Остпройссен», была завершена одна из успешных операций германской разведки в Польском Поморье. Сотрудник германской таможни Ян Коппенат был завербован Генрихом Раухом, в то время исполнявшим обязанности начальника мельдекопфа в г. Мариенбурге[76]. Его служебное положение позволяло проводить вербовочную работу в отношении польских граждан, пересекавших границу с Рейхом. Одним из привлеченных к сотрудничеству с Абвером лицом стал некий Францишек Кубацкий, который через свои связи среди военнослужащих Войска Польского сумел наладить получение разведывательных материалов, включая мобилизационную документацию, исходящую из штабов 16-й пехотной дивизии и 18-го кавалерийского полка в г. Грудзендзе. Кроме того, достоянием германской разведки стали материалы Кубацкого, освещавшие подробности судебных заседаний в отношении разоблаченной поляками агентуры, так как они позволяли немцам устанавливать причины их неудач. В сентябре 1931 года Коппенат предстал перед окружных судом в Грудзендзе, приговорившим его к восьми годам заключения за шпионаж. Годом позже на четыре года был осужден и его агент Кубацкий[77].
Крупным провалом Абвера в Польше стал также арест и последующая казнь некоего Витольда Тулоджецкого, гражданского сотрудника отдельного информационного реферата (контрразведка) штаба 7-го военного округа в Познани. Он инициативно предложил свои услуги сотруднику данцигского пункта Абвера Оскару Райле, в качестве аванса представив ряд исключительно важных секретных документов. В ходе первых бесед выяснилось, что В. Тулоджецкий является офицером (поручиком) резерва польских вооруженных сил и, выполняя обязанности помощника референта контрразведки штаба округа Тадеуша Клоцка, имеет доступ к секретным документам разведывательного характера. Всего он передал Оскару Райле около пятнадцати документов ОИР, среди которых значились: описание польской разведывательной резидентуры «Laboury»; схемы построения Великопольского инспектората пограничной стражи; документация о строительстве германских фортификационных сооружений в Восточной Пруссии, полученная агентурным путем; сборник документов германской пограничной охраны, также полученных агентурным путем; обобщенный доклад «Иностранная разведка», содержащий сведения о польских гражданах, подозреваемых в работе на Абвер, и др.
Планомерная реализация переданных В. Тулоджецким материалов позволила бы немецкой контрразведке продвинуться далеко вперед во вскрытии польских агентурных сетей, так как давала возможность путем их анализа устанавливать источники утечки секретных сведений.
Но «острый» характер полученных материалов и поведение В. Тулоджецкого на первых встречах заставили О. Райле усомниться в его искренности. По этим причинам он от дальнейшего контакта самоустранился. Когда В. Тулоджецкому стало известно, что он находится под подозрением у поляков как германский агент, и в желании смягчить свою участь, он сознался капитану Жихоню в своем предательстве. По результатам расследования В. Тулоджецкий предстал перед военным окружным судом в Торуни, приговорившим его к казни.
10 ноября 1931 года приговор был приведен в исполнение.
Широкое освещение хода процесса в польской прессе заставило немцев признать, что, предлагая сотрудничество Абверу, В. Тулоджецкий был вполне искренен в своих намерениях. Переданные им ранее материалы, которые до казни считались дезинформацией, были вновь пересмотрены и приняты к изучению и реализации. Но время было уже упущено. Поляки сумели воспользоваться создавшейся паузой и своевременно принять необходимые меры безопасности[78].
В ходе противоборства польских и германских спецслужб часто использовалась практика внедрения своей агентуры в соответствующие структуры противника. Использовавшиеся агенты-двойники чаще всего проявляли свою лояльность практической работой на одну из сторон. Но, с точки зрения «канонов» работы «двойных агентов», встречались также нестандартные случаи.
Иллюстрацией служит дело некоего Бронислава Пилацкого, обычного землевладельца, проживавшего в приграничном районе на польской территории. Осенью 1935 года, как лицо, имевшее многочисленные связи по обе стороны границы, он был завербован в качестве конфидента аппаратом Пограничной охраны в г. Цехануве. Весной следующего года он был уже передан на связь в быдгощскую экспозитуру, в которой использовался в качестве связника как минимум с двумя ценными ее источниками в Восточной Пруссии. Первым был старый агент польской разведки Эмиль Вах, поставлявший в экспозитуру информацию военного характера. Вторым был сын другого польского крестьянина Отто Шиманьского, от которого поступали сведения о деятельности местных структур СА в Восточной Пруссии.
За все время сотрудничества с польской разведкой Пилацкий получил незначительную сумму в 612 злотых, очевидно, компенсировав ее работой на германскую разведку. В год его вербовки поляками он был также привлечен к сотрудничеству офицером Абверштелле «Кёнигсберг». Выполняя задания своих руководителей от обеих разведок, Пилацкий ничего им не сообщал о характере своей деятельности в пользу другой стороны. Польские агенты, с которыми он поддерживал связь, были немцами арестованы только после сентября 1939 года, причем непонятно, либо на основании захваченных архивов 2-го отдела, либо когда необходимость их использования немцами «втемную» уже отпала.
Незначительный по тем временам срок наказания за шпионаж в виде пяти лет заключения, назначенный Пилацкому военным судом Рейха, свидетельствует о его относительно «честной» работе на Абвер[79].
Происходящие в Данциге процессы, особенно в части расширения и активизации деятельности нацистской партии, поставили польскую разведку перед необходимостью совершенствования механизмов своей работы по внедрению в чувствительные, с точки зрения безопасности нацистов, объекты.
В самом начале 30-х годов капитан Жихонь на основе материальной заинтересованности завербовал рядового штурмовика по фамилии Кофер. Умелое руководство последним, получившем в польской разведке псевдоним «Бруно», личные и деловые качества агента позволили ему в короткий срок стать помощником по «политическим вопросам» командира 6-й бригады СА в Данциге Линсмайера. Характер его деятельности в самом центре нацистского аппарата и доступ ко многим секретным сведениям ряда германских партийных, государственных и специальных институтов превратил его в глазах руководства польской разведки в ценного источника. Особую значимость для поляков он приобрел, когда в передаваемых им материалах стали содержаться сведения о деятельности Абвернебенштелле «Данциг» и его руководителе Оскаре Райле.
Благодаря полученной от «Бруно» за три года сотрудничества информации, майор Жихонь смог выйти на нескольких ценных агентов Абвера и других нацистских спецслужб в Польше, часть из которых была арестована, другая – перевербована или стала участвовать в проводимых поляками операциях «втемную».
Участившиеся провалы заставили сотрудников Абвера и гестапо искать источник утечки сведений в своих данцигских аппаратах.
К тому времени в городе на основе политического отдела (А1) полицайпрезидиума уже был сформирован местный аппарат гестапо, который под руководством Курта Гретцнера активно включился в поиск польского «крота».
К расследованию о фактах утечки были даже привлечены прибывшие из Берлина специалисты гестапо. Через какое-то время «Бруно» почувствовал интерес к своей персоне со стороны германской контрразведки. Особенно тревожные признаки стали проявляться, когда он обнаружил за собой постоянную слежку. Несмотря на серьезные подозрения в отношении Кофера, разработчики операции из гестапо не могли бездоказательно арестовать видного, по данцигским меркам, функционера СА, поэтому они вынуждены были ограничиться скрытным наблюдением, чтобы установить его связь с представителями польской разведки.
«Бруно» решил не искушать судьбу и, после уничтожения всех компрометирующих его материалов, перебежал в Польшу, где продолжил свою деятельность агента польской контрразведки. До сих пор остается загадкой причина, по которой Кофер, после всех своих злоключений, рискнул по фальшивым немецким документам приехать в Германию, где он был несколько позже арестован гестапо. После следствия, сопровождавшегося пытками, он был приговорен к смертной казни за измену[80].
Разоблачение польского агента в аппарате НСДАП в Данциге вызвало серьезные потрясения в нацистских структурах, связанных со штабом СА, включая местный аппарат Абверштелле «Остпройссен». Сам Оскар Райле, который не смог разоблачить действовавшего около трех лет польского шпиона, был отозван с занимаемой должности и направлен в 1934 году в Центральную Германию. Вместо него исполнять обязанности руководителя Абвера в городе был назначен Вальтер Вебе, которому в «наследство» от Райле достался вполне дееспособный агентурный аппарат, включавший несколько ценных агентов из числа польских военнослужащих. Его помощником был назначен Рейнхолд Котц.
Одна из вербовочных разработок, начатых Райле и оконченных Вебе, завершилась привлечением к сотрудничеству поручика польского военно-морского флота Вацлава Щнеховского. Он проходил службу на транспортном корабле «Вилия», доставлявшем на полуостров Вестерплятте вооружение и другие военные грузы. Германскую разведку всегда интересовал небольшой гарнизон полуострова, являвшегося своего рода морскими воротами Данцига и важным военным объектом польских вооруженных сил. Благодаря Щнеховскому в распоряжении германской разведки оказался большой объем сведений военного характера. Кроме текущей информации о характере грузов, переправляемых на полуостров, данных о составе гарнизона и решаемых им задачах, Щнеховский раскрыл немцам систему шифрования польского ВМФ, секретные сведения о применявшихся способах поддержания связи между кораблями и штабом польского флота. В конце концов Щнеховский попал под подозрение у польской контрразведки как немецкий агент и был арестован в конце 1934 года. Военный трибунал за нанесенный польским вооруженным силам ущерб приговорил его к смертной казни[81].
Летом 1935 года подозрения у Жихоня вызвала деятельность некоей Эдит Вичорек, которая обратила на себя внимание своим родством с переводчиком одной из германских информационных структур, подозреваемого поляками в шпионаже в пользу Германии. Проживая на территории Польши у своего дяди, Вичорек поддерживала подозрительную почтовую связь со своими родителями в Восточной Пруссии. Когда Жихонь убедился в своих первоначальных подозрениях, он распорядился поставить ее переписку под контроль. Действуя в контакте с отдельным информационным рефератом ДОК-V, Жихонь установил наблюдение за передвижениями Эдит Вичорек и контроль за ее связями. Выяснилось, что наиболее тесную, предположительно, любовную связь последняя поддерживала с поручиком Кружиньским, через которого она знакомилась с другими польскими офицерами. От них-то она и получала «втемную» устную информацию, которую после обработки направляла своим шефам в Германию[82].
Письма отцу она направляла в конвертах на адрес матери, в которых просила передавать приветы господам «Фреду» и «Рейнхолду», которые позже поляками были идентифицированы как сотрудники данцигского аппарата Абвера Фред Екк и Вальтер Вебе. Было установлено, что Эдит Вичорек была завербована ими и направлена в Польшу для проведения разведки в польских офицерских кругах. После состоявшегося суда она была приговорена к пятнадцати годам заключения за шпионаж[83].
Исключительно ценным источником Абверштелле «Остпройссен», замыкавшимся на его данцигскую точку, был скромный фотограф в военном отделе польского Генерального комиссариата в Данциге Владислав Мамель. Опасность, исходившая от него как от немецкого агента, заключалась в том, что он по роду своей деятельности имел доступ к материалам разведывательного характера, которые в виде фотокопий передавал своим кураторам из Абвера. Один из таких документов, касавшихся деятельности неизвестного немцам агента, привел к аресту ценного польского источника Эрики Беланг, работавшей секретаршей в штабе окружного командования Люфтваффе (Luftkreiskommando № 1) в Кёнигсберге, которая успешно сотрудничала с польской разведкой, предоставляя большой объем информации о германских военно-воздушных силах в Восточной Пруссии.
Мамель, в свою очередь, был разоблачен польской контрразведкой, когда с поляками начала сотрудничать гражданская жена Рейнхолда Котца Паулина Тышевская. Ее вербовку провел майор Жихонь, когда узнал о характере связи последней с Котцем. Он сумел через родственников Тышевской в Польше выйти на нее и убедил за солидное вознаграждение оказывать помощь польской разведке. Комплексное использование мотивов сотрудничества, продемонстрированное Жихонем в очередной раз, привело в итоге к крупному провалу Абвера на польском направлении. Разоблаченными оказались несколько десятков действующих агентов Абверштелле «Кёнигсберг» и даны наводки на многие другие агентурные разработки немцев в Польше. Ущерб от деятельности Тышевской был для Абвера невосполним[84].
На этой операции польской разведки и участии в ней нашего героя следует остановиться поподробнее, поскольку она относится к тем операциям разведслужб, которые с полным основанием можно отнести к классическим и с точки зрения оперативного эффекта, и с точки зрения профессионализма разработчиков и исполнителей.
Агент Жихоня в Абверштелле «Кёнигсберг»
Начало операции по агентурному проникновению в германскую военную разведку было положено, когда подчиненному Жихоню офицеру удалось привлечь к сотрудничеству некоего Бруно Бруцкого. Судьба нового польского агента была вполне типична для многих его сверстников – участников Первой мировой войны. В составе германской армии он воевал и на Восточном и на Западном фронтах. Был ранен. За боевые отличия награжден Железным крестом 2-го класса. После окончания войны он женился и осел на постоянное жительство в польском городе Гдыня. Когда польские разведчики узнали, что жена Бруцкого Францишка приходится сестрой гражданской жены сотрудника Абвера, план дальнейших действий созрел сам собой. Первым шагом стала вербовка в ноябре 1936 года Францишки Бруцкой и «натаскивание» ее и ее мужа в тонкостях шпионского ремесла. Через другие агентурные возможности параллельно проводилось изучение Паулины Тышевской, как звали сестру пани Францишки, в качестве возможного кандидата на вербовку[85].
Было установлено, что Тышевская родилась 13 апреля 1899 года в семье садовода. После окончания специализированной торговой школы работала бухгалтером в нескольких германских торговых фирмах. Вместе с первым мужем Ежи Мюленом перебралась в Данциг, где в районе Нового порта открыла магазин. В 1928 году Тышевская в одном из сопотских казино познакомилась с бывшим германским флотским офицером Рейнхолдом Котцем и стала его гражданской женой, что привело к разрыву с первым мужем. Несколько позже у них родился ребенок. Сменив несколько адресов, к 1935 году Паулина Тышевская являлась хозяйкой овощного магазина на Адольф-Гитлерштрассе.
Собранные данные и готовность супругов Бруцких принять участие в операции дали Жихоню возможность приступить к дальнейшим действиям. В ходе последующих личных встреч Бруцких с Тышевской стали известны многие подробности ее жизни и, самое главное – сведения о ее гражданском муже Рейнхолде Котце. В частности, стало известно, что последний действительно является сотрудником Абвера, но, по причине смешанного германо-еврейского происхождения, кадровым офицером не является, а работает на разведку по контракту.
Он родился 21 августа 1889 года в Данциге в семье советника медицины. После окончания местной гимназии поступил кадетом на службу в военно-морской флот. В звании лейтенанта в составе экипажа крейсера «Кёнигсберг» принимал участие в боевых действиях в Индийском океане, был ранен, содержался в бельгийском плену. За заслуги на поле боя был награжден Железными крестами 1-го и 2-го класса. После войны занимался коммерцией в Баварии.
К 1927 году Котц переселился в Данциг, где работал в магазине запасных частей, который использовался Абвером в качестве прикрытия. В начале 1930-х годов, сотрудничая с одним из данцигских изданий, Котц был назначен в Абвернебенштелле «Данциг» в качестве служащего по контракту. Этим территориальным аппаратом германской военной разведки, после скандального отъезда Оскара Райле, руководили последовательно Вальтер Вебе, майор Зигфрид Картельери и Вольф Дитрих. В 1931 году Котц вступил в НСДАП, но через год из-за своего происхождения был вынужден ее покинуть[86].
Весной 1935 года Жихонь вплотную приступил к осуществлению своего замысла по внедрению в аппарат германской разведки. В ходе одной из встреч Тышевской со своей сестрой и ее мужем ей от имени польской разведки было сделано вербовочное предложение. Несмотря на посулы, включавшие обещание погасить большие долги Тышевской, открыть на ее имя счет в данцигско-шведском банке, на который предполагалось перечисление денежного вознаграждения, она предложение о сотрудничестве отвергла. Более того, о вербовочном подходе сообщила Котцу, который предостерег ее от дальнейших конспиративных контактов с сестрой. Жихонь, планируя ход вербовочной разработки, здраво рассудил, что, в случае отказа Тышевской, она не выдаст свою сестру, а если и расскажет Котцу о сделанном предложении, то тот по тем же соображениям своему руководству о случившемся не доложит. Так и произошло.
Тем временем материальное положение Тышевской продолжало ухудшаться. К старым долгам добавлялись новые, средств на их погашение хронически не хватало. Неизвестно, были ли ее финансовые трудности следствием неудачного ведения бизнеса или вызваны другими причинами, но факт остается фактом, что с начала самостоятельной коммерческой деятельности Тышевская имела многочисленные проблемы с таможенными и финансовыми органами Данцига. Например, к 20 июня 1935 года фискальные органы города только штрафов начислили ей на общую сумму в 770 данцигских гульденов и 1500 злотых, что по тем временам было весьма значительной суммой. За этот год она смогла выплатить лишь 25 гульденов. Над Тышевской постоянно довлела перспектива оказаться в долговой тюрьме по причине своей неплатежеспособности. Котц из своего заработка периодически оплачивал ее долги, но было очевидно, что его помощи было явно недостаточно[87].
Когда после встречи с Тышевской Бруцкие докладывали Жихоню о ее неудачном завершении, Францишка порекомендовала временно оставить сестру в покое, мотивируя такое предложение ее плохим эмоционально-психическим состоянием, в котором она может повести себя неадекватно. Жихонь не внял предостережениям своих агентов и усилил на них нажим. Когда материальное положение Тышевской ухудшилось настолько, что она была готова продать свой магазин и остаться без средств к существованию, ей через Бруцких было сделано очередное предложение о сотрудничестве с польской разведкой. На этот раз она ответила согласием, оговорив условия своей безопасности.
Переговоры по условиям сотрудничества и способам поддержания связи заняли еще некоторое время, пока в начале осени 1936 года Тышевская не передала свою первую информацию. С этого времени она в картотеках 2-го отдела Главного штаба Войска Польского проходила как ценный агент под криптонимом «1216». Обещание по оплате долгов Тышевской Жихонь выполнил и назначил ежемесячное денежное вознаграждение в 300 данцигских гульденов, что соответствовало примерно 600 польских злотых.
Когда 16 сентября 1936 года Тышевская через свою сестру направила Жихоню список личных и служебных связей Котца, включая его коллег по Абверу, для нее началась опасная и непредсказуемая игра с неясным финалом. Кроме этих сведений, в ее агентурном сообщении содержался примерный график командировок некоторых офицеров германской разведки в Данциг и другие города Восточной Пруссии. Следующее сообщение, датированное 7 октября, касалось германского агента в Грудзендзе, идентифицирующим признаком которого было занятие выращиванием шампиньонов[88].
По мере втягивания Тышевской в агентурную работу росла и ценность передаваемой ею информации. Ниже следует далеко не полный график ее агентурных сообщений, с перечнем освещаемых в них вопросов. По этим сообщениям можно проследить, насколько глубоко польская разведка проникла в замыслы своего основного противника и насколько высока была эффективность от ее дальнейших акций. Для получения интересующей Жихоня информации, кроме устных сведений Котца и его коллег, Тышевская регулярно знакомилась с содержимым его портфеля и письменного стола, где хранились секретные документы Абверштелле.
– 4 ноября 1936 года поступили сведения о переводе Картельери в Кёнигсберг и назначении на его место Дитриха (информация была не совсем точной, так как Картельери после поездки в Кёнигсберг был назначен начальником контрразведывательной группы при данцигском полицайпрезидиуме). В этом же сообщении указывалось на наличие в Гдыне германского агента, который из окна своей квартиры через подзорную трубу наблюдал за акваторией местного порта и работой судостроительной верфи.
– 28 ноября 1936 года получена информация о реакции офицеров Абвера на арест в Польше двух германских агентов Гиршфельда и Эккерта. Информацию о последнем Жихоню направила Тышевская несколько раньше.
– 9 декабря 1936 года – сведения о том, что с 30 ноября по 1 декабря 1936 года в Данциге находился руководящий сотрудник Абвера из Кёнигсберга. Его командировка была связана с установлением причин неудач германской разведки на польском направлении и выработкой мер по устранению недостатков. Там же содержались сведения о месте проживания в Данциге нового начальника точки Дитриха.
– 2 января 1937 года поступило очередное сообщение Тышевской, которая сетовала на возникшие сложности в получении информации, обусловленные тем фактом, что Котц в последнее время с агентом свои служебные дела не обсуждает. Ей лишь стало известно, что Дитрих высказывал претензии по поводу низкой эффективности агентуры, находившейся на связи у Котца[89].
Жихонь, получив последнее сообщение, предложил Тышевской активизировать свою работу по выяснению данных на германских агентов в Польше, находившихся на личной связи у Дитриха. Это позволило бы польской контрразведке путем ликвидации этой части агентуры отвести от Котца упреки в низкой эффективности, сделав начальника точки «козлом отпущения» в глазах его руководства.
– 8 января 1937 года Жихонь в очередном донесении Тышевской получил информацию о германском агенте Эдит Вичорек, которая в своем послании просила Дитриха увеличить ей денежное содержание.
– 25 января 1937 года получены сведения о предполагаемом переводе Котца в Баварию, для чего он вылетел на три дня на самолете в Кёнигсберг.
– 12 февраля 1937 года – информация о состоявшемся в Данциге несколькими днями раньше рабочем совещании руководства Абверштелле «Кёнигсберг», в котором также принял участие неизвестный высокопоставленный офицер разведки из Берлина.
– 23 февраля 1937 года – сведения о командировке Котца в Кёнигсберг. А также информация об увольнении по собственному желанию секретарши АНСТ «Данциг» Пинской.
– 17 марта 1937 года поступило сообщение от Тышевской о выезде руководства данцигского аппарата Абвера в Берлин на подведение итогов работы за прошлый год. Дитрих и Котц считали, что им будут высказаны претензии в недостаточной результативности их работы. Вместо уволенной Пинской в АНСТ секретарем будет работать женщина по фамилии Нахтигаль[90].
В сообщениях, датированных 10, 11, 18 апреля 1937 года, Тышевская сообщила множество известных ей данных о структуре, кадровом составе аппаратов Абвера в Данциге, Эльбинге, Штеттине и Кёнигсберге, характеристики некоторых сотрудников, телефонные номера, которыми пользовался в служебных целях Котц. Особую ценность для Жихоня представляла информация о конспиративной квартире в Данциге сотрудника Абверштелле «Кёнигсберг» Ганса Горачека, имевшего на связи самых результативных польских агентов. В последнем сообщении также содержались данные об удачной вербовке немцами в Гдыне польского инженера по фамилии Рейнманн, контакт с которым был установлен раньше. Тышевская направила Жихоню адрес конспиративной квартиры Котца в районе Нового порта.
25 июня 1937 года по каналу Бруцких было получено очередное донесение Тышевской, в котором сообщалось, что несколько дней подряд Котц не приходил домой на обед, а на службе задерживался до позднего вечера. Когда приходил домой ночью, был в очень возбужденном состоянии. Из его пояснений Тышевской следовало, что нервозность Котца была связана с тем, что германская контрразведка 14 июня арестовала весьма серьезного польского агента в Окружном штабе Люфтваффе в Кёнигсберге. Этим агентом была сотрудница штаба Эрика Беланг, как характеризовал ее Котц, «женщина не слишком скромного поведения в прошлом», вдова, примерно 36 лет от роду.
Кёнигсбергский аппарат гестапо установил, что она была завербована польским офицером разведки в Данциге около полутора лет назад, а знакомство с ним произошло еще раньше, во время кратковременного проживания в польской Гдыне. Пользуясь тем, что ее родственники проживали в Данциге, Эрика Беланг периодически посещала город, где и происходили встречи с сотрудниками польской разведки. О ее высокой ценности для 2-го отдела польского Главного штаба свидетельствовали суммы выплачиваемого денежного вознаграждения за передаваемые материалы. Всего она получила эквивалент нескольким сотням тысяч польских злотых, что по тем временам было поистине огромной суммой. Нервозность же Котца и его руководителей была вызвана тем обстоятельством, что они ожидали упреков от руководства Абверштелле «Кёнигсберг» в неспособности своими действиями противостоять польской разведке в регионе. Особенно их возмущало то, что о ведущихся в отношении Беланг проверочных мероприятиях в Кёнигсберге они не были поставлены в известность[91].
16 июля 1937 года Тышевская сообщила, что, в связи с исчезновением из Данцига Владислава Мамеля, за его женой силами гестапо была организована слежка, а два сотрудника местного полицайпрезидиума, подозреваемых в связях с польской разведкой, были взяты в разработку и позже арестованы. Кроме того, в этом же сообщении Тышевская проинформировала Жихоня о том, что в одном из офисов АНСТ «Данциг», расположенном на Хибнерштрассе, 3, несколько дней подряд находился германский агент, подофицер резерва, работавший на польском военном аэродроме в Торуне. Также сообщалось о командировках сотрудников Абвера в Данциг и прилегающие районы для встреч со своими агентами: Хенке и Горачек – в Сопот, майор Юст, прибывший из Берлина, – в сам Вольный город[92].
21 июля 1937 года получено сообщение о предъявлении упоминавшимся ранее служащим данцигского полицайпрезидиума обвинений в шпионаже в пользу Польши. Дополнительно Тышевская сообщила адреса «почтовых ящиков» Хенке и Горачека в Эльбинге и их служебные псевдонимы.
Сообщение от 14 августа 1937 года заставило Жихоня заметно поволноваться. Тышевская дала наводки на четырех агентов Абверштелле «Кёнигсберг», разведывательные возможности которых там оценивались весьма высоко и, соответственно, степень исходившей от них опасности для поляков была критической. В этом же сообщении содержались дополнительные данные о причинах провала Эрики Беланг, вызванные предательством Владислава Мамеля. В Кёнигсберге по ее делу за халатность в работе по обеспечению режима секретности и бесконтрольное обращение с секретной документацией было арестовано несколько офицеров штаба округа Люфтваффе.
23 и 30 августа 1937 года получены очередные сообщения Тышевской, в которых содержались сведения:
– о вербовке Дитрихом в Данциге двух румынских граждан;
– о реакции немцев на арест в Польше агента – капитана торгового судна Шрайбера, находившегося на личной связи у Котца;
– об аресте 28 августа в Берлине врача и его жены как польских шпионов. Разработчик операции Картельери для этого специально выезжал в германскую столицу. Почти одновременно с этим арестом в Данциге были арестованы еще две семейные пары: железнодорожного чиновника высокого ранга и еще одного гражданского служащего. Все участники этого шпионского дела проходили как связи резидента польской разведки Руткевича, работавшего начальником одной из железнодорожных станций.
В числе других проваленных Тышевской агентурных звеньев Абвера была группа Мартина Энглинга, специализировавшаяся на получении информации по польским военно-воздушным силам. Его субагенты Эккерт, Ягер, Прибе, через свои связи среди польских военнослужащих, смогли наладить поступление информации о состоянии и развитии польских ВВС. Почти одновременно с разоблачением Эрики Беланг последовал арест еще одной женщины – агента польской разведки по фамилии Лубиньская, которая работала секретаршей в одном из штабов германского ВМФ.
Провал очередной агентурной сети немцев в Польше заставил руководство Абвера принимать дополнительные меры к установлению источника утечки сведений. Под подозрение попали все участники разведывательных операций, работавшие и замыкавшиеся на данцигский филиал Абвера. В разработку гестапо попали многие сотрудники разведки, включая бывшего начальника точки Оскара Райле.
В срочном порядке из Кёнигсберга в Данциг был командирован специалист по польской разведке ротмистр резерва Зигфрид Картельери. Примечательно, что он действовал в городе вне связи с аппаратом Абвера, «крышей» которого служил местный полицайпрезидиум.
В результате проводимых германской контрразведкой мероприятий, ей удалось сузить круг подозреваемых и обнаружить две тоненькие ниточки, разматывая которые можно было выйти на польского агента в Абвере. Летом 1937 года от агента германской разведки под псевдонимом «Фрау Зоммер» была получена первая заслуживающая внимания информация. «Фрау Зоммер» в результате своей активной работы на Абвер была захвачена поляками и после состоявшегося следствия и суда, в числе других германских агентов, была обменяна на ротмистра Сосновского. По прибытии в Германию она сообщила, что в ходе следствия она содержалась в одной камере с другой разоблаченной поляками агентессой – «Фрау Фрей», которая и рассказала, что она была арестована в результате предательства близкой знакомой одного из сотрудников Абвера в Данциге. Информация «Фрау Зоммер» была направлена лично адмиралу Канарису, который распорядился провести дополнительное расследование.
Зигфрид Картельери тоже не терял времени зря. Он сумел завербовать одного из сотрудников польской контрразведки, действовавшего с тех пор под псевдонимом «Каминский»[93]. Первые же сведения «Каминского» об осведомленности поляков в проводимой Абвером работе заставили Картельери содрогнуться. Майору Жихоню были известны такие подробности работы Абвера в Польше и Данциге, которые не всегда были известны даже самому ротмистру. Например, во всех подробностях поляки знали о программе предполагавшегося визита адмирала Канариса в Данциг. Поставленная Канарисом задача перед Картельери по поиску польского агента в Абвере также не являлась для них тайной. Последнему стало совершенно ясно, что Абверштелле «Кёнигсберг» на польском направлении своей деятельности понес серьезное поражение. Оценив значимость «Каминского» для Абвера, Картельери распорядился задержать польского разведчика.
Он был временно помещен на охраняемой вилле в ожидании переброски в Восточную Пруссию, где планировалось продолжение опросов. На экстренной встрече с сестрой Паулина Тышевская доложила Жихоню об измене «Каминского» и планах по его переброске в Германию. Майор начал действовать незамедлительно. Была сформирована группа из агентов польской разведки с задачей установления места содержания «Каминского» и его ликвидации. По некоторым данным, поставленная Жихонем задача была успешно выполнена.
Эта жесткая акция по отношению к своим противникам была не единственной в оперативной практике Жихоня. Ему еще как минимум дважды пришлось участвовать в похищении и вывозе из Данцига на расправу в Польшу агентов германской разведки Решотковского и Вихера[94].
Пользуясь случаем, немного отвлечемся от перипетий агентурной борьбы в Данциге и Кёнигсберге, чтобы порассуждать на тему необходимости-целесообразности в разведке. Во многих публикациях, посвященных истории довоенной советской разведки, некоторые авторы либо по наивности, либо по незнанию аналогов предписывают ей какую-то исключительную «кровожадность». Ее сотрудники-де только и занимались физическим устранением лидеров русской военной эмиграции, руководителей троцкистских центров да своих перебежчиков. В таких работах похищения и убийства являются чуть ли не «визитной карточкой» советской разведки, ее исключительной особенностью, отличающей ее от других европейских – «цивилизованных» – разведывательных служб.
Никто и не отрицает многих известных фактов подобных расправ. Никто из нормальных людей также не будет спорить, что убийство вообще грех. Но, к сожалению, в условиях жесткой борьбы спецслужб такие случаи являлись, если так можно выразиться, «законом жанра» и неприятной, но подчас вынужденной необходимостью.
С точки зрения человеческой морали, разведка вообще крайне неблаговидное занятие. На языке общечеловеческих ценностей ложь, притворство, воровство чужих секретов, по сути, предосудительны, но в «зазеркальном и перевернутом» мире разведки действуют свои законы и свои уставы, главным мерилом которых является политическая или оперативная целесообразность. Если нужно (можно) не убивать перебежчика (Орлов-Никольский), его оставят в живых. Если без этого никак не обойтись (Порецкий, Агабеков), отправят куда нужно бригаду «ликвидаторов», которая сделает свое дело, заслужив в Центре награды и признание заслуг.
В двух последних примерах целесообразность физического уничтожения перебежчиков была вызвана двумя разными мотивами. Кратко напомним о связанных с убийствами обстоятельствах. Бывший многолетний резидент ИНО ГУГБ Игнац Порецкий (Рейс), открыто порвав со сталинским режимом, тем самым поставил себя вне закона. Работая в разведке в течение почти двух десятков лет, он стал носителем большого числа сверхважных ее секретов, связанных с деятельностью нескольких десятков, если не сотен, человек. Для советской разведки он стал угрозой безопасности для десятков важнейших разведывательных операций, проводимых во многих европейских странах. Его своевременная ликвидация, конечно, нанесла «имиджу» советского правительства и практической деятельности советской разведки сильнейший удар, но сохранила для нее возможность использования в будущем некоторых ее агентов.
Бывший резидент в странах Ближнего Востока Георгий Агабеков после своего бегства успел сообщить представителям английской разведки много ценной для нее информации, в результате чего репрессиям, включая случаи смертной казни, подверглось около четырехсот человек в нескольких азиатских странах. В мире разведки безнаказанность по отношению к предателям может порождать прецеденты. Соответственно, для устрашения потенциальных изменников в разведке им надо было преподать показательный урок и продемонстрировать, какое наказание их ожидает в случае предательства.
В описываемый нами период многими европейскими спецслужбами использовались очень жесткие, но весьма эффективные акции для нейтрализации угроз безопасности проводимым разведывательным операциям.
Похищения кадровых сотрудников (Биеджиньский, Бест, Стивенс), агентуры противника (Решотковский, Вихер), убийства («Каминский», «Кокино», Лижкевич, братья Карло и Нелло Росселли) использовались разведками «цивилизованных» государств не менее широко.
Когда английская контрразведка разоблачила как советского агента шифровальщика своего МИД Олдхема, чтобы не допустить громкого политического скандала, она просто убила его, инсценировав самоубийство.
В отчетах полиции Амстердама в конце 1930-х годов зафиксировано около десятка неопознанных трупов, обнаруженных в многочисленных каналах города. Уже после войны стало известно, что именно такой способ расправ с агентами противника и устранения нежелательных свидетелей широко применялся разведками и контрразведками Франции, Германии, Великобритании.
Так что обвинять только советскую разведку в применении таких острых форм борьбы, с точки зрения объективности исследования предмета, непродуктивно. Да и вообще, по нашему мнению, использование в исследованиях о деятельности спецслужб понятий и выражений, не относящихся к самому предмету, не следует.
Устранение «Каминского» вызвало очередной переполох в Абвере. Канарис отказался от поездки в Данциг. Картельери за допущенные ошибки был снят с руководящей должности и направлен в центральную Германию на второстепенный участок работы. Источник Жихоня Паулина Тышевская и на этот раз избежала разоблачения.
Сейчас трудно судить, догадывался ли Котц о том, что его подруга работала на польскую разведку. Возможно, какие-то сомнения на этот счет у него и возникали, но он не переставал делиться с ней доступной ему лично служебной информацией. Этому, как представляется, было объяснение психологического свойства. Котц по причине своего смешанного германо-еврейского происхождения всегда чувствовал к себе недоброжелательное отношение со стороны ряда своих коллег, и только его профессионализм и поддержка руководства Абвера и Абверштелле «Кёнигсберг» позволяли ему избегать серьезных неприятностей на расовой почве. Характер его работы и проблемы во взаимоотношениях с сотрудниками превратили Тышевскую для Котца в своеобразную «отдушину», с кем он мог поделиться наболевшим и «поплакаться в жилетку».
Специалисты Абвера, конечно, отдавали себе отчет, что большое количество провалов в Польше не может быть объяснено отдельными недостатками в работе с агентурой. Они, как профессионалы спецслужб, исходили из возможности самого неприятного – работы польского «крота» либо в их аппарате, либо в каком-то ключевом агентурном звене. Жихонь тоже предполагал, что немцы не будут столь наивными, чтобы не исходить из возможности предательства в своих рядах. Поэтому любой арест германских агентов в Польше, состоявшийся по наводке Тышевской, сопровождался дезинформационными мероприятиями по сокрытию истинных причин провалов. Так, например, им была разработана и проведена простая, но, как оказалось, вполне эффективная комбинация, направленная на то, чтобы отвести от Тышевской возможные подозрения в работе на польскую разведку. Правда, для этого Жихоню пришлось пожертвовать одним малоценным для него агентом по фамилии Шлегель[95].
Этот агент был направлен к Тышевской с инспирированным «вербовочным предложением», на которое с ее стороны последовал отказ. В соответствии с ранее обусловленной договоренностью с Жихонем, Тышевская сообщила Котцу об очередном вербовочном подходе со стороны поляков, который принял меры к задержанию посланца майора. Временно подозрения от Тышевской были отведены.
Получаемые от Тышевской сведения о работе Абвера в Польше вплоть до начала войны всегда высоко ценились поляками. К 1939 году (точный срок не известен) Котц был уволен из германской военной разведки и работал к тому времени на Данцигской верфи, не прерывая, впрочем, личных контактов со своими бывшими коллегами. Последние информационные сообщения Тышевской были датированы весной и серединой лета 1939 года и, несмотря на уход Котца из Абвера, были все так же актуальны и своевременны.
В частности, в поступивших Жихоню донесениях от 4 и 5 апреля 1939 года содержалось множество фактических данных о работе германской разведки в Польше. Например, со слов Вальтера Вебе следовало, что им получены личные указания адмирала Канариса о формировании в Данциге нового аппарата, не связанного организационно с существовавшими уже разведывательными точками. Сотрудник Абверштелле «Штеттин» майор Альфред Функ завербовал в Варшаве двух агентов, один из которых служил в Войске Польском военным врачом, а другой занимал руководящую должность в одном из польских банков.
Из переданной Тышевской информации следовало, что Вальтер Вебе встречи с наиболее ценной польской агентурой не рисковал проводить в Данциге, а предпочитал для этих целей выезжать в Ригу или Стокгольм, несмотря на связанные с поездками высокие денежные расходы.
Другой сотрудник АНСТ «Данциг» Беслак сообщил Котцу, что находящаяся в разработке гестапо некая Кальяньская фигурирует в картотеке польской разведки как ее агент. Но в связи с отсутствием ключевой информации, изобличающей ее в шпионаже во время работы в Париже, на тот момент ее арест признан нецелесообразным. Начальник польского отдела Абвера в Берлине Мюллер был занят сбором таких сведений[96].
Накануне германского нападения на Польшу Жихонь решил спасти своих агентов, предупредив их об опасности. В августе 1939 года сотрудник польской разведки посетил чету Бруцких и предложил в связи с ухудшающимися польско-германскими отношениями всей семьей эмигрировать в Швецию, для чего им была обещана материальная помощь. Аналогичное предложение было через них сделано и Тышевской. Все они указанное предложение не приняли, объяснив свой отказ различными бытовыми причинами, такими как нежелание покидать насиженные гнезда, детьми и т. д. Эта ошибка дорого им всем обошлась.
Эта разведывательная операция Жихоня была завершена 12 декабря 1939 года, когда чета Бруцких, Тышевская и Котц были арестованы гестапо на основании материалов польской разведки, доставшихся немцам как военный трофей в варшавском форте Легионов. Следствие растянулось почти на полтора года, пока финальную точку в их судьбе 21 марта 1941 года не поставил военно-полевой суд, приговоривший Бруцких и Тышевскую к смертной казни. Их несовершеннолетние дети после временного содержания в Данцигском доме ребенка были направлены в Центральную Германию, где их следы в лихолетье войны потерялись окончательно. Рейнхолд Котц по совокупности служебных проступков и за утрату бдительности был осужден к пяти годам тюремного заключения.
Кроме Тышевской, в качестве агентов проникновения в специальные службы Германии с быдгощской экспозитурой в 1930-е годы сотрудничало еще как минимум два агента – «1082» и «Сухецкий», которые были связаны с данцигским полицайпрезидиумом. Если первый прекратил сотрудничество с польской разведкой в начале 1930-х годов, то судьба второго сложилась более трагически – в 1937 году он был арестован гестапо[97].
Операция «Возок»
Другая крупномасштабная операция польской разведки, проводимая под непосредственным руководством майора Жихоня, также вошла в ее «золотой фонд» как классическая, с точки зрения оперативного эффекта, малой затратности, высокой степени риска, негативным политическим последствиям в случае обнаружения и т. д. Речь идет об операции по досмотру германской почтовой корреспонденции, включая секретную, получившей условные наименования «Тетка», «Тележка» (с 4 марта 1936 года). Если вербовка и руководство Бруцкими, Тышевской, «Бруно» и другими агентами свидетельствовали о незаурядных качествах Жихоня как вербовщика и полевого разведчика, то операция «Тележка» продемонстрировала его высокие организаторские способности как руководителя операции, в которой было задействовано множество непосредственных исполнителей и обеспечивавшего ее ход персонала.
Дело в том что Польша, получившая по Версальскому договору прямой выход к Балтийскому морю, тем самым лишила Восточную Пруссию территориального единства с остальной частью Германии. Связь с этим регионом осуществлялась посредством морского, воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщений. Последние два вида транспорта могли функционировать по строго оговоренным коридорам, проходящим по территории Польши. Соответственно, поезда, перевозившие почтовую корреспонденцию, направлявшуюся из (в) Восточной Пруссии, на время следования транзитом через территорию Польши попадали под ее юрисдикцию, чем не преминула воспользоваться польская разведка.
Но прежде чем приступать к реализации такой сложной операции, польская разведка детально изучила обстановку вокруг транзитного железнодорожного сообщения с Восточной Пруссией. В частности, благоприятным обстоятельством, способствующим обеспечению безопасности проводимых мероприятий, явился тот факт, что в сопроводительной документации отсутствовали описи содержимого почтовых вагонов. Германские почтовые чиновники при передаче своим польским коллегам грузов учитывали только количество перевозимых единиц, начиная от отдельных посылок до мешков с письмами. Это дало возможность полякам обрабатывать почту, изымая на время интересующие их материалы.
С самого начала операции Жихонь придавал большое значение работе агентуры, задействованной на самых разных ее этапах. Он прекрасно понимал, что без хорошо подготовленных в профессиональном отношении помощников ему не обойтись. Малейший сбой мог привести к серьезным политическим осложнениям. Своим подчиненным сотрудникам Жихонь предписывал на случай провала подготовить каждому агенту «отступную» легенду, предусматривающую ясное и не поддающееся двойному толкованию объяснение его «противоправных» действий. Так, если бы агент был взят с поличным при «обработке» почты, ему предлагалось признать факт изъятия и вскрытия корреспонденции, но истинную цель не раскрывать, объясняя случившееся житейски понятными мотивами воровства денег, содержащихся в конвертах. При этом предлагалось всячески отрицать истинный мотив, так как наказание за обычную кражу было гораздо ниже, чем за участие в шпионских аферах.
Первые сведения о проводимых поляками выемках германской почтовой корреспонденции относятся еще к 1930 году. Так, в одном из отчетов начальника ПО № 2 в Чойницах поручика Щливиньского капитану Жихоню речь идет об организационных и практических трудностях, с которыми столкнулись исполнители при проведении мероприятий. В частности, в отчете говорилось о том, что почта, направляемая из Восточной Пруссии по маршруту Мальборк – Стжебелино, сопровождается служащими германской почтовой дирекции, которые для контроля используют специальные зеркальные приспособления[98].
Почта же, следующая из Германии в Восточную Пруссию, охраной не обеспечивается. Это давало возможность исполнителю Вееровскому изымать отдельные почтовые отправления во время остановки поезда на станции в г. Тшеве. Изъятая корреспонденция уже скоростным пассажирским поездом направлялась на перлюстрацию на станцию в Чойницах с таким расчетом, чтобы исполнители, после обработки, успели ее вернуть в почтовый вагон Вееровскому или в его отсутствие другому «цеткажу», как на оперативном сленге именовались участники акций.
На первом этапе операции «Тетка» наиболее значимые результаты были получены постерунком офицерским № 2. Капитан Мариан Влодаркевич докладывал, что с августа 1930 года на линии Чойницы – Мальборк были задействованы агенты «554», «567», «556», «1058». Другой участок ответственности постерунка на отрезке Мальборк – Венгерово обеспечивался агентами «564» и «565». Таким образом, шесть агентов постерунка составляли 67 % всей агентуры, участвующей в 1930 году в операции «Тетка»[99].
Первые же выемки почты продемонстрировали высокую эффективность таких акций. Достоянием польской разведки стало множество материалов различной ценности. Как писал Жихонь, «Тетка» приносит нам много служебной пользы, так как документы большей частью ценные, а главное, на 100 % оригинальные».
Отчитываясь о работе за 1931 год, капитан Влодаркевич отмечал, что, в связи с ужесточением немцами требований к пересылке почтовых отправлений, требуется большая осторожность при осуществлении отдельных акций, проводимых в рамках операции «Тетка». Так, он отмечал, что письма, направляемые в интересующие поляков адреса военных, полицейских и других структур, оформляются как заказные, исключающие возможность длительной их обработки. Возросло также число бандеролей, опечатываемых при помощи сложной конфигурации из ниток, бечевок, сургучных оттисков и т. д. Эти действия германской стороны не только осложняли работу польской разведки, но на какое-то время заставляли ее приостанавливать акции по выемкам[100].
Жихоню и его подчиненным потребовалось также решать множество других важных вопросов, связанных с обеспечением безопасности «Тетки». Например, после того как немцы для пересылки образцов изделий военного назначения стали использовать так называемые метизы, потребовалось провести дополнительные вербовки из числа служащих почтового и железнодорожного ведомства, которые могли представить оригинальные образцы приспособлений для опечатывания и пломбирования отправлений. Например, привлечение к сотрудничеству начальника польской почты в Чойницах позволило сотрудникам разведки получить в требующемся количестве оригинальные немецкие пломбы, проволоку, нитки и т. д. Через него же был получен пломбиратор, по которому поляки изготовили качественно выполненный поддельный образец.
Сама операция «Тетка» требовала от всех ее участников точной координации действий на всех этапах ее реализации и своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки. Когда была получена информация из агентурных источников о том, что польская и зарубежная почта, направляемая в Данциг, концентрируется в Познани, Жихонь распорядился организовать перлюстрацию таких почтовых отправлений на месте.
Со временем Жихонь создал сложную, но эффективную систему взаимодействия большого коллектива, состоящего из сотрудников, агентов и привлеченных лиц из числа железнодорожников и почтовых служащих.
В случае, если выемку почты нельзя было произвести в стационарных условиях (во время стоянок поездов), практиковался экстремальный вариант. Посвященный в существо акции машинист на определенном участке железной дороги замедлял ход состава, в почтовые вагоны которого проникали сотрудники и агенты-«цеткажи». Во время движения состава вскрывались мешки, конверты, метизы, производилась оценка их содержимого на месте. Отобранные по определенным признакам отправления доставлялись на специально подобранные конспиративные квартиры, где производилось их вскрытие и фотографирование. Подвергшиеся вскрытию вагоны пломбировались оригинальными немецкими приспособлениями. Самый сложный этап работы заключался в обратном запечатывании обработанной почты, исключавшем саму возможность обнаружения немцами несанкционированного доступа к ней[101].
В 1936 году произошла замена условного наименования операции «Тетка» на «Возок» (Тележка, Повозка). Жихонь в письме руководству 2-го отдела Главного штаба от 27 марта 1936 года так объяснял причину смены названия: «Принимая во внимание, что название “Тетка” известно уже многим лицам не только во 2-м отделе, но и, например, полицейским, почтовым служащим, сотрудникам стражи граничной, с 4 марта 1936 года я изменил название “Тетка” на “Возок”. Это название я буду использовать только в отношении зарубежной почты, следующей транзитом, и почты Гданьска. По отношению к отечественной почте название “Тетка” будет употребляться в отношениях с отдельными информационными рефератами (SRI). Изменения диктуются необходимостью соблюдения требований секретности в отношении такого ценного источника информации»[102].
По мере приближения войны возросло количество и качество получаемого разведывательного материала. В руки поляков попадала не только «закрытая», но и по-настоящему секретная информация, отражающая процесс укрепления военного потенциала Германии в Восточной Пруссии. В частности, относительно регулярно изымались приказы и распоряжения различных германских штабов, позволявшие оценивать ход военного строительства. Несколько раз были получены отчеты о результатах контрразведывательной деятельности Абверштелле «Кёнигсберг», в которых содержались сведения о разоблаченной польской агентуре. Исследовалась не только документация, но и отдельные образцы вооружения и снаряжения.
Одна из акций принесла неожиданный эффект. Поляками был подвергнут досмотру легковой автомобиль, как оказалось, принадлежавший некоему полковнику Формиту. В его багажнике была обнаружена совершенно секретная документация, относящаяся к прошедшим крупным военным учениям в Восточной Пруссии. После их фотографирования документы были возвращены на место. В определенные периоды операция «Возок» приносила польской разведке до 60 % всех разведывательных сведений по германской проблематике, получаемых по каналам территориальных экспозитур и зарубежных плацувок реферата «Запад»[103].
Одним из критериев эффективности разведывательных операций является соотношение между финансовыми затратами на их проведение и качеством добытых материалов. С этой точки зрения «Возок» была одной из самых «низкобюджетных» операций польской разведки. В ее сохранившихся документах содержатся сведения о выделяемых на ее проведение суммах. За редкими исключениями, затраты на покупку фотографических материалов, оплату агентуры, транспортные расходы и т. д. не превышали сумму в 1000 злотых ежемесячно[104].
На пути к краху
К числу наиболее ценных для польской разведки материалов, добытых Экспозитурой № 3 в последние предвоенные годы, относятся:
– штатное расписание мирного и военного времени различных воинских частей, служб, управлений, военных учебных заведений Вермахта;
– секретный бюджет германского ВМФ с постатейной росписью расходов за 1937, 1938 годы;
– книги приказов по личному составу Вермахта, изданные после 1937 года;
– большой массив проектной документации о фортификационных сооружениях на территории Восточной Пруссии;
– секретные методические разработки штабов различных частей Вермахта о действиях войск в условиях войны;
– документация о перспективных планах военных перевозок железнодорожным транспортом;
– учебные пособия и инструкции офицерских школ и курсов подофицеров германских ВВС;
– материалы военных игр и учений штаба 1-го военного округа (Wehrkreiskommando № 1) в Кёнигсберге;
– секретная документация о структуре, планах боевой подготовки и использования в случае войны частей 1-го военно-воздушного округа (Luftkreiskommando № 1) в Кёнигсберге[105].
По мере приближения войны обстановка в Данциге накалилась до предела. Подогреваемое антипольской пропагандой германское население города и члены различных нацистских формирований начали совершать многочисленные насильственные действия в отношении своих соседей – поляков по происхождению. Наиболее вопиющим случаем попрания норм морали явилось сначала убийство польского военнослужащего Михала Розкановского, а потом обстоятельства передачи его тела польским властям. 16 августа 1939 года сменявшийся караул не обнаружил на посту часового. Через некоторое время польским властям стало известно, что пограничник был застрелен, а его труп был перемещен на территорию Германии.
После завершения переговоров об условиях возврата тело Розкановского было передано на родину. Результаты судебно-медицинского обследования были отражены в соответствующем акте. В частности, польскими специалистами было обнаружено отсутствие диафрагмы и четырех ребер с левой стороны. Установлено, что оставшиеся внутренности были уложены хаотично, кроме них в брюшной полости были обнаружены фрагменты тел других людей: женской матки, обломки детской черепной коробки, три почки разных лиц, два языка вместе с пищеводом и трахеей, а также много посторонних предметов (куски дерева, солома, обрывки ткани и т. д.)[106].
Первые часы после вступления частей Вермахта на территорию Польши для Жихоня прошли в исключительно напряженной обстановке. В докладе, направленном в Центр 1 сентября 1939 года в 3.40, он писал, что в 2.10 начались нападения германских разведывательно-диверсионных групп на различные объекты военной инфраструктуры: мосты, путепроводы, хранилища военной техники и снаряжения. Атакам подверглись места расположения плацувок пограничной стражи в Ежорках, Желгнове, Накле. Польские пограничники понесли первые потери.
С утра следующего дня начались массированные бомбардировки г. Быдгощи. В 10.45 девять «юнкерсов» сбросили свой груз на железнодорожную станцию, казармы 15-го Великопольского полка легкой артиллерии и 61-го пехотного полка. В результате авиационных налетов в городе возникло 23 очага пожаров. Было убито более 200 мирных жителей и военнослужащих польской армии. Вечером 2 сентября, после уничтожения значительной части документации, началась эвакуация экспозитуры сначала в направлении г. Влоцлавка, позже – в г. Брест[107].
18 сентября в составе своего аппарата вместе с руководством 2-го отдела Главного штаба Жихонь перешел границу с Румынией.
В подготовленном отчете о результатах своей деятельности в предвоенные месяцы Жихонь писал, что «в предвоенные годы польская зарубежная разведка Главного штаба, проводимая в Германии, стояла на высоком уровне… Смею утверждать, что она по своим возможностям значительно превосходила разведки других государств, работающих по Германии»[108].
Крупнейшим успехом германской и, соответственно, катастрофой польской разведки явилось обнаружение архивной документации 2-го отдела Главного штаба. Руководство Абвера и полиции безопасности и СД заблаговременно подготовилось к военной кампании. По линии этих органов заранее были сформированы специальные команды, в числе прочих решавшие задачи захвата секретной документации Войска Польского и других польских органов власти и управления. С началом боевых действий эти команды, двигаясь в наступающих порядках Вермахта, занимали места расположения важных военных и правительственных учреждений Польши и организовывали поиск такой документации на местах.
По свидетельству О. Райле, предпринятые абвергруппой под командованием гауптмана Буланга поиски секретных польских архивов в Саксонском дворце на площади Пилсудского, где располагалась штаб-квартира польской разведки, ни к чему не привели. «Улов» ограничивался несекретными документами и подсобными служебными материалами, такими как телефонные справочники городов Германии, картотека польских эмигрантов, официально опубликованные Вермахтом справочники и т. д.
И только через несколько дней после завершения обследования дворца на окраине Варшавы, в форте Легионов, Булангом была обнаружена большая часть архива польской разведки. По данным Райле, в качестве трофеев немцам достались материалы, отражающие деятельность польских военных атташатов и, как он пишет, «бромбергского филиала» польской разведки, имея в виду Экспозитуру № 3 в г. Быдгоще и «множество других»[109].
Сам форт Легионов был построен русскими военными инженерами в 1854 году как один из пяти фортов первой оборонительной линии Варшавской цитадели. После того как с развитием артиллерийских средств борьбы чисто оборонительные функции фортов были в значительной степени утрачены, в начале XX века начался процесс их перепрофилирования. С 1915 года форт Владимира (Владимирский), как он именовался до 1919 года, стал служить далеким от нужд обороны целям. Он стал использоваться как место хранения архивных фондов штаба Варшавского военного округа – крупнейшего дореволюционного архивохранилища ценнейших документов русской военной истории. В частности, его фонды включали в себя несколько тысяч томов нормативной документации военного ведомства, несколько сот тысяч единиц хранения, относящихся ко всем вопросам деятельности Варшавского военного округа, самые ранние из которых были датированы 1831 годом.
В лихолетье Первой мировой войны этот ценный объект уцелел.
И германские оккупационные, и польские военные власти, отдавая себе отчет в исторической ценности русских военных архивов, приняли меры к обеспечению их сохранности, и вплоть до 1919–1921 годов они оставались на своем месте. После того как приказом по польскому военному ведомству (Ministerstwo Spraw Wojskowych) был создан Центральный военный архив, вся совокупность русских и польских военных архивов была передана в его ведение. С указанного времени, испытывая потребность в централизованном хранении и обработке архивной документации, относящейся к истории молодого Войска Польского, военные власти отдали распоряжение о частичном вывозе старых русских архивов на другие объекты. Вплоть до 1939 года форт Легионов использовался в качестве склада № 1 Военного архива[110].
Захваченная немцами документация была погружена в пять товарных вагонов и направлена во вновь образованный филиал потсдамского военного архива в пригороде Данцига – Оливе. Результатами совместного с гестапо изучения польских материалов стал арест около ста человек, в разное время сотрудничавших с польской разведкой на территории Германии[111].
К настоящему времени установлено, что процесс эвакуации архивной документации начался сразу же после начала боевых действий в сентябре 1939 года. К моменту обнаружения капитаном Булангом брошенных фондов польской разведки в безопасные районы были вывезены секретная документация Главного инспектората вооруженных сил (GISZ) и наиболее секретная часть актов Военного архива, включавшая в себя документацию 2-го отдела Главного штаба.
Но общий объем захваченных немцами и переправленных в Оливу польских военных архивов достиг более шестидесяти железнодорожных вагонов (58 – в 1939-м и 10 – зимой 1940 года)[112].
По воспоминаниям бывшего сотрудника польской разведки майора Тадеуша Новиньского, с началом военных действий архивные документы и материалы текущего делопроизводства 2-го отдела подверглись сортировке с точки зрения актуальности их использования в будущей работе. Другую часть, не имевшую практической ценности, предполагалось уничтожить. По мере завершения такой сортировки, отобранные для эвакуации материалы были перевезены в два здания, в которых были также собраны документы других органов военного управления. Когда возникла угроза непосредственного захвата Варшавы, материалы в ускоренном порядке начали направлять автомобильным и железнодорожным транспортом в сторону румынской границы. Вот на этом этапе, скорее всего, и стала возможной утрата части архива.
Судьбы вывезенных из Варшавы архивов сложились по-разному. Часть из них была утрачена во время эвакуации, часть уничтожена в процессе транспортировки, меньшая часть попала в польское посольство в Бухаресте.
До сих пор среди польских историков ведутся споры о том, как стало возможным такое преступное бездействие ответственных за хранение архивной документации лиц, кто из них персонально виновен и какова степень их вины. Этот процесс был начат в эмигрантских кругах сразу после того, как стало известно о захвате архивов польской разведки. Так как значительная часть немецких трофеев относилась к документации Экспозитуры № 3, одним из обвиняемых и оказался майор Жихонь, который якобы не принял надлежащих мер к ее эвакуации и уничтожению.
Ценным свидетельством в пользу Жихоня является отчет начальника гестапо в Магдебурге штурмбанфюрера СС Хельмута Бишофа, подготовленный им в марте 1943 года. В отчете были отражены результаты поисков сотрудников, агентов и документации Экспозитуры № 3 в г. Быдгоще, предпринятых им 5–11 сентября 1939 года. Из отчета следовало, что сразу же после захвата немцами города эйнзатцкоманда полиции безопасности и СД – 2/IV обследовала сохранившиеся здания на улицах Понятовского, 5, и Цишковского, 2, в которых до начала боевых действий располагался территориальный аппарат польской военной разведки.
Как писал в отчете Бишоф, взобравшиеся при помощи стремянок в окна первых этажей сотрудники гестапо в помещениях и сейфах секретной документации Экспозитуры № 3 не обнаружили. В служебном кабинете самого майора Жихоня на его пустом столе одиноко лежала его визитная карточка как указатель на то, что поиски немцев бесперспективны и ни к чему не приведут[113].
Как представляется, Жихонь, будучи опытным и хорошо информированным разведчиком, заблаговременно мог подготовиться к эвакуации своей экспозитуры. Тогда возникает вопрос: какие документы Жихоня были захвачены немцами в форте Легионов? В этой связи высказываются версии, что обнаруженные материалы не являлись оригиналами оперативной документации, а были рабочими копиями, контроль за которыми Жихонем и другими ответственными сотрудниками разведки был утрачен в условиях неразберихи боевых действий.
Скорее всего, текущие агентурные дела (не архивные), идентифицирующие источники польской разведки, в захваченной немцами части архива, по большей части, отсутствовали. Косвенным подтверждением такой версии является, например, тот факт, что ценнейшая агентурная группа Тышевской и четы Бруцких была арестована немцами только в середине декабря 1939 года, то есть через три месяца после захвата польских архивов. Как представляется, немецкие специалисты, исследовавшие их, знали, что следует искать в первую очередь, во вторую и т. д. Несмотря на кажущийся, на первый взгляд, большой объем трофейной документации (шесть вагонов), их первичная обработка, включавшая в себя сортировку агентурных, информационных, финансовых и других дел, не заняла бы три месяца. Но это время вполне могло быть затрачено на исследование информационной и отчетной документации, в которой установочные данные (фамилии, места жительства, работы) на агентуру отсутствовали.
Можно, конечно, делать скидку на то, что немцам пришлось затратить какое-то время на первичную обработку захваченной документации. Но если бы им попались в руки агентурные дела группы Тышевской, аресты произошли бы гораздо раньше.
Еще до нападения Германии на Польшу началась настоящая охота на кадровых офицеров польских спецслужб как возможных источников информации о деятельности польской разведки на территории Рейха. Не прекращалась она и с началом боевых действий.
Еще до 1 сентября 1939 года был арестован сотрудник плацувки в Липске поручик Мечислав Рай, позже погибший при невыясненных обстоятельствах.
В Восточной Пруссии было арестовано четыре сотрудника разведки, не успевших покинуть ее территорию до начала войны. Один из них, начальник консульской плацувки в Кёнигсберге майор Шулер, зная, что человеческие возможности противостоять пыткам небезграничны и чтобы сохранить жизнь своим агентам, в тюремной камере кёнигсбергского полицайпрезидиума покончил жизнь самоубийством. Ротмистр Еловецкий, работавший в г. Эльке, также погиб в застенках гестапо. Судьбы еще двух офицеров разведки в Восточной Пруссии остались неизвестны[114].
Сотрудник отдельного информационного реферата штаба ВМФ Польши в Гдыне Антоний Каштелян, после ареста содержавшийся некоторое время в лагере военнопленных, позже был передан в данцигское гестапо. Находясь во внутренней тюрьме местного полицайпрезидиума, он подвергался интенсивным пыткам. 13 января 1942 года специальным военным судом Каштелян был приговорен к смертной казни. Приговор был исполнен в тюрьме кёнигсбергского полицайпрезидиума путем обезглавливания при помощи гильотины. Его тело было передано в анатомический институт Альбертины (Кёнигсбергского университета) для препарирования и изготовления учебных пособий.
В застенках гестапо погибли: начальник плацувки в Тулузе капитан Густав Фирла, сотрудник берлинской плацувки майор Альфонс Якубанец, военный атташе Польши в Берлине полковник Витольд Моравский и многие другие офицеры довоенной польской разведки. Майору Жихоню удалось избежать такой судьбы, завершив свою жизнь и карьеру на поле битвы. Но об этом – чуть позже.
После эвакуации 2-го отдела во Францию, с октября 1939 по январь 1940 года, Жихонь состоял в сборной команде без назначения на должность, соответствующую его профессиональному потенциалу. Испытывая неудовлетворенность своим бездеятельным состоянием, он обратился к генералу Соснковскому с просьбой направить его в оккупированную Польшу для налаживания подпольной разведывательной деятельности, что в тогдашних условиях было определенным актом мужества. Но в условиях борьбы за власть соперничающих военно-политических группировок польской эмиграции Жихоню была предназначена другая роль. После назначения его будущего врага Тадеуша Новиньского исполняющим обязанности начальника разведывательного отделения Военного министерства (MSW), который допустил ряд серьезных организационных ошибок, Жихонь выступил его оппонентом в спорах об организации разведки в условиях военного времени[115].
Французская разведка, испытывая потребность в получении информации о подготовке нападения Германии, старалась использовать сохранившийся потенциал польского 2-го отдела в своих интересах. В ее составе была сформирована отдельная польская секция, руководителем которой, по согласованию со штабом Верховного вождя, и был назначен майор Жихонь. За относительно короткий промежуток времени ему удалось «реанимировать» часть своих бывших помощников и наладить получение от них информации по объектам заинтересованности французов.
На это же время пришлась очередная реорганизация структур польской разведки, в рамках которой было ликвидировано разведывательное отделение штаба Верховного вождя, вместо которого был сформирован 2-й отдел Главного штаба (военного времени) во главе с военным атташе Польши во Франции полковником Тадеушем Василевским.
Находясь в начале нового этапа деятельности польской разведки в эмиграции, Жихонь принимал самое активное участие в организации новых разведывательных структур в Бухаресте, Загребе, Стокгольме, Стамбуле, Берне, тем самым заложив основы мощного разведывательно-диверсионного аппарата польской разведки военного периода.
Весной 1940 года Жихонь заручился согласием Верховного вождя генерала Сикорского на разработку нормативной документации по формированию специальных карательных военных учреждений. Это дало ему возможность войти в категорию приближенных к генералу лиц. Но после поражения Франции летом 1940 года началась массовая эвакуация польских эмигрантских военных и гражданских властей в Великобританию. Жихонь и здесь смог отличиться, когда, сев на судно, перевозившее груз вольфрама из Бордо в Касабланку, под угрозой применения насилия заставил капитана изменить курс на один из британских портов.
По прибытии в Англию Жихонь в качестве начальника разведывательного отделения 2-го отдела с удвоенной энергией приступил к формированию новых и воссозданию старых разведывательных аппаратов. В дополнение к продолжавшим действовать плацувкам в Берне, Бухаресте, Стамбуле, Стокгольме, Загребе добавились экспозитуры «F», «300», «NT» – во Франции, «М» – в Мадриде, «Р» – в Лиссабоне, «S» – в Берлине, «L» и «PLN» – в Стокгольме, «AFR» – в Каире. Во Франции также начала активно действовать многочисленная агентурная сеть «Interalle» под руководством Романа Чернявского, проваленная через некоторое время усилиями «аса» германской контрразведки Гуго Блейхера.
Когда Жихонь только получил назначение, в составе его отдела работало несколько десятков офицеров и 30 агентов. Ко времени же завершения разведывательной карьеры Жихоня в 1944 году на его отделение в составе трех рефератов (центрального, восточного, западного) замыкалось 8 экспозитур, 4 отдельные плацувки, 25 плацувок, руководивших работой 420 агентов и 91 информатора.
Зимой 1941 года подполковник Станислав Гано, исполнявший обязанности заместителя начальника 2-го отдела штаба Верховного вождя в характеристике Жихоня отмечал его «врожденный организаторский талант и знание людей», работоспособность и заботу о подчиненных при повышенной требовательности к ним в процессе служебной деятельности.
После трагической гибели генерала Сикорского 4 июля 1943 года позиции Жихоня в «коридорах» власти заметно ослабли, чем не преминули воспользоваться его враги из лагеря «пилсудчиков». Бывший начальник реферата «Восток» капитан Ежи Антоний Незбжицкий и майор Тадеуш Новиньский обвинили его ни много ни мало как в сотрудничестве с германской разведкой. Несколько подробнее этот эпизод биографии нашего героя будет изложен ниже при описании деятельности его главного врага – капитана Незбжицкого. Пока же ограничимся тем, что в военном суде выдвинутые против Жихоня обвинения были признаны безосновательными, а сам он был полностью оправдан. Но после таких злоключений Жихонь оправиться уже не смог.
Он добровольно покинул разведывательную службу, перейдя на должность обычного строевого офицера Войска Польского – заместителя командира 13-го Виленского стрелкового батальона. Источники, описывающие последние дни жизни Жихоня, различаясь в деталях, говорят об одном: 17 мая 1944 года, находясь в боевых порядках наступающего под Монте-Кассино батальона, майор Жихонь был смертельно ранен и на следующий день умер в полевом госпитале. Так закончилась жизнь одного из самых успешных офицеров польской военной разведки[116].
В последние два десятилетия в Польше вышло множество книг по истории довоенного 2-го отдела Главного штаба Войска Польского, и мало в какой из них мы не встретим хотя бы нескольких строк, посвященных майору Жихоню. Подавляющее большинство авторов, описывая ход и результаты работы Экспозитуры № 3, отмечают, что только благодаря незаурядным личным и деловым качествам майора Жихоня стали возможны ее успехи, а сам он стал «легендой» 2-го отдела Главного штаба Войска Польского.
Кто вы, Рихард Андреас Протце?
Туры вальса с советской разведкой
9 декабря 1931 года в Бадене австрийской контрразведкой были арестованы некий Мартин Кляйн и его жена Рут Кляйн. Почти одновременно с ними было арестовано еще четыре человека. Все они проходили по одному делу как подозреваемые в шпионаже в пользу неназванного государства. Через относительно короткий промежуток времени задержанные были отпущены на свободу с предписанием покинуть территорию Австрии в 24 часа.
В то время мало кто знал, что этими событиями был положен конец одной из резидентур советской военной разведки в Австрии, а под фамилией Кляйн действовал ее резидент Константин Михайлович Басов (Ян Янович Аболтынь). Еще меньше людей знало истинную причину такого скорого освобождения[117].
В начале 1930-х годов советская военная разведка понесла на фронтах тайной войны ряд серьезных поражений. Поистине «черным» для нее стал 1933 год. Четыре крупнейших в истории Разведупра провала – в Латвии, Финляндии, Германии, Франции – были связаны с ликвидацией четырех крупнейших резидентур и арестом нескольких десятков агентов, входивших в их состав, включая ценнейших. Громкая шумиха в западной прессе заметно осложнила и без того непростые отношения с западными государствами. Советской дипломатии пришлось приложить немало усилий, чтобы нормализовать внешнеполитическую ситуацию.
Бичом военной разведки Советского Союза были так называемые горизонтальные связи. Понятие «горизонтальные связи» в негативном смысле предполагает, что, в нарушение всех правил конспирации, отдельные участники разведывательной деятельности имели санкционированные и несанкционированные контакты со своими сослуживцами из числа зарубежных работников, не вызванные служебной необходимостью. Это было предпосылкой различного рода неприятностей, вплоть до серьезных провалов.
Кроме того, отличительной особенностью советской разведки на начальном этапе ее деятельности являлось формирование крупных разведывательных структур, объединявших значительное число подчиненных аппаратов во многих европейских странах.
Так, например, созданный в 1921 году при миссии РСФСР Берлинский руководящий центр Разведупра руководил деятельностью многих резидентур и агентурных групп, действовавших как в самой Германии, так и в Австрии, Италии, Франции, Чехословакии, Польше.
Крупная нелегальная резидентура ИНО ОГПУ «Беера» (Бертольд Карлович Ильк) к 1929 году насчитывала до сорока агентов, включая девять особо ценных. Они действовали в Великобритании, Франции, Германии, Польше, Прибалтийских и Балканских государствах[118].
Организационные и практические сложности функционирования таких трудноуправляемых аппаратов также были прямыми предпосылками для грандиозных провалов, сопровождавших советскую разведку на всем протяжении 1920–1930-х годов. В рамках совершенствования агентурной работы за рубежом руководство военной и внешней разведок СССР в начале 1930-х годов приняло ряд важных организационных решений, предусматривающих разукрупнение действующих разведывательных аппаратов и перевод части из них на нелегальное положение. Эффективность проводимой работы в этой связи заметно выросла, но, если так можно выразиться, «детские болезни» разведки окончательно излечить не удалось. Примером могут служить следующие эпизоды работы советской разведки в Германии в начале 1930-х годов.
В 1932 году от агента советской внешней разведки, скрытого под криптонимом «А-201», были получены убедительные сведения о том, что немцы имеют источник информации в аппарате советской военной разведки. Эти сведения содержались в секретном докладе начальника 2-го реферата отдела А1 (политического) берлинского полицайпрезидиума Геллера. Характер передаваемой информации оставался неясен, как неясно было местопребывание источника: резидентура в Берлине или центральный аппарат в Москве[119].
Понятно, что проигнорировать такой важный сигнал о неполадках у военных коллег начальник иностранного отдела ОГПУ Артузов не мог. Основанием для беспокойства был тот факт, что указанная информация была получена от проверенного и ценного источника в аппарате отдела А1 берлинского полицайпрезидиума Вилли Лемана, уже несколько лет успешно работавшего на советскую внешнюю разведку. На высокую степень опасности указывал и сам характер информации, и ее источник – секретный документ германской контрразведки.
Установленным порядком Артузов поставил в известность начальника Разведывательного управления штаба РККА Я. Берзина о существе дела и предпринял неотложные действия по своему ведомству для установления источника утечки сведений в германскую контрразведку.
Здесь впервые в нашей истории появляется новый персонаж, на котором будут «завязаны» многие незримые нити дальнейшего повествования. Этим человеком был один из старейших сотрудников советской военной разведки Василь Федорович Дидушок (Василий Дидушек). Для того неспокойного времени его биография была вполне типична для людей его профессии.
О нем известно относительно немного: в годы Первой мировой войны он в звании капитана австро-венгерской армии, в должности командира батальона принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте. Находился в русском плену. После перехода в 1917 году на службу в Центральную Раду Украины, вместе с Евгеном Коновальцем (!), принимал участие в формировании корпуса сечевых стрельцов из военнопленных украинцев, служивших в австро-венгерской армии. В звании полковника армии Украинской Народной Республики исполнял обязанности начальника штаба корпуса. Нам не известно, какие пути привели Дидушка на службу в Красную армию, но уже в 1920 году он был зачислен в штат Разведупра, задания которого впоследствии выполнял во многих европейских странах[120].
По одной из версий, к работе на советскую разведку Василь Дидушок был привлечен в 1920 году его братом Петром. После отбытия в Польше трехлетнего заключения за шпионаж в пользу Советской России Василь Дидушок с 1926 по февраль 1929 года работал сотрудником нелегальной резидентуры Разведупра в Харбине, а с указанного времени до 1930 года – в Финляндии[121]. К началу его карьеры как разведчика мы еще вернемся.
В находящихся в распоряжении автора источниках не указано, какая существовала связь между полученной от агента «А-201» информацией и арестом в 1932 году помощника Басова по резидентуре Василя Дидушка, но такая связь, на наш взгляд, определенно существует. Подтверждением такой версии являются описанные ниже события, а также тот факт, что отозванный в мае 1932 года в Москву Дидушок вскоре был арестован и 2 сентября 1933 года Коллегией ОГПУ был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, замененному на 10 лет лагерей. Обратим внимание, что описанные ниже события не относятся к периоду репрессий 1937–1938 годов, и, следовательно, дело расследовалось индивидуально, по конкретным обвинениям[122].
Важные сведения по «делу Дидушка» были получены несколько ранее от другого агента советской внешней разведки Романа Бирка, ветерана советских спецслужб, активно сотрудничавшего с ними еще со времен проведения крупномасштабной операции ВЧК-ОГПУ «Трест». Так, осенью 1931 года его контакт в немецких спецслужбах Гесслинг «по дружбе» рассказал, что он связал с ответственным сотрудником Абвера Рихардом Протце своего знакомого Франца, работающего «по балканской линии» в советской разведке. Под фамилией Франца, находясь на нелегальном положении, и работал Василь Дидушок[123].
Очевидно, информация Вилли Лемана об агентурном внедрении германской контрразведки в советскую военную разведку явилась ключевым подтверждением сведений Бирка, что и определило печальную судьбу помощника резидента.
В ходе следствия была подтверждена часть информации и выяснились многие интересные подробности. В частности, стало известно, что прибывший в 1931 году из Финляндии на должность помощника резидента в Австрии Дидушок каким-то образом познакомился с бывшим немецким разведчиком Эгоном Гесслингом, который в свою очередь свел его с руководящим сотрудником Абвера Рихардом Андреасом Протце – неизменным участником крупнейших разведывательных операций немецкой военной разведки в межвоенное двадцатилетие[124].
Какие мотивы побуждали продолжить контакт этих двух закаленных в «шпионских баталиях» профессионалов? Ответ вроде бы ясен и очевиден: изучение друг друга в качестве возможных кандидатов на вербовку. Но одновременно нужно учитывать то обстоятельство, что Протце и Дидушок не были противниками в традиционном смысле. Их страны до прихода к власти в Германии нацистов были в каком-то смысле союзниками, а разведки, которые они представляли, теснейшим образом сотрудничали против общих врагов, прежде всего против Польши.
В таких условиях и стали возможны контакты на низовом уровне между «союзниками», приведшими на практике к несанкционированному обмену разведывательной информацией по общим противникам. Такие связи никогда не приветствовались руководством Разведывательного управления, которое справедливо полагало, что обмен информацией мог осуществляться только на основе соответствующих санкций высшего военного командования.
«Низовые» контакты могли привести к утрате контроля над «движением» информации, и как следствие – к установлению ее источника со всеми негативными последствиями в виде деконспирации проводимых разведкой операций. Не случайно в руководящих документах советской военной разведки, выработанных на основе решений Политбюро ЦК, было ясно сказано, что «попытки (немцев) установить организационные контакты между разведками (следует) отклонить». Одновременно предлагались «предложения об обмене разведывательными данными по Польше и совместном обсуждении вопросов мобилизации и развертывания польской армии принять».
Необходимо отметить, что обменом разведывательной информацией по вероятным противникам занимались многие спецслужбы европейских стран. Так, традиционно хорошие отношения были налажены между Разведупром штаба Красной армии и военными разведками Чехословакии и Литвы. В октябре 1926 года Берзин докладывал Ворошилову: «Обмен с Литовским Генштабом разведывательными материалами о Польше мы ведем уже и предлагаем вести в дальнейшем. Подобный обмен полезен со всех точек зрения и никаких обязательств на нас не налагает».
Абвер только в 1925 году передал советским разведчикам следующие материалы:
– Варианты развертывания польской армии к весне 1925 года.
– Организация артиллерии польской и румынской армий.
– Численность польской армии военного времени (число дивизий) и сроки мобилизационной готовности.
– Состав румынской армии военного времени.
– Военные и политические сведения по Турции и т. д.[125].
Но эти и другие сведения передавались именно в рамках организационных контактов между Берзиным и немецкими представителями в Москве.
В деятельности разведки для решения краткосрочных задач достаточно часто применялась практика установления контактов с представителями иностранных разведок под предлогом обмена информацией. Это делалось для того, чтобы в кратчайшие сроки выйти на интересующий разведку объект для получения текущей разведывательной информации. Часто такие инициативы исходили от зарубежных резидентур, которые Центр был вынужден постоянно сдерживать.
Например, упоминаемый выше Роман Бирк по прибытии в 1930 году в Германию получил задание наладить получение информации по широкому кругу вопросов из дипломатических и военных кругов. Новый человек на новом месте, он не имел еще таких возможностей. Поэтому через своего знакомого Франца Талера (позже он будет завербован на советскую внешнюю разведку) Бирк инициировал свое знакомство с майором Абвера Эмилем Юстом. Лубянка была вынуждена сдерживать активность своей берлинской резидентуры, которая в погоне за быстрым успехом ввела в поле зрения кадровых сотрудников Абвера своего агента Бирка. Последовал категорический запрет на разработку Юста. Но дело было уже сделано. Этот запрет был обусловлен тем фактом, что сотрудник Абвера уже «сотрудничал» с представителями Разведупра Красной армии[126].
Какой информацией обменивались Протце и Дидушок, нам не известно, но на следствии в Москве последний подтвердил информацию о своей связи с Рихардом Протце. В своих показаниях он писал: «В июне 1931 года в Берлине я получил связь, которая вела в Абвер, связался с Бредовым и Протце… Наиболее тесную связь в Абвере я до последнего времени поддерживал с Протце, так как Протце полностью завербован для нашей работы. Он получал у меня постоянное месячное жалованье, кроме того, оплачивались копии фотоснимков получаемых им материалов. Материалы Протце были только военного характера». Одновременно Дидушок утверждал, что с разрешения «агента» он имел доступ к картотеке иностранной агентуры, выявленной контрразведкой Абвера[127].
Попробуем разобраться с этой поистине сенсационной информацией. Ведущий сотрудник Абвера, в будущем начальник его внешней контрразведки (реферата IIIF), ближайший помощник Фердинанда фон Бредова и Вильгельма Канариса – агент советской военной разведки. Возможно ли такое? Почему бы и нет? История знает множество примеров агентурного сотрудничества руководителей спецслужб первого и второго ряда с иностранными разведками. Достаточно назвать имена полковника Редля, Кима Филби, Олдриджа Эймса, Йоахима Краузе и других. Так что «дело Протце» не выглядит в этом ряду ярким исключением.
Несмотря на общность методики и практики разведывательной деятельности различных спецслужб мира, у каждой из них существует свой неповторимый почерк, обусловленный многими факторами: историей, традициями, мотивами сотрудничества и т. д. Тем не менее в любой разведке понятие «агент» условно разделяется на две части: контролируемый агент и, соответственно, неконтролируемый. Применительно к первому варианту практика сотрудничества означала, что агент полностью отдает себе отчет в работе на иностранную разведку, сознательно выполняет ее задания, соблюдает меры конспирации и т. д. Значимым мотивом такого сотрудничества является материальная заинтересованность в оплате своего «труда»[128].
Понятие «неконтролируемый агент» многовариантно. Такой агент за свои услуги мог не получать денежного вознаграждения, не соблюдать требований конспирации, считать, что передаваемая им сотруднику разведки информация является «дружеской услугой» и т. д.
В конце концов, такой человек мог искренне удивиться, если бы ему сказали, что он является агентом иностранной разведки, так как никаких формальных обязательств перед ней он на себя не брал. Подчеркнем, что такое деление во многом условно.
В случае с Протце не все так просто. Он, по словам Дидушка, знал, что работает на советскую разведку, исправно получал ежемесячное денежное содержание, сознательно выполнял его задания. Эти видимые обстоятельства вроде бы позволяли отнести его к категории «контролируемых агентов», но, зная «оперативный почерк» Протце, можно усомниться в его искренности в работе на советскую разведку.
С другой стороны, ценность агента определяется качеством его информации и конкретными действиями, которые приводят к конкретному же результату. Например, примечательно, что у советской внешней разведки в отношении Вилли Лемана никогда не возникали подозрения в его недобросовестности. Объяснения из того же ряда: кроме поставщика ценнейшей информации, он своими практическими действиями буквально спасал советскую разведку в Германии от возможных провалов. Достаточно вспомнить его действия по спасению сотрудника нелегальной резидентуры Эриха Такке, который попал в разработку гестапо. С приступом тяжелейшей почечной колики, совершенно больной и разбитый, Леман вызвал резидента на экстренную встречу и сообщил о существе дела, что позволило Такке ускользнуть от опасности.
Другой агент советской внешней разведки в отделе 1А берлинского полицайпрезидиума (позже в гестапо) по фамилии Лика («Папаша»), как и Леман, имевший многолетний стаж сотрудничества, всегда вызывал неудовольствие Лубянки своим поведением и характером передаваемой в Центр информации. Подозрения в недобросовестности довлели над ним долго. Проблема заключалась в том, что практической пользы в тот период от передаваемой им информации было относительно немного.
Если Леман, в силу занимаемого им положения и специализации на советском направлении контрразведывательной деятельности, имел возможность снабжать советскую разведку актуальной информацией, то самостоятельные разработки Лика касались только польских дел и до поры до времени не отличались остротой. Информация о «внутренней кухне» политической полиции, а позже гестапо (структура, кадры, назначения, перемещения и т. д.), получаемая от Лемана, дублировалась сведениями Лика и отличалась полнотой и качеством[129].
Но редкая разведка откажется от возможности иметь двух агентов, действующих независимо друг от друга на одном объекте, даже несмотря на высокие материальные издержки. Одним из критериев качества добываемой разведывательной информации является ее объективность. А одни и те же документы или устная информация, попадая в Центр из двух источников, свидетельствовали о добросовестном отношении агентов к сотрудничеству и, соответственно, об объективности поставляемых ими сведений.
Профессионал-агентурист с десятилетним стажем нелегальной работы, Дидушок наверняка знал разницу между двумя категориями агентов и тем не менее убежденно свидетельствует, что Протце «полностью завербован для нашей работы». Можно предположить, что, давая такую оценку своему агенту в Абвере, Дидушок пытался «подстраховаться» от возможных обвинений следствия в несанкционированном обмене информацией с иностранной разведкой. Но нужно иметь в виду, что конечную оценку агенту и его сведениям давал Центр, который также санкционировал выплату денежного вознаграждения за получаемые материалы. Со слов же Дидушка следует, что «доход» Протце как агента советской военной разведки состоял из двух частей: ежемесячных, ранее обусловленных выплат и «премиальных» за документальные материалы, получаемые от него разведкой. Дидушок ясно свидетельствует, что он регулярно оплачивал фотоснимки, и понятно, что на них были засняты не природные ландшафты и лица друзей, а документы военной разведки Германии.
Конечно, нужно учитывать, что в период зарождения и становления советских органов внешней и военной разведок их резиденты на местах имели большие полномочия и в выборе объектов вербовок, и в решении других оперативных вопросов, включая расходование денежных средств. Но к описываемому периоду руководящая и контролирующая роль Центра заметно усилилась. Уже требовалось получение санкции и на выбор объектов, и на материальное поощрение уже работающей агентуры. Дидушок не мог утаить от своего руководства в Центре фамилии своих источников, а раз возражений об их использовании не поступало, следовательно, в Разведывательном управлении были удовлетворены работой, считая их, как и Дидушок, «контролируемыми агентами».
Бывший резидент ИНО ОГПУ в Гааге Вальтер Кривицкий в своей книге «Я был агентом Сталина» рассказывает о своей встрече с Дидушком уже после его ареста и суда. В частности, он вспоминал, что для выяснения каких-то обстоятельств, связанных с баденским провалом резидентуры Разведупра, он был вынужден обратиться за разъяснениями к самому Дидушку, доставленному на Лубянку из лагеря, где бывший помощник резидента отбывал наказание.
Кривицкий пишет, что, прочитав несколько сот страниц следственного дела Дидушка, он никак не мог определить причину ареста и столь строгого наказания. По словам Кривицкого выходило, что отзыв из Австрии и последующий арест Дидушка были связаны с желанием руководства военной разведки «найти козла отпущения» за последствия громкого провала. Якобы провалившийся резидент Басов (Аболтынь) относился к категории «неприкасаемых» в глазах Центра, и поэтому отвечать пришлось Дидушку. Данные о причинах его ареста не содержались в следственном деле, которым они оба пользовались для выяснения интересующих Кривицкого вопросов, иначе для последнего, как опытного профессионала, картина была бы ясна[130].
Документально обоснованная причина ареста Дидушка и не могла содержаться в его следственном деле, но могла содержаться в деле его оперативной разработки, которое автоматически было заведено в ИНО или особом отделе ОГПУ по результатам проверки информации агентов Лемана и Бирка о наличии немецкого источника в советской военной разведке. В деле наверняка содержалась первичная информация о неблагополучном положении у военных коллег в Австрии и материалы ее проверки, включая еще одно сообщение Бирка.
В этом сообщении речь шла о том, что в ходе одной из встреч его контакт в Абвере Гесслинг высказал опасение о том, что «ГПУ могли засечь связь с советской военной разведкой, осуществляемую через Дидушка, и добавил, что будет плохо, если Дидушка, с которым налажены серьезные деловые отношения, отзовут по инициативе ГПУ». Чекистов, ответственных за контрразведывательное обеспечение проводимых военной разведкой операций, не могла не обеспокоить эта информация, особенно о непонятном для них характере «серьезных отношений». Для внешней контрразведки такие сведения могли означать что угодно: от пресловутого обмена информацией до самого неприятного – работы Дидушка в качестве информатора Абвера. Особенно непонятно было высказывание Гесслинга о связи Абвера с «советской военной разведкой», предполагавшее, что она носила какой-то организационно оформленный характер, в которой возможным посредником мог выступать Дидушок[131].
Профессиональная «заточенность», опыт и практика сотрудников внешней разведки заставляли их предполагать второй вариант как более вероятный и, соответственно, более опасный. Они могли и не знать высказывания Клаузевица, гласившего, что «как общее правило всякий скорее способен поверить плохому, чем хорошему, каждый склонен несколько преувеличить плохое», но на практике они чаще руководствовались именно этим постулатом. Очевидно, были и другие данные, на основании которых помощник резидента Разведупра был отозван в Москву и арестован.
Относительно «узким местом» в нашей аргументации является то обстоятельство, что материал о «проникновении» германской контрразведки в Разведупр был получен из германской политической полиции (справка Геллера), что может свидетельствовать об информировании Абвером как структуры, через которую осуществлялась связь с советской военной разведкой, своих коллег-конкурентов из полицайпрезидиума.
Но этому тоже можно найти объяснение. Конкурентная борьба между органами германской военной и «гражданской» контрразведки не исключала практику поддержания нормальных рабочих контактов между ними, средством которых был обмен информацией о проводимых друг другом оперативных мероприятиях. Так что направление сведений о «связи с советской военной разведкой» вполне укладывается в практику такого взаимодействия.
Оказавшись на Лубянке, Дидушок указывает на то, что по прибытии в Австрию он получил связь на Абвер. Последняя фраза весьма многозначительна. Получил «связь на Абвер» для решения разведывательных задач (разработка объекта, его вербовка и т. д.), или с какими-то другими целями? Это нам не известно. Не известно также, был ли выход Дидушка на сотрудников Абвера изначально санкционирован его московским Центром.
Возникает вопрос, через кого он познакомился с Гесслингом, а тот, в свою очередь, вывел его на Протце? Однозначного ответа на него нет. Но, скорее всего, этими людьми были его земляки – Севрюк и Скнар, фигуры насколько значимые для нашего повествования, настолько же и противоречивые.
Очевидно, их контакты зародились еще в 1917–1918 годах на Украине, где все трое, в том или ином качестве, подвизались в различных «институциях» «гетманщины», Директории и т. д.
Скнар в тот период выполнял функции финансового курьера по переправке денежных средств из Германии на Украину в рамках деятельности так называемой «Финансовой агентуры» УНР.
На фигуре другого представителя украинской эмиграции Александре Александровиче Севрюке представляется целесообразным несколько подробнее остановиться, поскольку с его именем связано множество тайн межвоенного двадцатилетия, включая его участие в различных интригах разведок целого ряда стран. Он унес за собой в могилу ответ на главный вопрос: какой из спецслужб он был полностью лоялен, работая на нее «не за страх, а на совесть».
Севрюк родился в 1893 году на Украине в г. Бердичеве в мещанской семье. До революции обучался в Петербургском технологическом институте, где проявил себя как политически активный студент. Революция вознесла Севрюка к вершинам политической власти на Украине, когда он сначала стал членом Украинской Центральной Рады, а после зачисления во вновь созданное внешнеполитическое ведомство в феврале 1918 года был назначен послом Украинской Народной Республики в Берлине. В историю он вошел как один из деятелей независимой Украины, поставивший свою подпись под Брестским мирным договором 1918 года[132].
В 1920-е годы находился в эмиграции, проживая в Париже и Тулузе. С 1929 года, после высылки из Франции, обосновался в Берлине, где сделал карьеру в министерстве авиации.
Римская резидентура 2-го отдела польского Главного штаба однозначно считала Севрюка агентом германской военной разведки. По некоторым данным, в архивах французской разведки также имелись документы с указанием на агентурную связь Севрюка с ее представителями[133].
В августе 1949 года в американском журнале «Plain Talk» появилась статья некоего Гюнтера Райнхардта под сенсационным заголовком «Сотрудник Гитлера – сталинский шпион». В этой публикации автор утверждал, что в руки американских властей попали германские документы, из которых следовало, что Севрюк, сотрудничая с Абвером с 1933 года, долгое время был двойным агентом советской разведки. Это немцам стало якобы известно после изучения трофейных материалов французской контрразведки, доставшихся им в 1940 году. Для перепроверки этих сведений Канарисом в Швейцарию были командированы два его сотрудника, которые вернулись с твердой убежденностью в правоте выводов французской контрразведки[134].
Также укажем, что Севрюк долгое время находился в поле зрения советских органов безопасности. Так, например, на одном из допросов в 1949 году бывшего военного министра УНР А. Грекова ему, вне всякого контекста и связи с его предыдущими показаниями, был задан вопрос – кто такой Севрюк? Из пояснения генерала Грекова следовало, что с последним он был знаком «шапочно» и близких отношений не поддерживал. Нужно заметить, что следователи органов безопасности просто так не могли допрашивать своих подследственных по вопросам, не входившим в их компетенцию. Значит, были какие-то основания у следователя спросить Грекова о Севрюке[135].
Возможной причиной интереса советских контрразведчиков к персоне погибшего к тому времени Севрюка были довоенные материалы разведотдела НКВД УССР, из которых следовало, что он подозревался в сотрудничестве с французской контрразведкой.
Дополнительным основанием для такого вывода были данные о нелегальной поездке Севрюка в Советскую Украину в конце 1928 года, которую он совершил по фальшивому французскому паспорту. Возможно, что украинские чекисты некритично восприняли сведения о поездке Севрюка, инспирированные им же в украинской эмигрантской газете «Дiло» в августе 1938 года. Эта публикация была предпринята Севрюком в рамках собственной «реабилитационной» кампании, чтобы засвидетельствовать свою лояльность перед нацистским руководством.
Украинским исследователем Д. Веденеевым в архивах КГБ УССР были обнаружены переводы письменных обращений Севрюка в Имперскую канцелярию Рейха и внешнеполитический департамент НСДАП, датированные маем 1938 года, в которых он доказывал свою невиновность в выдвинутых в его адрес обвинениях в прокоммунистической деятельности.
Сотрудники восточного отдела департамента НСДАП тогда же проводили проверку, сформулировав свои выводы о необоснованности обвинений Севрюка, которые 3 октября 1938 года были доложены рейхсминистру Альфреду Розенбергу. Необходимо отметить, что подобные проверки в нацистских органах власти и управления не проводились формально. Для исследования существа вопроса запрашивались характеризующие данные на проверяемого в других нацистских ведомствах и, прежде всего, в спецслужбах. Тот факт, что Севрюк благополучно прошел проверку на лояльность нацистскому режиму, может косвенно свидетельствовать о том, что компрометирующих его сведений в делах СД, гестапо, Абвера обнаружено не было. Но повторим, что это лишь предположение[136].
27 декабря 1941 года недалеко от Франкфурта-на-Одере произошла крупная железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Берлин – Варшава», столкнулся с товарным составом, перевозившим цистерны с бензином. В результате аварии погибло значительное число германских военнослужащих и чиновников административных учреждений генерал-губернаторства, среди которых и были обнаружены сильно поврежденные огнем останки Александра Севрюка. Их идентификация стала возможной по зубным протезам, сведения о которых были властями почерпнуты из медицинской книжки стоматолога.
Вернемся к событиям 1932 года. Жена бывшего резидента ИНО ОГПУ Игнаца Порецкого (Рейса) Элизабет Порецки прямо называет Севрюка агентом советской разведки, находившимся на связи у ее мужа. По ее словам, Севрюк, занимая высокий пост в министерстве авиации Рейха, ежемесячно встречался с Порецким в Швейцарии, где передавал важные сведения о развитии воздушного флота Германии. В операцию по связи был включен некий Марко Бардах – близкий друг Севрюка.
Элизабет Порецки пишет: «Эти встречи были небезопасны: Людвиг (псевдоним И. Порецкого. – Авт.) предполагал, что немецкой разведке могут быть известны его контакты с Севрюком, и только поэтому разведка Германии позволяла Севрюку регулярно выезжать в Швейцарию: идет скрытое наблюдение, собирается информация…Но это были лишь предположения, и Людвиг продолжал встречаться с Севрюком, который поставлял информацию, достаточно ценную, чтобы оправдать риск…»[137].
Следует, правда, сделать оговорку, что Э. Порецки, возможно, полностью не была посвящена в деятельность мужа и, следовательно, не могла досконально знать подробностей агентурных отношений мужа с Севрюком.
В предложенном тексте также много неясностей. Например, почему И. Порецкий, подозревая о контроле за Севрюком со стороны германских спецслужб, брал на себя ответственность получать от него информацию, не опасаясь обвинений Лубянки в дезинформировании? Или Порецкий и его Центр использовали эту связь сознательно, предполагая или зная, что в лице Севрюка они имеют агента-двойника, особенно после изложенных ниже обстоятельств? Вопросов больше, чем ответов.
Еще более запутанной представляется ситуация с самой вербовкой Севрюка. Имеются некоторые указания, что последний был завербован Порецким при непосредственном участии агента ИНО Марко Бардаха[138].
Элизабет Порецки пишет: «И вот, поскольку Бардах был другом Севрюка и часто выступал в качестве связного во время контактов Севрюка и Людвига (Порецкого), мой муж был вынужден сообщить Москве о Бардахе»[139].
В этой связи следует сделать пояснение, что до формальной «вербовки» Севрюка Порецкий, в силу личных соображений, долгое время не сообщал в Москву об использовании Бардаха в интересах разведки. Это значит, что Бардах, как минимум до «вербовки» Севрюка, в агентурную сеть советской разведки включен не был. Вынужденное признание Порецким факта использования Бардаха в операции по связи с Севрюком свидетельствует либо о том, что в Москве знали о сотрудничестве последнего с советской разведкой, либо Порецкий скрыл от Центра факт участия Бардаха в вербовке Севрюка.
Все же необходимо подчеркнуть, что представленный выше анализ основан на важных, но все же косвенных данных, а выводы по ним обусловлены, в значительной степени, логическими построениями, а не фактами, содержащимися в архивных документах (если они еще сохранились). В конце концов, может быть так, что Севрюк действительно честно работал на советскую разведку, испытывая, как пишет Э. Порецки, «ностальгически теплое отношение к Советской России»[140].
Некоторое подтверждение этой версии содержится в документах польской разведки, относящихся к разработке некоего Якова Макохина (Разумовского) – основателя и руководителя «Украинского информационного бюро» – организационно-пропагандистской структуры украинских националистов. В ходе разработки связей Макохина в Париже поляками было установлено, что одним из его контактов был журналист «прокоммунистической» газеты «Украинские вести» Александр Севрюк, который, как они считали, еще с 1923 года сотрудничал с советской разведкой[141]. По сведениям тех же поляков, относящимся к середине 1930-х годов, Севрюк работал на германскую военную разведку.
Еще один источник польской разведки «Альберт» так охарактеризовал Севрюка в своем агентурном сообщении: «Севрюк принадлежит к одной из международных шпионских организаций, что не мешает ему выполнять задания и для Советов»[142].
По словам же Э. Порецки, работа последнего на ИНО ОГПУ относилась к периоду как минимум после 1933 года. Ранее же происходили события, напрямую связанные с именами Севрюка и Скнара в контексте уже другой истории, которые версию о «честном» сотрудничестве с советской разведкой Севрюка ставят под большое сомнение.
После отзыва Дидушка в Москву, когда «серьезные деловые отношения» были прерваны, руководство Абвера начало предпринимать попытки к возобновлению контактов с советской разведкой. В этих действиях большая роль и была отведена Скнару и Севрюку, как лицам хорошо известным Протце и фон Бредову, с одной стороны, так и Францу (Дидушку) – с другой.
7 июня 1933 года начальник советской военной разведки Берзин направил в адрес начальника ИНО ОГПУ Артузова личное послание, которое, в силу его важности, следует процитировать полностью. Берзин писал: «По данным помощника военного атташе СССР в Берлине, Абвер, в который входит и вновь созданная контрразведка рейхсвера, усиленно ищет выход на советскую разведку.
Сожалея об ухудшении советско-германских отношений в результате действий гестапо и полиции, руководство рейхсвера хотело бы установить контакт между разведками, что позволило бы, по его мнению, своевременно устранять трения и предотвращать препятствия.
Немцы хотели бы, в частности, продолжить контакт, имевшийся в начале 1932 года между нелегальным сотрудником Разведупра Дидушком и контрразведчиком Абвера Протце.
По просьбе Дидушка Протце сумел тогда добиться освобождения арестованных австрийскими властями резидента Разведупра Басова и четырех его агентов. Поводом для его вмешательства послужило то, что Басов при аресте заявил австрийским властям, будто бы выполнял задания в контакте с рейхсвером. Протце удалось добиться освобождения арестованных, однако Дидушок был отозван в Москву.
Немцы обращались к нам через связь Дидушка – Севрюка и посредника торгпредства в Берлине Скнара. Я категорически запретил своим сотрудникам вступать в какой-либо контакт. По официальной линии, согласно указаниям наркома и с ведома инстанции, у нас с разведотделением рейхсвера ежегодно происходит обмен материалами по Польше. Этот обмен нам, по существу, ничего не давал, так как немцы серьезных материалов не передавали. Не давали серьезных материалов и мы, но пользу они извлекали.
В настоящий момент, когда польско-немецкие отношения весьма обострились и когда в воздухе пахнет порохом, они усиленно добиваются обмена с нами материалами по Польше. Так как по официальной линии мы все разговоры отклоняли, они ищут теперь неофициальный контакт и делают намеки насчет возможных “услуг”.
Исходя из опасности такой связи, с одной стороны, и бесплодности и вредности ее для наших работников, с другой, я категорически приказал нашим работникам пресекать всякие попытки немецкой разведки связаться или пролезть в наш аппарат. Вам я сообщил об этом “предложении” немецкой разведки, полагая, что, может быть, Вы все это дело сможете как-нибудь использовать для Вашей оперативной работы»[143].
В этом письме Берзина содержится ряд важных моментов, как дающих ответы на ранее поставленные вопросы, так и ставящих новые. Во-первых, заслуживает внимания источник сведений о заинтересованности германской стороны в возобновлении прерванных с отъездом Дидушка контактов. В письме он назван прямо – помощник военного атташе в Берлине.
Во-вторых, Севрюк и Скнар названы как контакты Дидушка (первый – прямо, второй – опосредованно) и участники зондажных попыток возобновить связь между советской и германской разведками, что указывает на их возможное знакомство до прибытия последнего в Австрию.
В-третьих, выясняется причина столь быстрого освобождения «провалившегося» резидента Разведупра Басова (Аболтыня).
В-четвертых, подтверждается использование советской военной разведкой Протце как своего агента (ссылка на просьбу Дидушка).
Попробуем теперь разобраться в вышеизложенном. К сожалению, в нашем распоряжении отсутствуют сведения о структуре аппарата военного атташе СССР в Берлине в начале 1930-х годов, в частности, о количестве его помощников. Но с большой долей уверенности можно утверждать, что источником информации о зондажных попытках немцев был Лев Александрович Шнитман, с 1932 по 1934 год исполнявший обязанности резидента военной разведки под прикрытием должности помощника военного атташе СССР в Берлине. Однако по существу изложенной в письме Берзина информации о заинтересованности Абвера в контактах с Разведупром первоисточником Шнитман выступать не может, а является, скорее, ее «ретранслятором»[144].
Характер информации указывает на то, что первоисточником было лицо, непосредственно связанное с аппаратом германской военной разведки и находившееся в курсе ее дел. Таким человеком мог быть агент, проходящий по учетам Разведупра под криптонимом «37» («437»). В показаниях Берзина на следствии в НКВД от 25 декабря 1937 года этот человек назван прямо – майор (позднее генерал-майор) Абвера Эмиль Юст, не менее, чем Протце, знаковая фигура в истории германской разведки. Известно, что с 1937 по 1940 год он исполнял обязанности военного атташе Германии в Литве, а с указанного времени – в Бухаресте. В 1944 году был уволен в отставку, проживал в Берлине[145].
Берзин в ходе допросов на Лубянке в 1937 году сообщил, что Юст был завербован в 1930–1931 годах резидентом в Берлине Шнитманом. Представляется, что контакт с ним был установлен еще в 1929 году сотрудником Разведупра Анисимовым, а к разбираемому нами периоду (1932–1934 гг.) он как раз и находился на связи у Шнитмана, позже передавшего его на связь своему преемнику Витолину.
К сожалению, в опубликованных документах, отражающих работу «37-го» на Разведупр, содержится мало фактических данных, позволяющих оценить его работу. Можно только предположить, что он в глазах руководства советской военной разведки входил в категорию «ценных» источников информации[146].
Так, в апрельском письме 1933 года Шнитман писал: «37 сказал, что ему официально заявлено, что с 1.Х с. г. он реактивизируется (снизит активность), в числе 600 офицеров резерва, которые будут с указанного числа призваны на действительную службу. Если он останется в Берлине, то мы, конечно, не очень сильно пострадаем от этого изменения его положения, но если он попадет в провинцию, то его ценность для нас, конечно, значительно уменьшится»[147].
Двумя месяцами раньше в Москву было направлено информационное сообщение из Берлина, в котором содержались оценки потенциала Красной армии, составленные на основе материалов Абвера. При разборе документа, произведенного аналитиками Разведывательного управления, констатировалось, что часть сведений содержала значительную долю дезинформации, доведенной в свое время до германской разведки по контролируемым каналам.
В частности, в заключительной части справки сказано, что «Абверу известна численность и дислокация стрелковых частей и конницы, которая до 1932 года не являлась секретной. Что касается сведений по численности и дислокации технических частей (авиация, танковые, инженерные и артиллерийские части), то эта информация не является полной и точной»[148].
Источником этих сведений для советской военной разведки и был, скорее всего, Юст, он же «37-й».
Участие Севрюка и Скнара в инициированных Абвером переговорах, особенно в отношении первого, свидетельствует о том, что в Разведупре и ИНО, скорее всего, отдавали себе отчет о противоречивом характере деятельности «контактных лиц» и в будущем не могли смотреть на Севрюка как на «добросовестного» агента, зная о его прошлых связях с Абвером. Тогда почему Порецкому Лубянкой была санкционирована работа с ним как с агентом?
Последний абзац в письме Берзина Артузову ставит отдельный вопрос об использовании Протце как агента. Получается, что до отзыва Дидушка в Москву ситуация с Протце руководство военной разведки вполне устраивала, особенно принимая во внимание его участие в освобождении Басова (Аболтыня). Но после инициированного ОГПУ «дела Дидушка» она изменилась кардинально: Берзин, что называется, «умыл руки», самоустраняясь от столь скандального дела.
Для того чтобы читателю было легче понимать специфику взаимоотношений между советскими спецслужбами и их руководителями, а также приблизиться к пониманию последующих событий, необходимо сделать еще одно отступление. Военная и внешняя разведки СССР, исходя из их названия и, соответственно, решаемых за рубежом задач, имели свои, отличные друг от друга, объекты агентурного проникновения.
Так, традиционно за Иностранным отделом ОГПУ, ответственным за решение разведывательных, контрразведывательных задач и за обеспечение безопасности советских учреждений за рубежом, были закреплены в качестве объектов проникновения иностранные спецслужбы, без различия их функциональной направленности (разведка, контрразведка, политическая полиция) и ведомственной принадлежности (Генеральный штаб, МИД, МВД и т. д.). К сфере компетенции военной разведки относились органы военного управления и другие государственные органы, где циркулировала информация военного, военно-политического, военно-экономического, военно-технического характера.
В идеале объекты проникновения одной спецслужбы должны были быть «закрыты» для другой, чтобы избегать ненужного параллелизма в работе и не создавать взаимных трудностей при проведении оперативных мероприятий и реализации получаемой информации. На практике зачастую эти требования нарушались или игнорировались. Исходя из изложенного, германская военная разведка, как объект проникновения, должна была быть отнесена к компетенции советской внешней разведки. Но, с другой стороны, Разведупр, испытывая потребность в получении текущей информации военного характера, не мог не использовать возможность проникновения на «чужой» объект, если таковая предоставлялась.
Применительно к деятельности связки Дидушок – Протце необходимо уточнить важное обстоятельство. Если предположить, что Протце до некоторого момента устраивал московский Центр как источник информации военного характера, то это вовсе не означает, что он был полностью «контролируемым» агентом. Не случайно пояснение Дидушка на следствии о военном характере информации, получаемой от Протце.
Ни в коей мере не оспаривая важность для разведки такой информации, следует все же сказать, что она носит преходящую, временную ценность. Обстановка в сфере военного строительства и функционирования его институтов подвержена быстрым изменениям, и, соответственно, военные сведения относительно быстро теряют актуальность (впрочем, так же как и политические). Это, разумеется, не касается документальных материалов, отражающих процесс перспективного военного строительства (планирования, мобилизации, развертывания, использования вооруженных сил, применения в час «Х» и т. д.). Кроме того, Протце, работая в Абвере, скорее всего, и не был допущен к «сокровенным» документальным тайнам военного строительства Рейхсвера. И это нужно учитывать.
Как один из ведущих сотрудников Абвера, он представлял для советской внешней контрразведки бóльшую ценность. Для нее эта ценность заключалась в том, что Протце являлся носителем уникальных сведений о деятельности германской военной разведки (кадрам, агентуре, операциях, характере получаемой по разведывательным каналам информации). Если бы от него поступали такие сведения, то его смело можно было причислять к категории «контролируемых» агентов. Доступ Дидушка к картотеке выявленных Абвером иностранных шпионов, предоставленный ему Протце, являлся важным шагом к закреплению полноценных агентурных отношений, но, к сожалению, развития они не получили.
Вместе с тем для правильного понимания методов работы органов германской военной разведки на советском направлении в начале 1930-х годов необходимо указать на одно важное обстоятельство. Примерно до 1934 года Абвер активной разведывательной работой в СССР не занимался. Функции сбора разведывательной информации были возложены на официальное представительство германского Генерального штаба в Москве под условным наименованием «Ц-МО» (Центр-Москва), созданное с согласия советских властей в целях координации процесса военно-технического сотрудничества между Рейхсвером и РККА. Требующийся для Генерального штаба Германии материал для анализа легально, в рамках взаимодействия, получался из соответствующих учреждений советских органов власти и управления. Этот орган действовал независимо от Абвера и подчинялся непосредственно начальнику Генерального штаба через его специальный отдел «Ц-Б» (Бюро по руководству работами в России).
Так, на следствии в Москве бывший начальник представительства «Ц-МО» генерал-майор Оскар фон Нидермайер показал: «В то время немецкие офицеры и инженеры так часто посещали Советский Союз под всякого рода предлогами и имели такой большой доступ ко всевозможным промышленным и военным секретам, что вряд ли была необходимость в создании специальной секретной разведывательной службы и, особенно, силами представительства (Ц-МО), терять репутацию которого перед Советским правительством немецкому Генштабу не было выгодно»[149].
Кроме того, естественным источником информации в условиях близких «партнерских» отношений между двумя странами выступали многочисленные германские специалисты, по найму участвовавшие в строительстве и реконструкции промышленных объектов в СССР. Поэтому необходимости в организации Абвером дорогостоящей агентурной разведки на территории Советского Союза в тот период просто не было. Его «скромные» материальные и человеческие ресурсы были задействованы на более важных направлениях деятельности – польском, чехословацком, французском. Отдельные операции с использованием агентуры Абвер, несомненно, в СССР проводил.
В этой связи небезынтересно мнение одного из германских военных деятелей о работе Абвера на советском направлении в указанный период. Генерал-майор Вермахта Карл Шпальке, захваченный в плен в 1945 году, находясь на Лубянке, дал подробные показания о работе германских военных информационных служб в 1930-е годы. По роду своей прежней деятельности сотрудника, а позже начальника 5-го реферата III отдела (иностранные армии) Генерального штаба Рейхсвера он был непосредственным потребителем всей информации о ходе военного строительства в Советском Союзе.
В частности, Шпальке в собственноручных показаниях писал: «В период моей деятельности в “Т-3” (условное наименование III отдела), примерно до смерти фельдмаршала Гинденбурга (август 1934), в “Т-3” почти не поступало материалов из Абвера. По сообщениям подполковника Марчиньского, имелся приказ ОКВ, запрещающий ведение шпионажа против Советского Союза, дабы не помешать сотрудничеству с СССР.
Лишь после смерти Гинденбурга спрос на разведывательном рынке стал медленно расти. Эта “конъюнктура” была следствием развития антисоветской пропаганды со стороны партии. К нам стали поступать более часто сведения Абвера о Советском Союзе. Они были почти на 100 % негодны для использования, являлись фальшивками и совершенно очевидной “фабрикацией”. Было видно, что авторы этих “материалов” не имели понятия о советской действительности. Нами они, соответственно, квалифицировались как “чепуха”, “абсурд”, “что нам делать с этим дерьмом?” – и возвращались обратно в Абвер»[150].
Запомним эти нелицеприятные для Абвера оценки в связи с работой на советскую разведку будущего ее «агента» майора Вера.
Руководство Разведывательного управления, ответственное за координацию военно-технического сотрудничества Рейхсвера и РККА, прекрасно отдавало себе отчет в характере деятельности московского аппарата германской военной разведки, но вынуждено было мириться с таким положением.
Еще в декабре 1928 года Берзин писал в своем докладе: «Нет сомнения, что все немецкие предприятия, кроме прямой своей задачи, имеют также и задачу экономической, политической и военной информации (шпионажа). За это говорит хотя бы то, что наблюдающим за всеми предприятиями состоит такой махровый разведчик германского штаба, как Нидермайер. С этой стороны предприятия нам наносят определенный вред.
Но этот шпионаж, по всем данным, не направлен по линии добычи собирания (так в тексте. – Авт.) секретных документов, а ведется путем личного наблюдения, разговоров и устных информаций. Такой шпионаж менее опасен, чем тайный, ибо не дает конкретных документальных данных, а ограничивается лишь фиксированием виденного. Немцы имеют на территории нашего союза более чем достаточно людей, при помощи которых они могут организовать прекрасную тайную разведку, вследствие чего удаление с нашей территории немецких предприятий в смысле уничтожения немецкого шпионажа дает чрезвычайно мало»[151].
Еще до того, как Берзин предложил Артузову использовать в своих интересах зондаж немцев к установлению контактов с советской разведкой, легальный резидент ИНО в Берлине Берман в конце октября 1932 года запрашивал свой Центр: «Выясните у Дидушка, кто из военных знает Протце и не связались ли они с ним? Не свяжутся ли впредь? Можно ли связаться с Протце по записке от Франца (Дидушка)?» Эти вопросы Бермана однозначно указывают на то, что агентурный характер отношений Дидушка с Протце не был тайной для советской внешней разведки[152].
В ответном письме Лубянка возражала против установления с Абвером такого рода отношений, которые использовались военными коллегами (на почве обмена информацией), но не исключала самой возможности выхода на Протце. Ситуация резко изменилась к январю 1933 года. В ясных формулировках последовал категорический запрет. Какие события такому решению предшествовали? В нашем распоряжении находятся только отрывочные сведения в их последовательности. Мы лишь попробуем, в силу возможностей, их реконструировать, оговорив, что развернутое описание проблематики «военного заговора» в СССР будет представлено ниже.
В 1932 году советская внешняя разведка начала активно использовать оперативные возможности вновь завербованного агента.
В прошлом высокопоставленный сотрудник разведки НСДАП барон Курт фон Поссанер, получивший в учетах ИНО ОГПУ криптоним «А-270», через свою связь в Абвере начал получать первичную информацию о существовании в командовании Красной армии «обширного заговора», ставящего целью осуществление военного переворота в СССР. Одним из его участников был назван некий «генерал Тургуев», идентифицированный позже как маршал Тухачевский.
Советские разведчики приняли решение об углубленном изучении субисточника Поссанера, включая возможность прямого выхода на него. Этим человеком был референт Абвера по авиации майор запаса Адольф Хайровский, ранее работавший в интересах австрийской разведывательной службы. Получив такой острый сигнал, резидент ИНО в Берлине Борис Берман через своего подчиненного нелегала Шнеерсона начал от Поссанера требовать конкретики: кто знает, от кого известно, при каких обстоятельствах была получена информация и т. д. Постепенно стала вырисовываться не совсем приглядная для советских военных представителей картина.
В частности, по информации Хайровского выходило, что советский военный атташе в Берлине Зюсь-Яковенко поддерживает подозрительно близкие отношения с неким Бергом, на квартире которого обсуждались достаточно щекотливые вопросы, якобы относящиеся к существованию в СССР «военной партии», ставящей целью осуществление переворота и отстранение от власти Сталина. Хайровский, получивший на Лубянке псевдоним «Сюрприз» («А-333»), сообщил, что Герман Васильевич фон ден Берг, работая представителем крупных фирм «Отто Вольф» и «Крупп», являлся одновременно экспертом германской военной разведки по Советскому Союзу. Информация «Сюрприза» о причастности Берга к Абверу была подтверждена аналогичными сообщениями агентов берлинской резидентуры «А-13» и «А-208»[153].
Интересно, что ранее на Берга выходили советские разведчики с целью вербовки, которая и была завершена, правда, «под чужим флагом» – от имени Всесоюзного совета народного хозяйства (ВСНХ). Но, по непонятным причинам, этот перспективный контакт развития не получил.
Проведенные Центром проверочные мероприятия еще более накалили обстановку. На официальный запрос ИНО в Разведупр, известен ли там Берг, последовал отрицательный ответ. Через третье лицо были наведены справки непосредственно у Яковенко, который также ответил отрицательно. Зато резидент Разведупра в Берлине Шнитман подтвердил факт своего знакомства с Бергом, причем, по его словам, познакомил их… Яковенко[154].
Артузова вся эта темная история, надо думать, заметно озадачила. По существовавшим тогда правилам, запрос об объекте заинтересованности взаимодействовавших разведок подлежал исполнению с обезличенной формулировкой – «такой человек нам известен (не известен)». Это означало, что проверяемое лицо является объектом заинтересованности внешней (военной) разведки и, соответственно, его дальнейшее изучение инициатору запроса следовало прекратить.
Из сказанного вытекало, что Яковенко не поставил в известность свой Центр о факте и характере отношений с Бергом. Иными словами, утаил их, хотя был обязан поставить его на учет как минимум как контактное лицо. Сотрудникам ИНО было над чем задуматься: кадровый офицер советской военной разведки, не поставив в известность свой Центр, поддерживает подозрительные отношения со своим немецким коллегой, о характере которых можно было только догадываться. Причем необходимо помнить, что информация была получена агентурным путем от человека, связанного с германскими спецслужбами. А если вспомнить, что примерно в это же время «раскручивалось дело Дидушка», то оснований для беспокойства было более чем достаточно.
Обобщенная справка о всех установленных внешней разведкой негативных фактах работы Разведупра, включая «дело Дидушка», была направлена Артузовым в ЦК ВКП(б). На запрос Бермана о возможности выхода на Протце по записке Франца (Дидушка) последовал ответ: «Представленная нами в высшие политические инстанции справка о деле Дидушка получила движение, и военные соседи имели там серьезный разговор и о методах работы, и о порядке информации (так в тексте. – Авт.) нас о своих делах… Учитывая это обстоятельство, мы пересмотрели наше решение в отношении Протце и в вопросе восстановления связи с Дидушком, считая это нецелесообразным. Протце и Дидушок в дальнейшем могут быть только объектом наших разработок»[155].
Сотрудники берлинской резидентуры ИНО, следуя этому указанию, операции по внедрению в германскую военную разведку осуществляли уже без участия Протце. С этого времени он действительно стал только объектом разработки, но уже не вербовочной. Хотя в контексте изложенных ниже событий создается впечатление, что советские разведчики в Берлине, формально выполняя указания Лубянки о прекращении изучения Протце как кандидата на вербовку, в своей практической деятельности по агентурному внедрению в Абвер исходили из возможности прямого выхода на него через его связи (Гесслинга, Вера) и искали ее.
После изучения всех возможных кандидатов они свой выбор остановили на Гесслинге. Его личные качества и оперативные возможности, как давнего агента германских спецслужб, были изучены через агента ИНО Романа Бирка, поддерживавшего с Гесслингом хорошие личные отношения. Но рисковать деятельным и опытным агентом они не стали. Было принято решение осуществить вербовочный выход на Гесслинга через… Дидушка. Но не лично, бывший помощник резидента в это время уже находился в лагере на Соловках, а по его рекомендательному письму. Вербовать Гесслинга было поручено опытному разведчику Карлу Силли, который со своей задачей справился[156].
Примечательно, что Гесслинг настолько доверял Бирку, что уже на другой день после состоявшейся вербовочной беседы рассказал о ней во всех подробностях. С одной стороны, это было хорошо – контроль за вновь привлеченным агентом мог осуществляться опосредованно. С другой – имелись опасения, что Гесслинг мог то же самое сообщить своим руководителям в германских спецслужбах, хотя на словах дал уверения в своей лояльности по отношению к советской разведке.
Бирк же, несмотря на их «дружеские» отношения, не доверял Гесслингу, о чем и предупреждал своих кураторов в ИНО, ссылаясь на прецедент «дела Дидушка». Он считал, что за спиной Гесслинга будет постоянно «маячить» фигура Протце. Почему советские разведчики не восприняли мнение своего опытного и проверенного агента?
На Лубянке было принято решение о передаче нового агента на связь резиденту нелегальной резидентуры ИНО ОГПУ в Швейцарии Игнаци Порецкому (Рейсу). Такие встречи вскоре состоялись. Советский резидент перед Центром также не скрывал свое не совсем благоприятное мнение о Гесслинге, подозревая, что он продолжает работать на Протце. Со слов агента выходило, что последний продолжает попытки выхода на советскую разведку, но не лично, а через своего подчиненного – майора Вера.
Через Гесслинга, подготовившего «почву» для установления прямого контакта, Силли познакомился с Вером и провел его «вербовку». В своем отчете он писал, что последний действительно является одним из ближайших помощников Протце и весьма информированным сотрудником германской военной разведки. Благоприятным для мотивации секретного сотрудничества обстоятельством Силли назвал его антинацистские убеждения. Весьма характерна приписка, что Вер «будет стоить нам дорого». Хотя серьезной информации он не дал, по мнению Силли, Вер представляет потенциально высокую ценность для советской внешней разведки[157].
Как показала жизнь, надеждам советских разведчиков в отношении Вера не суждено было сбыться. За несколько встреч он представил относительно небольшой объем по-настоящему ценной информации. Ее качество заставило руководство ИНО признать, что в своих ожиданиях о предполагавшемся потоке первоклассной информации о деятельности Абвера оно обманулось. Тогда еще не было доподлинно известно, что изначально Вер действовал под контролем Протце, но незначительность его сведений уже тогда ставила вопрос о его честности как агента. Нам не известен характер переданных Вером сообщений, но Силли и Баевский, которые встречались с майором, прямо указывали на их незначительность, побуждая тем самым нового агента активизироваться[158].
Попробуем коротко проанализировать ход этой разработки как со стороны ИНО, так и со стороны Абвера. Но для начала дадим некоторые пояснения, которые в дальнейшем позволят нам приблизиться к выяснению ряда обстоятельств, имеющих отношение к нашему анализу.
В практике специальной деятельности операции по проникновению в агентурную сеть противника по праву считаются «высшим пилотажем» профессионализма. Так, по воззрениям практиков германской разведки, вся разведывательная деятельность условно делится на «позитивную» и «негативную». Первая направлена на получение объективной разведывательной информации по широкому кругу вопросов, интересующих военные и политические инстанции государства. Вторая – на все, что входит в сферу противоборства со спецслужбами противника и, соответственно, ограничено «ведомственными» интересами своей разведки.
Сам процесс добывания объективной (позитивной) разведывательной информации предполагает, что все его участники должны всеми доступными средствами избегать любых контактов со спецслужбами противника. Это делается для того, чтобы свести к минимуму саму возможность появления дезинформационных сведений, инспирированных противником.
Сотрудники же «внешней» («негативной») контрразведки – разведки, наоборот, стремятся к установлению таковых, чтобы решать задачи парализации деятельности противной стороны и установления ее истинных интересов и намерений. Эти задачи решаются двояким способом: либо перевербовкой агентов и кадровых сотрудников противника, либо продвижением своей агентуры в его поле зрения в надежде, что они «клюнут на приманку» и предпримут попытку ее завербовать.
В нашем случае успех Абвера вроде бы налицо: его кадровый сотрудник в лице майора Вера вошел в прямой контакт с представителями советской разведки. Дав себя «завербовать», Вер выполнил самую сложную часть задачи по проникновению во вражескую спецслужбу. Теперь мы знаем, что с самого начала Протце был полностью осведомлен о ходе операции и ее «инициаторе» с советской стороны – Дидушке. Дальнейший ход операции, как с советской, так и германской стороны, ставит перед нами все больше и больше неразрешимых вопросов. И сразу оговоримся, что логичных и ясных ответов на них нет.
Вопрос первый: почему Силли торопился с вербовочным выходом на Вера через недавно завербованного Гесслинга? Последний еще не проявил себя как честный по отношению к советской разведке агент (сомнения Бирка и Рейса), и, соответственно, твердой убежденности, что он не выполняет волю того же Протце, у Силли не было. А если Гесслинг, давая свое согласие на сотрудничество, действовал честно, то, выходя через него на Вера, Силли фактически «подставлял» своего агента перед Абвером, не имея твердых гарантий лояльности Вера.
Вопрос второй: зная о попытках Протце через Вера возобновить связь с представителями Франца (Дидушка), зачем советские разведчики сознательно через Гесслинга осуществили вербовочный выход на Вера, тем самым фактически выполнив намерение Протце возобновить с ними связь (общность интересов)? Какими мотивами они руководствовались?
Правда, если учесть, что по сравнению с приближенным к Протце Вером Гесслинг, в глазах советских разведчиков, представлял относительную ценность и они, вербуя Вера, намеревались «поймать в небе журавля», когда «синица» – Гесслинг – была уже в руках, то логика их действий вполне понятна. Непонятно другое: почему, имея веские подозрения о том, что за спиной Вера «маячит» Протце, они тем не менее пошли на его вербовку.
Третий вопрос следует адресовать уже немецким разведчикам и, прежде всего, самому Протце. Но пока еще одно небольшое отступление. Мы уже упоминали, что в операциях по «инфильтрации» в агентурную сеть противника самым важным является ее начальный этап, включающий в себя первичный контакт, оценку обстановки, действия вербуемого в рамках отработанной линии поведения и т. д. Именно на этом этапе вероятность срыва операции как никогда велика. Для Протце и Вера этот этап вроде бы был благополучно завершен.
Главной задачей следующего этапа являлось «упрочение» своего положения в советской разведке. Ее можно было решить только при непременном условии, что советские разведчики будут полностью удовлетворены качеством получаемой от Вера информации. А вот здесь-то и выясняется, что Абвер почему-то не был готов поставлять интересующие советскую разведку сведения, и Вер на очередных встречах с Силли и Баевским был вынужден импровизировать[159].
Здесь-то и следовало бы задать Протце вопрос: почему вопреки и своим намерениям (зондаж о возможности продолжения контакта с советской разведкой после отъезда Дидушка), и сложившейся практике он в самый важный и ответственный момент операции фактически «дает ей задний ход», не снабдив Вера легко проверяемыми и актуальными для советской разведки сведениями? Разбирая ниже примерно аналогичную операцию Протце по проникновению в польскую разведку через ее сотрудника Гриф-Чайковского, мы узнаем, что с передачей туда информации у него проблем не возникало.
С другой стороны, нужно учитывать, что информация, запрашиваемая у Вера, относилась к чисто контрразведывательной (агентура Абвера, каналы поступления информации и т. д.) и, соответственно, возможность манипуляции с ней была более ограниченной. Нужно также принять во внимание, что «вербовка» Вера состоялась через два с половиной года после «инициатив» Протце, озвученных в письме Берзина и, соответственно, обстановка к тому времени сильно изменилась.
Советские разведчики для определения истинных мотивов Вера к продолжению сотрудничества подготовили список из вопросов, ответы на которые им были уже доподлинно известны. В опубликованных источниках ясно сказано, что эти вопросы были конкретны и касались практической деятельности Абвера на советском направлении. И главным вопросом в этом перечне была информация о немецкой агентуре и других каналах получения Абвером разведывательных сведений в СССР. Здесь-то подозрения в недобросовестности Вера еще больше усилились, ведь он, очевидно, таких сведений не дал. Может быть, проблема заключалась в том, что, вопреки своим ожиданиям, советские разведчики в «поле» и на Лубянке не могли поверить в то, что немецкая разведка в то время в Союзе не имела серьезной агентуры (вспомним показания Шпальке о характере получаемой Абвером информации).
Но, с другой стороны, мы знаем, что Вер, работая в Абвере, поддерживал агентурные контакты с представителями белой эмиграции, и наверняка Силли и Баевский знали и спрашивали об этом Вера. Практика и исторические примеры свидетельствуют, что для закрепления своего положения во вражеских спецслужбах разведка может через своих агентов-двойников снабжать противную сторону секретной, достоверной и актуальной для него информацией долгое время. Почему Протце не пошел на это?
Могло же быть так, что Протце, работая с Дидушком, реально связал свою судьбу с советской разведкой, а все его дальнейшие действия были лишь попыткой возобновить контакт с ее представителями.
С точки зрения подтверждения версии о «честном» сотрудничестве с советской военной разведкой, самым уязвимым местом в нашем анализе является не столько непосредственное участие Рихарда Протце в операции по продвижению в советскую агентурную сеть своего подчиненного – майора Вера, сколько сопутствующие обстоятельства, связанные с документальной фиксацией и последующим направлением информации для ознакомления Гейдриху. Но и это вполне объяснимо. Протце мог информировать гестапо о ходе операции по «подставе» Вера советской разведслужбе, создавая своеобразную «подушку безопасности» для подстраховки от возможных неприятностей. Наверняка в гестапо и СД были осведомлены о прошлых «официальных» контактах Протце с представителями советской военной разведки (дело об освобождении Басова) и могли держать «его под колпаком» – так, «на всякий случай».
В итоге счет в этой игре остался для двух сторон близким к нулю. Почему близким? Да потому, что, «импровизируя», Вер превысил свои полномочия и все-таки «сдал» советским разведчикам достаточно полезной для них информации.
Для придания профессиональному «облику» Протце новых черт интересен эпизод, связанный с вербовкой некоего Карла Флик-Штегера, имевший место несколько ранее описанных событий. Он обратил на себя внимание советских разведчиков своими потенциально высокими разведывательными возможностями, обусловленными поистине «головокружительным» кругом его деловых и личных связей. Среди его знакомых были и высокопоставленные государственные чиновники, и сотрудники германских спецслужб, и функционеры НСДАП, включая самого… Гитлера. Понятно, что пройти мимо такого человека, не попытавшись привлечь его к сотрудничеству, советские разведчики не могли, тем более что среди связей Флик-Штегера значился… Роман Бирк[160].
Удостоверившись в том, что Флик-Штегер действительно располагает хорошими оперативными возможностями, Бирк приступил к созданию необходимых условий по «выводу» объекта на берлинского резидента ИНО Бермана. Вскоре такие встречи состоялись. В них также принимал участие Бирк, представляя кандидату Бермана как «русского генерала». Берман, завершая свою работу в качестве резидента, уже предвкушал высокую оценку Центра за вербовку ценного источника, когда от Вилли Лемана была получена информация, что Флик-Штегер уже находится «под колпаком» у гестапо по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Примерно в это же время Бирк обнаружил за собой усиленную слежку[161].
Причины провала на тот момент пока не были известны. Еще через некоторое время Вер привел Бирка на встречу с Протце, который жестко допросил советского агента. Особенно его интересовала персона «русского генерала», участвовавшего 6 февраля 1933 года во встрече Бирка с Флик-Штегером. Бирк, «делая хорошую мину при плохой игре», был вынужден сознаться в том, что он действительно встречался с Флик-Штегером и неким его знакомым, но не 6 февраля, а в другой день.
Представим себе состояние Бирка, когда он давал такие противоречивые показания. Он доподлинно не знал, но мог предполагать, что именно в этот день наружное наблюдение за ним работало и могло зафиксировать встречу с «генералом» и Флик-Штегером. Как стало известно позже от Вилли Лемана («Брайтенбаха»), «наружка» действительно в тот день вела наблюдение, но не за Бирком, а за Штегером, и только по счастливому стечению обстоятельств потеряла их перед самой встречей с Берманом.
20 февраля Вер, встретившись с Бирком наедине, рассказал интересные подробности. Из его слов следовало, что Протце, а особенно он, Вер, буквально вытащили Бирка из лап гестапо, куда он угодил бы на основании сведений о попытке вербовки Флик-Штегером сотрудника гестапо Нуссбаума. Флик-Штегер показал, что задание привлечь последнего к сотрудничеству с советской разведывательной службой он получил от «русского генерала», с которым его якобы познакомил Бирк. Вер пояснил, что он и Протце не поверили показаниям Флик-Штегера, а посчитали, что последний по неясным причинам оклеветал Бирка. Этот эпизод, к счастью, для Бирка закончился благополучно. Такова общая канва событий, связанных с его участием в вербовке Флик-Штегера, заставившая, в конце концов, покинуть Германию[162].
Обращает на себя внимание ничем неоправданная доверчивость Протце по отношению к Бирку. Он почему-то больше верит ему, а не Флик-Штегеру, «засыпавшемуся» на попытке завербовать Нуссбаума. И это после того, как фамилия Бирка с подачи ставшего на путь измены участника операции «Трест» Опперпута-Стауница в свое время буквально «полоскалась» во всех средствах массовой информации как «агента ГПУ». Неужели опытного контрразведчика Протце, не доверявшего никому, могли убедить в невиновности неубедительные объяснения Бирка?
Скорее наоборот. Протце, как опытный профессионал, прекрасно отдавал себе отчет в том, что Роман Бирк, выступая посредником в контактах «генерала» (Бермана) с Флик-Штегером, не мог не работать на советскую разведку. Советский же агент полагал, что Протце не придал большого значения его участию в деле «генерала».
Известный американский специалист по истории германской военной разведки Ладислас Фараго, кстати, лично знавший Рихарда Протце в послевоенное время, в своей книге дал ему такую характеристику: «Лиса среди лис, не гнушавшийся ничем циник, он был старым профессионалом, считавшим человека виновным, даже когда его невиновность доказана. Но он мог быть приветливым и обаятельным. Его манера заключалась в том, чтобы делать и говорить неприятные вещи самым приятным способом. Он мог действовать с блеском, но только в делах, изначально не требующих разборчивости. Полностью поглощенный секретной работой, он был, пожалуй, единственным сотрудником Абвера, для которого не было ничего святого. Одиночка по натуре, Протце был не способен разделять ответственность или поручать работу. Все годы работы в Абвере он был одиночкой – самоотверженным, убежденным, скромным, но в то же время эксцентричным, не признающим авторитетов и в чем-то даже нечестным. Бывают люди, не ждущие похвалы за хорошо сделанную работу, а он, по его собственным словам, был не из тех, кого следует винить за ошибки. Этот принцип позволил ему пережить серию кризисов таким образом, что все его ошибки были забыты, а все достижения помнились»[163].
Через год после описанных событий Бирк рассказывал: «Впечатления о Протце и Вере: они слышали звон, но не знали где он. Решили сразу взять меня за жабры. И направить против Флика. Я сказал, что против Флика ничего не имею. Против меня они тогда не имели конкретных данных, и своим прямым вопросом Протце нас вовремя предупредил о большой неприятности и опасности. Я не мог спать, пока не получил сообщение, что Берман счастливо выехал из Германии. Ведь немецкая контрразведка в это время искала по всем пансионам и гостиницам советского генерала…»[164].
Будучи профессиональным агентом-разведчиком, Бирк интерпретировал прямой вопрос Протце всего лишь как отсутствие улик против него. Но последний, в силу своей специализации по борьбе с иностранным шпионажем, обладал опытом и менталитетом контрразведчика и, соответственно, не мог допустить столь грубой ошибки в виде фактического предупреждения подозреваемого о ведущихся в отношении него проверочных мероприятиях. Данных для начала глубокой разработки Бирка как советского агента у Протце было более чем достаточно. Так что в контексте описываемых событий «прямой вопрос» Протце Бирку с большой долей вероятности можно расценить как фактическое предупреждение о ведущейся проверке гестапо.
Какие цели он преследовал, выводя из-под удара гестапо Бирка? С этим вопросом напрямую связан ряд других вопросов, которые частично позволят прояснить мотивы действий Протце в прямых (через Дидушка) и опосредованных (через Скнара, Севрюка, Вера, Гесслинга) контактах с советской разведкой.
Вопрос первый: почему Протце так настойчиво искал возможность выхода на советскую разведку?
Вопрос второй: был ли фактически Рихард Протце агентом советской военной разведки, находясь на связи у Дидушка?
Возможно, утратив с ней связь и убедившись, что со стороны советских разведчиков попыток к ее возобновлению не предпринимается, Протце решил действовать опосредованно через Вера или Гесслинга. Истинных мотивов таких действий Протце мы никогда не узнаем, но высказать некоторые версии в виде предположений можем.
Первая: контакт с Дидушком был налажен в период активного военно-технического сотрудничества между Рейхсвером и Красной армией. Соответственно, давая согласие на сотрудничество с советской военной разведкой, Протце мог считать, что с его стороны никакой измены интересам государства и его службы нет, а фактическое сотрудничество могло быть прикрыто «фиговым листком» операций по обмену информацией.
Также нужно учитывать, что время его работы на советскую разведку совпало с жесточайшим мировым экономическим кризисом, самым слабым звеном в котором была послевоенная Германия. В тот период каждый выживал как мог, а профессионал разведки мог выжить, только предлагая себя в качестве информатора спецслужбе, желательно «дружественной». Возможно, что, утратив с отъездом Дидушка контакт с советской военной разведкой, он настойчиво искал его продолжения, чтобы поправить свое материальное положение.
Вторая: решая свои профессиональные задачи по борьбе с иностранным шпионажем, Протце использовал связь с Дидушком для пополнения своего информационного «багажа». Если принять за аксиому, что много разведывательной информации не бывает, можно допустить, что эта связь была для него действительно важной. Но, зная, какими первоклассными источниками информации Абвер располагал в Польше (Дидушок работал по странам Восточной Европы), некоторые сомнения в выделении этого мотива «сотрудничества» остаются.
Третья: как разведчик высшего класса, он смотрел далеко вперед, предполагая, что время активного военного и военно-политического сотрудничества Германии с Советским Союзом когда-то пройдет, а знания о советском разведывательном аппарате в Германии, подкрепленные личным опытом общения с советскими разведчиками, останутся. Все это позволит ему более эффективно бороться с «происками» советской разведки.
Четвертая версия носит сугубо «конспирологический характер» и серьезных оснований, подкрепленных конкретными фактами, под собой не содержит, но некоторые косвенные обстоятельства, связанные с предметом нашего анализа, все же заставляют ее упомянуть. Почему бы не предположить, что работа Дидушка с Протце как «агентом» советской военной разведки была лишь «ширмой», прикрытием для тайных контактов в рамках «серьезных деловых отношений» между группами высших офицеров Рейхсвера и РККА, а сами участники исполняли функции связных. Выше уже упоминалось, что Дидушок поддерживал контакт не только с Протце, но и тогдашним начальником Абвера Фердинандом фон Бредовым.
В этой связи также следует помнить, что самым интригующим и загадочным обстоятельством в воспоминаниях Кривицкого является его упоминание о том, что Дидушок из Соловецкого лагеря был этапирован на Лубянку не в связи с его «венскими похождениями», а по делу «заговора командиров кремлевского гарнизона». В такой формулировке можно говорить о его возможном участии в следствии по печально известному «Кремлевскому делу»[165].
Каждая из указанных версий имеет право на существование, но полной и истинной картины прошедших событий, скорее всего, восстановить не удастся, как по причине отсутствия документальных источников, так и по причине противоречивого характера самой специальной деятельности. Но тот факт, что в доступных источниках не содержится сведений о деятельности Протце против СССР и его разведывательных служб («подстава» Вера – единственный известный эпизод), заставляет признать версию о его «честном» сотрудничестве с советской военной разведкой как вполне вероятную. При этом зондажные попытки Протце восстановить утраченную связь с советской разведкой (Скнар, Севрюк, Вер, Гесслинг) категорично интерпретировать как операцию по проникновению в его агентурную сеть нельзя.
В этой связи заслуживает внимания, на первый взгляд не имеющее отношения к выяснению «истинного» лица Протце, замечание бывшего руководящего работника внешнеполитической разведки СД Вильгельма Хеттля о рассуждениях в различении понятий «государственная измена» и «измена Родине», имевших хождения в среде германского офицерства. Так, характеризуя деятельность адмирала Канариса как главы германской военной разведки, он пишет: «…между понятиями “государственная измена” и “измена Родине” была большая разница. Под первым они (Канарис и офицеры) понимали заговоры и выступления против режима, включая действия против главы государства. Под вторым – передачу государственных секретов противнику. Большинство офицеров было готово пойти на “государственную измену” и лишь немногие – на “измену Родине”»[166].
Конечно, такие суждения были более характерны для периода активизации деятельности «генеральской оппозиции» нацистскому режиму с конца 1930-х годов. Но то, что сама постановка вопроса имеет отношение к адмиралу Канарису и его окружению, весьма симптоматично. Известна, например, активная антинацистская деятельность ближайшего сподвижника адмирала – генерала Остера и многих других кадровых сотрудников Абвера. Напомним, что Протце также входил в «ближний круг» адмирала. При этом, однако, необходимо учитывать, что «сотрудничество» последнего с советской разведкой относится к периоду начала 1930-х годов и в рамки антинацистской деятельности вряд ли укладывается.
Протце и дело Сосновского
Для изучения «профессионального почерка» Рихарда Протце уже в работе на Абвер, который может приблизить нас к пониманию возможных мотивов «сотрудничества» с советской военной разведкой, следует обратиться к другой истории, отражающей его деятельность, но уже на польском направлении.
Мы уже обращались к примерам, характеризующим практику обмена информацией между разведывательными службами и их отдельными представителями. Особенно широко обмен информацией практиковался между военными дипломатами. И это понятно, ведь они в своих действиях по сбору разведывательных сведений были ограничены деятельностью местных контрразведок, а Центр постоянно требовал все новых и новых сообщений по интересующим его проблемам. В таких условиях к Протце инициативно обратился сотрудник аппарата военного атташе Польши в Берлине поручик Юзеф Гриф-Чайковский, который, испытывая нажим со стороны своего руководства, предложил немцам снабжать его на «взаимовыгодной основе» разведывательной информацией, изначально зная, что она будет носить дезинформационный характер[167].
Фактически его обращение к офицеру Абвера означало, что он предложил свои услуги немецкой разведке в качестве агента-двойника. Принимая предложение Гриф-Чайковского, Протце ни секунды не сомневался в исходе дела. Он помнил поговорку «коготок увяз – всей птичке пропасть».
Но вначале Протце необходимо было удостовериться в истинных мотивах обращения Гриф-Чайковского. Это было важно сделать, поскольку, как профессионал, он понимал, что такая инициатива могла быть инспирирована польской разведкой для перепроверки ранее полученных сведений. Поэтому дальнейшая работа с Гриф-Чайковским требовала особой филигранности и осторожности.
На начальном этапе «взаимовыгодное сотрудничество», в рамках обмена информационными материалами, устраивало обе стороны. Гриф-Чайковский, получая от Протце сфабрикованные дезинформационные сообщения, в глазах своего руководства в Варшаве зарекомендовал себя положительно, как деятельный и инициативный офицер разведки. Протце, в свою очередь, «скармливая» дезинформацию в польский Центр, что само по себе было большим успехом, одновременно «приручал» Гриф-Чайковского в стремлении сделать из него «контролируемого агента».
Через определенный промежуток времени Протце, очевидно, удостоверившись в отсутствии признаков «подставы» польской разведки, дал задание Гриф-Чайковскому поставлять в Абвер объективные сведения о деятельности польской разведки в Германии. Его «звездным часом» стало получение от поляка копий фотоснимков с оригинальных документов 6-го (инспекционного) отдела штаба Рейхсвера, отражающих планы германской стороны по использованию в будущей войне бронетанковых сил. Гриф-Чайковский просто сделал лишние копии в фотолаборатории польского посольства в Берлине, куда он был вхож. Для Протце стало ясно, что польская «двуйка» имеет с самом центре «интеллектуальной» деятельности Рейхсвера своего агента.
В многочисленных источниках дальнейшие события отражены вполне обстоятельно в рамках дела о провале берлинской резидентуры «In.3» 2-го отдела польского Главного штаба, возглавляемой ротмистром запаса Ежи Сосновским[168].
Коротко напомним канву дела. После получения сигнала об утечке секретных документов из войскового отдела Рейхсвера (Генерального штаба) Протце, не имея оперативных и процессуальных возможностей в раскрытии и документировании деятельности польского агента, был вынужден обратиться за помощью к гестапо. Здесь-то первичные материалы проверки и попали на стол криминаль-секретаря берлинского гестапо Лика, решавшего в своем учреждении задачи по борьбе с польским шпионажем.
Напомним, что с конца 1920-х годов этот скромный по должности чиновник политической полиции сотрудничал с советской внешней разведкой под псевдонимом «Папаша». В своей работе он замыкался на нелегальную группу помощника резидента ИНО в Германии Феликса Гурского («Монгола»). Нет необходимости говорить о том, что все получаемые агентом материалы разработки резидента польской разведки передавались в Москву. Но проявленный Лубянкой к делу интерес был не практического свойства, а, если так можно выразиться, скорее, «научного». Для целей противоборства с германскими и польскими спецслужбами эти сведения не имели особого практического применения, но в текущем режиме позволяли пополнять «банк данных» по конкретным фактам и персоналиям. Этим обстоятельством, а также скверным характером самого агента объясняется тот факт, что на Лубянке к его деятельности относились с большим недоверием. Оно было развеяно, когда его информация была реализована при драматических обстоятельствах вербовки Сосновского на Лубянке. Но об этом – чуть позже[169].
Пока Протце «сплетал свою паутину» вокруг неизвестного агента в Берлине, первые заслуживающие внимания сведения о личности польского резидента были получены из Данцига. В отчете представителя Абверштелле «Остпройссен» в Данциге Оскара Райле были изложены обстоятельства провала одного польского резидента Вальтера Куджерского, действовавшего в Германии по документам на имя Хельмута Зюльке. Как следовало из отчета, деньги на оперативные расходы ему передавал швейцар польского посольства в Берлине Казимеж Зелиньский, также поддерживавший конспиративную связь с неким Сосновским. В реферате 3F Абвера (внешняя контрразведка) эта фамилия была взята на учет[170].
Настоящим «прорывом» в разработке явилась информация одной танцовщицы кафешантана по имени Леа Роза Круз, выступавшей под сценическим псевдонимом Леа Нико, которая своему концертному импресарио рассказала о связи с польским разведчиком[171]. Она родилась в 1908 году в Гамбурге и воспитывалась матерью, работавшей стриптизершей в ночных клубах. Начав артистическую карьеру в молодые годы, к началу 1930-х годов Леа Круз добилась определенных профессиональных успехов, когда на нее в Будапеште обратил внимание Сосновский. Он предложил ей перебраться в Берлин, где обещал похлопотать перед своими приятелями о получении роли в кино.
Когда через некоторое время она убедилась, что «ухаживания» Сосновского объясняются не ее высокими творческими дарованиями, а желанием вовлечь в «шпионскую историю», Круз поделилась своими подозрениями со своим концертным импресарио Гансом Штернхаймом. В частности, она сообщила, что Сосновский побуждал ее принять знаки внимания штандартенфюрера СА Даниеля Герта, являвшегося помощником одного из высших руководителей СА Карла Эрнста.
Рано или поздно, но эти сведения стали известны Протце, который, завербовав Нико, нацелил ее на получение дополнительной информации по связям Сосновского. К тому времени Протце уже не сомневался, что резидентом поляков в Берлине был бывший ротмистр австро-венгерской армии Ежи Сосновский – фигура очень известная в кругах берлинского «бомонда».
Красавец, любимец женщин, блестящий кавалерийский офицер в прошлом, участник спортивных состязаний высшей лиги по конному спорту в настоящем, по прибытии в германскую столицу в 1925 году Сосновский развернул бурную деятельность по формированию агентурной сети. Его высокий профессионализм разведчика позже был блестяще подтвержден, когда ему удалось завербовать ряд женщин и мужчин, деятельность которых могла составить славу любой разведслужбе мира.
В подтверждение этих слов просто перечислим имена и занимаемые должности некоторых известных агентов, входивших в сеть плацувки «In.3», как в документах 2-го отдела Главного штаба Войска Польского значилась нелегальная резидентура Сосновского. Секретарши и технические работницы войскового управления Рейхсвера (Генштаба): Лота фон Леммель, Изабель фон Таушер, Ирена фон Йена. Сотрудник Абверштелле «Берлин» при командовании штаба III корпусного округа Рейхсвера Гюнтер Рудлоф. Полковник Биденфур. Кроме указанных лиц, Сосновский имел агентуру и доверенных лиц в МИД Германии, партийных спецслужбах, других государственных учреждениях. Основной помощницей Сосновского в его вербовочных разработках, исполнявшей совмещенные функции «наводчицы» и «разработчицы», была Рената фон Натцмер.
Польская разведка на германском направлении своей деятельности допустила крупную организационную ошибку, когда при создании в 1925 году резидентуры Сосновского чрезмерно централизовала ее функции как головного органа своей агентурной «глубокой» разведки в Германии. Несмотря на то что почти одновременно реферат «Запад» руководил деятельностью еще одной резидентуры «I.A» и пятью самостоятельными агентами, наблюдался видимый перекос внимания в пользу «In.3». Достаточно сказать, что на покрытие расходов последней за восемь лет деятельности Сосновского в Берлине было отпущено около 2 миллионов злотых – огромную по тем временам сумму[172].
Организационные ошибки были исправлены только после провала Сосновского, когда вместо двух плацувок, работавших в интересах «глубокой» разведки в Германии, их было сформировано в разные годы целых семнадцать, различавшихся как по месту расположения (сама Германия, соседние с ней государства), так и по принципу очередности деятельности в мирное и военное время.
Ликвидация резидентуры произошла во вторник 27 февраля 1934 года, когда на квартире Сосновского по Лютцовуфер, 36, сотрудники гестапо арестовали всех его гостей. Операцией лично руководил начальник контрразведывательного реферата берлинского гестапо Пацовский. Всего по делу было арестовано около сорока человек, многие из которых вскоре были отпущены, когда выяснилось, что они к деятельности Сосновского как разведчика не причастны.
В ходе обыска в его квартире были обнаружены уличающие в шпионаже вещественные доказательства (отчеты, копии официальных документов Рейхсвера и т. д.).
После завершения оперативной разработки Протце, следуя поговорке «мавр сделал дело, мавр может уходить», благоразумно «ушел в тень». Его ждали другие серьезные дела, уже на Западе Европы.
Трагично сложились судьбы разоблаченных агентов. Имперский суд приговорил Ренату фон Натцмер и Бениту фон Фалькенгейн к смертной казни. Ирену фон Йену и самого Сосновского – к пожизненному заключению. Бенита фон Фалькенгейн играла в этой истории особую роль. Фактически она была главной помощницей Сосновского в деле подыскания и предварительного изучения кандидатов на вербовку, иными словами, выполняла совмещенные функции агента-наводчика, агента-разработчика, агента-вербовщика. Поэтому столь суровый приговор был не случаен. Ряд агентов избежали разоблачения и трагической участи.
Казнь со всеми средневековыми атрибутами (палачом в черном, плахой и т. д.) состоялась в печально известной берлинской тюрьме Плетцензее, причем Гитлер лично распорядился, чтобы на экзекуции присутствовал сам Сосновский. Надо ли говорить, какое впечатление это действо на него произвело, ведь казненные были не просто его агентами, а близкими, любимыми женщинами.
В связи с делом Сосновского и участием в нем Рихарда Протце нельзя не упомянуть версию, высказанную совсем недавно австрийским исследователем Петером-Фердинандом Кохом, согласно которой агент польского разведчика – сотрудник Абвера Гюнтер Рудлоф – после провала Сосновского разоблачен не был, а продолжил свою работу, но уже якобы на советскую разведку. Насколько эта версия содержит под собой основания, судить сложно, но некоторые обстоятельства заставляют ее упомянуть как вполне вероятную[173].
Так, по Коху, проводя расследование, касающееся деятельности активиста Германской коммунистической партии Винцента Поромбки, руководящему сотруднику гестапо Карлу Геллеру якобы удалось выйти на след крупного советского агента в Германии. Основанием рутинной проверки явились сведения о том, что неизвестный наниматель квартиры по адресу Берлин, Шоненбергер, Эрвальдерштрассе, 1, заплатив хозяйке Грете Кюн деньги за полгода вперед, на квартире по указанному адресу появлялся редко.
Сопоставление показаний Греты Кюн с материалами проверки привело Геллера к выводу о том, что возможным нанимателем является разыскиваемый по всей Германии Винцент Поромбка. Далее якобы было установлено, что обнаруженная на квартире во время обыска рация была передана Поромбкой Гюнтеру Рудлофу для поддержания связи с московским Центром. По сведениям же французского посольства в Берлине, арестованный в июне 1935 года по делу Сосновского Рудлоф, через некоторое время был полностью оправдан и выпущен на свободу.
По мнению Коха, инициатором ареста, последующего суда и освобождения Рудлофа был якобы сам Рихард Протце, который в дальнейшем использовал своего коллегу по Абверу для передачи в Москву дезинформационных сведений и вскрытия советских агентурных сетей[174].
Винцент Поромбка действительно был известным функционером КПГ. Сведения же о нем как о советском военном разведчике относятся к более позднему времени, что, впрочем, не исключает его возможную связь с Разведупром еще до 1936 года, когда он принял участие в Гражданской войне в Испании, где и был завербован. В 1943 году в составе небольшой разведгруппы он был выброшен на парашюте в районе г. Инстербурга (Черняховск, Калининградской области) и после крайне опасного путешествия прибыл в Центральную Германию, где вплоть до 1944 года успешно руководил нелегальной резидентурой[175].
Но, повторим, насколько версия Коха отражает реальные события того времени, говорить сложно.
После приведения приговора в исполнение в отношении агентов Сосновского по инициативе начальника Абвера Вильгельма Канариса состоялись переговоры с польским послом в Берлине Юзефом Липским, предметом которых являлись условия обмена Сосновского на разоблаченных ранее в Польше германских агентов. Они были благополучно завершены, и бывший польский резидент был переправлен на родину.
Дальнейшие события очередной раз продемонстрировали всю противоречивую природу спецслужб. Сосновскому в Польше не были уготованы почет и уважение как одному из спасшихся «героев» тайной войны. После служебного разбирательства, без суда, он был помещен в варшавский лагерь «Береза Картузская», славившийся своим строгим режимом содержания заключенных. Он был обвинен в утрате ценной агентуры, неправомерном расходовании денежных средств, отпущенных на оперативные расходы, превышении полномочий и т. д.
Одним из основных мотивов такого решения военных властей было их неверие в объективность полученных по каналам Сосновского сведений. Подчас его информационные сообщения или оригинальные немецкие документы воспринимались 2-м отделом Главного штаба как откровенная дезинформация, «подсунутая» Сосновскому Абвером, а сам он являлся либо агентом-двойником, либо невольно пошел «на поводу» у германской военной разведки. Веским основанием для таких суждений являлись материалы, полученные 2-м отделом по другим, контролируемым немцами, информационным каналам. Достаточно привести пример Гриф-Чайковского, который за время сотрудничества с Протце сумел снабдить польский Центр массой дезинформационных сообщений. Установить истину в таких условиях было весьма затруднительно.
Несколько слов необходимо сказать о дальнейшей судьбе агента-двойника Гриф-Чайковского. Видно, его активизация в Берлине, а также некоторые спорные материалы вызвали в Варшаве определенные подозрения. В 1931 году он был отозван на родину и уволен из рядов вооруженных сил. Поселившись в округе города Торуня, он, однако, не прервал своих контактов с Абвером. Зимой 1933 года отдельным информационным рефератом – контрразведывательным подразделением Командования VIII корпусного округа (г. Торунь) было перехвачено подозрительное почтовое отправление в известный полякам адрес, использовавшийся полицайпрезидиумом Данцига. Несколько позже на этом же канале были обнаружены копии оперативных приказов одного из польских штабов. Предпринятыми мерами контрразведкой был установлен автор посланий. Им и оказался Гриф-Чайковский. 31 января 1933 года он был арестован и после приговора Окружного военного суда г. Торуня казнен за измену[176].
Самое время остановиться на одной загадке «дела Сосновского», которая до сих пор заставляет польских исследователей «ломать копья» в вопросе о правомерности выдвинутых в его адрес обвинений. Нам же этот эпизод очередной раз продемонстрирует противоречивую природу специальной деятельности и утвердит в суждении, что однозначные оценки ее отдельных эпизодов неуместны.
В ходе допросов Гриф-Чайковского, проводимых контрразведчиками Торуня, специально прибывшего из Варшавы представителя Центра особо интересовал всего один вопрос: сообщил ли он сотрудникам Абвера имя и сведения о характере работы Сосновского в Берлине. От ответа на этот вопрос для польской разведки зависело многое. Если Гриф-Чайковский назвал имя польского резидента, то могла стать понятной подозрительная результативность его работы в виде большого количества оригинальных германских секретных документов, полученных от агентуры, возможно, объясняемая его перевербовкой немцами. Версия о сознательной (не «втемную») работе Сосновского на германскую разведку в таком случае получала дополнительное подтверждение.
С другой стороны, поляки могли предположить, что, после того как Гриф-Чайковский назвал немцам имя Сосновского, они могли путем активной разработки выйти на его источники и, перевербовав их, направить в польский Центр качественно сработанную «дезу». В этом случае Сосновский, играя роль простого «почтового ящика», невольно стал жертвой германской дезинформации. Напомним, что во время следствия по делу Гриф-Чайковского резидентура Сосновского еще не подверглась разгрому и продолжала активно действовать.
Особенно польскую разведку интересовала проблема происхождения так называемого «А-Плана» (Aufstellungsplan) – исключительной важности документа Рейхсвера, содержавшего наметки стратегического плана ведения войны с Польшей и полученного ранее от Сосновского. Еще летом 1929 года он доложил в Центр, что имеется реальная возможность покупки оригинала указанного плана. Подполковник Студенцкий поручил Сосновскому начать переговоры о его приобретении, предварительно оговорив, что покупка будет возможна только в том случае, если польские специалисты будут убеждены в его оригинальности.
Часть плана была направлена в Варшаву, где аналитиками 2-го отдела он был признан подлинным, но дорогим. Далее начинается почти мистическая история, связанная со смертью сначала самого подполковника Студенцкого, а позже его преемника – подполковника Татара, погибшего в автомобильной аварии. Оба они были последовательными сторонниками покупки «А-Плана».
В отличие от них, подполковник Стефан Майер, относившийся скептично и к возможной германской угрозе и, соответственно, критично к предлагаемым к покупке материалам, все же, скрепя сердце, дал согласие на покупку оставшейся части материалов. Но в декабре 1932 года Сосновский передал ее в свой Центр даром, не заплатив своей агентессе Ренате фон Натцмер ни марки. Уже гораздо позже, во время следствия по делу Сосновского в Варшаве, с его слов стали известны обстоятельства продажи-покупки «А-Плана»[177].
Оказалось, что сам материал уже долгое время находился в распоряжении Сосновского, который хранил его в депонированной ячейке банковского сейфа. На этот счет у польских следователей до войны и исследователей истории польских спецслужб после отсутствуют единые оценки этого эпизода «дела Сосновского». Одни полагают, что он, в желании получить дополнительные финансовые «бонусы», вступил в тайный сговор со своей агентессой Натцмер, другие считают передачу в Варшаву оставшихся материалов «А-Плана» бесплатно вполне объяснимыми в тех условиях обстоятельствами.
После ареста Гриф-Чайковского вся эта темная история заставила польских разведчиков еще более критично отнестись к «успехам» Сосновского в Берлине. На основании таких подозрений возникал главный вопрос: сам «А-План» является фальшивкой или оригинальным документом Рейхсвера? От ответа на него фактически зависела судьба планов ведения войны на ее начальном этапе. Исходя из возможных угроз, польскому командованию необходимо было вырабатывать комплекс военно-организационных мер, призванных воспрепятствовать планам германского командования. Планируемым к нападению на Польшу германским группировкам необходимо было противопоставить соответствующие к отражению ударов силы, «оголяя» другие участки, строить фортификационные сооружения, создавать базы тылового обеспечения и т. д.
С момента возвращения Сосновского в Польшу в апреле 1936 и вплоть до 7 июня 1939 года, когда военным судом был вынесен приговор, следователи и аналитики польской разведки решали его судьбу. В конце концов решение об аутентичности «А-Плана» и других спорных материалов было принято не в пользу ротмистра, и он был осужден на 15 лет. Как отмечают польские исследователи, ключевую роль в обвинительном заключении сыграли экспертные оценки еще одного героя нашего повествования, о котором речь пойдет ниже, – начальника реферата «Восток» капитана Незбжицкого.
В сентябре 1939 года, во время «освободительного похода» Красной армии на Западную Украину, Сосновский был обнаружен советскими контрразведчиками в тюрьме г. Львова. Существует и другая версия ареста Сосновского, подтверждаемая его показаниями на Лубянке. Якобы после начала боевых действий его в составе группы заключенных под конвоем жандармов направили в г. Львов, где после своего бегства из-под стражи он инициативно заявил о себе советским представителям.
Учитывая его профессиональные качества и знания многих тайн Третьего Рейха, Сосновский был переправлен на Лубянку, где был вынужден давать показания о своей прошлой деятельности в качестве польского резидента в Берлине.
На вопросы прикрепленной к нему сотрудницы внешней разведки З. И. Воскресенской Сосновский вначале отвечать отказывался, ссылаясь на свою «забывчивость» и на «кодекс чести польского офицера», который-де ему не позволял делиться с противником тайнами своей родины. Вот тогда-то и пригодились материалы его разработки гестапо, которые в свое время передал в Москву агент «Папаша», реабилитировав тем самым себя в глазах московского Центра[178].
Когда на задаваемые вопросы Сосновский не давал ответов, принимавший участие в допросах В. М. Зарубин сам отвечал, демонстрируя бывшему польскому разведчику поразительную осведомленность советской разведки о его прошлой деятельности. Когда Сосновскому стало ясно, что советские разведчики располагают сведениями о многих деталях его работы, он «сдался» и сообщил еще много полезной для советской разведки информации. К слову сказать, мнение Воскресенской о том, что по результатам допросов ей и Зарубину стало ясно, что германским спецслужбам удалось снабдить Сосновского «дезой», может указывать, хоть и косвенно, что оценка польской разведки о его неэффективной работе не такая уж беспочвенная. Хотя, повторим, что это лишь их субъективное мнение, не подтвержденное многими польскими исследователями.
О причинах своего провала и последовавшими за ним злоключениями Сосновский высказался вполне определенно. В частности, он считал, что, в силу каких-то неизвестных ему причин, кто-то в руководстве 2-го отдела польского Главного штаба попросту «сдал» его гестапо, а его обвинение и суд в Польше обусловлены либо желанием скрыть допущенную ошибку, либо актом мести. В любом случае, наверное, какие-то основания так оценивать причину своего ареста в Германии у Сосновского были.
Последний начальник реферата «Запад» подполковник Шумовский считал, что Сосновский пал жертвой конфликта между предыдущим руководством его подразделения и реферата «Восток».
В частности, он писал: «У меня сложилось такое мнение, что он (Сосновский. – Авт.) является жертвой типа Дрейфусовского, что вину за недостатки и ошибки мощного учреждения, каким был 2-й отдел, попытались взвалить на незаурядного офицера разведки, который в системе машины 2-го отдела был совершенно беззащитным. Я лично был свидетелем обработки доказательств вины Сосновского»[179].
В наше время в польской историографии вопрос о виновности Сосновского в инкриминированных ему деяниях в целом снят, и он занял подобающее место в истории довоенной польской разведки.
После скандального провала берлинской резидентуры «In.3» польская «глубокая» разведка оказалась в Германии «у разбитого корыта». Часть ее ценнейшей агентуры была ликвидирована, а в отношении оставшейся было сформировано устойчивое недоверие.
Но вернемся к герою нашего повествования Рихарду Протце. Дело Сосновского и участие в нем Гриф-Чайковского очередной раз продемонстрировало высокий профессионализм Протце и его незаурядные качества психолога-практика от разведки. Он мастерски использовал человеческие слабости и пороки своего агента, чем нанес сильный удар по нелегальному аппарату польской разведки в Берлине. Конечный эффект от таких операций заключался не только в разрушении информационных каналов, но и в организационном параличе разведывательных структур в течение длительного времени. Кроме того, отсутствие ясных сведений о причинах провала заставило польский Центр тратить много усилий на их установление, что сопровождалось «манией преследования», когда «все подозревают всех» как возможных предателей.
И еще одно важное обстоятельство. В мире спецслужб большое значение придается таким понятиям, как «репутация» и «имидж». Разведывательные службы любыми доступными средствами стараются подчеркнуть свои успехи и скрыть поражения и недостатки. Но это не PR-потребность, а простая профессиональная необходимость. Ни один сколько-нибудь серьезный кандидат на вербовку не согласится сотрудничать с разведкой, репутация которой «подмочена» различного рода шпионскими скандалами. Ведь речь, в конце концов, идет о судьбе человека, принимающего решение сотрудничать с той или иной разведслужбой. Такой человек не один раз задумается, стоит ли связываться с разведслужбой, которая не может обеспечить его безопасность.
После дела Сосновского и до разработки и провала гаагской резидентуры английской разведки имя Протце в доступных источниках встречается редко. По косвенным признакам можно предположить, что как начальник контрразведывательного отдела Абвера с 1935 по 1937 год он продолжал заниматься польскими и франко-английскими делами, не оставляя в стороне своих интересов в Прибалтийских странах.
Голландская эпопея «дяди Рихарда»
В 1937 году Протце по старости ушел в отставку – ему было уже более семидесяти лет. Но такой блестящий профессионал не мог быть не востребован в новом качестве. По совету Канариса он уехал за границу вместе со своей подругой и секретарем «тетей Леной» – Еленой Скродзки, выбрав постоянным местом жительства тихий пригород Гааги. Для того чтобы очередной раз продемонстрировать высокий профессионализм «дяди Рихарда», как звали его коллеги по Абверу, необходимо рассказать еще об одной удачной операции Абвера, на этот раз против английской разведки.
Эта операция позволила немцам ликвидировать крупнейшую агентурную сеть Интеллидженс Сервис, действовавшую весьма активно в Германии в предвоенные годы, надолго парализовать попытки англичан восстановить ее, а самое главное, в рамках операции «Северный полюс» взять под тотальный контроль совместную деятельность английской и голландской разведок в стране уже в годы Второй мировой войны. А у ее истоков стоял все тот же Рихард Протце.
Как было сказано выше, легальные резидентуры МИ-6 традиционно действовали за рубежом под прикрытием так называемых бюро паспортного контроля при консульских отделах английских дипломатических представительств. Как правило, численность их сотрудников была небольшой и зависела от множества факторов: характера политических отношений Великобритании со страной пребывания, решаемых разведывательных задач, контрразведывательного режима и т. д. Но главным фактором, оказывавшим влияние на всю предвоенную деятельность английской разведки, было недостаточное финансирование.
Создание новой английской разведывательной структуры в Европе являлось следствием скандала, когда один из заместителей начальника МИ-6 адмирала Хью Синклера Клод Дэнси, разругавшись с другим своим коллегой Валентайном Вивьеном и получив соответствующие полномочия, начал работу по формированию «нелегальных» разведывательных аппаратов в ряде европейских стран. По его замыслу, эти разведывательные «станции» (резидентуры) не должны были замыкаться в своей работе на дипломатические представительства Великобритании, а должны были действовать независимо от них, имея собственную агентуру и отдельные линии связи с Центром. Новая разведывательная структура, руководимая Клодом Эдвардом Марджорибэнксом Дэнси, получила условное название «Зет» (Z)[180].
В Копенгагене успешно действовала разведывательная точка, возглавляемая капитаном в отставке Пейтоном Сигизмундом Бестом. Создав себе прочное прикрытие под вывеской коммерческой фирмы «Континентал трейдинг компани», он заложил основы своего разведывательного предприятия, которое руководило работой четырех действовавших независимо друг от друга агентурных групп: «Брайен», «Паффхаузен», «Виллем2». Четвертая, действовавшая под руководством секретаря германского посольства в Гааге Вольфганга Ганса Эдлер цу Путлица, по качеству передаваемой информации считалась одной из лучших[181].
«Легальная» же станция английской разведки расположилась в Гааге по адресу Ньив-Парклаан, 57, под традиционной вывеской бюро паспортного контроля консульского отдела. Ее начальником был Хью Рейджинальд Далтон, руководивший аппаратом из одиннадцати человек, занимавшихся агентурной и информационно-аналитической работой, построенной по «линейному» и функциональному принципу: разведка ВВС, военная разведка, работа с паспортами, визами и т. д. Помощниками Далтона были бывший следователь голландской полиции Адрианус Йоханнес Йозефус Фринтен и Джон Билл Хупер. Агентурный аппарат станции включал в себя 52 главных агента и неподдающееся счету число агентов и оперативных контактов[182].
Далтон сумел наладить до того хорошие личные отношения с начальником голландской разведывательной службы Виллемом Орсхоотом, что последний даже числился в картотеке точки под криптонимом «945».
Погрязнув в сомнительных авантюрах и растрате казенных сумм, выделенных на оплату агентуры, Далтон 4 сентября 1936 года покончил жизнь самоубийством. С этого момента дела созданного им аппарата пошли «наперекосяк». Только за один год сменилось два его преемника, пока должность начальника точки не занял бывший сотрудник индийской разведывательной службы майор Ричард Генри Стивенс, не имевший достаточного опыта в руководстве столь большим и сложным «хозяйством». Правда, оперативный задел, доставшийся ему в наследство от Далтона, позволял решать сложные разведывательные задачи в Германии не снижая темпа[183].
По версии Л. Фараго, одной из причин самоубийства Далтона стал шантаж со стороны его помощника Билла Хупера. Последний, якобы узнав о «темных делишках» своего шефа, связанных с присвоением денег евреев-эмигрантов из Германии, начал его шантажировать, требуя свою долю. Новые данные опровергают эту версию. Хупер действительно узнал о сомнительных сделках Далтона и официальным порядком, правда, с нарушением принципов субординации, направил докладную записку в Лондон, о чем честно предупредил своего начальника. Далтон, поставленный перед неизбежностью скандала и возможного суда, перед смертью подготовил Хуперу, как своему временному преемнику, инструкции по руководству резидентурой и сформулировал частные просьбы, приписав, что «единственной ошибкой была Ваша честность»[184].
С 1936 года германская контрразведка начала фиксировать необычайно высокий всплеск разведывательной активности англичан, выразившийся в большом числе вскрытых и ликвидированных агентурных звеньев и отдельных агентов. Специалисты-практики от Абвера и гестапо пришли к правильному выводу о том, что в одной из соседних с Германией стран начал функционировать новый, неизвестный им ранее орган английской агентурной разведки. Они долго «блуждали в потемках», не имея ни одной серьезной зацепки, позволившей приблизиться к разгадке, пока в Дании не состоялся судебный процесс по делу некоего Вольдемара Петша, обвиненного в шпионаже в пользу Великобритании.
Для датской полиции это было не совсем обычное дело, и его необычность заключалась в том, что разработка и последующий арест велись в отношении Петша как германского агента. Датчане не хотели портить отношения с Англией, но громогласно, через прессу, заявив о разоблачении очередного шпиона, «заднего хода» уже дать делу не могли и были вынуждены организовать судебные слушания. Хотя они и проходили в закрытом режиме без участия вездесущей прессы, Абверу удалось найти доступ к материалам суда и следствия, из которых они почерпнули много полезной для себя информации о деятельности английской континентальной разведывательной службы. Эти сведения были дополнены информацией из агентурного источника в аппарате контрразведывательного подразделения датской политической полиции. Начало крупномасштабной разработке было положено. В сентябре 1938 года Протце переехал в Голландию и вместе со своей подругой и секретарем Еленой Скродзки поселился в тихом пригороде Гааги Вассенаар под именем Рихарда Паарманна.
Продолжая разработку английской агентуры в Голландии, Протце прибыл туда не с пустыми руками. В его распоряжении имелось достаточно зацепок, раскручивая которые можно было выйти на таинственную сеть английской разведки. В частности, основываясь на показаниях разоблаченного английского агента Густава Хофмана, Протце узнал некоторые подробности функционирования «нового» разведаппарата англичан. Очередным успехом стало разоблачение некоего Рихарда Ланге – единственного человека, с которым, в силу обстоятельств, был вынужден встретиться Далтон и который видел последнего в лицо[185].
Прогуливаясь однажды по городу, Протце обнаружил за собой слежку. Причины интересоваться его персоной были у нескольких разведслужб, работавших в Голландии. По прошествии некоторого времени Протце с помощью своего агента Хоогевеена, выдававшего себя за голландского полицейского, имитировал задержание филера полицией, который, оказавшись перед угрозой «ареста», рассказал, что он послан осуществлять наружное наблюдение своим начальником из английской разведки. Сменив гнев на милость, Протце предложил Фолкерту Ари Ван Каутрику (как звали филера) «дополнительный приработок», если последний будет на него работать, предоставляя информацию о заданиях, даваемых ему англичанами. Последний на столь заманчивое предложение дал свое согласие, став, таким образом, агентом-двойником, причем «честным» двойником, первое время работавшим на англичан и на немцев с одинаковым усердием. На языке профессионалов такая вербовка называется «вербовкой в лоб», и последствия таковой могут быть крайне опасными для самого вербовщика, если он допустит ошибку в определении истинных мотивов вербуемого лица. Каутрик, завербованный на английскую разведку весной 1938 года сотрудником гаагской станции Монти Чидсоном, как агент-двойник со временем полностью удовлетворил Протце и его преемников из Абвера[186].
Чтобы соблюсти определенную последовательность в изложении дальнейших событий и прояснить некоторые детали, нам еще не раз придется обращаться к некоторым, на первый взгляд второстепенным, участникам шпионской драмы, связанным либо прямо, либо опосредованно с нашим главным героем – Протце.
В данном случае речь идет о Клаасе Хоогевеене, о котором известно, что еще в годы Первой мировой войны, работая инспектором голландской полиции, он по подозрению то ли в получении взятки от германского агента, то ли в работе на саму германскую разведку был из полиции уволен с «волчьим билетом». Не имея постоянного источника дохода, Хоогевеен работал частным образом на германские фирмы, выполняя подчас достаточно сомнительные задания своих нанимателей. Но не только германские заказы служили ему источником дохода. Однажды к Хоогевеену обратился Далтон с заданием собрать информацию о действующем канале контрабанды оружия из Германии. За выполненную работу Хоогевеен получил 600 голландских гульденов – по тем временам весьма значительную сумму. Обстоятельства вербовки бывшего голландского полицейского Рихардом Протце нам не известны, но известно, что эта вербовка состоялась в начале 1936 года, то есть еще до формального увольнения последнего из Абвера. К Хоогевеену, получившему в германской разведке псевдоним «Мэннинг», мы еще вернемся[187].
Постепенно Каутрик начал тяготиться своей ролью. К тому же Протце вызывал у него все больше и больше симпатии – не в пример его ухудшающимся отношениям с капитаном Стивенсом, у которого он находился на личной связи. Это привело к тому, что Каутрик перестал быть двойником, полностью став лояльным германской разведке.
По воспоминаниям Протце, которыми он поделился с английским автором И. Колвиным уже после войны, этот период был одним из самых напряженных для германского разведчика. Информация Каутрика (работавшего на немцев под псевдонимом «Вальбах»), передаваемая им на каждой встрече, свидетельствовала о серьезных проблемах у немцев с утечкой секретной информации в английскую разведку.
«Немецкие агенты во Франции будут возвращаться в Германию через Голландию. Их имена известны английской разведке», – докладывал Каутрик. Новое сообщение: «Англичане следят за хромым, который прибудет завтра вечером экспрессом из Франции в Гаагу. Англичанам стало известно, что адмирал Канарис был в Голландии». Такие сообщения требовали немедленного реагирования и вконец истрепали нервную систему Протце. Ночами его стали мучить кошмары, всюду мерещилось предательство.
В совокупности такие факты ясно указывали на наличие английского «крота» в германской разведке. Одно из сообщений Каутрика, в силу его конкретности, позволило Протце установить, что утечка идет из германского посольства в Гааге. Для определения круга подозрительных лиц в германском посольстве Протце был вынужден обратиться за помощью к самому посланнику графу Зеху. Последний – либо по оплошности, простительной не разведчику, а дипломату, либо в желании предупредить одного из подозреваемых – поделился информацией о подозрениях Протце с советником посольства Вольфгангом Гансом Эдлер цу Путлицем, который не стал искушать судьбу и перебежал в Лондон. Он-то и был английским агентом, который доставил Протце столько неприятностей и довел его до нервного срыва[188].
Сделаем еще одно отступление от темы, чтобы очередной раз убедиться, каким неблагодарным предметом для исследования, с точки зрения установления истины, является история специальных служб и роль их отдельных представителей. До недавнего времени классической работой по истории германского шпионажа в предвоенные и военные годы на англо-американском направлении являлась книга очень информированного и профессионально подготовленного (с точки зрения знания специфики предмета) американского автора Ладислава Фараго – «Игра лисиц». Свою книгу он написал на основании огромного документального материала, содержащегося в фондах трофейной документации, находившихся на хранении в Национальном архивном управлении США.
Описывая ход большого числа разведывательных операций, проводимых германской военной разведкой в Великобритании и США, Фараго пользовался документами территориальных аппаратов Абвера в Гамбурге и Бремене, ответственных за разведывательную деятельность в этих странах. Уж казалось бы, что лучшего источника для написания истории Абвера не существует. И действительно, труд Фараго в целом не утратил своей научной значимости до сих пор. Но после рассекречивания значительной части архивов американских и английских спецслужб многие устоявшиеся взгляды и стереотипы по конкретным эпизодам англо-американского противоборства с германской разведкой исследователям приходится пересматривать, причем подчас пересматривать кардинально.
В частности, Фараго утверждает, что одним из главных виновников катастрофических провалов английской разведки на континенте в конце 1930-х – начале 1940-х годов является помощник Далтона Джон (Билл) Хупер, который якобы был завербован германской разведкой и стал ее основным источником информации о деятельности МИ-6 в Германии. Эта версия долгое время исследователями не оспаривалась, возможно, по причине высокого и, повторим, действительно заслуженного авторитета ее автора. Новые же источники, введенные в научный оборот в последнее время, хотя и не дают исчерпывающего ответа на существо вопроса о конкретных виновниках провалов, заставляют как минимум по-новому взглянуть на многие обстоятельства дела[189].
Хупер после самоубийства Далтона хотя и был признан невиновным, в сентябре 1936 года был вынужден уволиться из разведки. Испытывая финансовые трудности, он переехал в менее дорогую квартиру, рассчитал прислугу. Давая в октябре 1939 года показания английской контрразведке по делу разоблаченного советского агента Кинга, о котором речь пойдет ниже, Хупер сообщил, что в конце 1936 года, испытывая материальные трудности, он принял предложение одного из своих знакомых войти на паях в коммерческое предприятие. Этим знакомым Хупера был… сотрудник советской внешней разведки Хан Генри Кристиан Пик (Ван Лой), вошедший в ее историю как участник важнейших разведывательных операций в Европе в 1930-е годы[190].
Нам придется «отмотать пленку» назад, чтобы в дальнейшем связать не связанные, на первый взгляд, между собой эпизоды противоборства разведок и события, участниками которых были как известные, так и не известные еще нам персонажи. Кроме того, такой экскурс в другую историю позволит убедиться в правоте поговорки, что «рыбак рыбака видит издалека», подразумевая, что поле деятельности разведок в тех условиях было столь узким, что играющие на нем игроки были между собой как минимум знакомы.
Хан Пик был завербован известным уже нам по вербовке Гесслинга резидентом советской внешней разведки Игнацем Порецким (Рейсом) в 1930 году под псевдонимом «Купер». Как следует из представления начальника ИНО ОГПУ Слуцкого на награждение Пика боевым оружием в 1935 году, к этому времени он уже состоял в штате внешней разведки в должности оперативного сотрудника закордонного аппарата. Являясь по убеждениям коммунистом, по происхождению голландцем, по паспорту подданным Его Величества, Хан Пик был буквально создан для работы в советской нелегальной разведке. Эти объективные условия дополнялись, как отмечал его оперативный руководитель Дмитрий Быстролетов, «любовью к разведке, романтической увлеченностью работой, сродни актерскому упоению»[191].
Для участия в вербовочной разработке шифровальщиков английского МИД Пик в 1932 году был переведен из резидентуры Порецкого в резидентуру Бориса Базарова («Кина»). После неудачи с одним из них, Раймондом Оуком («Шелли»), Пик под непосредственным руководством известного советского разведчика Д. Быстролетова завербовал другого сотрудника Департамента связи МИД Великобритании Джона Герберта Кинга («Мага»), несколько позже переданного на связь резиденту ИНО в Лондоне Теодору Малли[192].
Проблемы у Пика начались 31 января 1936 года, когда во время вечеринки по случаю его новоселья состоялся весьма неприятный диалог с одним из гостей… Биллом Хупером. С глазу на глаз последний заявил Пику: «Мы ваше прошлое знаем, и вы у нас под постоянным контролем. Я хочу услышать от вас лично, занимаетесь ли вы еще этим делом или нет?» Под делом Хупер подразумевал прошлую коммунистическую деятельность Пика, на что он дал вполне устроившие Хупера объяснения, сославшись на свои увлечения молодости. Он утверждал, что давно уже отошел от политики, а занимается лишь коммерцией и живописью. Когда Хупер назвал нескольких знакомых Пика в Великобритании, последнему стало ясно, что он действительно находится «под колпаком» у МИ-5. Но самым неприятным моментом диалога было то, что Хуперу, со слов партнера Пика по бизнесу Парланти, был известен адрес лондонской конспиративной квартиры, на которой проходили встречи с недавно завербованным Кингом – 34а, Бэкингем-гейт, Вестминстер[193].
О случившемся Пик экстренным порядком поставил в известность гаагского резидента ИНО Вальтера Кривицкого, который в свою очередь известил Теодора Малли о невозможности дальнейшей работы с Кингом на проваленной квартире.
Когда несколько позже Пику понадобились рекомендации серьезных людей для его участия в делах одной английской фирмы, он с такой просьбой обратился к Биллу Хуперу. В офисе последнего прошла еще одна очень примечательная встреча, из которой стало ясно, что Пик действительно долгое время находится в разработке по подозрению в коммунистической деятельности не только у МИ-5 и МИ-6, но и у голландской полиции. Советским разведчикам стало ясно, что Пик провален, правда, пока без серьезных последствий, и что путь в Англию для выполнения разведывательных заданий ему заказан.
Из сохранившихся архивных материалов личного дела Пика следует, что после этих драматических событий связь с ним со стороны советской разведки была прервана окончательно. Несколько забегая вперед, укажем, что в июне 1941 года от агента советской разведки в МИ-5 Энтони Бланта («Тони») стало известно, что Пик разрабатывался непосредственно Хупером по подозрению в коммунистической деятельности и возможной работе на советскую разведку[194].
Со слов же младшего брата Билла Хупера – Джека, задание на разработку Пика Билл получил в 1934 или 1935 году лично от шефа МИ-6 адмирала Хью Синклера, причем первичная информация о противоправной деятельности голландца относилась еще к марту 1930 года и была получена от местной политической полиции.
Нет ничего удивительного, что в таком «волшебном клубке» – образном понятии древних китайцев, отражавшем суть шпионажа, стало возможным заявление бывшего резидента ИНО Вальтера Кривицкого в 1940 году на слушаниях в английской контрразведке, что Билл Хупер был завербован Ханом Пиком на советскую разведку. Правда, со слов бывшего советского резидента следовало, что никакой серьезной информации Хупер не дал, ограничившись устаревшими служебными документами. Кривицкий не строил особых иллюзий о «ценности» Хупера как агента. Он полагал, что последний работал на англичан как агент-двойник, и, очевидно, был не далек от истины.
На основе информации и личных впечатлений Пика о последних беседах с Хупером советские разведчики сделали вывод, что интерес к нему со стороны английской контрразведки вызван лишь подозрениями о его возможной работе на Коминтерн. Но, как стало известно после опубликования некогда секретных английских архивов, на самом деле интерес к Пику был обусловлен серьезными основаниями подозревать его в работе на советскую разведку.
Когда в 1939 году был разоблачен Кинг, английская контрразведка подняла все материалы по делу и обратилась за соответствующими разъяснениями к лицам, имевшим к нему отношение в прошлом. Из них следовало, что Хупер направил в Лондон несколько сообщений, в которых наиболее важная информация исходила от партнера Пика по бизнесу Конрада Парланти. В частности, там имелось упоминание о том, что ему, со слов жены Пика Берни ван Лир, было известно об использовании вышеупомянутой квартиры в Лондоне для тайных встреч с неназванным сотрудником МИД Великобритании[195].
Другим не менее важным источником сведений о работе на советскую разведку Кинга был еще один неизвестный агент МИ-6 в Голландии, который по делам бизнеса был связан с Пиком и от которого получил адрес некоей Элен Уилки, которая, как выяснилось впоследствии, была любовницей шифровальщика Кинга.
Имеется также еще одно примечательное совпадение, напрямую связанное с историей Пика и его работой на советскую разведку.
Дело в том, что еще до самоубийства Далтона Хупер, занимаясь оформлением транзитных документов на евреев, эмигрировавших из Германии, по роду этой деятельности был связан с неким Симоном де Врие, который был первым мужем жены Пика Берни ван Лир. Имеются также некоторые непрямые указания на то, что Хупер в то время был с ней знаком[196].
После развода ван Лир с де Врие последний, через нанятого частного детектива, начал собирать на Пика компрматериал, который грозил обнародовать. Насколько такие угрозы были серьезны и каков был характер собранных детективом сведений, точно не известно[197].
Но ключевую информацию о сотрудничестве последнего с советской разведкой предоставил англичанам сбежавший в США Вальтер Кривицкий, после чего последовал арест Кинга и суд. В свое время, в силу сложившихся обстоятельств, затруднявших регулярное получение разведывательных материалов от Кинга, рассматривалась возможность принятия Кривицким англичанина на связь. Для изучения такой возможности в декабре 1935 года и была проведена одна единственная встреча Малли, Кинга и Кривицкого[198].
За шпионаж в пользу Советского Союза он 18 октября 1939 года был приговорен к десяти годам заключения. Освободился из тюрьмы Хилл на острове Уайт совершенно больным в июне 1946 года, и его дальнейшая судьба неизвестна.
Когда агент советской разведки в МИ-5 Энтони Блант получил архивное дело Кинга и материалы проверки Пика, он был удивлен нерасторопностью английской контрразведки. Еще до показаний Кривицкого в ее распоряжении имелись серьезные зацепки, которые вполне могли привести к разоблачению не только Пика и Кинга, но и лондонского резидента ИНО Теодора Малли («Хардта»). Как оказалось, МИ-6 просто не поставила в известность своих коллег-конкурентов из МИ-5 об имеющейся информации на Пика и Малли[199].
В то время как уволенный из разведки Хупер занимался торговлей авиационными запчастями и патентами, по наводке то ли Каутрика, то ли Хоогевеена Протце разыскал его, обоснованно полагая, что для Абвера он представляет особый интерес. Фараго считает, что Протце сам вышел на Хупера и после ряда содержательных бесед завербовал его. Хотя Хупер уже около трех лет не работал на английскую разведку, многие известные ему тайны по-прежнему оставались весьма актуальными[200].
Но, как следует из рассекреченных английских документов, «вербовку» Хупера провел не Протце, а Герман Гискес, в 1937 году зачисленный в штат реферата 3F (внешняя контрразведка) Абверштелле «Гамбург».
На первой же встрече Хупер предложил следующий вариант сотрудничества. Он-де готов за ежемесячное вознаграждение в 500 гульденов войти в контакт с агентом советской разведки Пиком, а через него с секретаршей главного советника МИД Великобритании Роберта Венситтарта, о которой было известно, что она якобы была дружна с Пиком. Хупер предложил Гискесу восстановить в интересах Абвера с Пиком контакт от имени НКВД и завербовать секретаршу «под флагом» СССР. Ему якобы было известно о ее прошлых контактах с советской разведкой. На очередной встрече в конце мая 1939 года такой вариант «сотрудничества» Гискес отверг и под предлогом отсутствия у Хупера интересующей Абвер информации предложил прервать дальнейшие отношения. К этой попытке использовать Пика в разведывательной комбинации мы еще вернемся[201].
Дальше следует еще одно противоречие в показаниях ключевых свидетелей тех событий. После войны на допросах в английской контрразведке Гискес утверждал, что именно тогда Хупер, чтобы не потерять контакт с Абвером и, соответственно, источник дохода, впервые назвал имя ценного английского агента в Германии «доктора Крюгера». Эта версия и была озвучена Л. Фараго в его книге, правда, с указанием на Протце как на руководителя Хупера от Абвера. Но, как следует из документов английской контрразведки, главным виновником провала Крюгера был не Хупер, а Каутрик. Но об этом чуть позже.
Тем временем следующим этапом операции по разработке резидентуры МИ-6 в Гааге стало упоминаемое выше создание стационарного поста наружного наблюдения, расположенного на барже напротив входа в консульский отдел английского дипломатического представительства. Протце и его ближайший помощник по реферату 3F капитан Фельдман, взяв в аренду речную баржу и смонтировав на ней фото– и киноаппаратуру, начали фотографировать всех посетителей отдела. Через некоторое время, при помощи Каутрика, почти весь штатный состав английской «станции» был идентифицирован немцами. Кроме того, стали известны и некоторые агенты, «завязанные» на эту разведывательную точку. Позднее, по воспоминаниям Оскара Райле и Германа Гискеса, в Абвере был даже смонтирован учебный фильм, который с соответствующими комментариями демонстрировался принимаемым на службу сотрудникам.
Английская разведка начала нести невосполнимые потери в Германии. Большинство направляемых туда агентов были либо арестованы, либо перевербованы. В руководстве гаагской точки, выпустив ситуацию из-под контроля, были вынуждены резко ограничить свою информационную и вербовочную деятельность. Многие потенциально ценные связи в Германии были заморожены, перспективные вербовки так и не были доведены до конца. В результате ее деятельность была почти полностью парализована.
По версии Фараго, Хупер, якобы исчерпавший свой информационный багаж, попробовал было заняться вольными импровизациями, но Протце так на него «надавил», что он был вынужден рассказать о самом ценном источнике гаагской точки в Германии. Он якобы назвал его имя – доктор Отто Крюгер. Когда Протце услышал эту фамилию, он, несмотря на все свое хладнокровие и цинизм, был потрясен. Он этого человека знал лично по совместной службе в военно-морском флоте, ценил и уважал его опыт и знания как разработчика нового оборудования для нужд ВМФ. Оказалось, что Крюгер был завербован английской разведкой еще в далеком 1919 году. На ее деньги он сначала открыл патентное бюро, а через некоторое время – производственно-коммерческую фирму, занимавшуюся материальным обеспечением флота. Для Крюгера, имевшего огромное число личных и деловых связей среди офицеров, политиков и предпринимателей, поистине не было секретов в сфере строительства нового флота Германии[202].
Теперь дело было «за малым» – отследить связь Крюгера с его руководителем из английской разведки и взять их с поличным. Легко сказать, да трудно сделать. Взятый в плотную разработку в Гамбурге, где он проживал, «обложенный» со всех сторон прослушкой, наружным и агентурным наблюдением, Крюгер не давал ни малейшего шанса Абверу и гестапо найти возможность получения улик его разведывательной деятельности. Он вел ничем не примечательный образ жизни: алкоголем не злоупотреблял, в азартные игры не играл, за женщинами не волочился. Единственным подозрительным моментом были его частые поездки в Голландию, где, правда, у него имелись коммерческие интересы.
Протце якобы решил проконтролировать такую поездку с использованием всех возможных оперативных средств. Бригада наружного наблюдения, срочно переброшенная в Гаагу, начала методично фиксировать и изучать связи Крюгера, пытаясь (сопоставляя их с банком данных на лиц, подозреваемых в работе на англичан) найти нужного руководителя. Все было тщетно. Крюгер в этот приезд в Гаагу ни разу не «подставился». Только два подозрительных момента в его поведении было зафиксировано немцами: активная работа на пишущей машинке в гостиничном номере и визит в один респектабельный особняк в пригороде. У Протце совсем было опустились руки, когда он изучал материалы о поездке Крюгера, пока он на очередной встрече не спросил своего агента Каутрика: не известен ли тому некий Аугуст де Фремери, являвшийся владельцем особняка, где останавливался Крюгер. Конечно, известен, ответил тот, это и есть настоящая фамилия капитана Хендрикса – заместителя начальника станции. Последняя часть пазла встала на свое место. Протце окончательно убедился в правомерности своих подозрений. Повторим, что это была версия Фараго[203].
По версии же Каутрика, изложенной им после войны в показаниях английской контрразведке, однажды, то ли в 1938, то ли в 1939 году, он принимал участие в мероприятиях по обеспечению безопасности встречи сотрудников английской разведки с ценным германским источником, проводимой в одном из отелей Утрехта. Тогда он не знал имени этого немца. На одной из встреч с Протце он якобы и сообщил об этом английском агенте. Последний, пообещав дополнительный «бонус» в виде премиальных, дал Каутрику задание установить имя неизвестного, которое и было несколько позже выполнено. Крюгера якобы просто арестовали на границе во время очередной поездки в Голландию[204].
В 1948 году Гискес утверждал, что только благодаря информации Хупера Крюгер был разоблачен как британский агент. Возможно, в этом случае мы имеем дело лишь со стремлением основных участников тех событий утвердить себя в качестве главных «разоблачителей» Крюгера и не делиться славой с бывшими сослуживцами.
К косвенным подтверждениям версии Гискеса относятся и сведения двух бывших сотрудников Абвера, допрошенных после войны. По словам ответственного сотрудника Абверштелле «Мюнстер» Рихарда Геркена, он, работавший в марте 1940 года начальником криминальной полиции г. Оснабрюке, лично принимал участие в аресте Германа Крюгера (по Фараго – Отто Крюгер). Сведения о его сотрудничестве с англичанами якобы были получены из местного Абверштелле.
Дочь бывшего сотрудника Абвера Матиаса Янсена, также работавшая в германской разведке, на допросе сообщила, что разоблачение Крюгера было следствием успешной работы аппарата Абвера в Мюнстере[205].
А тем временем процесс окончательной ликвидации двух независимых друг от друга агентурных сетей МИ-6 в Германии вступил в свою решающую стадию. После объявления Великобританией 3 сентября 1939 года войны Германии организация «Z» и ее руководитель Бест, лишившись линий связи с Германией и своим лондонским Центром, были включены в состав станции Стивенса. Агенту Протце Каутрику в этих условиях за какие-то пару недель стали известны многие секреты «разведывательной кухни» Беста, которые позволили Абверу ликвидировать замыкавшиеся на «Z» агентурные группы в Германии.
По версии Фараго, Хупер с началом войны, испытывая угрызения совести, «покаялся» в своем предательстве перед Бестом, однако ни слова не сказав о своей роли в разоблачении немцами Крюгера. Его сотрудничество с Абвером якобы сошло ему с рук. Он снова включился в работу по восстановлению сильно разрушенного «хозяйства». Правда, последствия понесенных англичанами поражений были настолько серьезными, что говорить приходилось, скорее, уже не о восстановлении, а о ликвидации разведывательных организаций и создании новых, не затронутых провалами агентурных структур.
Примерно в это же время в активную стадию развития перешла операция СИС по установлению контактов с влиятельной группой заговорщиков в Германии, результат которой в конце концов привел к окончательному разгрому остатков английского разведывательного аппарата в Рейхе. Речь идет о событиях, напрямую предшествующих печально известному для МИ-6 «инциденту в Венло», когда два английских резидента, Стивенс и Бест, были захвачены немцами. Рихард Протце и в этой операции сыграл если не главную, то все же весьма ответственную роль.
Хупер, вернувшись в английскую разведку, предложил провести акцию по физическому захвату Гискеса, с которым он продолжал контактировать. Это очень важное обстоятельство позволяет нам вслед за Клуйтерсом утвердиться во мнении, что его «работа на Абвер» была обусловлена исполнением функций агента-двойника, работавшего на МИ-6. Если бы акция не была сорвана усилиями Протце и Каутрика, то вполне возможно англичане, захватив Гискеса, отыгрались бы за позорный для них «инцидент в Венло»[206]. И если бы Хупер «честно» работал на Абвер, он никогда бы в интересах собственной безопасности не принял участия в операции по захвату Гискеса. Напомним, что последний, после истории с Крюгером, был полностью уверен в лояльности своего «агента» Хупера.
С другой стороны, Хупер, планируя акцию по захвату Гискеса, если признать, что он «честно» работал на Абвер, мог просто устранить последнего как свидетеля своего предательства. Гискесу, со слов Протце, якобы было известно, что Хупер, вызывая его на встречу, планировал его убить.
В изложении Фараго этот эпизод «расцвечен» таким образом, что только в самый последний момент Гискес, получив предупреждение Протце о «предательстве» Хупера, отменил встречу со своим «агентом» на полпути[207].
Клуйтерс в оправдание Хупера приводит несколько примеров. Во-первых, на встрече с Гискесом он назвал покойного уже Далтона как действующего сотрудника английской разведки. И действительно, этот факт нашел отражение в подготовленной РСХА так называемой розыскной книге по Англии для оккупационных властей. В эту книгу, отпечатанную перед предполагаемой высадкой Вермахта в Великобританию в 1940 году, были занесены персональные данные на лиц, подлежащих немедленному задержанию в случае их обнаружения на островах. Там значится некий Хью Далтон, правда, как администратор Лондонского университета[208].
Во-вторых, Хупер мог действительно назвать Крюгера как английского агента, но, зная о его судьбе, сделал это уже после его ареста.
В-третьих, дальнейшая работа Хупера в годы Второй мировой войны в английских спецслужбах может свидетельствовать, что он после всех вышеизложенных событий успешно прошел, условно говоря, «фильтрацию», предусматривавшую детальное выяснение всех эпизодов его предвоенной деятельности на посту заместителя начальника станции МИ-6 в Гааге. Если бы у руководства английской разведки были хоть малейшие сомнения в «верности» Хупера, оно никогда бы не доверило ему ответственную работу во время войны.
Но, повторим, что конечную точку в истории противоборства Протце с англичанами ставить еще рано. И нас почти наверняка ожидают новые «скелеты в шкафах», хранящиеся в еще не исследованных и не опубликованных архивах.
Но другая загадка, очевидно, навсегда останется неразгаданной для исследователей. Речь идет о возможном участии Рихарда Протце в судьбе советского разведчика Хана Пика. Мы помним, что Хупер во время своих «заигрываний» с Абвером назвал Гискесу имя Пика как агента советской разведки и даже предложил использовать его в интересах Абвера. С позиций сегодняшнего дня нам трудно судить о мотивах отказа последнего от использования Пика в перспективной, на первый взгляд, оперативной комбинации. Но тот факт, что германская разведка не проявила к ней интереса, может косвенно свидетельствовать о возможном участии Протце в судьбе советского агента.
В истории взаимоотношений Хупера и Пика имелся эпизод их кратковременной совместной работы в одном из коммерческих предприятий (после ухода Хупера из МИ-6). Именно тогда агент Протце Хоогевеен («Мэннинг»), знавший Хупера как английского разведчика, и обратился к нему и Пику с деловым предложением о покупке патента на какое-то изобретение. То есть, со слов Хоогевеена, Протце о существовании Пика было почти наверняка известно. И было бы совсем странно, если бы Гискес не доложил Протце как руководителю всех контрразведывательных операций Абвера в Голландии о соответствующем предложении Хупера.
Из английских источников также известно, что Пик после оккупации Голландии был арестован гестапо, но его арест был вызван не его деятельностью в пользу советской разведки, а всего лишь коммунистическим прошлым, сведения о котором были почерпнуты немцами из архивов голландской политической полиции. Содержавшийся в годы войны в немецком концлагере, Пик после ее окончания продолжал жить в Голландии, постоянно находясь у голландцев и англичан под подозрением сначала как коммунист, а позже как советский разведчик[209].
Это обстоятельство имеет важное значение с точки зрения ответа на вопрос: почему гестапо арестовало Пика не как советского разведчика, а как участника коммунистического движения в далеких 1920-х годах[210]. Наиболее убедительной на этот счет версией является то, что Гискес, либо сам, либо по «настоятельной рекомендации» Протце, не принял мер к реализации столь важной для германской разведки информации.
Это может быть вполне объяснено какими-то оперативными соображениями Абвера, не последнюю роль в выработке которых в силу занимаемого положения играл Протце, несмотря на свой «уход» из разведки. Но это может быть оправданным до 22 июня 1941 года. После же этой даты, когда с началом нападения Германии на СССР все органы германской контрразведки, и по линии гестапо, и по линии Абвера, были заняты вскрытием советских агентурных сетей в рамках операции «Красная капелла», логичных и связных объяснений «делу Пика» нет.
Ответ на вопрос, почему германская контрразведка, имея такую важную наводку на Пика, не придала ей значения, лежит в области взаимоотношений Гискеса, Хупера и Протце. Насколько была важной роль последнего в этом деле, мы можем только догадываться. Выводы по этому эпизоду делать преждевременно, но сразу же вспоминается участие Протце в судьбе другого агента советской разведки – Романа Бирка.
Протце, Веземан, Кривицкий
Утром 10 февраля 1941 года в одном из номеров вашингтонского отеля «Бельвю» был обнаружен труп мужчины средних лет, характерными особенностями внешности которого были густые черные брови и абсолютно седые волосы. Причиной смерти явилось, как было записано в полицейском протоколе, «проникающее ранение в голову» револьверной пули 38-го калибра, который был обнаружен тут же в номере. На столе лежали три предсмертные записки на английском, русском и немецком языках. Опрос служащих гостиницы показал, что погибший был зарегистрирован под именем Вальтера Порефа, что он поселился накануне и в день смерти должен был выселиться из гостиницы. Проводивший осмотр места происшествия сержант местной полиции Гест установил, что одна из записок предназначалась адвокату пострадавшего Валдману со стандартной в таких случаях просьбой оказать помощь семье погибшего.
В ходе первичных следственных действий было установлено, что признаки борьбы, сопровождавшиеся в таких случаях беспорядком, отсутствовали, револьвер лежал рядом с трупом, входная дверь была заперта изнутри. Совокупность всех этих признаков и найденные предсмертные записки, по мысли детективов, ясно указывала на самоубийство. Некоторое сомнение об обстоятельствах смерти вызвали лишь личные документы погибшего, которые были выписаны канадскими властями на имя Самюэля Гинзберга, но и этот факт не устранил версию самоубийства.
Завершив все требующиеся процессуальные действия, вашингтонская полиция готовилась сдавать дело самоубийцы в архив, когда в управление позвонил адвокат Валдман и сообщил сенсационную новость. Оказывается, настоящая фамилия погибшего была не Пореф и не Гинзберг, а Кривицкий. Еще совсем недавно эта фамилия не сходила со страниц американских и европейских газет, доставляя жадным до сенсационных разоблачений обывателям пищу для досужих разговоров о деятельности «кровавого ОГПУ» в странах Европы. В прошлом погибший действительно был одним из высокопоставленных сотрудников советской разведки, действовавшим почти два десятилетия в целом ряде европейских стран.
Вся тогдашняя пресса и подавляющее большинство современных исследователей исходили из предположения, что только Советский Союз был заинтересован в устранении Кривицкого. Значит, если предположить что самоубийства не было, а важных, правда, косвенных указаний на этот счет было множество, то, следовательно, к его смерти была причастна советская разведка[211].
Но в своих воспоминаниях П. Судоплатов утверждает, что, насколько ему было известно, на Лубянке самоубийство Кривицкого было воспринято как следствие нервного срыва, вызванного депрессией, и что советская разведка к его смерти отношения не имела[212]. Уточнение «насколько мне известно», предполагает, что Судоплатов мог и не знать о возможном ее участии в ликвидации Кривицкого. Но, с другой стороны, занимаемое им тогда высокое служебное положение, предполагавшее большую осведомленность о происходящих на «внутренней кухне» разведки событиях, является важным косвенным подтверждением версии о действительном неучастии советской разведки в устранении Кривицкого. Мы тоже условно ее примем.
При наличии некоторых обстоятельств, имеющих прямое отношение к личности Протце, версия о самоубийстве бывшего советского разведчика могла действительно рассматриваться как наиболее правдоподобная. Но, как мы могли убедиться не раз, возникает очередная загадка, имеющая прямое отношение к некоторым обстоятельствам жизни и смерти Кривицкого.
Немного отвлечемся от февральских событий 1941 года в Вашингтоне, чтобы вернуться в Голландию, Англию, Швейцарию 1935–1939 годов. В нашем повествовании появляется еще один участник крупнейших разведывательных акций германских спецслужб в Европе в 1930-х годах, жизнь и профессиональная деятельность которого самым тесным образом переплелась с судьбами некоторых наших героев.
Этим человеком был некий Ганс Веземан. Усилиями английских и американских исследователей в наше время его биография достаточно обстоятельно изучена. Он прожил долгую и насыщенную многими событиями жизнь, но нас будут интересовать лишь некоторые из них, напрямую связанные с Рихардом Протце[213].
Известно, что после окончания Первой мировой войны Веземан работал редактором еженедельной газеты «Berlin am Montag», в которой с левых позиций критиковал активность нацистов и их вождя Гитлера, за что неоднократно подвергался нападкам со стороны последних, грозивших убить его «как бешеную собаку». После прихода нацистов к власти в 1933 году Веземан действительно был арестован и для «перевоспитания» направлен в концлагерь Дахау.
Через некоторое время, неожиданно для немецких политэмигрантов, Ганс Веземан обосновался в тихом швейцарском городе Цюрихе, где начал издавать газету «News letter». Антифашистская направленность публиковавшихся в газете статей не оставляла сомнений, что пребывание Веземана в Дахау не повлияло на его левые убеждения. Он продолжал яростно критиковать Гитлера и национал-социалистскую партию. Близким друзьям он поведал историю о своем мужественном поведении в нацистских застенках и о совершенно фантастическом побеге из концлагеря, создав себе ореол «мученика» за свои убеждения. Но мало кто догадывался, а уж тем более знал, что с момента своего ареста Веземан начал сотрудничать сначала с нацистскими спецслужбами, потом и с германской военной разведкой, продемонстрировав типичный пример «перевертыша».
Одной из первых его крупных акций стало участие в так называемом «деле Бертольда Якоба» – крупного немецкого издателя и журналиста, известного своими разоблачительными работами по национал-социалистскому движению. Общегерманскую известность он приобрел еще в 1928 году, когда в газете левой ориентации «Die Weltbühne», где тогда сотрудничал Якоб, были опубликованы сенсационные тогда материалы, отражающие роль будущего начальника Абвера Вильгельма Канариса в сокрытии имен убийц Розы Люксембург и его связи с крайне правыми организациями[214].
Эмигрировав после прихода нацистов к власти в Англию, Якоб в 1935 году опубликовал наделавшую много шума работу, посвященную реорганизации Рейхсвера в Вермахт. В этой книге на основании большого фактического материала Якобом было доказано, что начиная с 1934 года нацистский режим приступил к планомерной ревизии Версальских договоренностей, особенно в области военных ограничений, наложенных на Германию странами-победительницами. На ее страницах содержались развернутые доказательные данные о военном строительстве Германии, включая большое число специфических подробностей.
Примечательно, что Бертольд Якоб как активный антифашист постоянно находился в поле зрения советской разведки. Доподлинно не известно, был ли он ее агентом, но то, что через упоминавшегося выше агента Марко Бардаха, замыкавшегося на резидента Игнаци Порецкого (Рейса), с ним поддерживался контакт, можно утверждать с большой долей уверенности[215].
Когда книга попала в руки специалистов Абвера, они содрогнулись, признав, что материалы абсолютно достоверны и носят совершенно секретный характер. Под большим впечатлением от прочитанного, они предположили, что источником утечки секретных сведений может быть единомышленник Якоба, обосновавшийся «в святая святых» – германском военном министерстве. Самым тщательным образом были «просвечены» все оставшиеся связи Якоба в Германии, задействованы агентурные возможности Абвера в Англии по получению сведений о его информаторе, проведена большая работа по аналитическому «исследованию» содержащихся в книге сведений, а результат работы все равно «равнялся нулю». Тогда Абвером и гестапо была спланирована операция, ключевую роль в которой должен был сыграть Ганс Веземан. Выбор такого исполнителя был обусловлен тем фактом, что Веземан и Якоб были близкими приятелями.
В начале 1935 года Бертольд Якоб получил письмо от известного «антифашистского» журналиста Веземана, в котором тот предлагал посетить Базель для обсуждения вопроса об основании новой газеты. Отдельным пунктом в письме оговаривались планы по нелегальной переброске части тиража через границу в Германию, к чему якобы имелись все возможности. Кроме того, как писал Веземан, группа политических эмигрантов испытывает потребность в организационном оформлении своей антинацистской деятельности и что такой авторитетный и убежденный противник Гитлера, как Якоб, ей подходит в качестве руководителя. Для того чтобы предложение было более весомым, Веземан «пошелестел купюрами», предложив более высокую оплату, чем ту, которую получал Якоб, работая в Лондоне переводчиком в одном из издательств. Но основным побудительным мотивом Якоба ввязаться в подобную авантюру было желание получить заграничный паспорт для выезда из Швейцарии.
Совокупность материальных и идеологических мотивов побудила Якоба принять приглашение группы «антифашистов». После встречи в Швейцарии, куда Якоб прибыл вместе с женой, Веземан, желая продемонстрировать свои большие возможности, всячески обхаживал своих гостей: поселил их в комфортабельном отеле, водил в дорогие рестораны. На вопросы об источнике материальных благ Веземан пояснял, что за ним стоят влиятельные политические силы США и Франции, которые при реализации своих антифашистских планов привыкли не скупиться.
9 марта 1935 года состоялась совместная встреча Бертольда Якоба с Гансом Веземаном, в которой по заранее обусловленной договоренности приняли участие двое его «друзей», готовых финансировать рискованное предприятие по созданию газеты. Очевидно, что спланированная немцами операция была хорошо реализована и что актерских данных Веземану и его операторам из СД было не занимать, иначе бы Якоб, испытывавший страх перед нацистами, не пошел на ту злополучную встречу[216].
Некоторые опубликованные источники главным «работодателем» Веземана считают гестапо. Насколько это соответствует действительности, доподлинно не известно. Известно лишь, что практическим организатором акции в Базеле выступил некий Рихтер, который находился в непосредственном подчинении у Гюнтера Пацовского, с 1933 года исполнявшего обязанности начальника одного из рефератов Службы безопасности (СД). Другой участник операции, Манц, по его словам, выполнял функции связного между Рихтером и «офисом» Рейхсвера под руководством майора Вальтера Буха. В ходе одной из встреч Веземана с Рихтером в ней принял участие еще один военный представитель «в штатском», который был знаком с характером деятельности Веземана и информацией, представляемой им германским спецслужбам[217]. Совокупность всех этих данных указывает на то, что принадлежность Веземана к агентуре конкретной нацистской спецслужбы дело не принципиальное. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о совместной заинтересованности Абвера, гестапо и СД в благополучном завершении операции по захвату Якоба.
Дальше все происходило по заданному сценарию. В небольшом ресторанчике гостя угостили прекрасным ужином с крепкими рейнскими винами, в которые были скрытно подмешаны наркотики. Очнулся Якоб уже на территории Германии с крепко связанными руками. Сыгранная Веземаном роль была настолько успешной, что первый вопрос, который задал своим похитителям Якоб, что случилось с Веземаном[218].
В следственных камерах гестапо на Принц-Альбертштрассе, куда поместили Якоба (Абвер не имел процессуальных прав вести следствие), начались допросы, сопровождавшиеся пытками. С самого начала в допросах приняли участие Гейдрих и Пацовский. Анализ записей блокнота Якоба сразу привел к аресту нескольких его знакомых, первыми из которых были доктор Роберт Кемпер, адвокат Ашнер, литератор Вальтер Киолен. Позже были идентифицированы другие источники Якоба: сотрудник авиационной фирмы, служащий военно-морской базы в Вильгельмсхафене, рабочий военного завода.
В свою очередь, заключенный дал «сенсационные» показания, что все сведения, считавшиеся в Абвере секретными, он взял из абсолютно открытых источников в виде газет, журналов, специальных военных сборников. Так, объясняя свою поразительную информированность, Якоб показал: «Все, что опубликовано в моей книге, я почерпнул из газет. Основание для утверждения, что генерал-майор Гаазе командует 17-й дивизией, расположенной в Нюрнберге, я извлек из некролога, помещенного в местной газете. В нем говорилось, что на похоронах присутствовал генерал Гаазе, командующий 17-й дивизией. В газете Ульма среди светских новостей я нашел данные о свадьбе дочери полковника Вирова с неким Штеммерманом. В заметке упоминалось, что Виров командует 306-м полком 25-й дивизии. Майор Штеммерман был назван офицером службы связи этой дивизии. В газете сообщалось, что он приехал из Штутгарта, где расквартирован штаб его дивизии…»[219].
Получив такие убедительные объяснения, сотрудники гестапо и СД в желании замести следы своего преступления и скрыть свое участие в операции по захвату Якоба были готовы уже кардинально решить проблему путем его ликвидации, но тут вмешались швейцарские власти. Жена Бертольда Якоба не сидела сложа руки. Она через свои связи во влиятельных политических кругах инициировала шумную кампанию в швейцарской прессе. Швейцарское правительство через своего дипломатического представителя в Берлине заявило протест по факту нарушения суверенитета страны и потребовало освобождения задержанного. Нажим был настолько силен, а аргументы были настолько весомыми, что немцы сначала были вынуждены признать факт задержания Якоба, а через полгода освободили его из-под стражи.
Через месяц после базельских событий, 4 апреля 1935 года, в лондонской квартире по адресу 12, Грет-Ормонд-стрит полицией были обнаружены трупы двух политических эмигрантов из Германии – Доры Фабиан и Матильды Вурм. Осмотр места происшествия на первый взгляд указывал на то, что женщины покончили с собой. Они лежали в своих кроватях, на прикроватной тумбочке была обнаружена чашка с сильнодействующим ядом, квартира была заперта изнутри, следы борьбы отсутствовали и т. д.
Дора Фабиан, родившаяся в 1901 году в семье известного берлинского адвоката и активиста СДПГ, к двадцати семи годам сделала успешную научную карьеру, став доктором философии и автором книги «Рабочий класс и колониальная политика». До эмиграции работала секретарем и переводчиком прусского министра юстиции Курта Розенфельда[220].
Ее подруга Матильда Альдер Вурм до прихода нацистов к власти тоже сделала неплохую политическую карьеру. Выйдя замуж за бывшего заместителя министра продовольствия Эммануэля Вурма, после его смерти «наследовала» его место в Рейхстаге по списку СДПГ. Обе женщины, оказавшись в Лондоне, продолжали заниматься журналистикой и являлись консультантами «по германским делам» Лейбористской партии.
Когда факт «самоубийства» на другой день был обнародован английскими газетами, начали выясняться интересные подробности жизни и политической деятельности погибших. В частности, репортеры установили, что Дора Фабиан долгое время сотрудничала с Бертольдом Якобом и оказывала помощь прокурору Базеля в предоставлении информации и подготовке соответствующих запросов.
Вспомнили, что несколько ранее квартира, где проживали погибшие, подверглась взлому. Причем ценные вещи остались на своих местах, а похищены были только личные бумаги Фабиан. Бывший ее муж Вальтер Фабиан признал, что она проводила расследование, связанное с деятельностью нацистских агентов на Британских островах, включая Веземана, которого она однозначно считала «агентом гестапо». Знакомая Доры Фабиан бывший член английского парламента Элен Уилкинсон подтвердила слова бывшего мужа Доры. Выяснилось также, что у Доры Фабиан была любовная связь с неким Карлом Коршем, в отношении которого в немецкой колонии Лондона поговаривали, что он тоже «работает на гестапо».
Несмотря на то что при расследовании дела о «самоубийстве» было собрано много важных данных, указывающих на наличие весомых мотивов у Фабиан свести счеты с жизнью, имелись также веские основания подозревать, что «без гестапо дело не обошлось». Если у Доры Фабиан была сложная и запутанная история взаимоотношений со своим любовником Коршем, финансовые проблемы и т. д., то ее подруга Вурм не была обременена подобными проблемами. Некоторые свидетели, общавшиеся с женщинами накануне их смерти, однозначно говорили, что их поведение и жизненные планы не предвещали столь печальный конец[221].
Их участие в расследовании «дела Якоба» и роли Веземана в нем дает не много оснований считать, что гестапо устранило их как свидетелей. Но, в совокупности с другими известными фактами расправ нацистов с политическими эмигрантами, можно считаться с возможностью убийства Фабиан и Вурм.
Охота на противников НСДАП за рубежом началась с берлинских импресарио братьев Альфреда и Фрица Роттеров, которые 24 января 1933 года просто бесследно пропали в Лихтеншейне. В начале апреля в Австрии был убит бывший функционер штаба Эрнста Рема Георг Белл, который вызвал у нацистов ярость после озвучивания в суде некоторых обстоятельств, указывающих на их причастность к убийствам политических противников.
В апреле 1934 года в Чехословакии была предпринята попытка похищения эмигранта Рейнхольда Рау, в которой, как было установлено чешскими властями, принимали участие сотрудники нацистских спецслужб. Там же в октябре 1935 года был похищен чех Фродл.
В конце декабря 1934 года при неясных обстоятельствах в Германии были арестованы эмигранты Эрнст Браун и Генрих Барч[222].
Большой резонанс в мировой прессе вызвало убийство бывшего редактора берлинского радио Рудольфа Формиса, который после своего отъезда из Германии, войдя в контакт с «Черным фронтом», создал оппозиционную нелегальную радиостанцию, вещавшую на территорию Рейха. Похищение Йозефа Ламперсбергера (апрель 1935 г.), Рихарда Проста (май 1935 г.), Пауля Гутцайта (февраль 1935 г.) и многих других свидетельствовало о планомерной практике нейтрализации противников нацистов. Так что дело о лондонском «самоубийстве» в этом ряду могло быть не случайным.
После завершения операции по захвату Якоба Ганс Веземан и не думал скрываться, пребывая в полной уверенности в своей безнаказанности – с помощью Абвера и гестапо алиби у него было отработано убедительное. Но полиция Швейцарской республики смогла найти доказательства его участия в акции, и он судом был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Кроме того, признав факт нахождения Якоба на территории Рейха, германские власти тем самым усугубили ситуацию с обвинением Веземана как участника похищения. Отсидев половину положенного срока, Веземан в 1938 году был освобожден. Его показания швейцарской полиции и частичное признание своего участия в похищении Якоба, обусловленное опасением строгого судебного приговора, вызвало большое неудовольствие Гейдриха, который распорядился оставить Веземана без поддержки в тюрьме и не иметь с ним никаких дел в будущем.
По данным Джеймса Барнса, Веземан после освобождения из тюрьмы под своим именем эмигрировал в Венесуэлу, а позже в Гондурас и Никарагуа. Английский же журналист Кукридж считает, что Веземан проживал в странах Латинской Америки под именем Генриха Мюллера и действовал там как нелегальный резидент Абвера[223]. Видимого противоречия в этом нет. Практика деятельности германской разведки на американском континенте предполагала использование поддельных документов для некоторых ее сотрудников в рамках выполнения отдельных заданий.
В работе Фараго, основанной на документах Абвера и послевоенных беседах с Рихардом Протце (в части описания деятельности Веземана в США), утверждается, что Веземан во время проживания в Латинской Америке находился на связи у Рихарда Протце, действуя через связников в германских дипломатических представительствах[224].
По Фараго, «командировка» Веземана в США была связана с выполнением задания Протце по наблюдению за бывшим резидентом советской разведки в Гааге Вальтером Кривицким. Якобы Протце еще до отъезда последнего в США из Европы использовал своего неназванного агента для получения от бывшего советского резидента сведений о деятельности советской разведки в Германии.
Примечательно, что Протце во время своей работы в Голландии был осведомлен о работе Кривицкого в качестве нелегального резидента ИНО в Гааге. Фараго, со слов Протце, пишет: «Я (Протце. – Авт.) знал, что “Большая тройка” располагает резидентурами в Гааге: англичане на Ньив-Парклаан, французы в своем представительстве и русские на Целебесстраат. Последняя была лучшей из трех и под руководством пресловутого Вальтера Кривицкого фактически являлась разведцентром Красной Армии в Западной Европе. Резидент жил под именем австрийского букиниста Мартина Лесснера»[225].
Приведенная цитата и утверждение Фараго, что сведения Кривицкого позволили Абверу раскрыть нескольких советских шпионов, дает основание считать, что Протце было известно не только прикрытие советского резидента, но и некоторые другие данные о его деятельности. И возможным источником этих сведений мог быть тот самый неназванный агент Протце, который находился в прямом контакте с Кривицким. Не был ли он агентом-двойником, одновременно сотрудничавшим с последним? Конечно, только чисто гипотетически можно представить себе ситуацию, когда Кривицкий «по дружбе» сообщает германскому агенту информацию о советской агентуре в Германии.
В истории «преследования» Веземаном Кривицкого в США также много неясного и противоречивого. Отвергать саму вероятность проведения операции либо по физическому захвату, либо по побуждению Кривицкого работать на германскую разведку мы не можем. Несмотря на то что Барнс, основываясь на отсутствии документальных подтверждений миссии Веземана в США, такую возможность отрицает, существует множество косвенных подтверждений, что она действительно имела место[226].
Начать следует с постановки главных вопросов: зачем, как и какими силами? Другими словами, для чего нужна была такая сложная операция, как ее планировалось осуществить, кто должен был принять в ней участие?
По Фараго, Протце, затевая захват (побуждение) Кривицкого, хотел получить от него сведения о советской разведке в Германии. Такое объяснение вполне очевидно и оправданно. Кривицкий как один из активных советских разведчиков, работавший в Европе почти два десятилетия, являлся носителем уникальных сведений о деятельности советской разведки, ее кадровом составе, характере проводимых операций. Но необходимо было учитывать, что со времени его разрыва с разведкой прошло около трех лет и большая часть действительно важной информации за это время успела «протухнуть», то есть потерять свою значимость и актуальность.
Кроме того, Протце как профессионал, к тому же имевший опыт личного общения с советскими разведчиками, не мог не знать, что требования по обеспечению безопасности проводимых разведкой операций никто не отменял и что, соответственно, советская разведка могла предпринять исчерпывающие меры по локализации провала, вызванного предательством Кривицкого.
И действительно, мы сейчас знаем, что после случившегося многие находившиеся с ним в прямом и опосредованном контакте сотрудники советской разведки были отозваны в Москву. Операции, проводимые с участием множества агентов, были «заморожены», связь с частью агентурного аппарата была утрачена, и утрачена навсегда. Достаточно привести пример Теодора Малли, который, работая с шифровальщиком британского МИДа Кингом, был отозван в СССР и под надуманным предлогом расстрелян. Связь с ценнейшим источником разведки была потеряна окончательно. То же самое можно сказать о резиденте Парпарове и его ценном агенте «Аугусте».
Соответственно, логика принимаемых решений после таких катастрофических провалов была полностью оправданной. Хочется спросить: что, Протце не знал о подобных профессиональных требованиях? Ответ очевиден – конечно же, знал. Более того, у него наверняка были конкретные факты, подтверждающие действия советской разведки по локализации провала.
Ответ на вопрос, каким образом Протце планировал вывезти Кривицкого в Европу, оставим без ответа, потому что вариантов реализации такого замысла было множество, а конечной точкой доставки беглеца мог быть только борт немецкого судна в порту США.
На основании сведений Фараго, являющегося единственным источником о планируемой Протце операции, мы также не сможем ответить на последний вопрос. Мы можем только предположить, что столь острая и небезопасная по политическим последствиям операция могла быть осуществлена только целой группой участников. Возможностей одного Веземана было явно недостаточно. Сомнительно также, что на последнего была возложена роль обыкновенного «филера», только отслеживавшего перемещения Кривицкого по стране и фиксирующего все его контакты[227].
Другие вопросы и, соответственно, ответы на них, могут носить только характер «риторических» и напрямую не связанных с ответами на главные.
Фараго называет сроки проведения операции – восемнадцать месяцев, с конца лета 1939 (время прибытия Кривицкого в США) по февраль 1941 года (10 февраля – дата «самоубийства» Кривицкого), с учетом выезда Веземана в Японию. Не имея дополнительной информации о планах операции и способах ее реализации, мы можем только предположить, что все это время ушло либо на поиск подходов к самому Кривицкому для продолжения контакта, либо на подготовку условий для его физического захвата.
После возвращения Веземана в США из Японии в декабре 1940 года операция вошла в завершающую стадию. Уже после «самоубийства» Кривицкого, по прибытии в Венесуэлу, в своем отчете перед местным резидентом Абвера Веземан заявил: «Что следовал за Кривицким на протяжении всего пути в Вашингтон и был перед отелем, наблюдая, как Кривицкий регистрируется у стойки портье. Я полагаю, что он заметил и узнал меня. Я думаю, что напугал его до смерти»[228].
Из процитированного отрывка, если признать его за достоверный, следует, что либо Веземан и Кривицкий были лично знакомы, либо последний признал в Веземане своего преследователя, «намозолившего» ему глаза за время слежки. Мы помним, что Кривицкий был как-никак профессиональным разведчиком, имевшим большой практический опыт обнаружения наружного наблюдения.
Применительно к «делу Кривицкого», немного порассуждаем на тему соотношения желаемого и возможного. О желаемом мы уже коротко сказали и будем исходить из того, что эффект от операции, в случае ее благополучного завершения, был бы оправдан даже высокими издержками (денежные затраты, незначительность по-настоящему ценной информации и т. д.).
А вот с «возможным» дело обстоит несколько сложнее. Даже сам факт долговременности проводимой операции указывает на трудности в ее осуществлении. Мы также помним, что у Протце были источники в английской разведке, которые почти наверняка ему сообщили что-то о сотрудничестве Кривицкого с ней после бегства.
Самая ценная информация, которую мог предоставить перебежчик, касалась данных на известную ему агентуру советской разведки. Если исходит из того, что Протце знал или как минимум догадывался о сотрудничестве Кривицкого с англичанами, он мог предположить, что ему достанутся только «жалкие объедки со стола английской разведки». Конкурент, а тем более противник никогда не станет делиться своей добычей просто так.
Но Протце, очевидно, интересовали агенты советской разведки, работавшие в Европе. Но тогда возникает вопрос: зачем было гоняться за беглым советским резидентом на другом континенте в желании «поймать в небе журавля», когда почти под боком находится «гарантированная синица» в лице преподнесенного Хупером «на блюдечке» Хана Пика? Где логика? И таких вопросов можно задавать множество.
Очевидно, что, несмотря на все вышеизложенное и другие возможные сомнения, у Протце были какие-то важные личные мотивы, заставившие его преследовать беглого советского резидента на другом конце земли. Ответы на эти вопросы, скорее всего, не будут получены никогда. Но сомнения и, как говорят в анекдотах, «осадок» остаются.
Мы далеки от предположения, а тем более выводов о том, что Протце затеял операцию в отношении Кривицкого, чтобы устранить его как возможного свидетеля своей работы на советскую разведку. Для этого у нас нет ровно никаких оснований[229].
Но тем не менее совпадение некоторых обстоятельств заставляет такую версию упомянуть. К таким подозрительным совпадениям относятся:
– выбор Протце Веземана как специалиста по похищениям на роль «разработчика» Кривицкого в США;
– предполагаемое знакомство Веземана с Кривицким;
– связь имени Веземана с аналогичными по противоречивым признакам «самоубийствами» Кривицкого, Фабиан, Вурм[230].
Чем занимался в годы войны Протце, нам не известно. Во всяком случае, его имя в источниках, относящихся к этому периоду, не упоминается ни разу. Последние годы жизни этого незаурядного разведчика, навсегда унесшего в могилу многие тайны, прошли в тихой голштинской деревушке на берегу Балтийского моря. После войны многие исследователи, занимавшиеся историей германской разведки, обращались к нему за разъяснениями наиболее запутанных сюжетов, и он никому не отказывал в их «распутывании»[231]. Насколько он был правдив в своих рассказах, мы уже никогда не узнаем. Не узнаем мы и ответа на вопрос: кто вы, Рихард Андреас Протце, друг или враг?..
Капитан Ежи Антоний Незбжицкий
Начало
Мы уже говорили о том, что среди аналогичных учреждений европейских стран межвоенного периода польская разведка по потенциалу, опыту и профессионализму своих сотрудников занимала одно из ведущих мест. А носителями этих качеств являлся ее кадровый состав, через преемство имевший более чем столетний опыт конспиративной деятельности. О роли и месте нашего очередного героя в истории 2-го отдела Главного штаба до сих пор спорят польские историки. Одни считают его «злым гением» разведки, другие – трагической и непонятой личностью. И нужно сказать, что доводов в пользу или в опровержение этих оценок в польской историографии накопилось достаточно[232].
Рассказывая русскоязычным читателям о его жизненном и профессиональном пути, мы предпринимаем попытку, насколько это возможно, связного изложения организационной и практической деятельности польской разведки на советском направлении. Такая возможность нам представляется, потому что наш герой все межвоенное двадцатилетие специализировался именно на советской проблематике, а с 1930 года вообще занимал должность начальника реферата «Восток» – основного руководящего и координирующего органа польской разведки против СССР.
Кроме того, этот человек сыграл в трагической судьбе двух других наших героев крайне негативную роль, что, в свою очередь, позволяет нам напомнить о невозможности односторонних трактовок тех или иных сюжетов специальной деятельности и очередной раз продемонстрировать ее противоречивый характер.
Как полагается по законам жанра шпионской литературы, биография Ежи Антония Незбжицкого, как звали нашего героя, началась с мистификации. Дело в том, что, вступая в польский легион и ПОВ и заполняя персональную анкету, он приписал себе лишний год, опасаясь, что в силу возрастных ограничений путь туда ему будет заказан. Более того, руководствуясь этими же соображениями, он также взял себе другое имя – Ежи Антония, хотя с рождения был наречен именем Антония Рышарда. Вплоть до 1935 года, когда формально потребовалось привести в порядок материалы специальной проверки, он продолжал пользоваться именем Ежи Антония, под которым он и вошел в историю довоенной польской разведки.
Его скорректированные личные данные, отраженные в сохранившихся архивных материалах 2-го отдела, указывают, что Ежи Антоний Незбжицкий родился в Варшаве 3 марта 1901 года в семье Ежи Рышарда и Марии из Чувашов. Рано оставшись сиротой, он воспитывался в семье родственников в Виннице, где в 1911 году поступил в русскую гимназию. За время учебы проявил себя как способный и прилежный ученик, о чем свидетельствует награда по 1-му разряду, присужденная ему в 1919 году по окончании гимназии. Еще не окончив курс обучения, Незбжицкий записался вольным слушателем на общеобразовательные курсы в Виннице. Но аттестат зрелости он получил только в 1920 году после окончания польской гимназии им. Хенрика Сенкевича в г. Плоскирове.
Нужно сказать, что от природы Незбжицкий был исключительно активной личностью, несомненно имея ярко выраженные задатки лидера. В 1918–1919 годах он одновременно и последовательно был членом правления польской молодежной организаций «Орел», председателем гимнастического общества «Ермак», инструктором местной ячейки всепольского харцерского объединения. В эти неспокойные годы он прошел начальную военную подготовку на столь разных по политической направленности курсах «Красных командиров» и польских военизированных курсах «Всеобщего военного обучения»[233].
В сентябре 1918 года Незбжицкий становится членом Польской военной организации на Украине, в качестве которого вплоть до 1921 года исполняет функции разведчика, диверсанта и курьера. С марта по июнь 1920 года как командир отряда участвует в военизированной организации польской самообороны «Охрана кресов». После прикомандирования в сентябре к польской 12-й пехотной дивизии Незбжицкий в качестве резидента направляется на Украину с заданием организации агентурной сети в тылу советских войск[234].
После окончания советско-польской войны Незбжицкий, к тому времени зачисленный в штат 2-го отдела Верховного командования, назначается адъютантом разведывательной плацувки «KN III POWC.2» в Кишиневе, которая под руководством капитана флота Мариана Пиотровского проводила закордонную разведывательную работу на территории Советской Украины. Видно, в своей практической деятельности в качестве разведчика Незбжицкий хорошо себя зарекомендовал, о чем свидетельствуют его удачные нелегальные «ходки» в 1921 году в Одессу.
Все эти факты биографии Незбжицкого свидетельствуют о том, насколько динамичной была окружающая его обстановка и как он искал свое место, сообразуясь со своими жизненными целями, мотивацией принимаемых решений и поступков. На его личную храбрость на поле боя и в ходе исполнения специальных заданий указывает тот факт, что в 1919, 1920 годах он дважды был ранен[235].
В соответствии с тогдашними требованиями, он в конце 1921 года зачисляется в Центральную военную школу офицеров пехоты № 2 в г. Грудзендзе, которую весной следующего года успешно оканчивает с присвоением первичного офицерского звания – подпоручик. Состоя в штате столичной 21-й пехотной дивизии, Незбжицкий до 1927 года последовательно исполняет обязанности командира взвода, роты, адъютанта батальона. Одновременно неутоленная тяга к знаниям заставляет его поступить в 1921 году на юридический факультет Варшавского университета и, почти одновременно, в Высшую школу политических наук. То обстоятельство, что Незбжицкий этих высших учебных заведений не окончил, не позволило ему в будущем претендовать на высшие офицерские звания, хотя занимаемая им должность начальника реферата «Восток» позволяла ему получить как минимум воинское звание майора.
Личные качества и профессиональные данные Незбжицкого позволили ему в 1923 году резко выделиться из общей массы офицерского корпуса, когда он в первый раз был откомандирован в распоряжение Бюро Малого (Узкого) военного совета, где выступал как докладчик по вопросам, стоявшим в повестке дня[236].
Следующий эпизод биографии Незбжицкого, связанный с изменением его семейного положения, заставляет нас очередной раз убедиться, что в мире разведки иной раз возникают такие жизненные коллизии, что не каждому беллетристу могут прийти в голову столь непредсказуемые сюжеты.
В 1923 году Незбжицкий женится на своей коллеге по нелегальной деятельности в ПОВ и работе в разведке Халине (Галине) Дыбчаньской. Как многие патриотически настроенные молодые поляки, она еще в молодом возрасте связала свою судьбу с нелегальной деятельностью. Уже известный нам Сосновский (Добжиньский) в своих показаниях после ареста в 1937 году называл Халину Дыбчаньскую исключительно красивой женщиной[237].
В 1918–1920 годах она под псевдонимом «Калина» в качестве руководителя агентурной группы работала в условиях подполья на Украине, несколько раз переходила линию фронта как курьер.
В ходе очередной переброски через советско-латвийскую границу в сентябре 1920 года Дыбчаньская вместе со своей напарницей Марылькой Недзвяловской-Навроцкой была арестована. Обстоятельства ареста в Пскове указывали на то, что чекисты были заранее осведомлены о попытке нелегального перехода границы. В задачу польских разведчиц входило восстановление разгромленных ВЧК агентурных сетей в Петрограде и Москве и установление курьерской связи с Центром.
Как писала Дыбчаньская в тайном послании руководству польской разведки, после ее ареста перехваченном ВЧК, с самого начала планируемой операции чекистам были известны все ее подробности, и ей, соответственно, не пришлось называть на допросах лиц, связанных с ней по работе в подполье. По результатам следствия она была приговорена к заключению в лагере вплоть до окончания войны.
В отличие от своей напарницы Недзвяловской, завербованной Сосновским в интересах ВЧК, Дыбчаньская стойко перенесла свои злоключения в советском лагере и, по каналу обмена военнопленными, после окончания войны вернулась в Варшаву. После полагающейся в таких случаях проверки она еще некоторое время служила в польской разведке, пока не уволилась оттуда по собственному желанию. Ее брак с Незбжицким распался в 1934 году.
Судьба ее напарницы по переходу границы Марыльки Недзвяловской-Навроцкой сложилась более трагически. После привлечения к сотрудничеству с органами ВЧК она, сначала как агент, а позже как кадровый сотрудник, принимала участие во многих операциях ОГПУ. В декабре 1920 года, выйдя замуж за Кароля Чиллека (Роллера), в будущем видного сотрудника советской внешней разведки, разделила с ним печальную судьбу в 1938 году[238].
Вернемся к герою нашего повествования. Два летних сезона 1923 и 1924 годов Незбжицкий участвовал в военно-географических и статистических исследованиях Польского Полесья, результатами которых стала написанная и изданная им монография «Военно-географическое описание местности Полесья», получившая положительные отзывы в среде военных и гражданских специалистов. Предисловие к книге с хорошей оценкой изложенного материала написал известный польский географ Хенрик Багиньский[239].
Только громкий инцидент с участием Незбжицкого надолго испортил ему настроение, не отразившись, впрочем, на его дальнейшей служебной карьере. Расположившись после полевых поездок на ночлег в белорусской деревне Руда, Незбжицкий повздорил с местным старостой Афанасием Матейчиком, поводом к чему явилась просьба последнего предъявить документы с разрешением на расквартирование. Как было отражено в протоколах судебного заседания, Незбжицкий избил старосту, восприняв его требования и поведение как обидные для него лично и затрагивающие «честь польского мундира». Окружной военный суд № 2 в Люблине приговорил поручика Незбжицкого к семи дням ареста с содержанием на гауптвахте, тут же замененного на домашний арест[240].
Второй раз Незбжицкий был откомандирован уже в качестве сотрудника «описательного» отделения 3-го отдела Главного штаба в Бюро Малого (Узкого) военного совета в июне 1927 года. Отделение, в задачи которого входило изучение Советской Белоруссии и Украины как будущего театра военных действий, тесно сотрудничало с соответствующими подразделениями 2-го отдела Главного штаба. Офицеры отделения регулярно совершали поездки в Советский Союз с задачами по «доразведке» учтенных военных объектов, а также для приобретения открытой специальной военной литературы.
Именно такая поездка Незбжицкого, состоявшаяся осенью 1927 года, предопределила его последующий переход в штат 2-го отдела.
В его разведзадании значилось посещение Гомеля, Минска, Москвы и Киева с задачами визуального наблюдения и оценкой нескольких объектов транспортной инфраструктуры и мест дислокации отдельных частей РККА. Кроме того, ему предписывалось купить определенные открытые издания наркомата обороны для пополнения служебной библиотеки Главного штаба.
Начальник 2-го отдела подполковник Тадеуш Пельчиньский направил польскому военному атташе в Москве майору Тадеушу Кобылянскому (еще одному герою нашего повествования) письмо с просьбой оказать содействие поручику Незбжицкому в решении его служебных задач. Военный атташе после окончания командировки последнего писал: «Я отмечаю, что поведение поручика Незбжицкого за время его нахождения на территории Советов, насколько я могу судить (основываясь) на мнениях сотрудников консульств, а также собственных наблюдениях, было весьма примерное»[241].
Киевский этап биографии
Новый этап в жизни нашего героя наступил, когда он был переведен во 2-й отдел Главного штаба с назначением на должность начальника разведывательной плацувки «Днепр», действовавшей под прикрытием Генерального консульства Польши в Киеве. С 16 августа 1928 года вплоть до объявления его в 1930-м «персоной нон грата» Незбжицкий довольно успешно справлялся со своими обязанностями, продемонстрировав высокие умения и навыки «полевого» разведчика.
Как отмечают польские исследователи, изучавшие сохранившиеся в Центральном военном архиве материалы польской разведки, миссия Незбжицкого в Киеве в целом была успешно выполнена, а его скандальное выдворение за пределы СССР не являлось следствием лично допущенных им ошибок. Делая такой вывод, они его обосновывают наличием значительного по объему и широте охвата разведывательного материала, полученного лично Незбжицким и одним из его подчиненных[242].
Несмотря на постепенное ужесточение контрразведывательного режима, обеспечиваемого органами ОГПУ, возможность получать актуальную для польской разведки информацию продолжала сохраняться. Так, в своих служебных отчетах Незбжицкий указывал, что, несмотря на «происки ОГПУ», возможность общения с представителями разных социальных групп советского населения у руководимой им плацувки имелась.
Он, например, вспоминал, что в День конституции 3 мая познакомился с «симпатичным бородачом» генералом Иваном Дубовым. Частым гостем консульства был также его начальник штаба генерал Попов. Понятно, что это были, скорее, визиты вежливости и серьезные вопросы в ходе таких бесед вряд ли поднимались. Штатный состав польского консульства знал, что местная контрразведка «обложила» его со всех сторон, используя и внутреннюю агентуру, и наружное наблюдение, и контроль телефонных переговоров. Как говорил консул Миколай Бабиньский: «ГПУ, как космический эфир, пронизывает все»[243].
Профессиональные же польские разведчики о «происках ОГПУ» знали куда больше своих «чистых» коллег. Имеющиеся данные ясно указывают, что польская разведка имела неплохие позиции внутри советской контрразведки и других военных структур ВЧК-ОГПУ. Например, четырьмя годами раньше в киевском суде прошел процесс по делу бывшего генерал-майора царской армии Белавина Виктора Платоновича, до ареста занимавшего должность начальника войск ВЧК Украинского военного округа. Несколько позже в суде были рассмотрены дела польских агентов Жуковского Александра Яковлевича и Кармазина Николая Сергеевича, также служивших в войсках ОГПУ, правда, на рядовых должностях.
Несколько забегая вперед, укажем, что примерно в 1930–1931 годах польская разведка осуществила серьезное агентурное проникновение в аппарат Киевского оперативного сектора ГПУ. Из имеющихся материалов усматривается, что неизвестный агент в своей работе на польскую разведку замыкался не на киевскую плацувку реферата, а на одну из двух территориальных экспозитур 2-го отдела.
Так, Незбжицкий, делясь информацией с местным резидентом Петром Курницким и инструктируя того по вопросам обеспечения безопасности источника, писал: «Мы получили в последнее время ряд документальных данных от нашего резидента в ГПУ Киева, которые передаю тебе с просьбой сейчас же подготовить предложения (по реализации. – Авт.)». Из материалов, полученных Незбжицким, следовало, что украинскими чекистами к сотрудничеству было привлечено четыре агента, работавших в Генеральном консульстве Польши в Киеве (две горничные и два рядовых сотрудника). На тот период также была близка к завершению вербовка шофера консула.
Несмотря на низкий должностной статус одного из советских агентов, ему периодически удавалось получать копии секретных документов, подготовленных вице-консулом и первым секретарем.
В одном из документов киевского сектора ГПУ, полученном Незбжицким, содержалось задание одному из агентов – горничной: фиксировать в памяти все предметы в помещениях консульства, обращая внимание на мельчайшие детали, например, на названия книг в книжном шкафу консула.
К числу других сведений, содержащихся в агентурном сообщении источника в ГПУ, относились адреса трех конспиративных квартир, где принимались агенты из польского консульства, а также общая система наблюдения за всеми сотрудниками дипучреждения и его посетителями. В конце сопроводительного письма Курницкому Незбжицкий писал: «Действуй очень осмотрительно, не давая повод ГПУ подозревать, что тебе что-то известно. Не волнуйся»[244].
Вернемся к киевскому периоду работы Незбжицкого. Одними из первых материалов, направленных им в штаб-квартиру польской разведки, были информационные сообщения о структуре управления Киевского военного округа, составе кораблей Черноморского флота, перечень военизированных формирований ОГПУ на Украине, включая состав и места расположения погранотрядов.
В одном из первых отчетов о совершенствовании агентурного аппарата своей плацувки «О.2» Незбжицкий писал, что он взял на учет двух военнослужащих Красной армии: радиотелеграфиста 6-го отдельного радиобатальона и летчика 5-й авиабригады. На начальной стадии контакта от последнего были получены сведения о возможном перемещении базы легких гидропланов в Днепродзержинск и изменении мест базирования кораблей Днепровской военной флотилии.
Информация, полученная Незбжицким от радиотелеграфиста, включала в себя сведения о местах дислокации некоторых частей Украинского военного округа: 21-го зенитного дивизиона, 3-го отдельного батальона и т. д. Чем закончились указанные разработки кандидатов на вербовку, не известно[245].
Среди агентов, в тот период находившихся у Незбжицкого на личной связи, значился некий Илия Виноградов, проходивший по учетам 2-го отдела под криптонимом «4002». Одновременно польским разведчикам было известно, что последний также сотрудничал с ОГПУ, являясь, таким образом, агентом-двойником.
Характеризуя его, Незбжицкий в одном из своих отчетов писал: «…важнейшим информатором ГПУ по консульству является врач Илия Виноградов, психоаналитик, человек большого ума и большой ловкости. Для ГПУ он “отличный кадр”: как профессионал легко направляет беседу в нужное ему русло, делает это ненавязчиво и незаметно. Из малых данных может делать большие и, как правило, верные выводы. Все схватывает на лету». Далее Незбжицкий отмечает основной мотив искреннего сотрудничества Виноградова с польской разведкой – враждебное отношение к большевикам и их представителям – чекистам. По словам польского разведчика, история его контактов с ГПУ «вполне правдоподобна, сложна и… банальна». Он продолжает: «Я склонен думать, что он (доктор) действительно состоял в какой-то контрреволюционной организации (еврейской) и ценой сотрудничества с ГПУ купил себе жизнь и свободу»[246].
Из дальнейших пояснений Незбжицкого следует, что Виноградов находился в очень хороших отношениях с Христианом Раковским, имел многочисленных еврейских родственников, проживавших в Польше, Германии, Франции, вел с ними оживленную переписку, получал денежные переводы. Виноградов поддерживал связь с еврейским активистом Моргулисом, причем местные евреи его (доктора) не любили и старались лишний раз с ним не связываться. Находясь на государственной службе, он проживал в большой квартире, заставленной произведениями искусства и антиквариатом, причем квартирная плата была минимальной. Своих пациентов, среди которых имелись военные и чекисты, лечит по методике «доктора Фройда».
Несмотря на такое обилие данных, указывающих на сотрудничество Виноградова с советской контрразведкой, Незбжицкий считал, что тот «представляет большую ценность как информатор».
С использованием своих личных возможностей в интересовавших польскую разведку кругах, врач действительно являлся поставщиком ценной информации, особенно по вопросам военного советско-германского сотрудничества.
До сих пор однозначный ответ на вопрос, имел ли Виноградов на связи субисточников – носителей секретных сведений, отсутствует, но некоторые косвенные указания на наличие таковых имеются.
Какая причина заставила советских контрразведчиков завершить операцию по «проникновению в консульство» с использованием доктора, также доподлинно не известно. Известно лишь, что 10 декабря 1930 года Виноградов был арестован прямо на улице. События того дня, излагаемые ниже, воспроизводятся на основании отчетов самого Незбжицкого и его видения существа дела.
Вечером в доме Виноградова должен был состояться дружеский ужин, на который и были приглашены Незбжицкий и секретарь консульства Эдвард Недзвецкий. В отсутствие хозяина, в полночь, когда приглашенные вели светские беседы с хозяйкой дома, неожиданно явились чекисты с обыском. После проверки документов гостей их отпустили. Как отмечал в своем отчете Незбжицкий, чекисты при этом вели себя вежливо и корректно.
Он считал, что арест Виноградова и обыск у него дома являются спланированной акцией киевского ОГПУ, чтобы скомпрометировать самого Незбжицкого и объявить его «нежелательной персоной»:
«Я не допускаю, чтобы факт моего нахождения в квартире у названного доктора мог иметь какое-либо серьезное значение. Тем более что, как я уже рапортовал, “4002” оказывал услуги ОГПУ, и о его близких отношениях с нами ГПУ было совершенно осведомлено»[247].
Следующий абзац отчета польского разведчика поставил перед его получателем – начальником реферата «Восток» майором Станиславом Гано – дополнительные вопросы. В частности, Незбжицкий писал: «В лице “4002-го” я теряю одного из самых серьезных информаторов, через которого поддерживалась связь с другими источниками». Сам арест он объяснял желанием украинских чекистов связать Виноградова как посредника консульства с деятельностью каких-то украинских организаций. Якобы это понадобилось им в силу каких-то оперативных соображений.
Пока события развивались своим чередом, Незбжицкий продолжал оставаться в Киеве. Несмотря на арест Виноградова, разведывательная деятельность плацувки продолжалась: поддерживалась связь со старыми источниками, начинались новые разработки. В переписке с Центром Незбжицкий указывал, что в целом препятствий к продолжению своей миссии в Киеве он не видел. Прошедшие аресты якобы серьезно не затронули работу плацувки, лишившись нескольких агентов, ядро аппарата сохранилось.
Тем временем советские власти озвучили факт ареста Виноградова и назвали Незбжицкого его связником от польской разведки, создав условия, таким образом, для объявления его «персоной нон грата». В соответствующих нотах от имени НКИД содержались сведения, что при обыске Виноградова якобы были найдены материалы шпионского характера, включая секретные документы ВВС РККА, предназначенные для передачи Незбжицкому.
Дело приобретало более серьезный характер. В отчетах и предложениях по реагированию на «провокацию ГПУ» он писал: «О том, что Виноградов является агентом ГПУ я знал с момента приезда в Киев. Он был у нас каждый второй день, звонил по телефону по нескольку раз в день, что является общеизвестным, в некотором смысле, фактом… Необходимо, чтобы Миссия (в Москве. – Авт.) указала НКИД на тот факт, что в условиях моей связи с Виноградовым речь не может идти как “об афере”… Лично я был с Виноградовым очень осторожным и не задавал ему никаких вопросов. Разговоры мы вели очень длинные и не имеющие прямого отношения к советской действительности. Время от времени он рассказывал об очень интересных вещах, в диспуты о которых я не вступал. Прямо скажу, что об использовании Виноградова в документальной разведке речи не было»[248].
В резолюции на документе майор Гано отметил как минимум непоследовательность Незбжицкого в освещении событий: «Расхождение с письмом L.122/29, где “О.2” (условное наименование киевской плацувки. – Авт.) передает, что через Виноградова поддерживалась связь с другими источниками».
Далее Гано также указывает на противоречивость ранних сообщений Незбжицкого, из которых следовало, что Виноградов передавал ценные разведывательные материалы, получаемые от его связей среди командиров РККА и сотрудников ОГПУ.
Продолжая оправдываться, Незбжицкий писал: «В день обыска я был у Виноградова в течение двух часов, причем знал, что он уже арестован. Почему, в таком случае, я оставил компрометирующие его и меня материалы, а не постарался их вынести или уничтожить… Никто из арестованных со мной связан не был, а если кто-то и давал мне информацию, то делал это опосредованно. Пусть ГПУ покажет эту дорогу (способ получения информации. – Авт.) и представит фактические компрометирующие меня материалы».
Это очередное противоречие не преминул отметить Гано в своей резолюции: «В письме L.112/29 “О.2” докладывал, что об аресте он не знал». Кроме того, он, анализируя имеющиеся сведения, вопрошал: откуда у доктора-психотерапевта взялись секретные авиационные материалы?
Тем временем начали вырисовываться некоторые реальные обстоятельства провалов агентуры и контуры понесенного поляками поражения. Гано отметил: «В письме L.111/29 “О.2” докладывает, что арестованы: работник при военном трибунале 12-го корпуса РККА, Винница, “4014” – …бывший деятель ПОВ в Плоскирове, “4015”… – работает в ОГПУ, “4019”, “4023”– клиент консульства, “4026”»[249].
Продолжая оправдываться, Незбжицкий призывает свое руководство задаться несколькими важными вопросами, прямо не озвучивая их: «Из сообщения НКИД следует, что или ГПУ не имеет в отношении меня каких-либо фактических доводов, а хочет от меня избавиться путем грубой провокации, с (возможностью) которой всегда приходится считаться, или же их имеет (доказательства), но не хочет их обнародовать. В этом случае оно (ГПУ. – Авт.) стремится сохранить в тайне источники, от которых получены сведения… Мои дела не следует рассматривать отдельно, – они являются одним из элементов большой цепи политических инцидентов на территории (Украины. – Авт.). Прежде всего, все указывает на “привязку” к украинским делам. Выглядит все это как попытка советской власти узнать, как мы отреагируем на подобный выпад… Нет сомнения, что в связи с украинскими делами всплывет дело двух моих ближайших соседей. При компрометации консульства на основе моего дела удалось бы доказать наше участие в украинских делах»[250].
В этом деле действительно есть какие-то противоречия, отмеченные в свое время и самим Незбжицким, и его руководством в Варшаве. В частности, вопрос о времени и условиях ареста и обыска в квартире Виноградова. Известно, что в практике деятельности контрразведки захват агента с поличным при передаче шпионских материалов является самой эффективной мерой пресечения активности иностранной разведки. Такая операция позволяет решать и ведомственные, с точки зрения работы контрразведки, задачи, и политические, давая своему внешнеполитическому ведомству дополнительные «бонусы» в переговорах с партнерами.
В польских дипучреждениях в Москве и Киеве были уверены, что дело Виноградова – Незбжицкого по существу носит характер «провокационной аферы». Там задавались вопросом: почему советские власти пошли по такому сложному пути реализации дела? Было бы гораздо проще обвинить Незбжицкого в «обычном шпионаже», что он, дескать, в разговорах с посетителями консульства собирал информацию, фотографировал военные объекты и т. д. Советник польского посольства – начальник консульского отдела Адам Зелезинский, обычно не скрывавший своего негативного отношения к разведчикам, действовавшим под дипломатическим прикрытем, в разговоре с военным атташе Яном Ковалевским говорил, что «он привык к более “чистой” работе ГПУ, так как до этого брали только с поличным – с документами на руках».
Важным моментом, заставляющим предположить, что через Виноградова к Незбжицкому все же действительно поступали секретные советские материалы по военно-воздушным силам, является один из конкретных пунктов его разведывательного задания: получение информации об организационных изменениях в структуре командования ВВС РККА на Украине, численности авиационных частей и местах их дислокации и т. д.
Тем временем под сильным нажимом МИД руководством польской разведки было принято решение о досрочном отзыве Незбжицкого из СССР. В начале нового, 1930 года он вернулся в Варшаву.
30 апреля ведомственный бюллетень польского МИД в разделе кадровых назначений отметил, что вице-консул Незбжицкий покинул заграничную службу по собственному желанию[251].
Во главе реферата «Восток»
Вернувшись в центральный аппарат разведки, Незбжицкий в реферате «Восток» первое время занимался обработкой собственных информационных материалов и почти сразу же проявил настойчивое желание вернуться на работу «в поле». Такая возможность ему представилась бы в случае назначения на должность руководителя бухарестской плацувки и благоприятного кадрового расклада в его реферате.
В тот период в составе реферата «Восток», возглавляемого майором Станиславом Гано, работали референтами Вацлав Карбовский и Зигмунт Мяновский. Если бы последний не был 1 июня 1930 года назначен на должность офицера по особым поручениям при начальнике 2-го отдела Главного штаба, то, возможно, Незбжицкий и смог бы осуществить свое желание о выезде в Бухарест. Прикомандированный к реферату поручик Анджей Дворак, как специалист по делам национальных меньшинств, рассматривался к назначению в контрразведывательное отделение (IIb), куда и был переведен в начале следующего, 1931 года[252].
В тот период в реферате рассматривался вопрос о создании в румынской столице или в Кишиневе обновленной плацувки. Она должна была перенять функции и зону ответственности ликвидированной в ноябре 1928 года плацувки «Шперач» в Кишиневе.
В документах, обосновывающих необходимость создания нового разведывательного аппарата, констатировалось, что «Шперач» до момента своего расформирования проводила закордонную разведку во взаимодействии с Сигуранцей. Но ее деятельность, кроме решения задач по связи с румынской разведкой, особо значимых результатов не принесла и показала низкую эффективность. Тем не менее необходимость в продолжении операций (особенно по связи с закордонной агентурой) осталась. В этой связи и рассматривался вопрос о создании новой плацувки. Изначально планировалось, что последняя будет работать абсолютно независимо от существовавшей в Бухаресте точки, действовавшей под «крышей» аппарата военного атташе.
Для решения организационных и практических задач Незбжицкий дважды в 1930 году выезжал в Бухарест из Львова под прикрытием представителя фирмы «Газолин». Но его желанию о работе в Румынии не суждено было сбыться. Дело в том, что, после смерти 24 октября 1930 года в автокатастрофе начальника отделения IIa (разведывательного) подполковника Яна Татара, Станислав Гано был назначен на освободившуюся должность как временно исполняющий обязанности, с перспективой окончательного утверждения, совмещая ее с руководством рефератом «Восток». Оценивая свое положение, Гано в письме к таллинскому резиденту капитану Юзефу Квециньскому писал: «У нас наступило время перемен и реорганизаций, в результате которых я сижу на двух табуретках (отделение и реферат), что меня совсем не радует».
Судя по всему, киевский провал не поколебал авторитета и положения Незбжицкого как опытного разведчика и специалиста по советским делам. На сохранившихся документах польской разведки с октября 1931 года он подписывается уже как начальник реферата «Восток», сменив капитана Дворака, недолго руководившего рефератом. С этого времени и начинается новый этап в жизни нашего героя как руководителя всей разведывательной деятельности 2-го отдела Главного штаба против Советского Союза. В одном из своих первых писем в новом качестве Незбжицкий писал начальнику киевской плацувки «Кh» Хенрику Янковскому: «Я выполняю те же функции, которые раньше исполнял майор Станислав Гано. Надеюсь, что буду Вам часто напоминать о своем существовании, и прошу заранее простить мне будущую настойчивость своих просьб, что обусловлено интересами службы».
Незбжицкий продолжал рваться за рубеж на оперативную работу. Майер пообещал ему, что руководить рефератом он будет самое долгое до весны 1932 года. Но эти планы также не были реализованы в связи с тем, что нараставший в течение года конфликт Пилсудского с начальником Главного штаба генералом Тадеушем Пискором разрешился увольнением последнего из вооруженных сил. Последовавшая за этим кадровая чехарда окончательно похоронила надежды Незбжицкого.
В одном из писем своему корреспонденту в заграничной плацувке, характеризуя «кадровый разгром» в польской разведке, он писал: «Наша фирма переживает период перестройки (реорганизации), и неизвестно, останется ли она в том же состоянии, что и прежде… Говорят, что в связи с делом генерала (Пискора. – Авт.) планируется разогнать весь балаган, и нас это коснется, прежде всего»[253].
В другом письме к консулу в Харькове, а по совместительству начальнику плацувки «Zet» Адаму Стебловскому Незбжицкий пишет: «Преемник моего шефа Теодор Фургальский до сих пор не утруждает себя исполнением служебных обязанностей, это для нас плохой симптом… Ситуация отдела (2-го отдела. – Авт.) действительно отчаянная, так как на место переведенных людей никого не назначают».
По следующим выдержкам из посланий Незбжицкого становится видно, как развивался кризис в польской разведке и что в значительной степени он был связан с разоблачением советского агента Петра Демковского. Начальник реферата «Восток» в письме своим корреспондентам пишет: «На место Тадеуша Ярошевича должен прийти Францишек Демель, на его место – Каминьский, но оба переходить не хотят. Кандидатура Теодора Фургальского уже согласована, но сам он также не хочет принимать отдел, пока все уволенные не уйдут: он не хочет иметь дело с “протухшими”. Старый шеф не руководит, словом, верхушка “обезглавлена”. Такого положения в нашей фирме никогда не было… На место Тадеуша Пельчиньского, кажется, окончательно приходит Теодор Фургальский. На место Юзефа Энглихта, скорее всего, – Юлиан Грузиньский… Дело выезда Станислава Гано на заместителя Яна Ковалевского решено. Аналогичная ситуация в отделах I и III, а хуже всего в IV. Сдается, что “старик” (Пилсудский. – Авт.), после дела Демковского, возненавидел всех “дипломированных” и Штаб»[254].
Более обстоятельно планируемые изменения Незбжицкий обрисовал в письме Юзефу Едынаку: «Мы особенно сильно не испытывали дискомфорта, пока не “взорвалась бомба”. В связи с травлей, проводимой Генеральным инспекторатом вооруженных сил в отношении начальника Штаба, во всех отделах начались серьезные кадровые изменения, затрагивающие как “дипломированных”, так и обычных. В целом говорят, что Штаб собираются вовсе расформировать, а его функции передать в военное министерство (MSW). Из 2-го отдела собираются создавать разведывательное бюро в составе Генерального инспектората. Факт, что от нас уходят следующие офицеры: Станислав Шалиньский, Станислав Карнибад, Леон Верниц, Людвик Садовский, Зигмунт Мухневский, Анджей Дворак, Александр Прохницкий, Бронислав Обуховский, Владислав Станак, Петр Ойжановский. Тадеуш Ярошевич – в Гельсингфорс на военного атташе, Станислав Гано (если не получит визы в Москву, то – в полк), Тадеуш Ликерник и др… Надеюсь, Вы понимаете, что все дела отходят на второй план и никто ими не интересуется…»[255].
Незбжицкий тоже готовился к возможному уходу из разведки в строй: «Погром свалился и на мою голову, и скоро я могу отправиться в полк».
В начале ноября 1932 года наступило «затишье после бури». По команде Пилсудского кадровая чехарда в разведке была приостановлена. В военном руководстве отказались от чрезмерных организационных мероприятий во 2-м отделе. Сам Незбжицкий и его коллега из реферата «Запад» Станислав Шалиньский удержались на своих местах. И действительно, их уход надолго бы парализовал деятельность польской разведки на двух ключевых направлениях – германском и советском.
После 1932 года, когда советско-польские отношения несколько улучшились, Незбжицкий с нескрываемым раздражением воспринимал такой поворот внешней политики Польши. Так, в письме к Каролю Дубич-Пентеру – шефу плацувки «Anitra» в Стамбуле он писал: «Дружба (советско-польская. – Авт.) расцветает мило. Двое эндеков Станислав Забелло и Ян Каршо-Седлевский инспирируют вовсю. Карла Радека сделали уже доверенным лицом Сталина и почти инициатором всей советской политики… Факт что “Газета Польска” и “Курьер Поранны” уже в ближайшее время станут стенными газетами Кремля. Это пресмыкательство вызывает чувство гадливости. Дошло до того, что конфискации подвергаются любые упоминания о голоде в СССР… Если так дальше пойдет, то скоро в одной камере будут сидеть и те, которые получили по три года за коммунизм, и те, которые сидят за антисоветскую политику»[256].
При этом Незбжицкий продолжал рваться в Румынию, и его надежды были связаны с возможным назначением на его должность капитана Юзефа Квециньского. Этот офицер действительно имел большой практический опыт разведывательной деятельности против Советского Союза. С 1928 года он в должности начальника плацувки «Р.2», действовавшей в составе военного атташата в Таллине, проводил многочисленные операции польской разведки с территории союзной Эстонии.
Давая служебную характеристику этому офицеру, начальник 3-го (разведывательного) отделения подполковник Адам Студенцкий в 1929 году отмечал его «выдающиеся успехи» и считал, что тот в перспективе может быть назначен на должность либо начальника территориальной экспозитуры, либо начальника отдельного реферата в Центре.
Незбжицкий, очевидно, со своей стороны предпринимал активные усилия, чтобы Квециньского назначили на его место, и нужно сказать, что это ему почти удалось. В частности, он писал своему возможному преемнику в ноябре 1931 года: «Согласно обещанию, я спешу сообщить, что Ваша кандидатура на пост руководителя реферата “В” (“Восток”. – Авт.) в феврале, марте будущего года (1932-го) будет решена положительно, и я буду иметь честь приветствовать действительно достойного преемника, который освободит этот Amt (реферат “Восток”) от беспорядка, в который я его вверг. Я утешаю себя мыслью, что к тому времени я сделаю что-нибудь в хозяйстве и что здесь не будет такой отчаянной пустоты, какую когда-то я застал».
В соответствии с практикой 2-го отдела Главного штаба, все офицеры разведки, планировавшиеся к назначению в долговременные заграничные командировки, в кадровом аппарате числились за так называемой «внешней службой». Надежда Незбжицкого уехать в Румынию подогревалась тем обстоятельством, что, исполняя обязанности в Центре, он продолжал числиться за этой службой. Уже в марте 1932 года он писал Квециньскому: «Прошу простить меня за долгий перерыв в переписке. К сожалению, я был сильно занят монтажом. Готовил все к Вашему приезду так, чтобы было что принимать. Работаю в связи с этим отчаянно, так как в ближайшие дни собираюсь выехать в долгую “инспекцию” на Восток. Снова меня будет замещать Уряш»[257].
О серьезной подготовке Незбжицкого к уходу на оперативную работу свидетельствует тот факт, что даже на очень важную встречу в июле 1932 года с полномочным представителем английской разведки (МИ-6) он направил своего заместителя Уряша. Последний в своем отчете писал: «К сожалению, Незбжицкий не смог лично прибыть на встречу из-за большого объема работы в реферате, в связи с планируемой на август передачей Квециньскому своих обязанностей».
Очередное послание Богдану Яловецкому, направленное в декабре 1932 года, свидетельствует, что надежды Незбжицкого на уход из центрального аппарата были «похоронены» окончательно: «Я спешу тебе сообщить, без всякого сомнения, плохую для всех новость, что в соответствии с волей моих высокопоставленных шефов я остаюсь еще на один год на том же табурете и никуда не еду. Видно, моя доля находиться на глазах у начальства… Все жалобы с Вашей стороны прошу адресовать непосредственным моим начальникам».
Примерно в это же время приказом по Главному штабу Незбжицкий был переведен в его штат, выйдя из состава Департамента пехоты министерства обороны, где он состоял ранее.
Оставление Незбжицкого в должности начальника реферата «Восток» было обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Рост эффективности работы польской разведки на советском направлении пришелся на конец 1920-х – начало 1930-х годов. Именно в тот период ее позиции в советских военных, политических, специальных структурах были как никогда сильны.
Для сохранения преемственности процесса добывания актуальной разведывательной информации и ее аналитического осмысления требовалось, чтобы ведущие сотрудники в добывающих и аналитических аппаратах продолжали свою работу. Кроме того, польская разведка, всегда испытывавшая кадровый «голод», нуждалась как минимум в сохранении имеющегося организационного и кадрового потенциала.
Отсутствие в требующемся количестве так называемых «дипломированных» офицеров, которые по своей общевоинской и профессиональной подготовке могли бы занимать руководящие должности в Центре и на местах, приводило к тому, что на них назначались сотрудники в звании до капитана включительно. Чему, собственно, и является пример самого Незбжицкого, только после смерти Пилсудского произведенного в капитаны и руководившего одним из важнейших разведывательных аппаратов 2-го отдела Главного штаба.
«Мания» Пилсудского к увеличению числа воинских частей приводила к сокращениям в функциональных подразделениях в Центре и на уровне штабов военных округов (ДОК).
В аппарате польской разведки дело дошло до того, что, в связи с отсутствием подходящей кандидатуры на должность начальника III (аналитического) отделения, в ноябре 1933 года было принято решение о формировании отдельных рефератов, ранее входивших в состав этого отделения.
К субъективным факторам можно отнести и действительно незаурядные профессиональные качества Незбжицкого, и покровительство со стороны его непосредственных начальников. Как писал позже Юзеф Энглихт: «Пельчиньский был одним из высших офицеров, которые воодушевляли в нем (Незбжицком. – Авт.) гипертрофированную инициативу и честолюбие». В других своих оценках начальника реферата «Восток» Энглихт отмечал его большой ум и незаурядные таланты, большое умение в завязывании и продолжении контактов, их использовании в информационной работе. Из важных психологических свойств Незбжицкого он отмечал «умение навязывать другим свое мнение».
Сочетание высоких профессиональных и личных качеств последнего и покровительственное отношение к нему со стороны руководства 2-го отдела создали Незбжицкому особое положение в аппарате разведки. Это был единственный в своем роде случай, когда офицер разведки среднего должностного положения превысил пределы своей служебной компетенции до таких пределов, что ему, всего лишь капитану, подчинялись офицеры в звании дипломированных майоров и подполковников[258].
Число резидентур (плацувок) польской разведки, замыкавшихся в своей деятельности, полностью или частично, на реферат «Восток», в разное время доходило до сорока пяти. Как правило, они действовали под прикрытием дипломатических представительств своей страны в самом СССР (посольство и консульства) или в соседних с ним государствах[259]. Количество сотрудников таких плацувок колебалось от одного до четырех человек.
И «чистые» польские дипломаты, и офицеры разведки крайне неохотно принимали предложения своего руководства о работе в Советском Союзе. Такое отношение было вызвано условиями жизни и работы польских дипломатических представительств в стране. Крайне плохие бытовые условия существования в советских городах, замкнутость небольших коллективов, обусловленная разного рода внешними и внутренними ограничениями, деятельность советской контрразведки – все «отравляло» жизнь польским дипломатам.
Сотрудник польского МИД Вацлав Збышевский писал: «Каждодневное проживание в условиях, близких к тюремным, для персонала было очень трудным, и я сочувствовал тем несчастным товарищам, которые работали в московском консульстве. Мужчины еще более или менее переносили трудности, связанные, как говорили русские, с “общежитием”, но их женам было намного хуже. Многие были озлоблены до того, что неприязнь к подругам “по несчастью” буквально висела в воздухе»[260].
Ему в своем докладе вторил шеф киевского консульства: «Дом (здание консульства. – Авт.) исключительно холодный. Невозможность в зимние месяцы обеспечить теплом до более-менее сносной нормы является проблемой, угрожающей здоровью и затрудняющей работу персонала. Электрический ток такой слабый, что осенью и зимой после наступления сумерек читать и писать без напряжения зрения совершенно невозможно».
Если для московской миссии проблемы обеспечения продуктами питания в целом не существовало, то для всех остальных дипломатических представительств она была одной из главных. Дело в том, что советские санитарные органы под предлогом недопущения эпидемиологических заболеваний своими решениями вынесли запрет на пересылку из-за границы почтовых отправлений с продуктами питания. Это привело к тому, что иностранцы были вынуждены довольствоваться местными продуктами, не отличавшимися широтой ассортимента.
На дипломатическую и консульскую работу в Советский Союз, как правило, выезжали сотрудники с низким доходом, которые принимали соответствующие предложения в желании поправить свое материальное положение за счет серьезных надбавок к жалованью, которые компенсировали все трудности проживания в советских условиях. По тогдашней «шкале престижности» зарубежных представительств Польши СССР находился в самом конце списка[261].
В соответствии со сложившейся практикой работы польской разведки, Незбжицкий в переписке с зарубежными аппаратами пользовался множеством рабочих псевдонимов: «Роман Фельдт», «Ежи Ягрым», «Винсенты Карский», «Витольд Коперский», «Антоний Лясоцкий» и т. д. (всего не менее тридцати). Кроме рабочих, в своем литературном и публицистическом творчестве он использовал псевдонимы «Михал Липский» и «М. М.». Но в качестве крупного исследователя советской проблематики Незбжицкий вошел в историю польской советологии под псевдонимом «Рышард Врага».
В переписке со своими зарубежными корреспондентами, с которыми его связывали не только служебные отношения, он не стеснялся в выражениях. Так, в письме начальнику киевской плацувки «L.11» Люциану Годзялтовскому читаем: «Вместе с тем, тебя следует отругать, – под вашим носом, пся крев, происходят изменения, о которых вы не имеете понятия. Вместо разговоров друг с другом о “важных делах”, не стоящих выеденного яйца, вы лучше бы ходили по городу и были более внимательными».
В других письмах он тоже не скупился на выражения: «Как о себе, о вас, дряни, заботишься и думаешь, чтобы вам там хорошо было. Вы должны пахать, а не играть в сопливых дипломатов… От вас не требуется невозможного самопожертвования. Я сам знаю, что можно, а чего нельзя. Есть такие плацувки, работающие в худших условиях, в отличие от вас, что вам и не снилось».
Иногда в словах Незбжицкого проскальзывал и юмор: «Я дал вам автомобиль. А может, вам еще дать самолетик и шапку-невидимку? Не дождетесь!»[262].
Одна из сложностей в организации текущего руководства подчиненными плацувками была связана с ограничительными мерами советских властей на пересылку дипломатической корреспонденции. Так, миссия в Москве, через которую осуществлялась письменная связь с Центром, могла направлять дипкурьера в подчиненные ему консульства не чаще одного раза в месяц. Последние, в свою очередь, могли отправлять служебную корреспонденцию не чаще чем два раза в месяц. Вализы с отправлениями не должны были превышать 6 килограммов и т. д.[263]. Все это значительно осложняло деятельность разведывательных точек в СССР.
Неуемная энергия Незбжицкого и его незаурядная личность требовали от его руководителей умелого руководства и ограничения чрезмерной инициативы. Начальник 2-го отдела Юзеф Энглихт, который хорошо знал и ценил Незбжицкого, считал, что, при всех положительных качествах подчиненного, следует всячески сдерживать его активность, которая не дает ему сосредоточиться на главном деле.
Незбжицкий всегда очень критично относился к непосредственно ему не подчиненным разведывательным структурам. Он крайне негативно оценивал деятельность приграничной разведки, проводимой соответствующими аппаратами Корпуса пограничной охраны.
Не меньше нареканий с его стороны вызывала работа территориальных органов 2-го отдела – экспозитур. В частности, он критиковал виленскую Экспозитуру № 1 за ошибки в вербовочной работе по иностранцам, следующим транзитом через территорию Польши: «До меня дошли слухи, что иностранцы, зная о той акции, стараются избегать проезда через Польшу, чтобы не навлечь на себя неприятностей». Он считал, что такие ошибки в вербовочной работе вызывают деконспирацию проводимых мероприятий, а в случае их огласки приводят к дипломатическим осложнениям.
Он неоднократно принимал участие в инспектировании территориальных экспозитур и по их результатам делал выводы, что в работе доминирует случайность, что вырабатываемые меры по активизации агентурной работы недостаточны, что дублирование функций экспозитур и плацувок пограничной разведки ведут к организационному хаосу и т. д.[264].
Незбжицкий был последовательным противником совместной работы руководимых им плацувок и территориальных экспозитур. «Если бы это требование исполнялось, – писал Незбжицкий в одном из отчетов, – то не было бы случаев, когда их агент (экспозитуры. – Авт.) является к нашему послу с пакетом документов и требует у него денег». В другом документе он критикует руководителей экспозитур, которые в стремлении добиться весомых результатов распространяют свою деятельность вплоть до Урала или Кавказа, не сообразуясь со своими весьма скромными возможностями по поддержанию связи с исполнителями. Кроме того, он считал, что заведомо неисполнимые обещания высокой оплаты агентам приведут к тому, что последние будут отказываться от сотрудничества в случае невыполнения таких условий.
С другой стороны, он, по возможности, старался помочь своим коллегам-территориалам. Так, когда в киевскую плацувку с просьбой о помощи обратилась бывшая агентесса разведки Корпуса пограничной охраны Юзефа Войцеховская («Станислава Русицкая»), отбывшая наказание в СССР за шпионаж в пользу Польши, он предлагал свою помощь в ее перемещении на родину[265].
Руководство отделения IIа (разведывательного) 2-го отдела Главного штаба в 1930-е годы в лице почти бессменного его начальника подполковника Стефана Майера и подчиненных ему начальников рефератов «Запад» и «Восток» считало, что только непрерывность непосредственного наблюдения за выделенными для изучения разведкой объектами, а равно и качественный анализ всей совокупности информации, включая открытую, дает возможность представить целостную, неискаженную картину.
Отсюда проистекала убежденность в том, что в условиях советской действительности, с ее жестким контрразведывательным режимом, агентурная работа с ценными и высокопоставленными источниками в самой стране невозможна. Очень неохотно и с предельной осторожностью Незбжицкий выходил перед Майером с предложениями о возможных вербовках, которые инициировали зарубежные плацувки. Когда речь заходила о привлечении к сотрудничеству граждан СССР – поляков по происхождению, можно было быть уверенными, что санкции на вербовку не будут получены.
Дополнительной причиной такой осторожности являлось стремление избежать дипломатических осложнений в случае обнародования шпионских афер, что заметно снижало в зарубежных аппаратах мотивацию к активной агентурной работе.
Традиционная неприязнь между внешнеполитическим ведомством и разведкой любой страны была окрашена своеобразным польским колоритом. Польские рафинированные дипломаты свысока относились к разведчикам, считая тех «солдафонами», имея в виду их принадлежность к военному ведомству. Последние не оставались в долгу перед своими «чистыми» коллегами, между собой называя их «сборищем снобов». Еще со времен своей киевской миссии Незбжицкий вынес стойкую неприязнь к кадровым дипломатам. «От МИД (Польши. – Авт.) и ГПУ все скрывай», – учил он позже своего подчиненного.
Через год после скандального отъезда из Киева он писал: «Физически и морально я не в себе. Я устал и взволнован в высшей степени. Когда сижу дома – все хорошо, но, возвращаясь к Аншальту (консульсто), в котором работал, находит на меня ожесточение… что режет тупым ножом… Я познал на себе все методы работы ГПУ, которые, кстати, ограничены в средствах и способах, и я не боюсь ничего, кроме МИДа, миссии, консульства (Польши. – Авт.)».
В другом письме читаем: «Отношение миссии к плацувке крайне подозрительное и недоброжелательное. Все это создает нехорошую атмосферу».
Несмотря на в целом доброжелательное отношение руководителя консульской службы МИД Виктора Дрыммера к своим бывшим коллегам по польской разведке, большинство польских разведчиков за рубежом, в той или иной мере, наталкивались на непонимание своих задач со стороны кадровых дипломатов. Особенно это касалось сотрудников плацувок, работавших либо в самом СССР, либо по нему с территории других государств. Дело доходило до того, что, обсуждая в своем кругу деятельность советской контрразведки и козни, чинимые своими же дипломатами, польские разведчики делали вывод, что ГПУ, по крайней мере, работает «честнее».
Посол Польши в Москве Юлиуш Лукасевич, испытывая стойкую неприязнь и к самой разведке, и к ее представителям в своей «советской епархии», не только не помогал разведчиками, но, где было можно, даже вредил. Когда заместитель Незбжицкого Ян Уряш был направлен с инспекционной миссией по плацувкам в СССР, Лукасевич не принял его, обосновывая свой отказ от встречи тем, что он «не считал нужным затевать дискуссию с заместителем начальника реферата».
Такое высокомерное отношение посла к разведке проецировалось на уровне других дипломатических учреждений. Долголетний консул в Киеве Ян Каршо-Седлевский, с подачи самого посла, поставил перед собой задачу полностью очистить киевское консульство от польских разведчиков. Незбжицкий нейтрализовал такую угрозу для разведки простым и эффективным способом – он предложил консулу возглавить киевскую информационную плацувку. Каршо-Седлевский на такое нестандартное предложение ответил согласием.
Одним из главных недоброжелателей польской разведки был посол в Иране Станислав Хемпель. Незбжицкий так его характеризовал в одном из документов: «Человек упорный… при своем подлом характере любит мстить и “солить”… Он готов при любом удобном случае сделать “предельное свинство”»[266].
Еще одним недоброжелателем разведки был посол в Афинах Владислав Шварцбург-Гюнтер, который прямо заявлял, что не намерен терпеть в своих владениях лиц, связанных с разведкой, и что он будет стремиться к тому, чтобы их пребывание в греческой столице стало невозможным.
Большинство польских дипломатов, работавших в Советском Союзе, таких как Станислав Патек, Витольд Оконьский, Адам Зелиньский и другие, свое негативное отношение к «военным хамам» из разведки проявляли в многочисленных интригах.
Ушедшие же из разведки и ставшие карьерными дипломатами Казимеж Рудзкий, Ежи Матусиньский, Эугениуш Везе и другие, напротив, снисходительно-доброжелательно относились к своим бывшим коллегам, оказывая им помощь при любом удобном случае.
Для того чтобы минимизировать последствия и причины, порождающие взаимные интриги дипломатов и разведчиков, на должности консулов в Советском Союзе в 1930-е годы были назначены бывшие сотрудники 2-го отдела Главного штаба. Им также было предложено возглавить информационные плацувки в стране пребывания. Из всех таких дипломатов-разведчиков Незбжицкий выделял в лучшую сторону Богдана Яловецкого (В.17) и Ежи Клопотовского (С.15). Первый перед переходом в МИД успешно руководил рефератом в отделении IIb (контрразведка), а второй хорошо себя проявил на практической разведывательной работе в Данциге и Токио.
По мнению Незбжицкого, «золотым фондом» реферата «Восток» в работе по СССР были: Хенрик Яковский (Кh(I), Эугениуш Везе (W), Владислав Коцяткевич (О.5), Здислав Милошевский (М.13), Константы Рокицкий (F.16), Болеслав Войтковский и другие. Часть из них (меньшая) специализировалась непосредственно на агентурной работе, другая – на информационно-аналитической и вспомогательной деятельности.
Так, Петр Курницкий, обрабатывая открытые советские источники и на основе своих собственных наблюдений, представлял реферату «Восток» много хорошо составленных обобщенных справок и докладов по внутриполитической советской проблематике.
Юзеф Едынак (Kjd), работая в Москве около десяти лет, специализировался на обслуживании контактных почтовых ящиков и выполнении вспомогательных функций по покупке книг, картографической продукции, газет и журналов.
Сотрудники плацувок Хана Хженщевская (Кirka), Ян Лагода (R.82), Станислав Оссовский (Serafim), Тадеуш Павловский (Крl) и другие активно работали по визуальному наблюдению за выделенными военными и промышленными объектами.
Действовавший в Москве с июня 1932 по июнь 1934 года «Станислав Шадурский» (КL), будучи известным в Польше востоковедом, сумел установить в интересах разведки многочисленные контакты с советскими и иностранными коллегами. Одним из них был английский журналист, индус по происхождению Азиз Азат Хан, живший в стране много лет и женатый на уроженке России. Одно время он занимался преподавательской деятельностью в академии Генерального штаба и с тех пор продолжал поддерживать отношения со многими ее выпускниками, дослужившимися до высоких воинских чинов в Красной армии.
Другой близкой связью «Шадурского» был сын министра иностранных дел в китайском революционном правительстве по фамилии Чен. От последнего «Шадурский» получал много ценной информации о происходящих на Дальнем Востоке политических процессах, особенно в части влияния на них Советского Союза[267].
В свою очередь, центральные и территориальные органы безопасности СССР неутомимо и настойчиво проводили операции по агентурному и оперативно-техническому внедрению в польские дипломатические представительства в стране. Так, в середине 1935 года при обследовании польскими специалистами помещений консульства в Минске только в одной из комнат было обнаружено 15 подслушивающих устройств, вмонтированных в стены[268].
Серьезную обеспокоенность руководства польской разведки вызвали результаты работы комиссии, созданной для инвентаризации дел консульского отдела при московской миссии после смерти в октябре 1931 года его начальника – Адама Зелезиньского. Указанная комиссия в составе председателя – советника миссии Яна Каршо-Седлевского, членов: консула Тадеуша Блашкевича, атташе Станислава Забелло, Станислава Коженевского, пришла к неутешительным выводам о крайне неблагополучном положении с обеспечением режима секретности и безопасности в представительстве[269].
В частности, в итоговом рапорте Каршо-Седлевский отметил, что проверка установила многочисленные факты сожительства покойного с женщинами-сотрудницами плацувки и прислугой из числа местных жительниц. Причем в отношении последних имелись серьезные подозрения об их принадлежности к агентуре ОГПУ, о чем Зелезиньский был осведомлен из докладов сотрудников разведки, но мер по изолированию подозреваемых не предпринял.
Материалы служебного делопроизводства отдела на момент проверки находились в крайнем беспорядке, причем отмечалось, что доступ к некоторым из них был открыт не только для кадровых сотрудников, но и для обслуживающего персонала. Руководству МИД и 2-го отдела Главного штаба было предложено в кратчайшие сроки отозвать семь сотрудников и уволить пять человек из обслуживающего персонала, что и было сделано.
Положение с обеспечением безопасности дипломатических учреждений Польши в СССР начало исправляться с приходом в 1933 году на должность начальника консульского отдела бывшего разведчика Виктора Дрыммера. С его подачи была подготовлена служебная инструкция, регламентировавшая порядок работы в сфере обеспечения секретности и безопасности. Отдельными положениями инструкции были установлены порядок охраны помещений, включая ночные дежурства кадровых сотрудников, обращения со служебной документацией, работа с посетителями и т. д.[270].
Сотрудники плацувок, работавшие в других западноевропейских и азиатских странах и замыкавшиеся в своей деятельности на реферат «Запад», использовали свои агентурные и информационные возможности для получения информации по Советскому Союзу. Такие разведчики, как Михал Домашевич (Amurat, Zobejda), Ян Хельцман (Dragoman), Вацлав Латиньский, Станислав Лукашевич (Tel Aviv), Станислав Коженевский (124), Александр Квятковский (Hamlet), Ежи Литевский (Hingan), Кароль Дубич-Пентер (Anitra), Константы Рокицкий (Rok) и другие, со своей стороны вносили весомый вклад в общую копилку информированности польских инстанций.
Одна из инициатив Незбжицкого, направленная на совершенствование разведывательной деятельности в СССР, была связана с идеей создания на его территории резидентур, действующих с нелегальных позиций. Нужно сказать, что объективные предпосылки к тому были. Польская разведка имела значительный опыт проведения таких операций в 1920-е годы. Особенно много нелегальных групп действовало на Украине и в Белоруссии вплоть до начала 1930-х годов.
Так, одна из крупнейших нелегальных резидентур 2-го отдела была создана в конце 1929 года с организационным ядром в Киеве. У ее истоков стоял нелегальный резидент 2-го отдела Виктор Иосифович Бриль. Эта операция польской разведки дает нам возможность продемонстрировать формы и методы ее работы по инфильтрации своей агентуры в Советский Союз с последующим формированием крупных разведывательных резидентур.
В 1928 году польской контрразведкой после ареста был завербован член ППС (левицы) Виктор Иосифович Бриль. Положительно себя зарекомендовав на практической работе в качестве агента по освещению деятельности партийных организаций, он в июне 1929 года получил предложение своего руководителя – начальника Лодзинской дефензивы Вайнера – о выезде в СССР с заданием формирования на основе уже имеющейся агентурной группы крупной разведывательной резидентуры.
Используя свои связи в советском торгпредстве в Данциге, Бриль в качестве политэмигранта прибыл в Москву, откуда по назначению от Киевского комитета КП (б) Украины был направлен на работу заведующим интернатом Польского механического техникума в Киеве. Легализовав, таким образом, свое пребывание в СССР, он приступил к налаживанию контактов с уже имеющейся агентурой польской разведки.
В частности, с использованием возможностей старого курьера Кавецкого он приступил к изучению ряда лиц, работавших на заводах «Арсенал» в Киеве и авиазаводе № 43. Использовав свое должностное положение в техникуме, Бриль привлек к сотрудничеству ряд студентов и выпускников, которые, получив направление на производство, разъехались по всей стране. Один из них, некий Гельнер, обосновавшись в Москве, из бывших выпускников киевских учебных заведений создал агентурную группу, действовавшую на ряде московских военных заводов.
Через агента-связника Льва Клячко, являвшегося содержателем конспиративной квартиры на Троицкой улице, была установлена связь с кадровыми сотрудниками разведки, работавшими «под крышей» польского консульства в Москве. Для руководства текущей разведывательной работой резидентуры в 1932 году в столицу был переброшен и сам Бриль.
Выполняя задание польской разведки, он еще до отъезда вошел в контакт с членами польской молодежной группы «ГОЛ» (Группа освобождения личности), как писали в своих документах украинские чекисты, «антисоветской, контрреволюционной организацией». Очевидно, имея какие-то указания на характер ее деятельности и возможную связь с польской разведкой, чекисты спланировали перспективную операцию по внедрению своей агентуры в ее агентурную сеть с использованием «ГОЛа».
Какие изощренные способы при этом использовались советскими контрразведчиками, иллюстрирует уголовное дело бывшего агента Киевского областного отдела ГПУ Ф. М. Яворовского. Этот в целом рядовой эпизод противоборства польских и советских спецслужб интересен как один из примеров комбинационного мышления разработчиков операции, которые, используя ситуацию с существованием реальной антисоветской подпольной организации, сначала дали ей возможность развиться, а потом, в числе реальных перебежчиков – ее членов, внедрить своего агента в агентурную сеть польской разведки.
Особую «пикантность» этой разработке также придает участие в ней замечательного советского киноактера Вацлава Яновича Дворжецкого, известного зрителям по кинофильмам «Щит и меч», «Красное и черное», «Забытая мелодия для флейты с оркестром» и многим другим (всего 92).
Так, в июне 1928 года для освещения процессов, происходящих в польской молодежной среде, киевским отделом ОГПУ был завербован некий Феликс Михайлович Яворовский. Очевидно, с его помощью, а также с помощью других агентов – Владимира Остроменского и Константина Маевского – стало известно о подпольной польской молодежной организации «ГОЛ», в которой «первую скрипку» и играл Вацлав Дворжецкий. Ему в 1929 году исполнилось девятнадцать лет. Всего было проведено два заседания «ГОЛа», в которых приняли участие пять человек. В качестве средства борьбы с советской властью было принято решение о создании подпольной типографии. Из этой затеи ничего не вышло, и приятели решили просто эмигрировать в Польшу. Первую попытку они предприняли вполне официально через местного антиквара Романа Туркевича, который якобы имел контакты с польским консульством в Киеве.
Когда приятелям стало известно, что Туркевич арестован как польский шпион, они решили перейти границу нелегально. Был разработан план, согласно которому предполагалось выехать поездом из Киева в Шепетовку, после чего проследовать к бывшему однокашнику по киевской профессиональной школе Болеславу Мовчану, проживавшему в селе Клембовке, недалеко от границы. Подозревая своего товарища Владимира Остроменского в сотрудничестве с ОГПУ, Яворовский и Дворжецкий решили вдвоем осуществить свой план по нелегальному переходу границы[271].
Замысел удался вполне. С помощью местного контрабандиста им удалось перейти границу, после чего они были доставлены в местную «стражницу» польской пограничной охраны. Через неделю задержанные подверглись допросу со стороны капитана польской разведки, которого особо интересовало расположение частей Красной армии в Киеве, а также выпускаемая продукция промышленных предприятий города. Через некоторое время к капитану присоединился другой сотрудник «двуйки», прибывший из Варшавы.
Позже в своих показаниях на следствии в ОГПУ Дворжецкий сообщил: «Основная установка “варшавского” сводилась к следующему: в Польше нам еще не доверяют, так как мы пользы никакой не принесли. Вследствие этого принять на жительство не могут и что нужно доказать свою преданность Польше… после чего может быть речь о приеме, материальном обеспечении и что дадут возможность получить высшее образование».
Получив согласие друзей на проверку их лояльности в отношении Польши, «варшавский» завербовал их с заданием сбора информации в СССР по вопросам, интересующим польскую разведку. Кроме информационных задач, им были даны задания по привлечению к сотрудничеству знакомых, проходящих службу в Красной армии, – курсанта артиллерийской школы в Киеве и сына швейцара польского клуба, служившего в среднем комсоставе на железной дороге.
Вернувшись обратно в СССР, Яворовский доложил своим руководителям в Киевском отделе ГПУ УССР о выполнении задания по внедрению в польскую разведку. Тем не менее какие-то сомнения в его честности у украинских чекистов возникли. Когда ему было предложено вернуться в Польшу, «выполнив задание польской разведки», Яворовский категорически отказался. В январе 1930 года, «обрабатывая» его приятеля Голяновского, чекистам стало известно, что отказ вернуться в Польшу был вызван страхом Яворовского перед поляками, так как ранее он перед Голяновским и Дворжецким расшифровался как агент ОГПУ. На дальнейших действиях по внедрению своей агентуры в польскую разведку сотрудниками украинских органов безопасности был поставлен крест. Теперь-то и стал возможен арест всех участников перехода в Польшу как польских шпионов. Несколько позже была ликвидирована и вся резидентура Бриля.
В ходе следствия выяснилось, что Дворжецкий старался честно выполнить задания польской разведки. На купленную карту города он нанес отметки о дислокации частей киевского гарнизона, сделал другие, уличавшие его в шпионаже, заметки.
20 августа 1930 года Судебная тройка при Коллегии ГПУ УССР приговорила Дворжецкого к десяти годам заключения. О том, насколько обоснован был такой строгий приговор, стало известно гораздо позже. После отбытия двух сроков заключения Вацлав Дворжецкий стал добиваться своей реабилитации. В результате проверки через возможности органов безопасности ПНР были обнаружены оригинальные документы 2-го отдела Главного штаба, из которых следовало, что В. Дворжецкий был включен в агентурную сеть довоенной польской разведки с выплатой денежного вознаграждения, датированной 27 июля 1929 года.
В другом документе, подтверждающем связь Дворжецкого с польскими разведорганами, было сказано: «Начальнику экспозитуры № 5 (Львов) 2-го отдела Главного штаба 4 ноября 1930 г. Информация на Дворжецкого Вацлава. В связи с письмом L.dz. 1100 – секретно, сообщаю, что по данным, полученным из Киева, агент Дворжецкий Вацлав уже осужден и сослан на Соловки. Срок ссылки не известен. Я дал указания получить дополнительные данные. Начальник разведотдела майор Гано»[272].
Но примерно с 1933 года обстановка изменилась для поляков не в лучшую сторону. Жесткие режимные и контрразведывательные меры, обеспеченные советскими спецслужбами и другими государственными институтами, делали уже невозможной тактику, использовавшуюся польской разведкой ранее. Еще одной проблемой для нее являлся поиск кандидатов на такую опасную и непредсказуемую по последствиям работу.
Одна из известных попыток такого рода связана с именем капитана резерва и бывшего сотрудника реферата «Восток» Зигмунда Пентковского. Для реализации задач по формированию нелегальной резидентуры «Omega» была подготовлена соответствующая легенда, предполагавшая внедрение Пентковского в парижские круги польских коммунистов с последующим направлением его по каналам Коминтерна в Москву. В этих целях он под псевдонимом Ереми Корнага даже опубликовал в Польше «прокоммунистическую» повесть под названием «Рабочие». «Скрываясь» от преследований польской охранки, Пентковский перебрался во Францию, где и завязал, на первый взгляд, перспективные контакты с польскими коммунистами. Но, несмотря на реальное преследование со стороны французской Сюрте женераль и складывавшуюся обстановку, Незбжицкий принял решение операцию прекратить: в 1934–1935 годах и политическая конъюнктура, и контрразведывательный режим в СССР изменились в сторону ужесточения. В частности, стало известно, что всех перебежчиков в Союз ожидала фильтрация и направление в лагеря.
По возвращении в Польшу Пентковский столкнулся со множеством проблем, связанных с его «коммунистическим» прошлым. Он не мог устроиться на работу, польская политическая полиция, не поставленная в известность о его работе на 2-й отдел, взяла его в активную разработку как «посланца Коминтерна» и т. д. Дело дошло до того, что даже сам Стефан Майер в письмах к Президиуму совета министров ходатайствовал перед властями о прекращении преследования Пентковского и его реабилитации как «скомпрометированного офицера» с боевым опытом и т. д.
Другая аналогичная операция 2-го отдела по инфильтрации своего агента в СССР начала осуществляться в 1934 году. Поручик Люциан Доннер за время своей службы в Войске Польском сумел создать себе не очень хорошую репутацию. Он неоднократно получал дисциплинарные взыскания за служебные проступки, включая наказания за манипуляцию с фальшивыми векселями. Трудно сказать, была ли это изначально подготовленная польской разведкой легенда агента, или для ее подготовки были использованы реальные факты как элемент мотивации причин «побега» в СССР. Известно лишь, что после соответствующей разведывательной подготовки Доннер действительно через Берлин и Хельсинки был переброшен в СССР, где его следы для 2-го отдела были потеряны. Последнее упоминание о неясной судьбе Доннера было получено польской разведкой через несколько лет из одного из близких к Разведупру РККА источников. В частности, из его слов следовало, что сотрудник «польской секции» советской военной разведки Маковский якобы утверждал, что в свое время он «сталкивался с делом Доннера». Подробности отсутствовали[273].
Работа с нелегальных позиций даже в нейтральных странах особо не прельщала кадровых сотрудников и агентов разведки по причине опасности и возможных последствий в случае разоблачения. Когда капитан Станислав Орловский, легализованный как гражданин Эстонии Оскар Салис, готовился к отъезду на Ближний Восток, между ним и Незбжицким состоялся характерный диалог: «Какие инструкции Центр дает в случае моего задержания в районе советско-персидской границы?» – «Никаких». – «Какие гарантии дает Центр для моего освобождения?» – «Никаких».
В таких условиях руководство реферата «Восток» предпринимало дополнительные меры, направленные на совершенствование работы своих зарубежных плацувок, включая увеличение их числа. Например, при непосредственном участии Незбжицкого в Италии было создано три самостоятельных аппарата разведки, имевших независимые друг от друга линии связи с варшавским Центром: «Kapri», «Scala», «Roma». Несмотря на идеологические различия между СССР и Италией, торгово-экономические отношения между двумя странами стабильно находились на высоком уровне, что давало возможность польской разведке получать большой объем сведений о характере межгосударственных отношений, а также много другой полезной для нее информации. Несмотря на то что каждая из указанных плацувок имела определенную специализацию, как, например, «Kapri», разрабатывавшая различные структуры ОУН, все они были нацелены на работу по советской проблематике.
Получив «в наследство» от предшественников часть уже действовавших в Европе плацувок и завязанных на них агентурных контактов, Незбжицкий постарался более эффективно использовать уже имеющиеся и перспективные возможности. Так, ценным источником польской разведки в 1929–1932 годах по вопросам военного и военно-политического сотрудничества между Веймарской Германией и Советским Союзом был неназванный агент в советском торговом представительстве в Берлине под псевдонимом «Мирецкий», от которого поступала важная документальная информация. В частности, он представлял сведения о закупках военного назначения, совершаемых полпредством. Большой объем проходящих через «Мирецкого» документов в виде фотокопий стал достоянием реферата «Восток»[274].
В качестве наводчиков, разработчиков, вербовщиков продолжалась работа на польскую разведку целого ряда бывших военнослужащих РККА, в разное время перебежавших в Польшу. С их помощью в распоряжении польской разведки оказался значительный объем информации по различным вопросам состояния, боеготовности, мобилизационных возможностей частей и соединений Красной армии.
Например, нелегально ушедший в Польшу в мае 1928 года бывший заместитель командира полка 13-й кавалерийской дивизии Е. Фут на допросах сначала во львовской экспозитуре, а затем в Варшаве представил польской разведке много важных сведений[275].
В своих воспоминаниях о службе в Красной армии «В подполье можно встретить только крыс» известный советский диссидент и правозащитник генерал-майор П. Г. Григоренко рассказал об одном интересном эпизоде, связанном с деятельностью польской разведки в СССР в середине 1930-х годов. Однажды начальник особого отдела, осуществлявшего контрразведывательное обеспечение Минского укрепленного района, Кириллов зачитал Григоренко документ типографского исполнения, в котором содержалась характеристика последнего, подготовленная неизвестным агентом польской разведки и включенная во внутриведомственный доклад 2-го отдела польского Главного штаба.
Генерал далее пишет: «“Новый начальник Минского укрепленного района Григоренко Петр Григорьевич”, – зачитал Кириллов. Сделал паузу. Затем начал читать мои биографические данные. Они были довольно подробными и фактических ошибок в них я не заметил. После биографических данных снова пауза и – “далее самое интересное. Слушай внимательно”. Принадлежит к так называемому сталинскому поколению. Идейный. Предан Сталину и его режиму не из желания выслужиться, а по убеждению. К критике режима относится нетерпимо, но доносов не пишет, а горячо убеждает оппонента в его неправоте. Головокружительное продвижение по службе воспринял как должное и, несмотря на отсутствие опыта, дело взял в руки твердо и уверенно. Инициативен и решителен. Принимать на себя ответственность не боится. Заметных пороков не обнаружено. Подходов для вербовки нет. Можно попытаться действовать через женщину, хотя надеяться на успех трудно»[276].
Этот эпизод воспоминаний генерала Григоренко указывает на два важных момента. Во-первых, на наличие польского агента в непосредственном окружении Григоренко, исполнявшего тогда обязанности начальника инженерной службы Минского УРа. Во-вторых, на наличие советского источника в аппарате 2-го отдела Главного штаба Войска Польского или в одной из его пограничных экспозитур.
После начала в 1936 году гражданской войны в Испании польская разведка через своего сотрудника майора Цезары Невенгловского стала получать много разноплановой информации об участии СССР в испанской эпопее. Дело в том, что у майора сложились очень хорошие личные отношения с начальником итальянской военной разведки Марио Роаттой в его бытность военным атташе в Варшаве.
Изначально планировалось, что хорошо себя зарекомендовавшие в боевых действиях поляки, эмигрировав в СССР, станут в перспективе ценными источниками. Но, несмотря на предпринятые усилия по инфильтрации своей агентуры в республиканские военные и политические формирования, особые успехи достигнуты не были.
Несколько больший эффект был получен от использования польской агентуры из числа иностранных технических специалистов, работавших на строительстве объектов советской промышленности. Они вербовались в США, Италии, Германии, Скандинавских странах. В эту категорию также входили этнические украинцы – граждане этих и других государств.
Незбжицкий старался использовать любую возможность для получения информации из Советского Союза. Он лично «пробивал» возможность участия своих сотрудников в различного рода мероприятиях по линиям научного и культурного обмена в рамках двусторонних межгосударственных отношений. Включение в состав польских делегаций, следующих в СССР, кадровых сотрудников разведки стало обычной практикой реферата «Восток».
Например, включенный в состав польской делегации специалистов-мелиораторов поручик Эдмунд Йодковский за время ее работы в советской части Полесья собрал ценную информацию о местах базирования, составе, объектах инфраструктуры советской военной флотилии на Припяти.
Осенью 1934 года в Ленинград на Международный географический конгресс реферат «Восток» отрядил группу своих сотрудников и временно прикомандированных с широким спектром вербовочных и информационных задач. Полковник Тадеуш Зеленевский, подполковник Виктор Плеснер, майор Смолаж и капитан Януш Червенка должны были за время работы конгресса установить необходимые контакты в интересах разведки, собрать другую полезную для нее информацию[277].
Одним из агентов, начавшим сотрудничать с Незбжицким в 1936 году, был сын классика украинской литературы Ивана Франко – Петр. Другой агент – Исаак Френкель, имевший в польской разведке псевдоним «Михайлов», специализировался на сборе и аналитической обработке информации по вопросам промышленного производства на Украине.
В период активизации репрессивной политики в Советском Союзе с 1937 года руководимые Незбжицким зарубежные плацувки начали настоящую охоту за уже перебежавшими за рубеж и потенциальными невозвращенцами.
Польская разведка для пополнения своего агентурного аппарата старалась использовать любую возможность, особенно когда речь шла о значимых фигурах мира большой политики. Так, осенью 1937 года объектом ее вербовочных устремлений явился полпред СССР в Румынии М. С. Островский. Через свои агентурные возможности польские разведчики установили, что в условиях неопределенности своего положения, вызванного политическими репрессиями в Москве, затронувшими многих друзей и сослуживцев по НКИД, советский полпред в Румынии вынашивает идею остаться «за пределами России, если отыщет способ правового обеспечения своего гражданского и материального положения».
Своими планами Островский поделился со старым знакомым Мустафой Ибрагимовым, который, будучи агентом плацувки «Pielgrzym» под псевдонимом «Мос», в свою очередь обратился к резиденту польской разведывательной сети В. В. Богомольцу. Получив такую информацию, польская разведка решила использовать трудности Островского для его привлечения к сотрудничеству. Узнав, что Островский поддерживает хорошие личные отношения с неким Хотиным и делится с ним некоторыми своими планами, поляки завербовали последнего, намереваясь использовать его в вербовочной комбинации.
В операцию был вовлечен польский посол в Румынии М. Арцишевский, роль которого на первом этапе вербовочной разработки сводилась к созданию условий для укрепления личных отношений между Островским и ответственными за операцию шефом парижской плацувки «Lecomte» поручиком Михалом Балиньским и представителем реферата «Восток» капитаном Станиславом Папроцким[278].
19 января 1938 года Островский посетил своего польского коллегу. Во встрече принимали участие указанные польские разведчики. «Вербовка в лоб» с их стороны не планировалась, так как предугадать ее результаты, в силу отсутствия дополнительной информации, они не могли. Поэтому было принято решение ограничиться личным знакомством с Островским, что «в последующем помогло бы им в беседах на нейтральной почве».
В своем отчете Балиньский и Папроцкий отметили, что «Островский производил впечатление очень нервного и придавленного человека. Его состояние еще больше ухудшилось после сообщения посланника Арцишевского о получении из МИД депеши об отзыве посланника СССР Островского в Москву вследствие якобы имеющихся у него контактов с троцкистской оппозицией».
Имевший большой жизненный и профессиональный опыт, Островский, конечно же, отдавал себе отчет в двусмысленности обстановки на завтраке в польском представительстве. Он понимал, что явился объектом вербовочных устремлений польской разведки, что не входило в его планы по устройству своей дальнейшей судьбы. Об этом свидетельствует тот факт, что Островский не пожелал больше видеться с завербованным поляками Хотиным. От дальнейших контактов с представителями польских спецслужб он самоустранился.
Польские разведчики полагали, что «Островский либо получил гарантии безопасности (что малоправдоподобно), либо остается на каком-то заграничном посту, либо еще ранее получил убежище в каком-либо государстве. В любом случае, в настоящий момент вести переговоры об убежище он не желает». Сделав свой выбор, Островский 4 февраля 1938 года уехал в Москву навстречу своей смерти в ГУЛАГе[279].
Его сменщик, временный поверенный в делах СССР в Румынии Ф. Бутенко, не был столь «щепетильным». Еще до своего бегства в Италию он вступил в контакт с представителями польской разведки, которые и вывели его на самого Незбжицкого.
Последний лично провел с Бутенко в Бухаресте несколько встреч, в ходе которых была получена ценная информация по внешнеполитическим проблемам и вопросам деятельности советской разведки в Европе. В частности, Бутенко подтвердил Незбжицкому ранее полученную поляками информацию о принадлежности супруги посла Польши в Румынии Мирослава Арцишевского к агентуре советской разведки.
Сам же Бутенко, находясь в Италии, утверждал, что в контакт с румынской Сигуранцей он вступил только после своего бегства из полпредства, что вполне можно объяснить желанием скрыть от итальянской контрразведки свои отношения с Незбжицким.
Действовавший в Токио резидент плацувки «Mandaryn» Чеслав Павлович, получив разрешение от японских военных властей, принял участие в опросах бывшего начальника УНКВД по Дальневосточному краю Генриха Люшкова, перебежавшего к японцам. Его первоначальный скепсис сменился воодушевлением от полноты и качества информации предателя по вопросам, интересовавшим польскую разведку.
К услугам русской военной эмиграции Незбжицкий старался обращаться редко и делал это крайне неохотно. Такое отношение было вызвано двумя причинами: враждебным отношением русской эмиграции к Польше и ее представителям и информацией польской разведки об успехах ИНО ОГПУ-ГУГБ в инфильтрации своей агентуры в ее среду. Поэтому агентурный аппарат реферата за рубежом и в самом СССР в основном состоял из поляков, украинцев и белорусов[280].
Резидент польской разведки в Турции ротмистр Ежи Литовский (Gazi) писал: «Никогда не будет ясно, где кончается приличный русский, а начинается провокатор большевиков».
Ему вторил Михал Балиньский из реферата «Восток» в письме начальнику плацувки «Martel» в Париже Мечиславу Курчевскому: «Никогда не лезь в разматывание эмигрантских клубков в русских организациях. Потратишь много времени, а результата не будет».
Он же в ответ на просьбу шефа плацувки «Rok» в Риге Константы Рокицкого санкционировать вербовку бывшего русского офицера советовал: «Мне издалека трудно оценить новый контакт. Но, на основании своего грустного опыта, могу Вас предупредить, что in gemio вся русская эмиграция состоит из прохвостов, набивающих себе цену, сволочей и двойных агентов. Было бы очень хорошо, если бы Ваш “клиент” принадлежал к редким в этом обществе исключениям».
Насколько полякам сложно было работать с этой категорией агентуры, демонстрирует дело бывшего офицера русской армии есаула Михаила Ильича Яковлева, человека, с именем которого связана одна из важных тайн советской истории.
Участник Первой мировой и Гражданской войн, Яковлев приобрел опыт разведывательной работы, находясь в составе разведотдела штаба армии Деникина. В 1920 году на польской территории он сформировал кубанскую казачью бригаду, которая хорошо себя проявила, участвуя в составе польских войск, в боях против 6-й кавалерийской дивизии Первой конной армии Буденного в районе Замостья.
После окончания Гражданской и советско-польской войн Яковлев осел в Польше, где сменил несколько профессий, работая то на лесозаготовках в Беловежской пуще, то издателем и журналистом газеты «Новая Россия», издаваемой в Вильно 281.
Загадка же советской истории связана с его возможным участием в покушении на полпреда СССР в Польше Войкова 7 июля 1927 года. Дело в том, что на исходе своей жизни убийца полпреда Борис Коверда в своих воспоминаниях назвал Яковлева как одного из своих единомышленников, который не только знал о планах покушения, но даже обучал Коверду обращению с огнестрельным оружием. Другие детали возможного участия Яковлева в акции отсутствуют, но тот факт, что в те годы он в качестве агента Экспозитуры № 1 в г. Вильно активно работал на польскую разведку, дает возможность рассматривать версию об ее участии в покушении как вполне правдоподобную. С другой стороны, известно, что польские власти неоднократно, начиная с 1924 года, предупреждали Войкова о готовящемся на него покушении со стороны монархистов-кирилловцев[281].
Подозрительным обстоятельством, свидетельствующим в пользу версии об участии польских спецслужб в покушении на Войкова, является тот факт, что в судебном заседании не были обнародованы данные о связях Коверды в антисоветских кругах русской эмиграции. Так, свидетель обвинения Альфонс Новаковский, в качестве сотрудника полиции производивший следственные действия по делу, заявил, что «о связи Коверды с монархической организацией не было никаких данных». Эти показания полицейского чиновника можно расценивать как попытку скрыть фактические данные, относящиеся к следствию[282].
Примечательно, что после убийства Войкова Яковлев покинул Польшу и обосновался в Париже, где его принял на связь аппарат военного атташе. Во французской столице он использовался для изучения процессов, происходящих в среде русской военной эмиграции.
Летом 1931 года в Париж из Варшавы было направлено полученное из виленской экспозитуры сообщение, в котором, со ссылкой на информацию агента «Головни», содержались дискредитирующие Яковлева сведения. В частности, по словам агента, Яковлев не скрывал своей связи с Борисом Ковердой в Вильно. Также в сообщении говорилось, что в период работы в Вильно он имел подозрительные контакты с «разведкой большевиков», а в Париже якобы продолжал сотрудничать с ОГПУ. В сообщении также содержались сведения о связи Яковлева с бывшими агентами виленской экспозитуры, часть из которых была позже действительно изобличена как советские агенты, а в отношении другой имелись серьезные подозрения.
Среди них был приговоренный в Польше за шпионаж в пользу СССР бывший подполковник русской армии Лука Цеплянский (Локцик). О нем было известно, что, руководя в Вильно агентурной группой «Lot», он одновременно сотрудничал с советской разведкой. Его помощник по работе в экспозитуре Борис Грохольский (Ордольский) также был разоблачен как агент ОГПУ.
Бывший командир Красной армии Степан Иванов, дезертировав из ее рядов, предложил свое сотрудничество польской разведке. Позже военным судом он был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж в пользу СССР.
Такими же подозрительными были другие связи Яковлева в период его работы в Экспозитуре № 1: Федор Григорьев, Адам Рымкевич, Антон Усов, Василий Герасимов. Проведенной в Париже проверкой полякам не удалось доказать вину Яковлева, и решением Майера он был оставлен в агентурном аппарате[283].
В связи с недоверием Незбжицкого к русской эмиграции, в агентурный аппарат реферата «Восток» входило относительно небольшое число бывших белогвардейцев. Из сохранившихся документов польской разведки следует, что с большой долей вероятности к агентам, с которыми лично работал Незбжицкий, относятся Владимир Владимирович Бранд и Дмитрий Владимирович Философов. Первый, занимаясь в эмиграции литературной и публицистической деятельностью, был активистом контрреволюционной организации «Братство Русской правды». Второй – бывший ближайший сотрудник Бориса Савинкова, был для Незбжицкого ценным источником информации не только по советской проблематике, но и по вопросам европейской политики.
Известно, что объектами вербовочных устремлений Незбжицкого и его сотрудников были: бывший полковник Генерального штаба Русской императорской армии Александр Людвигович фон Нелькен, генерал Николай Владимирович Скоблин, бывший руководитель русских антибольшевистских спецслужб тайный советник Владимир Орлов. Насколько они были успешны, информации в польских архивах не сохранилось[284].
Несмотря на осторожность в работе с представителями этой категории русской эмиграции, Незбжицкого постиг ряд неудач, связанных с разоблачением как советских агентов нескольких его помощников. Так, крупное поражение польская разведка в Румынии понесла, когда один из ее ценных источников, бывший полковник царской армии Николай Орлов, был разоблачен Сигуранцей как агент ИНО ОГПУ.
В ходе следствия и суда выяснились многие интересные обстоятельства его работы на английскую и польскую разведки. На последнюю он был завербован начальником местной плацувки «Dram» Ромуальдом Драминьским в 1935–1936 годах как очень информированное лицо о происходящих в Румынии политических процессах и деятельности в стране иностранных разведок.
Выяснилось, что его работа как агента советской разведки, действовавшего под псевдонимом «Артиллерист», распространялась на многие значимые для нее сферы, включая выходы на ряд высокопоставленных правительственных чиновников Румынии.
Оценивая понесенный поляками и румынами урон, бывший сотрудник 2-го отдела – консул в Кишиневе Александр Понце де Сандон – писал: «Это дело на румын произвело тяжелое впечатление. Они убедились, что значительная часть так называемой эмиграции, принимаемая еще совсем недавно за непримиримую (к советской власти. – Авт.), готова сегодня идти на контакт с Советами».
Советская внешняя разведка действительно в 1920–1930-е годы имела прочные позиции в румынских государственных и военных учреждениях, включая спецслужбы. Например, сотрудник разведки 3-го армейского корпуса, а затем 8-й пехотной дивизии в Черновцах, начальник приграничного разведывательного пункта в г. Резин, один из проводников через границу сотрудничали с ИНО в рамках операций по противодействию польской, английской и румынской разведкам[285].
В воспоминаниях Беседовского содержится интересное сообщение о проникновении советской разведки в высшее руководство Сигуранцы. Вот как он описывает операцию по получению румынских шифров со слов резидента ИНО в Париже Яновича: «Вот у нас одному дяде счастье привалило с румынами. Это было дело. Удалось ему, через одну бабу, подъехать к руководителю румынской Сигуранцы в Бессарабии, и он имеет теперь в своих руках все румынские шифры и самую секретную информацию обо всем, что происходит в Бессарабии и Румынии…»[286].
Мы уже упоминали, что с середины 1920-х по 1934 год английская разведка совместно со 2-м отделом польского Главного штаба и румынской разведкой проводила ряд крупномасштабных разведывательных операций в Советском Союзе. Одна из них, получившая в польской разведке условное наименование «Barnaba», была начата, когда от ее агентов, а также по линии официального обмена с англичанами и румынами начала поступать важная информация, исходившая из «высших эшелонов власти» в СССР. Уже потом стало известно, что значительная часть сведений была инспирирована ОГПУ в рамках дезинформационной операции, а ее проводниками выступали задействованные в ней многочисленные агенты ИНО-КРО ОГПУ. Одним из них был помощник резидента МИ-6 в странах Восточной Европы Виктора Богомольца – Борис Лаго.
Настоящими «жемчужинами» агентурного аппарата Незбжицкого в конце 1930-х годов были сам Виктор Богомолец и его помощник Степан Васильев. Все трое знали друг друга по совместной работе в рамках проводимых с английской разведкой с конца 1920-х до 1934 года операций «Barnaba» и «Pielgrzym». Но после скандального провала, вызванного вербовочным выходом на Богомольца советских разведчиков и разоблачением как агента ИНО одного из его ближайших помощников Бориса Лаго, МИ-6 была вынуждена резко снизить свою активность в Восточной Европе, ликвидировав часть своих разведывательных аппаратов[287].
Васильев после отставки Богомольца еще некоторое время продолжал работать на английскую разведку, но также был вынужден уйти от англичан, перебравшись в Румынию. Но «жемчужиной» реферата «Восток» Васильев стал уже после того, как, выехав из Бухареста, осел в Вене. Связь с ним подчиненный Незбжицкому капитан Вацлав Залесский восстановил уже в австрийской столице. Со слов Васильева полякам стало известно, что он уже некоторое время работает на германскую разведку, в интересах которой разрабатывает свои чехословацкие источники.
Проведя в сентябре 1938 года первую после временного расставания встречу с Васильевым, Незбжицкий в своем отчете начальнику Главного штаба генералу Вацлаву Стахевичу докладывал, что оценить качество сведений агента «Минина» (?!) (Васильева) он не может, так как информация по затронутым вопросам в польском МИДе отсутствует. Поэтому он (Незбжицкий) не исключает возможность инспирации или дезинформации[288].
Мы подошли к очередной загадке в истории польской и советской разведок. И с позиций сегодняшнего дня эта загадка также пока неразрешима. Продолжая отчитываться о работе с агентом «Мининым», Незбжицкий указывает, что получаемые от его источника в Вене документы чехословацкого МИД высоко оцениваются начальником Восточного отдела польского внешнеполитического ведомства Тадеушем Кобылянским, который заинтересован в получении по этому каналу аналогичных материалов в дальнейшем. О деятельности Кобылянского в качестве агента советской разведки мы будем говорить ниже[289].
Польский исследователь Лукаш Улатовский считает, что, возможно, интерес Кобылянского к информации Васильева был вызван желанием руководства ИНО ГУГБ перепроверить информацию другого советского источника в аппарате МИД Чехословакии.
Сам же Богомолец, уволенный из английской разведки в 1934 году, оставил в запасе несколько источников, информация которых некоторое время высоко котировалась во 2-м отделе. Один из них, располагавшийся в Брюсселе, в ее оценках имел буквально «сказочные» возможности, включая выходы на представителей советского руководства[290].
Важные указания на хорошую осведомленность Богомольца о процессах, происходивших в высших партийных и внешнеполитических кругах СССР, содержатся в некоторых документах французской разведки, относящихся к маю 1939 года.
В частности, в агентурном сообщении от 4 мая, посвященном причинам отставки наркома иностранных дел СССР Литвинова и обстоятельствам, с ней связанным, читаем:
«Отставка Литвинова не вызвала большого удивления в кругах, близких к советскому полпредству в Париже, хотя сам факт, что эта отставка произошла в момент напряженнейших англо-советских переговоров, несколько поразил советских дипломатов-техников, ожидавших, что Сталин выберет другой момент, чтобы удалить Литвинова.
Окончательный и непоправимый удар положению Литвинова в Москве нанесло Мюнхенское соглашение и протоколы о ненападении и консультации, подписанные Чемберленом в Мюнхене и Бонне в Париже (так в тексте. – Авт.) с 3-м Рейхом. ИНО ГУГОБЕЗА (ИНО ГУГБ. – Авт.), продолжающее питать Политбюро информацией, так же как и Разведупр, наравне с нормальными советскими дипломатическими органами, сообщило через свою агентуру в Женеве, что Мюнхенское соглашение сопровождалось якобы “джентльменским соглашением” между Гитлером и Чемберленом, согласно которому Германия обязывалась прекратить свои территориальные захваты в Центральной Европе присоединением Судетов, а Лондон давал ей за себя и за Париж гарантию свободы рук на востоке Европы в отношении ее возможных планов, направленных против СССР.
Это сообщение ИНО ГУГОБЕЗА (Разведупр прислал вскоре аналогичное сообщение) вызвало особое заседание Политбюро (Литвинов на нем не присутствовал, ибо он находился в то время в Западной Европе, застряв в Швейцарии во время сессии Лиги Наций). На этом заседании Сталин резко и определенно заявил, что “вся информация нашего НКИД была попросту дезинформацией” и что “надо сменить головку этого органа, не оправдавшего наших надежд”…
По возвращении в Москву Литвинов был вызван лично к Сталину (в докладе на Политбюро ему отказали), у которого он пробыл два часа. При этом свидании никто не присутствовал. Однако в кругах, близких к Литвинову в НКИД СССР, говорилось затем, что Литвинов вышел из кабинета Сталина буквально РАЗДАВЛЕННЫМ, что Сталин разговаривал с ним чрезвычайно грубо и что Литвинов ТУТ ЖЕ подписал свое прошение об отставке, на что Сталин заявил ему, что в принципе его отставка принимается, но что Политбюро объявит об этой отставке, когда сочтет МОМЕНТ подходящим.
Сталин считал, что отставка Литвинова, объявленная в подходящий момент, может представить собой настолько важный КОЗЫРЬ в дипломатической игре СССР с западными державами, что нет никакой надобности обесценить ее значение преждевременным формальным оглашением…»[291].
Вместе с тем, следует сделать важное пояснение, касающееся качества передаваемой по каналам Богомольца информации. Дело в том, что некоторые его источники, и во время его работы на МИ-6, и за время сотрудничества с польской, румынской и французской разведками, одновременно являлись агентами советских органов безопасности. Например, агенты «Тамарин», «Консул», Вишневский и другие сразу же доложили своим советским руководителям о выходе Богомольца на контакт с ними после начала его работы в интересах названных разведок. Так что наверняка значительная часть сведений, получаемых поляками, была изначально инспирирована советскими спецслужбами в целях дезинформации[292].
Содержащаяся же в приведенном агентурном сообщении Богомольца информация не имеет явных признаков дезинформации. Напротив, подавляющее большинство изложенных в нем фактов находит свое подтверждение в других источниках. Кроме того, упоминание в тексте агентурного сообщения сведений о мотивах использования «козыря в дипломатической игре», предвосхищавшего резкую смену курса СССР на установление с Германией союзнических отношений, версию о советской дезинформации отметает. Советская разведка вряд ли пошла бы на раскрытие перед французами столь важного для них указателя на возможную смену политического вектора.
Работа Богомольца на польскую разведку дает нам возможность рассмотреть характер ее информационной деятельности на примере использования агента «Кобальт-7». В распоряжении автора нет конкретных указаний на то, что представленное выше агентурное сообщение исходит от этого источника, но ряд косвенных признаков такую возможность не исключает.
Но прежде чем обратиться к оперативным возможностям названного агента, следует сказать несколько слов о положении самого Богомольца в сложившемся треугольнике из трех спецслужб – МИ-6, румынской Сигуранцы и 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. «Первый угол» треугольника к описываемому периоду утратил для Богомольца свое значение по причине отказа англичан пользоваться его информационными услугами. Два оставшихся «угла», а также сведения о продолжении контактов Богомольца с французскими спецслужбами демонстрируют нам классический пример резидента-«многостаночника», с одинаковым усердием работающего на двух и более хозяев одновременно.
После расставания в 1934 году со своим руководителем из МИ-6 Гарольдом Гибсоном Богомолец в качестве самостоятельного резидента польской военной разведки и румынской Сигуранцы обосновался в Париже. К 1937 году под псевдонимом «Доктор» он успешно руководит деятельностью специализированной румынской резидентуры, направленной на освещение румынских оппозиционных групп в лице их авторитетных представителей: бывшего премьер-министра князя Б. Штирбея, министра иностранных дел Н. Титулеску, принца Кантакузино, бывшего посла Румынии в США Кароля Давила и др.[293].
Вице-директор Сигуранцы Еуджен Бьяну, в целом положительно оценивавший результаты информационной работы Богомольца, тем не менее отмечал, что «…документы, исходящие от В. Богомольца, нуждаются в проверке, а факты в подтверждении другими документами»[294].
В качестве примера интересной, но труднопроверяемой информации можно привести агентурное сообщение Богомольца от 1 июня 1937 года «О встрече Титулеску с Литвиновым в местечке Таллуар». В этом сообщении речь шла о конспиративной встрече советского наркома иностранных дел М. Литвинова с бывшим румынским министром Н. Титулеску, в ходе которой обсуждались весьма щекотливые вопросы о советской помощи Титулеску в возвращении на пост министра иностранных дел путем появления декларации о признании Бессарабии частью Румынии. Агентурное сообщение изобилует множеством деталей, свидетельствующих не только о ходе беседы, кстати, продолжавшейся в течение пяти часов, но и о настроениях и мотивах ее участников[295].
В сентябре 1936 года Незбжицкий выезжал в Париж для встречи с Богомольцем, по результатам которой было принято решение о создании в Брюсселе отдельной агентурной группы, к руководству которой планировался агент Богомольца «Рославлев». В ходе той поездки были завершены организационные мероприятия, направленные на поддержание бесперебойной связи с резидентурой «Pielgrzym».
Дело в том, что поляки, создавая в Париже плацувку «Lecomte» во главе с ротмистром Балиньским, для местных властей маскировали ее существование как пункт связи с французскими спецслужбами, через который предполагался регулярный обмен информационными материалами по Германии. Поэтому, зная высокий потенциал Богомольца в освещении проблематики Советского Союза, Незбжицкий старался не афишировать связь со своим резидентом перед французами. Трудно сказать, знал ли Незбжицкий о работе Богомольца на французскую разведку, но в той ситуации его желание лишний раз не раздражать своих французских «друзей» вполне понятно.
Был установлен следующий порядок работы резидентуры «Pielgrzym» во Франции. Балиньский, не ставя своих подчиненных в известность о характере работы с Богомольцем, должен был быть простым «почтовым ящиком» для пересылки в Центр материалов, получаемых по каналам резидентуры. Но роль шефа плацувки «Lecomte» заключалась также в стимулировании работы Богомольца в интересах польской разведки. Так, после своего возвращения в Варшаву, Незбжицкий в письме от 21 сентября так «наставлял» Балиньского: «Нужно давить на “Валентина”, давить и давить. Если заработает – деньги будут»[296].
Вернемся теперь к агенту «Кобальту-7». Был ли он основным источником Богомольца по внешнеполитической проблематике СССР, определенно сказать сложно, но список из 26 агентурных сообщений, полученных поляками в период с начала 1937 по январь 1939 года, такую возможность подтверждает.
Из польских источников следует, что этот агент был по происхождению русским, с поляками начал сотрудничать минимум с начала 1937 года. Вначале состоя в агентурной сети «Тагор-256», «Кобальт-7» несколько позже был из нее выведен как самостоятельный агент, находившийся на личной связи у Богомольца.
Проводимый в реферате «Россия» регулярный анализ сообщений этого агента неизменно отмечал, что «источник дает сведения на уровне сплетен, проверить которые невозможно». Например, подготовленный 9 июня 1937 года «Кобальтом-7» аналитический обзор «Советская внешняя политика» получил такую оценку реферата «Россия»: «Сообщение основано на слухах и никакой ценности не представляет». Другое сообщение «Внутриполитическая ситуация в СССР», в котором имелись сведения о противоречиях в Политбюро ВКП (б), также получило негативную оценку.
Сотрудник реферата, подготовивший оценку, писал: «Материал содержит интересные личные добавления источника о противоречиях в Политбюро в вопросе о роли и месте партии в управлении страной. Но откуда источник знает, что произошло в ходе обсуждений в Политбюро? Эти выводы не могут быть приняты, так как отсутствуют материалы для сравнения. Кроме того, сам источник доверия не заслуживает».
Многие подобные сообщения «Кобальта-7» реферат «Россия» отклонял по причине отсутствия сравнительных для анализа материалов. Одна из наиболее характерных в этом плане оценок гласит: «Отношение Сталина к Литвинову в освещении источника возможно, но у нас нет сравнительного материала для точной оценки, откуда источник черпает такие сведения… В таком виде материал – без ценности».
Получается, что отнесение «Кобальта» к «проблемным» источникам в значительной степени обусловлено отсутствием сведений, подтвержденных через другие оперативные возможности польской разведки в СССР.
Несмотря на такие оценки результативности агента, Незбжицкий не торопился исключать его из агентурной сети, и «Кобальт-7» продолжал работать на Богомольца вплоть до начала войны. К исключительно ценному сообщению этого источника мы еще вернемся[297].
Целый ряд других документов польской разведки указывает на наличие хорошо информированных источников в кругах советской администрации, разумеется, при условии, что они не были подготовлены советской контрразведкой. Два нижеприведенных документа датированы второй половиной 1936 года и были захвачены советскими спецслужбами в качестве трофеев в 1939 году.
В первом документе неизвестный польский агент докладывал: «Появившееся в английской прессе сообщение о похищении плана обороны западной границы СССР по сведениям, имеющимся у хорошо осведомленных об СССР источников, базируется на следующих событиях. Совсем недавно был неожиданно отрешен от должности и перемещен на другую работу Бокис, начальник Организационного управления Штаба РККА. Вслед за его отрешением от должности в кабинете у маршала Егорова, начальника штаба РККА, произошло очень секретное совещание с участием всех трех заместителей Егорова – 1-го Седякина; 2-го Меженинова; и 3-го Левичева и начальников управлений – Оперативного – Обысова, Боевой подготовки – Богомягкова, Военных сообщений – Аппога и Административно-мобилизационного – Вольпе. Вслед за этим совещанием имело место второе совещание Егорова с начальником Разведывательного управления Берзиным и его помощником полковником Брониславом Бортновским. Обратило на себя внимание присутствие на этом совещании также и Акулова – начальника военно-исторического отдела Штаба РККА…
В результате этих совещаний несколько офицеров из управления штаба были вызваны для опроса в кабинет Берзина, опрашивавшего их в присутствии Бортновского и представителя контрразведывательного отдела государственной безопасности, старшего майора Зиновия Воловича, временно прикомандированного к управлению Берзина. Вскоре сделалось известным, что имеются подозрения о злоумышленном копировании какого-то секретного документа, находившегося в распоряжении Организационного управления… Три офицера из управлений Оперативного и Военных сообщений были посажены в административном порядке под арест за упущения по службе, а один офицер штаба – майор Боков – исчез без следа…
Военные круги Москвы в первое время отказывались верить в реальность обвинения… Однако исчезновение майора Бокова показало, что дело гораздо сложнее, чем простая провокация ГПУ: предположения, что Боков попросту арестован и посажен во внутреннюю тюрьму ГПУ, не оправдались. Выяснилось, что он бежал за границу, в Польшу…
Выяснилось, что был скопирован план расширения стратегических путей на западной границе СССР, постройки новых железнодорожных и шоссейных линий, расширения станций, устройства новых подъездных путей и пр. План этот был только недавно утвержден Штабом РККА и передан на обсуждение Высшего Военного Совета при Наркомобороне… Боков решил всерьез передать скопированный план одной из иностранных разведок…»[298].
Характер процитированного выше документа указывает не только на хорошую информированность польского источника о свершившемся факте утраты секретного документа и сопутствующих этому обстоятельствах, но и, соответственно, на глубину инфильтрации польской разведки в высшие органы военного управления СССР.
Агентурное сообщение другого польского агента касается назначения Михаила Моисеевича Кагановича на должность заместителя наркома оборонной промышленности. Как и в вышеизложенном документе, обращает на себя внимание информированность источника об обстоятельствах назначения, а также емкие и точные характеристики Кагановича и других лиц. В частности, читаем в документе: «Выясняется, что назначение Михаила Кагановича в заместители наркома оборонной промышленности во вновь организованному наркомату, имеет в виду кроме тех целей, о которых сообщалось в нашем докладе, еще одну важнейшую цель: выполнение новой программы по авиационному строению и, следовательно, по авиационному моторостроению. Каганович назначен первым заместителем наркома Рухимовича со специальным заданием по авиационному вопросу… (Каганович) исполнял также за последнее время обязанности начальника Главного управления авиационной промышленности при Народном комиссариате тяжелой промышленности, заменив на этом посту неудачливого Королева (начальник 18-го управления Наркомата оборонной промышленности. – Авт.). ГУАП было принято Кагановичем в состоянии полного распада, в разгар серии авиационных катастроф со вновь построенными авионами, во время которых погибла почти вся тогдашняя головка советского авиационного строительства и виднейшие партийные спецы по авиации: Абрам Гольцман, Зарзар и др. Каганович сумел поднять это управление, главным образом благодаря поддержке Политбюро ЦК ВКП, полученной им через брата Лазаря Моисеевича, и благодаря тому, что он захватил с собой виднейшие технические силы из Управления машиностроения, в котором он до того работал и где имелись виднейшие инженеры и техники…»[299].
Но процент такого качества сообщений, исходящих из агентурных источников в СССР, в общем объеме информированности польской разведки был все же относительно небольшим. Основная часть получаемых рефератом «Восток» материалов основывалась не на агентурных источниках, а на результатах визуального наблюдения, проводимого кадровыми сотрудниками разведки, аналитической обработкой открытых источников информации, данных радиоразведки и т. д.
Сам Незбжицкий так комментировал неудовлетворительные результаты работы разведки в СССР: «С вербовками источников по линии глубокой разведки сегодня сложилась безнадежно тяжелая ситуация. Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, что полная изоляция от советской территории привела нас сегодня к невозможности осуществления вербовок на ней, потому что там нет вербовочной базы. Я никогда не допускал того, что истощение и изоляция российской эмиграции на советской территории могут сыграть для нас такую большую роль. Одновременно с этим снизились возможности визуальной разведки. Все труднее становится передвижение по территории России (паспортизация, привязка населения к пунктам постоянного проживания). Постоянные депортации, колонизации и эмиграции истощили районы, которые являлись для нас информационным источником… Вопрос заключается в том, что мы в 1934 году переживаем последствия целого ряда ошибок наших предшественников, которые, располагая несравненно лучшими условиями работы, довели дело до полного истощения вербовочных источников»[300].
Оценивая результаты работы за 1934 год, начальник отдельного реферата «Россия» майор Адам Пжибыльский также был вынужден констатировать, что, с точки зрения полноты, в поступаемых из реферата «Восток» материалах имеются серьезные пробелы. Несмотря на принимаемые меры по активизации разведывательной работы в Советском Союзе, многие вопросы, включая вопросы организации, дислокации, боевой подготовки Красной армии, в получаемых рефератом «Россия» материалах отражения не нашли.
Преемник Пжибыльского на должности начальника реферата майор Станислав Щековский через год также был вынужден отметить: «Материал в отчетный период был почти целиком основан на непосредственном наблюдении, а документальные данные были редким явлением и имели относительную ценность. Основной их недостаток – случайный характер их появления».
Вместе с тем со второй половины 1935 года наметилась определенная положительная динамика в качестве получаемой информации. Щековский отметил, что был получен ряд очень ценных документальных материалов, исходящих из агентурных источников в СССР.
«Друзья», союзники, конкуренты
Польский Главный штаб в целом и 2-й его отдел в частности уделяли большое внимание налаживанию партнерских отношений со своими союзниками в противостоянии с основными потенциальными противниками – Германией и СССР. В этом процессе Незбжицкий играл не последнюю роль. Он активно участвовал в различного рода мероприятиях, проводимых в рамках двусторонних контактов. Основной формой такого сотрудничества были ежегодные плановые конференции, на которых происходил обмен разведывательной информацией и обсуждение текущих проблем, актуальных для деятельности взаимодействующих разведок.
Этот в целом благоприятный период сотрудничества был завершен к 1934 году, что было вызвано произошедшими изменениями в приоритетах внешней политики Польши. На рабочем совещании в реферате «Восток» Незбжицкий в своем выступлении так объяснял причину замораживания контактов с иностранными разведками. Он считал, что общей тенденцией в международной политике, включая внешнюю политику Польши, является стремление к самоизоляции в противодействии чужому влиянию. А разведка, как часть государственного механизма, вынуждена приспосабливаться к этим условиям. Она не может действовать самостоятельно, вне связи с проводимой МИД политикой «равновесия», что не предполагает чересчур тесных контактов с рядом европейских государств и их отдельных институтов. Таким образом, с указанного периода в деятельности польской разведки наметился и был реализован тезис, применимый и ко всей внешней политике санационной Польши, – «самостоятельность в действиях как противовес «клиентальной» зависимости от воли и влияния других великих европейских держав».
Наиболее тесная и плодотворная, в плане эффективности, связь поддерживалась 2-м отделом Главного штаба с военной разведкой Эстонии. Вплоть до 1936–1937 годов ее «акции» в проведении разведывательной деятельности против Советского Союза среди европейских партнеров «котировались» весьма высоко. Особенно польскими экспертами отмечалось выгодное соотношение кадровых и материальных затрат, с одной стороны, и достигнутый эффект – с другой.
Эстонский 2-й отдел, пользуясь многими преимуществами своего географического положения и этнического многообразия, сумел на сопредельной территории Советского Союза создать хорошо действующую агентурную сеть. Это ставило эстонскую разведку в равнозначное положение по отношению к ее партнерам, включая 2-й отдел польского Главного штаба. Рабочие контакты двух разведок до 1934 года распространялись настолько далеко, что они даже проводили совместные операции не только на своей территории, но и взаимодействовали в рамках операции «Radames» на Ближнем Востоке. Незбжицкий с большим сожалением был вынужден притормаживать взаимовыгодное сотрудничество. После 1934 года контакты поддерживались нерегулярно, от случая к случаю[301].
В отличие от эстонской разведки, для польского 2-го отдела взаимодействие с латвийскими партнерами не было насыщено конкретным содержанием. Это объяснялось примерно равными условиями проведения разведывательной работы по Советскому Союзу.
Тесные контакты по линии разведок с финским Главным штабом изначально не предусматривались, так как руководство польской разведки справедливо полагало, что в условиях тесных отношений финнов с немцами вреда от них будет больше, чем пользы. Дело ограничивалось вялотекущим обменом информацией через расположенную в Хельсинки плацувку «S.3».
Кроме того, недоверие поляков к искренности финнов было также обусловлено их чересчур тесными связями с англичанами, сложившимися еще в бытность руководителем финской разведки майора Малмберга, мать которого была англичанкой, а сам он имел не только служебные, но и личные связи со многими представителями МИ-6[302].
Последняя польско-финская конференция, прошедшая в мае-июне 1939 года, показала, что польская сторона добилась бóльших успехов в разведывательном изучении потенциала СССР и Красной армии. Последний начальник отдельного реферата «Россия» подполковник Ольгерд Гедроиц в своем отчете для генерала Вацлава Стахевича отметил: «Имеющиеся в распоряжении финской разведки сведения о Красной Армии, несмотря на их значительный объем, критическому анализу не подвергались. В знаниях об организации армии у финнов существуют серьезные пробелы… До сих пор на учете состоит ряд бывших территориальных частей, которые уже давно переформированы в соединения регулярной армии»[303].
Польскую и румынскую разведки все 1920-е и в начале 1930-х годов связывали относительно близкие союзнические отношения. Но возлагаемым на такое сотрудничество надеждам поляков не суждено было сбыться в полном объеме. Они считали, что, несмотря на оказываемые румынами знаки внимания и декларируемое стремление улучшить взаимные отношения, румынская сторона вела себя по отношению к своим польским союзникам неискренне. После 1934 года, следуя общей тенденции, организационно оформленные отношения с румынской разведкой были прерваны. Со стороны 2-го отдела Главного штаба основной причиной такого решения была названа крайне низкая информационная отдача от румынских партнеров. Там считали, что румынская разведка на советском направлении была мало активна, а ее деятельность в целом находится в области разведки «дефензивной».
Настораживающим для польской стороны обстоятельством был тот факт, что многие кадровые сотрудники румынских спецслужб были русскими и украинцами по происхождению. Достаточно сказать, что долгое время начальником румынской военной разведки был русский по происхождению, до своей «румынизации» носивший фамилию Морозов.
Большое влияние на искренность взаимоотношений между польской и румынской разведками в свое время наложил ряд скандальных эпизодов, повлиявших на характер самого сотрудничества. Так, в сентябре 1926 года поляками была получена, как выяснилось позже, недостоверная информация об участии директора румынской политической полиции Христеску и неизвестного сотрудника МИД Румынии в тайной поездке в Одессу, где якобы состоялась их рабочая встреча с представителями центрального аппарата ОГПУ.
Более серьезным инцидентом, вызвавшим значительное охлаждение польско-румынских контактов по линии разведок, явилась акция Сигуранцы в отношении руководителя плацувки «Шперач» (Szperacz) в Кишиневе Эугениуша Шадурского. Несмотря на благополучно разрешенный конфликт, напряженность в отношениях между партнерами сохранялась достаточно продолжительное время.
Началось все 10 ноября 1928 года, когда в ходе обыска квартиры Шадурского якобы были обнаружены документы, уличающие польского разведчика в контактах с советской разведкой. По мнению сотрудников Сигуранцы, проводивших расследование, Шадурский передал советским разведчикам сведения на ряд румынских агентов, действовавших на Украине, которые позже были разоблачены и казнены. Сам Шадурский отрицал свою причастность к выдвинутым в его адрес обвинениям, считая, что скандал инициирован бывшим сотрудником плацувки поручиком Марианом Пиотровским.
Как бы то ни было, инцидент явился следствием простой ошибки сотрудников Сигуранцы, которые изначально планировали проведение обыска на квартире бывшего полковника царской армии Шаркова, подозреваемого ими в работе на советскую разведку. Когда выяснилось, что произошло недоразумение и обвинения Шадурского в работе на СССР необоснованны, румыны были вынуждены признать свою ошибку.
Несмотря на благополучно разрешившийся скандал, в ходе проводимых поляками и румынами, независимо друг от друга, расследований выяснились некоторые подробности, не добавившие искренности в их отношения. Так, прибывший из Варшавы сотрудник 2-го отдела капитан Ежи Кжимовский установил факты, свидетельствующие о значительном превышении Шадурским своих полномочий в контактах с румынскими спецслужбами.
В свою очередь, румынские следственные органы обвинили поляков в незаконном получении ряда документов, которые указывали на превышение Шадурским своих полномочий. К этим документам относились чистые бланки разрешений, выдаваемых румынской контрразведкой на нелегальный переход советско-румынской границы, которые, по мнению румын, указывали на недобросовестное отношение польской стороны к выполнению взятых на себя обязательств. После выяснения всех обстоятельств дела Шадурский был отозван из Румынии и направлен в распоряжение начальника Экспозитуры № 5 во Львов[304].
Многочисленные реализованные дела по советскому шпионажу не способствовали налаживанию более тесного сотрудничества польской и румынской разведок. Так, в октябре 1931 года Сигуранца ликвидировала крупнейшую агентурную сеть советской разведки. Всего было арестовано около ста человек, в разной степени задействованных в операциях советской разведки. Румынами было установлено, что руководители агентурных групп были связаны с неустановленным резидентом, имевшим базу в Вене[305].
Также поляки твердо фиксировали, что подавляющее большинство проводимых румынской разведкой операций было инициировано французами, от которых она полностью зависела.
Проявленная с 1934 года общая тенденция к «замораживанию» партнерских отношений со многими иностранными спецслужбами не распространялась, или, точнее, распространялась не в полной мере, на сотрудничество с английской и японской разведслужбами. Тесное взаимодействие с первой было обусловлено и ее «имиджем» как самой эффективной и имеющей столетние традиции службой, и конкретными практическими интересами польской стороны.
Интерес поляков в сотрудничестве с МИ-6 был вызван необходимостью поддержания мобилизационной готовности разведки в тех регионах, где влияние Великобритании было традиционно сильным. Это касалось, прежде всего, Ближнего и Дальнего Востока, где были расположены плацувки, призванные в случае начала войны с СССР стать опорными пунктами для связи с действующей в стране противника агентурой. Еще в ноябре 1934 года Незбжицкий писал, что «есть одна из немногих возможностей для проведения разведки в случае начала войны. Она может проводиться только с позиций этих стран (Турции, Персии. – Авт.)»[306].
При этом руководство польской разведки предлагало своим региональным представителям, взаимодействующим с англичанами, строить работу таким образом, чтобы процесс кооперации был контролируемым с их стороны. В частности, в одном из инструктивных писем начальнику плацувки «Nabuchodonozor» Ежи Гробицкому Незбжицкий писал, что никакой совместной организационной работы с английской разведкой нет. Уровень взаимодействия ограничен рамками конкретных операций, не предусматривающих никаких взаимных обязательств. В работе по Советскому Союзу 2-й отдел исходит из положения, что там, где он имеет реальные возможности помочь англичанам, он помогает, требуя взамен аналогичной помощи на подконтрольных им территориях Ближнего Востока.
Такая позиция руководства польской разведки давала ей своеобразную свободу маневра в отношениях с МИ-6. После понесенных англичанами поражений в борьбе с органами безопасности СССР их оперативные позиции были ослаблены, и поляки не без основания полагали, что они могут сами соизмерять уровень кооперации со своими потребностями. Сам Незбжицкий считал, что в тогдашних условиях польская разведка для англичан была почти единственным источником сведений по Советскому Союзу.
Он, в частности, писал: «Нам без разницы, в каком направлении пойдет этот процесс (сотрудничества. – Авт.). Он пойдет либо по линии общих вопросов, либо по вопросам Коминтерна, либо по линии общественно-политической. Нам следует пойти на такое сотрудничество, чтобы слиться с их аппаратом настолько, что наш отрыв выглядел бы для них полной катастрофой».
Традиционно хорошие отношения поляков с японцами, начало которым было положено еще Пилсудским в годы русско-японской войны, в 1920–1930-е годы развивались относительно ровно. На ежегодных конференциях в Варшаве или Токио проходили встречи руководителей разведывательных подразделений, работавших по Советскому Союзу, где происходил обмен информацией и обсуждались другие текущие вопросы сотрудничества. Такие «теплые» отношения подверглись некоторому охлаждению с середины 1930-х годов, после того как японцы значительно активизировали свою работу в Восточной Европе. Незбжицкий считал, что активность японской разведки в работе по СССР с территории Польши несла угрозу для собственных операций 2-го отдела Главного штаба.
Очевидно, по этим же причинам был несколько заморожен процесс польско-японского сотрудничества разведок на Дальнем Востоке. В 1937–1938 годах наметившаяся общая тенденция к улучшению и без того хороших межгосударственных отношений проявилась в сфере специальной деятельности. После завершения переговоров с японцами резидент плацувки «Mandaryn» Чеслав Павлович докладывал из Харбина: «Японцы выразили согласие на создание независимой от них сети, а также на использование в работе украинцев… “Зеленый Клин” готов начать работу под моим руководством. Организация состоит только из “сырых” людей – предстоит начать работу с самого начала. Бюджет составляет 1000 гоби в месяц и 5000 ссуды. Требуется официальное разрешение японских властей и письмо генерала Сащлицкого, “благословляющего” на начало акции. Организация будет законспирирована перед здешней официальной украинской колонией»[307].
На территории марионеточного государства Маньчжоу-Го проживало около 11 тысяч украинских эмигрантов, многие из которых входили в разного рода политические и военно-политические объединения, находившиеся под патронажем целого ряда иностранных разведок. Так, организация «Зеленый Клин» была сформирована японской военной миссией в Харбине как составная часть плана создания буферного украинского государства на территории советского Приморья в случае начала советско-японской войны[308].
Павлович предлагал, с учетом отдаленности его плацувки, ее деятельность более тесно увязывать с исследовательским отделом 2-го отдела и радиоразведкой. Он, например, считал целесообразным создать в г. Харбине своеобразные филиалы указанных подразделений и на месте организовать аналитическую обработку всех получаемых разведматериалов. Незбжицкий, напротив, полагал, что основной задачей плацувки «Mandaryn» является агентурная работа по дальневосточному региону Советского Союза и создание резервной базы на случай войны, а аналитикой вполне может заниматься помощник военного атташе в Токио.
Кроме работы по СССР, Павловичу поручалось внимательно и осторожно наблюдать за самими японцами, имея целью выявлять симптомы нелояльности по отношению к Польше в целом и ее разведке в частности. Незбжицкий писал Павловичу: «Пока Вы не будете точно знать японскую разведку, нельзя говорить об организации собственной».
Но объективные трудности, вызванные условиями функционирования плацувки, привели к тому, что ее деятельность не принесла польской разведке желаемых результатов, и зимой 1938 года она была временно ликвидирована[309].
По источникам же английской разведки, относящимся к 1941 году, Павлович продолжал к этому времени успешно руководить несколькими плацувками и отдельными агентами в Шанхае (R.3), Токио (R.2), Харбине (R.1). Сотрудничество с польской разведкой украинской организации «Зеленый Клин» также было продолжено[310].
Очень болезненно для польской разведки шел процесс сотрудничества с разведслужбой Франции, что было обусловлено целым комплексом противоречий во взаимоотношениях Польши и Франции в целом. Политика Франции, несмотря на последовательность в поддержке Польши как одного из своих союзников в Восточной Европе, была подвержена некоторым изменениям конъюнктурного свойства. В свою очередь, проводимая Польшей политика «равновесия», одним из векторов которой являлось налаживание как минимум ровных отношений с Германией, не стремилась в ущерб им следовать в фарватере политики Франции. Это не могло не отразиться на характере польско-французского сотрудничества, одним из проявлений которого являлся относительно низкий уровень взаимодействия их специальных служб.
Много негатива в их характер добавляли конкретные факты агентурной работы друг против друга. Так, в ноябре 1921 года сотрудники французской военной миссии в Варшаве капитан Юнев-Сарнецкий и капитан Дарош, в целях разработки 2-го отдела Главного штаба Польши, предприняли попытку вербовки его кадрового сотрудника А. Порембского, о чем стало известно польским властям[311].
В свою очередь, активная работа польского военного атташе во Франции и будущего министра иностранных дел Польши Юзефа Бека, а также подозрения французских властей о его возможной работе в пользу Германии надолго испортили отношения не только между соответствующими спецслужбами двух стран, но и их внешнеполитическими ведомствами.
С парижской конференции 1925 года начался процесс налаживания организационных контактов между разведками Польши и Франции, что, впрочем, не свидетельствовало об отсутствии противоречий. Наоборот, поднятые польской стороной на конференции предложения о создании на территории Франции либо на оккупированной территории на Рейне разведывательных аппаратов 2-го отдела Главного штаба были с порога французами отвергнуты. Только с подписанием в 1926 году соответствующего договора, предусматривавшего конкретные обязательства разведок двух стран, включая ликвидацию военной миссии Франции в Варшаве, формирование в Белграде пункта обмена информацией и т. д., процесс их взаимодействия вплоть до 1932 года вошел в более или менее нормальное русло.
С указанного же времени уровень взаимодействия двух разведок был снижен до допустимо минимального, что было вызвано политикой Пилсудского по нормализации отношений с Германией. С 1933 по 1935 год контакты по линии разведок были ограничены лишь протокольными мероприятиями и относительно редкими конференциями руководителей их подразделений, работавших по советской проблематике.
Наступившее с 1935 года «потепление» в польско-французских отношениях в целом отразилось на оживлении контактов руководителей разведывательных служб двух стран. В мае и ноябре этого года в Париже и Варшаве побывали делегации, соответственно, представителей Генеральных штабов Польши и Франции, с чего начался новый этап взаимодействия их разведок, не отличавшийся, впрочем, особой «теплотой».
Примечательно, что, несмотря на активизацию политики нацистской Германии по отказу от условий Версальских соглашений, начальник 2-го отдела Главного штаба Польши полковник Тадеуш Пельчиньский, в ходе своего визита в 1937 году в Париж, считал, что для его страны главная угроза по-прежнему исходит от Советского Союза. В частности, он отмечал: «Российская опасность является наиболее грозной и устойчивой. Россия воспользуется первым представившимся случаем, чтобы вторгнуться в Польшу и остаться в ней; Красная Армия стала грозным инструментом, постоянно повышающим свою военную мощь. Красное командование беспрестанно концентрирует на нашей границе от 10 до 15 дивизий. Чего хочет Россия, так это исчезновения польского государства; красные, может быть, оставили бы название Польша и наш язык, но с духовной точки зрения мы были бы полностью поглощены»[312].
В целом сотрудничество 2-го отдела с иностранными разведками, работавшими на советском направлении, никаких особых дивидендов ему не принесло. Качество и количество информации по Советскому Союзу до определенного момента вполне удовлетворяли информационные запросы государственных институтов и руководства страны. Роль Незбжицкого как руководителя добывающего аппарата польской разведки была в этом процессе весьма значима.
Приближение заката
Неугомонный характер, широкие интеллектуальные запросы, темперамент и честолюбие Незбжицкого препятствовали его превращению в «узкого» профессионала, ограниченного исключительно интересами карьеры. Даже в рамках военной службы, с ее ограничениями, он никогда не забрасывал своих научных и литературных занятий. Это уже потом, после катастрофического провала польской разведки, когда она не смогла выявить признаки советско-германского сближения летом 1939 года, его многочисленные оппоненты и откровенные враги в самой разведке припомнили ему его литературные занятия как одну из причин ее фиаско на советском направлении деятельности. Он-де свои личные «научные» интересы поставил выше интересов службы, чем нанес ей невосполнимый ущерб.
Нужно сказать, что определенные основания для таких оценок деятельности Незбжицкого действительно имели место. Кроме руководства рефератом «Восток», к числу его служебных обязанностей было отнесено участие в работе так называемого «Комитета семи» – неформального образования при руководителе государства, призванного вырабатывать стратегию в отношении СССР и Германии и давать экспертные оценки по актуальным вопросам внешней политики в части выявления возможных угроз, исходящих от соседей Польши.
Кроме того, как представитель добывающего разведывательного аппарата 2-го отдела, Незбжицкий принимал участие в деятельности проводимой Экспозитурой № 2 операции «Прометей» по инспирации повстанческо-сепаратистского движения в национальных республиках СССР. Как руководитель советского направления разведки, Незбжицкий прекрасно понимал, что, в случае возникновения кризисных ситуаций, характер ее деятельности в самом Советском Союзе не даст исчерпывающих ответов на актуальные вопросы. Так, всю вторую половину 1933 года разведывательные аппараты реферата «Восток» бились над проблемой выяснения истинного состояния советско-германского военного сотрудничества. Произойдут ли принципиальные изменения в его характере после прихода нацистов к власти в Германии. Когда Незбжицкий «расписался» в своем бессилии, он был вынужден за содействием обратиться к своим коллегам из реферата «Запад», направив туда соответствующий запрос. Нужно отметить, что, в условиях «тихого» соперничества рефератов «Восток» и «Запад», сам факт такого обращения к конкурентам означал для Незбжицкого сильный удар по самолюбию.
Кстати, неравнозначное положение рефератов «Запад» и «Восток», с точки зрения оценки приоритетов польской разведки, отражалось в числе мест их расположения в штаб-квартире разведки. За первым было закреплено пять помещений, за вторым – четыре[313].
Примерно с начала 1937 года в деятельности реферата «Восток» началась череда кризисов, связанных, прежде всего, с невозможностью имеющимися силами и средствами получать из Советского Союза актуальную разведывательную информацию. Так называемая «наблюдательная» разведка, практиковавшаяся рефератом и подчиненными ему плацувками, к этому времени полностью исчерпала свой ресурс. Нужны были новые способы получения информации, прежде всего документальной, которые позволили бы удовлетворить постоянно возраставшие информационные потребности высших государственных инстанций.
Причинами, сказывавшимися на качестве работы, Незбжицкий называл и постоянно возраставшую эффективность советской контрразведки, и ужесточение режимно-профилактических мер советских властей, и быстро менявшуюся обстановку в области военного строительства. Простая фиксация происходящих в соседней стране процессов не позволяла польской разведке реализовывать свою основную – прогностическую – функцию.
С этого времени и сам Незбжицкий, и работа возглавляемых им аппаратов стали предметом острой критики, исходящей и из отдельного реферата «Россия», и от руководства разведки и Главного инспектората вооруженных сил.
В 1937 году Незбжицкий направил майору Адаму Пшибыльскому – начальнику отдельного реферата «Россия», доклад по вопросам состояния боевой подготовки частей РККА, составленный на основе информации одного из агентов. Он просил дать квалифицированную оценку содержащимся в докладе сведениям и вернуть его «со всеми поправками, рабочими отметками и дополнениями».
Объем подготовленного Пшибыльским анализа был сопоставим с самим докладом. В частности, он писал: «Я соглашусь с мнением начальника реферата “W” (“Восток”. – Авт.) насчет трудностей, с которыми сталкивается разведка на территории СССР. Считаю, что непосредственное наблюдение, ведущееся даже надежными источниками и представляющее большой объем необходимых военных сведений, никогда не сможет дать подробных знаний об организации, дислокации, мобилизационных и других возможностях Красной Армии. Для формирования целостной картины мы будем вынуждены обращаться к материалам, представленным “чистой” разведкой, причем материалы эти должны быть преимущественно документальными…
Представленный материал является, несомненно, полезным как совокупность достоверных и любопытных деталей, полученных путем долговременного и добросовестного наблюдения. Если оценивать деятельность самого наблюдателя, с точки зрения объема собранных им данных, то их ценность относительно невелика. Он делает выводы слишком поспешные и толком их не мотивирует… Порой создается впечатление, что наблюдатель представляет не только свои собственные выводы и сведения, но и данные, полученные из других, неизвестных нам источников. Так, например, наблюдатель предоставил подробную информацию о количестве вооружения и снаряжения саперной роты 2-й стрелковой дивизии. Характер этих сведений указывает на то, что только методами наблюдения их получить невозможно».
Несмотря на тесное взаимодействие в рамках изучения советской проблематики добывающего аппарата польской разведки (реферат «Восток») и информационно-аналитического (отдельный реферат «Россия»), без конфликтов и противоречий между ними не обходилось. Для правильной оценки и интерпретации получаемых от Незбжицкого разведывательных материалов офицерам-аналитикам требовались сведения, содержащие характеристики источников. Незбжицкий, стараясь не допустить их деконспирации, крайне неохотно представлял такую информацию, как правило, ограничиваясь общими положениями[314].
К 1938 году Незбжицкий, несмотря на вкладываемую в дело энергию и усилия, был неудовлетворен результативностью возглавляемого им аппарата. А тут еще потребовалось его участие в качестве эксперта в деле известного нам ротмистра Сосновского.
В письме к Каролю Дубич-Пентеру в Лиссабон он писал: «…С тех пор как живу, такого ужасного сезона не помню. С февраля 1938 года занят в судебных заседаниях, пока, по счастью, не в качестве подсудимого. Ты представляешь, наверное, что роль “эксперта” не является приятной. Афера (Сосновского. – Авт.) более чем сложная и крайне неприятная. Копаться в грязном белье десятилетней давности в целом неприятно, а в моем случае это уже просто пытка. Впрочем, изучение деятельности этого негодяя уже есть неприятность эстетического свойства».
Немного отвлечемся от личности самого Незбжицкого, чтобы обратиться к его роли «обвинителя» в деле Сосновского. Был ли он искренен в своих заблуждениях, доподлинно установить уже не удастся. Но высказать некоторые предположения относительно его мотивов можно.
Приглашая его принять участие в судебном процессе в качестве эксперта, руководство 2-го отдела, очевидно, руководствовалось желанием задействовать руководящего сотрудника разведки, «независимого» от проблематики реферата «Запад» и не связанного с его работниками лично. Это вполне понятно и оправданно. Но качественная и независимая экспертная оценка деятельности Сосновского была невозможна потому, что Незбжицкий, обладая большими познаниями и опытом работы по Советскому Союзу, был абсолютным дилетантом в германской проблематике. Он не знал специфических особенностей работы по Германии, которые резко отличались от практики работы 2-го отдела на восточном направлении.
Ярко выраженных личных мотивов неприязненного отношения Незбжицкого к Сосновскому, скорее всего, не было, потому что они просто никогда раньше не пересекались. Но вполне могла иметь место простая профессиональная зависть к результатам работы более удачливого конкурента. Нам известно, что рефераты «Восток» и «Запад» находились в состоянии «тихой» перманентной войны и были крайне подозрительны и ревнивы к взаимным успехам друг друга.
О том, что с профессиональной точки зрения расследование дела Сосновского было проведено как минимум не очень добросовестно, свидетельствует ряд фактов. Соответственно, оценка негативной роли Незбжицкого в деле также может быть более оправданной.
Мы не будем анализировать все факты «недобросовестности» следствия. Мы только попробуем остановиться на одном эпизоде, свидетельствующем о невиновности Сосновского и, соответственно, о вине следствия в целом и Незбжицкого в частности. Речь пойдет о трагической судьбе одного из агентов Сосновского – сотруднике Абвера Гюнтере Рудлофе. Предварительно оговорим, что нижеследующие замечания касаются общепринятой, а не спорной версии провала, предложенной австрийским исследователем Кохом.
Рудлоф был завербован Сосновским на основе материальной заинтересованности и около трех лет поставлял сведения о деятельности германской разведки в Польше. Нам ничего не известно о характере передаваемой Рудлофом информации, но его служебное положение одного из руководящих сотрудников Абверштелле «Берлин» позволяет предположить, что информация носила в основном контрразведывательный характер.
В ходе следствия и суда в Германии Сосновский своего агента не выдал, чем фактически сохранил Рудлофу жизнь вплоть до 1940 года, когда германская контрразведка на основе сведений архива 2-го отдела установила факт его сотрудничества с поляками в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
Возникает вопрос, почему следствие качественно не отработало оправдательную версию в отношении Сосновского применительно к «делу Рудлофа»? В связи с тем что реализация контрразведывательной информации является одним из самых эффективных способов проверки источника, только проанализировав ход реализации сведений Рудлофа о немецкой агентуре в Польше, можно было убедиться в его добросовестной работе на 2-й отдел. В таком случае инкриминировать Сосновскому выдачу своего агента или работу на Абвер «втемную» было бы нельзя. Более того, убедившись в качестве информации Рудлофа и в том, что он после суда над Сосновским «цел и невредим», обвинительная версия в целом подверглась бы более критическому изучению.
Обвинения Незбжицкого в работе на Абвер майора Жихоня, о котором будет сказано ниже, также дают серьезные основания подозревать его в элементарной человеческой зависти к более успешным коллегам-конкурентам.
В 1938 году, при поддержке своих высокопоставленных друзей, Незбжицкий предпринимает попытку ухода из разведки. В частности, им рассматривалось несколько вариантов возможного трудоустройства. Два из них предусматривали руководящую работу в «Газете Польской» или в «Польской Збройны» – проправительственных средствах массовой информации. Третий вариант был связан с его назначением на должность директора «Польского радио».
Когда попытки не увенчались успехом, Незбжицкий писал своему корреспонденту: «Все это, однако, разбилось о решительный отказ генерала Вацлава Стахевича, который наотрез мне не позволил сделать потрясающую карьеру. Впрочем, в ситуации с кадрами в нашем “Амте” совершенно невозможно бросить все хозяйство, – это походило бы на диверсию с моей стороны»[315].
Одним из возможных преемников Незбжицкого на должности начальника реферата «Восток» был майор Владислав Михневич, руководитель киевской плацувки «В.18». Работая в Советском Союзе с 1933 по 1936 год (с небольшим перерывом), он имел все данные к назначению. Незбжицкий хорошо знал и ценил работу Михневича в Киеве, который успешно руководил небольшой, но достаточно эффективной агентурной сетью.
Но череда постигших Михневича служебных и личных неприятностей поставила на его служебном повышении крест. Началось с того, что его подчиненный – внештатный сотрудник консульства, а по совместительству сотрудник киевской плацувки «Н.5» поручик Стефан Касперский, по документам прикрытия значившийся как Альберт Рон, – «спалился» на операции по связи с агентом.
Предыстория этого дела такова. В январе 1936 года, во время нахождения в отпуске в Праге, польской разведкой был завербован гражданин Германии – агент Особого отдела ГУГБ НКВД СССР.
О его работе в Москве польская разведка была осведомлена, не зная, впрочем, что он работает на советские органы безопасности.
Офицер 2-го отдела польского Главного штаба на инструктажной беседе предупредил вновь завербованного агента, что, после его возвращения в Москву, с ним свяжется «нелегальный представитель» польской разведки, инструкции которого следовало выполнять. 28 мая неизвестный действительно связался с агентом по телефону и оговорил условия встречи в вечернее время. Звонивший был идентифицирован советской контрразведкой и взят под наблюдение, а несколько позже задержан. Им-то и оказался Стефан Касперский.
Как было написано в Докладной записке заместителя наркома внутренних дел Г. Прокофьева Сталину: «При обыске у задержанного обнаружены спрятанные под жилетом следующие шпионские материалы:
– фотографии танков новых типов,
– записи, касающиеся артиллерии, в частности зенитной,
– сведения о боевой подготовке войсковых частей РККА.
Задержанный предъявил служебный паспорт польского МИД, выписанный на имя внештатного сотрудника консульства в Киеве Альберта Рона, который в присутствии представителя НКИД СССР признал, что указанные материалы он действительно получил днем раньше от неизвестного ему лица. Рон был арестован, и по его делу начато следствие»[316].
Руководство 2-го отдела проанализировало причины провала и пришло к выводу о недостаточной профессиональной подготовке участника операции по связи с агентом и отсутствии должного контроля за ее ходом со стороны Владислава Михневича. Касперский действительно до своего назначения в плацувку «Н.5» прошел всего лишь восьминедельные курсы разведывательно-информационной работы и двухмесячную стажировку в одном из подразделений 2-го отдела Главного штаба. Убедившись, что Касперский за время двухмесячного содержания под арестом в ОГПУ сведений о деятельности польской разведки в СССР не выдал, было принято решение о его обмене на арестованного сотрудника советской разведки.
В июле 1936 года польская контрразведка нанесла ответный удар. В ходе встречи с агентом, при получении очередной партии секретных материалов, был арестован секретарь советского военного атташе в Варшаве Соколин. Из сохранившихся материалов польской контрразведки следует, что агент, с которым последний поддерживал связь, на самом деле был «подставлен» советской разведке и в течение некоторого времени использовался для передачи в Москву хорошо подготовленной дезинформации[317].
Заместитель наркома иностранных дел Н. Крестинский внес на Политбюро ЦК предложение об обмене советского разведчика на Стефана Касперского (Альберта Рона), которое 19 июня 1936 года было положительно решено[318]. По представлению Незбжицкого, работа последнего в польской разведке была закончена по причине его профнепригодности.
Личные же неприятности Михневича были связаны с тем, что, как было отражено в актах судебного заседания, он, в состоянии нервной перевозбудимости, нанес побои первому мужу своей жены. Последний занимал более высокое служебное положение, что и определило строгость наказания – один год заключения под стражей в крепости. В связи с кадровым голодом на опытных офицеров разведки, срок наказания был снижен до трех месяцев, и Михневич прямо из камеры отправился с разведывательной миссией на Восток.
Тем временем нарастали кризисные явления всего внешнеполитического курса Польского государства в целом и в его военной разведке в частности. «Мюнхенские события» стали последним относительным «триумфом» восточного направления 2-го отдела. Как писал позже начальник разведки Стефан Майер: «Во время чехословацко-германского конфликта летом – осенью 1938 года глубокая разведка в России дала удовлетворительную картину действий и планов СССР».
Одну из главных ролей в освещении планов сторон сыграл Незбжицкий, который лично руководил действовавшими в Чехословакии плацувками, а после мартовских событий 1939 года курировал вопросы, связанные с формированием на польской территории чешского добровольческого легиона.
В этот период реферат «Восток» продолжал руководить работой нескольких источников в СССР, которые, судя по оплате их услуг, входили в категорию ценных. Так, в рамках операции «Реклама» затрачивалось до 2000 злотых ежемесячно, «Тигр» – 1300. Всего за 1938 год на проведение этих операций польская разведка израсходовала 39 000 злотых – очень большую по тем временам сумму. Разведывательные возможности других 16 агентов в СССР, если судить по «шпионским гонорарам», были весьма неоднородны. Минимальная ежемесячная выплата не превышала 50 злотых, максимальная – 1000. Например, ежемесячные выплаты агенту «Вольскому» достигали 1000 злотых, «Абрамовичу» и «Франку» – до 500. Всего за 1938 год агентурные расходы реферата «Восток» составили сумму в 100 860 злотых[319].
К сентябрю 1939 года подчиненный Незбжицкому аппарат состоял из 13 человек. Так, общей секцией, занимавшейся организационными вопросами деятельности реферата «Восток», руководил капитан Ян Уряш. В секции плацувок глубокой разведки в СССР работали майор Людвик Михаловский и капитан Болеслав Скшипек. «Западной» агентурой занимались ротмистр Януш Розвадовский и капитан Бронислав Эльяшевич. Агентурой Дальнего Востока – капитан Богдан Буткевич. Ближнего Востока – ротмистр Станислав Джевиньский. Картотекой реферата ведали гражданские служащие Залесский и Задрожна. В канцелярии и чертежной трудились Ядвига Лассауд, Мария Чайнацкая, Янина Кречмар и Банчковский[320].
В польской историографии до сих пор ведутся споры о роли довоенной разведки Польши в сентябрьской катастрофе 1939 года. Большинство известных нам исследователей полагают, что причины ее поражения были связаны с двумя основными взаимозависимыми группами факторов: ошибками в области оценки поступавших по линии разведки сведений (неверная их интерпретация) и отсутствием ключевой информации о возможности советско-германского сближения с последующим заключением пакта Молотова – Риббентропа[321].
С такими утверждениями трудно не согласиться. Но хотелось бы добавить, что польская разведка, находясь в полной зависимости от внешнеполитических установок сначала Пилсудского, а затем Бека и являясь одним из инструментов их реализации, просто стала заложницей проводимого ими курса в рамках «политики равновесия». Даже если бы ей удалось получить ключевую, в том числе упреждающую информацию о советско-германском сближении в августе 1939 года, временной лимит на изменение внешнеполитического курса, вырабатывавшегося в течение двух десятилетий, к указанному периоду был полностью исчерпан. При тех политических условиях и раскладах сил в Европе альтернативных вариантов выхода из августовского кризиса у Польши просто не было.
Вместе с тем нельзя отрицать определенные успехи 2-го отдела в разведывательном изучении военного потенциала Советского Союза. Несмотря на отсутствие серьезных источников в правительственных и высших военных кругах СССР, польской разведке удалось составить в целом правильную и целостную картину состояния РККА и ее потенциальных возможностей. В частности, полякам удалось установить изменения в трех западных военных округах, вызванные усилением группировок за счет передислокации и формирования новых соединений в составе семи стрелковых, восьми кавалерийских дивизий, трех авиационных бригад и одиннадцати танковых батальонов.
На основе добытых документов о штате, вооружении и техническом оснащении 36-й моторизованной дивизии РККА реферат «Восток» спрогнозировал процесс формирования аналогичных соединений летом 1939 года[322].
Развитие внешнеполитической ситуации летом 1939 года продемонстрировало «глобальную» неэффективность польской разведки в оценке угрозы советско-германского союза. За редкими исключениями, серьезной упреждающей информации о таком сближении получено не было.
Одним из таких исключений является сообщение известного уже нам агента польской разведки под псевдонимом «Кобальт-7». В этом сообщении речь шла о заседании Политбюро ЦК ВКП (б) в марте 1939 года, на котором рассматривался вопрос об изменении приоритетов во внешней политике СССР. Из сообщения «Кобальта-7» следовало, что мнения членов Политбюро разделились. Так, якобы нарком иностранных дел Литвинов выступал за продолжение линии на укрепление отношений с западноевропейскими великими державами, особенно с Францией. Нарком Ворошилов являлся сторонником сотрудничества с Великобританией, не предусматривающего, впрочем, заключения какого-либо союза. Только секретарь Исполкома Коминтерна Дмитрий Мануильский, озвучив претензии на бывшие территории Российской Империи, выступил за изменение внешнеполитического курса в сторону улучшения отношений с Германией, включая возможность заключения с ней союза.
Интересная подробность. Из этого сообщения агента было якобы известно, что «сидевший по правую руку от Сталина Андрей Жданов предлагал не поддаваться на провокации, не дать себя втянуть в войну».
Серьезная информация о завершении стадии зондажа о возможности заключения германо-советского союза была получена из парижской плацувки «Lecomte» 22 августа 1939 года. В этой шифровке сообщалось, что Молотов поставил в известность германского посла в Москве Шулленбурга о готовности принять Риббентропа 23 августа. Эта информация и другие сопутствующие сведения были получены как собственными польскими источниками, так и французской агентурой[323].
Начавшаяся 1 сентября 1939 года война круто изменила жизнь капитана Незбжицкого. В условиях катастрофических поражений польских вооруженных сил функции начальника реферата «Восток» стали чисто номинальными, и 5 сентября приказом Верховного вождя генерала Рыдз-Смиглы он был снят с занимаемой должности. Но всем было ясно, что отстранение Незбжицкого от практической деятельности по руководству разведкой было вызвано его неосуществившимися прогнозами и катастрофой на Востоке. Но, несмотря на прошлые ошибки, потенциал опытного и знающего офицера нужно было использовать в новых условиях. Тот же Верховный вождь направил Незбжицкого в Бухарест для организации новой разведывательной сети на оккупированной территории Польши. Но его планам не суждено было сбыться. По приезде в столицу Румынии Незбжицкий тяжело заболел и несколько месяцев провел в госпитале.
После выздоровления и официальной передачи дел своему преемнику он отправился в Париж, где окунулся в привычный мир политических интриг, вызванных борьбой за власть между «пилсудчиками» и их оппонентами из лагеря оппозиции. Как известно, победа досталась генералу Сикорскому, который планомерно приступил к «зачистке» политической сцены, нещадно избавляясь от противников, группировавшихся вокруг генерала Стефана Дамб-Бернацкого.
Во Франции Незбжицкий еще некоторое время находился «на плаву», но его участие в распространении среди польских офицеров похищенных у генерала Сикорского стенограмм его переговоров со Сталиным поставило на его дальнейшей карьере жирный крест. Интриги Незбжицкого в Париже и Лондоне привели к тому, что за попытку установить конспиративную связь с арестованным к тому времени генералом Дамб-Бернацким он был даже на короткое время арестован англичанами[324].
При таких драматических обстоятельствах осуществились планы Незбжицкого по уходу из разведки. Он был назначен редактором «Польской Збройны», а несколько позже – преподавателем в одной из специализированных школ, готовившей сотрудников разведки.
Звезда аса польской разведки на профессиональном поприще капитана Ежи Антония Незбжицкого закатилась навсегда. Новое польское руководство и слышать ничего не хотело о нем, не говоря уже о том, чтобы назначить на должность, соответствующую его опыту и знаниям.
Последний раз имя Незбжицкого громко прозвучало в середине 1943 года, когда он вместе с другим офицером разведки майором Тадеушем Новиньским выступил с обвинениями в работе на германскую разведку известного уже нам майора Жихоня. Начало этой интриги восходит еще к марту 1939 года, когда Незбжицкий первый раз доложил подполковнику Тадеушу Скиндеру о своих подозрениях в отношении Жихоня. Скиндер позже говорил, что он, считая обвинения Незбжицкого безосновательными и вызванными обыкновенной человеческой ревностью, не придал им ровно никакого значения.
В 1940 году, уже находясь в Париже, бывший шеф реферата «Восток» повторил свои обвинения перед полковниками Тадеушем Василевским, Станиславом Гано, Леоном Миткевичем. Делу был дан законный ход, и вскоре в Морском военном суде состоялись слушания по делу Жихоня. Представший перед судом майор отмел все нападки Незбжицкого и Новиньского, тем более что обвинения носили общий и бездоказательный характер.
Так, Жихоню инкриминировалось достаточно вольное поведение в Данциге, которое было якобы вызвано его желанием, подставившись немцам в качестве кандидата на вербовку, установить с ними контакт. Поразительная схожесть материалов, передаваемых Жихонем в Центр, с документами, полученными в свое время плацувкой Сосновскоего «In.3» в Берлине, по мнению Незбжицкого, также указывала на сотрудничество обвиняемого с Абвером. Напомним, что к тому времени «вина» последнего в суде была доказана.
Еще один тезис обвинения выглядел совершенно надуманным, но указывал на наличие личных мотивов обвинителей, обусловленных завистью и ревностью к успехам Жихоня. В частности, они считали, что высокий служебный уровень германской агентуры Жихоня, в отличие от других его коллег по 2-му отделу, которые не могли «похвастаться» подобными успехами, мог свидетельствовать о вольном или невольном его участии в аферах германской контрразведки.
По результатам судебных слушаний он был полностью оправдан и выдвинул последним встречный иск о «защите чести и достоинства». Суд приговорил Незбжицкого и Новиньского к нескольким неделям ареста, признав, однако, что оба офицера имели право предъявить свои претензии и подозрения.
Несмотря на то что Жихонь по суду был полностью оправдан, он навсегда порвал с любимым занятием, перейдя на строевую офицерскую должность.
Справедливости ради нужно сказать, что не только Незбжицкий и Новиньский страдали «манией преследования». Аналогичные обвинения в адрес уже нашего героя о его якобы работе на советскую разведку высказал упоминавшийся выше Владислав Михневич, который, впрочем, кроме предполагаемой связи бывшей жены Незбжицкого с представителями ОГПУ, никаких убедительных доводов не представил[325]. Все подобные обвинения были обусловлены любимой забавой польской эмиграции по поиску виновных в трагической судьбе своей родины.
Участие Незбжицкого в делах по обвинению двух заслуженных офицеров польской разведки Сосновского и Жихоня в работе на иностранные разведки дает серьезные основания присоединиться к мнению Скиндера о том, что он в своих действиях руководствовался не интересами службы, а обычными человеческими страстями и недостатками, такими как зависть и ревность. В совокупности это дает основания некоторым польским исследователям считать, что Незбжицкий своими интригами способствовал поражению своей разведки.
Но гораздо ценнее свидетельства коллег по разведке, лично его знавших по совместной работе. Так, после войны майор Л. Садовский дал такую характеристику Незбжицкому: «Этот офицер, несомненно умный, способный и знавший как разведывательные принципы в целом, так и Советы в особенности, пользовался исключительным положением во 2-м отделе. Он располагал доверием как руководителя 2-го отдела полковника Пельчиньского, который опирался на его мнение, минуя компетентный реферат анализа, так и руководителя главного штаба, сильно поддерживался кругами Главного инспектората вооруженных сил (GISZ). Его политические и публицистические интересы выходили за служебные рамки, не говоря уже о разных дополнительных важных функциях, которые поручались ему не только в рамках 2-го отдела, но и за его пределами. Складывается такое впечатление, что он в рамках своего ведомства занимался собственной кадровой политикой. Независимо от этого Незбжицкий был связан с определенными политическими группами по линии санации или за их пределами… Можно смело утверждать, что в отделе глубокой разведки в течение нескольких предвоенных лет не было никакой попытки улучшения положения дел»[326].
После столь скандальных действий Незбжицкого, когда от него отвернулись многие бывшие товарищи, он больше никакого практического участия в разведывательной деятельности не принимал. После окончания войны Незбжицкий, как высококлассный аналитик и знаток Советского Союза, работал «консультантом» по советским делам при МИД Франции. Перебравшись в 1958 году в США, работал консультантом при библиотеке Конгресса и научным сотрудником Института Гувера при Стенфордском университете. Сотрудничал с ЦРУ. Продолжал писать.
Битвы «троянских коней»: ИНО и «двуйка»
Данцигский провал Разведупра
После завершения советско-польской войны и подписания Рижского договора начался этап мирного сосуществования двух соседних государств, сопровождавшегося, впрочем, жесткой конфронтацией. Одним из проявлений такой конфронтации стала борьба разведок и контрразведок, по понесенным потерям не имеющая аналогов во всей межвоенной истории противоборства спецслужб.
Сведения о первых советских разведывательных структурах мирного времени, проводивших разведку в Польше, относятся еще к 1920 году. В условиях организационного и кадрового строительства органов внешней и военной разведок формированию их заграничных аппаратов уделялось самое пристальное внимание. По линии ВЧК, Регистрационного управления и их органов на местах после завершения советско-польской войны начались мероприятия по адаптации существовавших и вновь создаваемых загранаппаратов к условиям мирного времени. Примеры создания первых зарубежных структур в Польше связаны с деятельностью нелегальных резидентур Разведупра в Данциге и Львове, деятельность которых была вскрыта польской контрразведкой в 1922–1923 годах.
Начало разработке было положено 22 декабря 1921 года, когда во время таможенного досмотра ручной клади некоей Марии Савицкой в сумке с двойным дном были обнаружены совершенно секретные документы штаба Варшавского военного округа, самым ценным из которых являлось «Боевое расписание» всех частей и соединений округа, подписанное командующим 1 ноября того же года. Сопоставив обстоятельства задержания курьера, такие как маршрут следования (Варшава – Данциг), отметки в паспорте о пересечении границы и т. д., сотрудники польской политической полиции, осуществившие арест, пришли к важным выводам о существовании крупного агента в штабе округа пока еще неизвестной иностранной разведки и его связи с Данцигом. Мария Савицкая, помещенная в тюрьму, от показаний о своей разведывательной деятельности отказывалась[327].
Еще больше для поляков ситуация накалилась, когда при аналогичных обстоятельствах на станции в Тшеве было задержано еще два курьера с документами, исходящими из того же варшавского источника.
Тем временем из Берлина в Староград прибыл некий Кароль Мюллер, который начал изучать обстановку вокруг арестованной Савицкой и осуществлять выходы на людей, от которых зависели условия ее содержания под стражей. Польская дефензива, взявшая Мюллера под наблюдение сразу же после его приезда в город, через свою агентуру смогла установить его подлинное имя – Курт Браунер.
Тогда же в его разработку был введен подкомиссар политической полиции Старограда, который, выдавая себя за служащего тюрьмы, где содержалась Савицкая, начал торговаться, «набивая цену» за помощь в ее освобождении. По мере торга ставки возросли с 10 000 до 40 000 немецких марок.
Получив ответы на свои запросы из Центра, сотрудники политической полиции Старограда смогли установить государственную принадлежность разведки, на которую работали Браунер и Савицкая – РСФСР. Из полученных ответов следовало, что немец проходит по картотекам полиции нескольких стран как известный активист Коминтерна «Фриц». Было принято решение о его аресте и допросе с пристрастием. Нужно сказать, что, как исполнительный полицейский орган МВД, дифензива, в отличие от военных контрразведывательных структур, никогда не останавливалась перед применением пыток к задержанным. Арестованный через некоторое время Браунер начал давать показания. Первым был задержан некий студент Мирослав Подольский, который для освобождения Савицкой установил контакты с секретарями суда и прокуратуры в Старограде, соответственно, Беккером и Позорским.
По информации Браунера дефензиве удалось 19 января 1922 года в Тшеве задержать еще одного курьера советской разведки. На этот раз попалась София Хурхал, супруга известного фальшивомонетчика Яна Хурхала, отбывавшего наказание в тюрьме за свои противоправные деяния. Допросы участников дела и изучение маршрутов передвижения Софии Хурхал показали, что она осуществляла связь между львовской и данцигской резидентурами советской разведки. По приказу начальника политической полиции Поморья Лисовского во Львов для проведения расследования был направлен комиссар полиции[328].
Уже 22 января сотрудниками львовского отдела политической полиции (IV/D) были проведены аресты Иеронима Петровского, Алексея Ганжи, Гжегожа Рыбака и Катажины Ревы. Проверка отпечатков пальцев Петровского показала, что в мае 1921 года он уже привлекался львовской полицией к ответственности по обвинению в шпионаже, которую тогда удалось избежать после выплаты выкупа в 200 тысяч польских марок. В разработках львовской полиции он значился как Шнейдер и Францишек Худя[329].
После состоявшихся арестов разработка советских разведывательных резидентур продвинулась далеко вперед. Часть арестованных начала давать показания, из которых следовало, что центр советской резидентуры связи находится в Данциге. Кроме того, было установлено, что Подольским на советскую разведку был завербован майор Войска Польского Котульский, работавший преподавателем в варшавской военной школе. Им были переданы некоторые секретные документы, учебные пособия и другие методические разработки, использовавшиеся в обучении курсантов.
Через некоторое время дефензиве удалось выйти на след резидента советской разведки в Данциге и его помощника. Выяснилось, что руководителем разведывательного аппарата в городе был муж Марии Савицкой Антоний Савицкий. Под этой фамилией в регионе действовал один из первых кадровых разведчиков Красной армии уже известный нам Василь Дидушок (Василий Дидушек). Но к июню 1922 года он уже покинул Данциг, чтобы поселиться в Берлине по адресу Шенберг Хауптштрассе, 31.
Его ближайшим помощником и заместителем по резидентуре был студент данцигского политехнического института Ярослав Бабий. Вместо выехавших в Берлин Дидушка и Бабия в Данциге был оставлен другой советский разведчик – Андрей Давыдов (Чхеидзе). Под «крышей» фирмы «DARU» (Danzig – Russische Handelskompanie), что расположилась по адресу Ландфюр Эшенвег, 13, и начала действовать новая резидентура связи под руководством Давыдова.
Тем временем 22 мая 1922 года во Львове была задержана еще одна участница разведывательных операций в Польше Ольга Каращук. На этот раз у нее были обнаружены секретные документы Штаба командования округа (ДОК-VII) и переписка Петлюры с Евгением Петрушевичем. Разработка ее связей и привела позже к аресту еще нескольких агентов[330].
Той же весной 1922 года польская дефензива установила, как она считала, канал информационного обмена между резидентурой Разведупра и литовской военной разведкой. Участниками «совместной» операции, как полагали поляки, выступили резидент советской военной разведки в Берлине Степанов и литовский агент по фамилии Брудер. Последний привлек внимание польской полиции своими частыми поездками в Данциг и Сопот, где проводил многочисленные встречи с поляками, прибывавшими в зону Вольного города. Контакт он поддерживал также и с Василем Дидушком. Насколько выводы польской разведки об установленном канале соответствовали действительности, основываясь только на факте контактов литовского агента с советской резидентурой, судить сложно, но другие свидетельства подтверждают такую возможность[331].
После ареста мужа Ольги Каращук Миколая в разных городах Польши было задержано еще несколько человек, с которыми он, по поручению Дидушка, поддерживал конспиративную связь. Сам Миколай Каращук, в прошлом урядник царской полиции, некоторое время проходил службу в политическом сыске независимой Польши во Львове и лично завербовал несколько агентов: Гашковского, Вольского, Малицкого, Кессер-Крауса, Мензиса.
Во времена становления советской разведки вербовочная работа была упрощена до предела. Вновь завербованным агентам, кроме информационных, ставились и вербовочные задачи. Обычно среди их знакомых и сослуживцев подбирались кандидаты, имевшие доступ к информации, интересующей советскую разведку. Часто вербовки проводили сами агенты. Учетная работа в Центре по лицам, попавшим в поле его зрения, еще только налаживалась, что вело к многочисленным провалам, подчас являвшимся следствием внедрения агентуры противника в сеть советской разведки.
В тот период достаточно распространенной была практика использования так называемых «вольных» агентов, то есть агентов, не обремененных формальными обязательствами перед разведкой. Имея доступ к документальной информации секретного характера, они просто предлагали советским разведчикам приобрести ее за деньги, после чего прерывали связь до следующего акта купли-продажи. Такие «вольные» агенты на тех же условиях сотрудничали с разведками других государств. Тот же самый Каращук, по данным дефензивы, поддерживал конспиративную связь с германской разведкой через разведывательное бюро доктора Зигфрида Вагнера, который в Данциге был известен как президент общественной организации «Данцигер-Хайматдинст».
Со слов Каращука, переданных неизвестными агентами дефензивы и перевербованными советскими агентами, проблем с вербовками у него не возникало. Качество вербовок и, соответственно, количество получаемого разведывательного материала напрямую зависело от сумм, которые разведка готова была предложить на его покупку.
К агентуре, работавшей на Каращука, относились бывшие и действующие сотрудники различных польских военных формирований и военизированных структур. Например, Гашковский и Вольский в прошлом были офицерами Войска Польского, Малицкий был действующим агентом экспозитуры 2-го отдела Главного штаба в Познани и т. д.
Для советской разведки имела особую ценность деятельность еще одного агента Каращука – Кессер-Крауса. Последний, состоя на какой-то ответственной должности в штабе армии Булак-Булаховича, представлял информацию о возможных вооруженных вылазках формирований генерала[332].
Хаим Мензис, являясь соучредителем торгового дома «Нептун», имел доступ к информации, исходящей из французской военной миссии в Варшаве. Совокупность всех собранных дефензивой данных привела к установлению главного резидента советской разведки Степанова, на которого и были замкнуты выявленные резидентуры и агентурные группы в Польше[333].
Под фамилией Степанов в Берлине действовал главный резидент советской военной разведки А. К. Сташевский (Гиршфельд). Созданный в 1921 году при миссии РСФСР берлинский центр Разведупра руководил деятельностью многих резидентур и агентурных групп, действовавших в самой Германии, а также в Австрии, Италии, Чехословакии[334].
Из Берлина также осуществлялось руководство резидентурой в Данциге, возглавляемой сначала Дидушком, а позже Давыдовым. Кроме самостоятельной вербовочной и информационной работы, она служила пунктом связи с нелегальной резидентурой в г. Львове.
Насколько арест поляками такого большого числа советских агентов повлиял на работу советской разведки в Польше, говорить сложно, но несомненно, что такой провал надолго парализовал ее деятельность в стране.
Другой пример формирования нелегальных резидентур Разведупра РККА связан с именем некоего Стравчиньского, прибывшего через «зеленку» в Польшу и инициативно предложившего польской контрразведке свои услуги. В январе 1922 года в варшавской гостинице «Бристоль» состоялись его опросы сотрудниками 2-го отдела, в ходе которых поляками были получены важные сведения о формах и методах деятельности советской военной разведки, включая планы по созданию ее новых структур на территории Польши.
В частности, Стравчиньский показал, что его индивидуальной подготовкой от Разведывательного отдела штаба Киевского военного округа занимался кадровый сотрудник по фамилии Северных. Планом создания резидентуры предусматривались следующие организационные и агентурно-оперативные мероприятия.
После благополучного перехода границы Стравчиньский должен был обосноваться на территории Люблинского военного округа. Для легализации своего пребывания на территории Польши он должен был выправить себе оригинальные документы на основании фальшивого свидетельства о рождении.
После завершения легализационных мероприятий Стравчиньскому было предписано приступить к вербовочной работе, предусматривающей привлечение к сотрудничеству одного помощника, трех-четырех агентов и по одному курьеру и содержателю конспиративной квартиры. Причем рекомендовалось вести вербовочную разработку лиц, не являвшихся представителями титульной нации, а привлекать к сотрудничеству граждан, относящихся к национальным меньшинствам – немцев, венгров, литовцев и т. д. Эти люди должны были хорошо знать польский язык, местную действительность, располагать легальными личными документами, а самое главное – соответствующими разведывательными возможностями, позволяющими получать актуальную для разведки информацию. После завершения организационного этапа Стравчиньский должен был послать на условный адрес полный отчет о своей деятельности в качестве резидента[335].
Бюджет будущей резидентуры не должен был превышать 3 000 000 польских марок и состоял из следующих расходных статей:
– жалованье резидента и особые расходы – 200 000 марок;
– выплаты агентуре из расчета пяти человек – 750 000 марок;
– организационные расходы (покупка материалов, оплата командировок и т. д.) – 200 000 марок;
– непредусмотренные (экстренные) расходы – 50 000 марок.
После завершения опросов Стравчиньского руководством польской контрразведки было принято решение об его участии в дезинформационной операции и мероприятиях по вскрытию других, неизвестных полякам агентурных звеньев советской разведки.
Что происходило дальше, история в деталях умалчивает. Известно лишь, что после завершения легализации Стравчиньский в качестве агента 2-го отдела Главного штаба был переброшен обратно в Советскую Россию. Очевидно, прервав свой контакт с польской разведкой, он начал работать в одном из территориальных аппаратов Разведупра. Из сохранившихся польских документов следует, что поляками предусматривался вариант компрометации Стравчиньского перед его руководством путем доведения сведений о его прошлой работе на польскую разведку. Чем закончилось дело Стравчиньского и был ли он изначально «засланным казачком» советской разведки в разведку польскую, за отсутствием соответствующих документов установить не удастся[336].
Варшавские эпизоды агентурной борьбы
О характере работы первых «легальных» советских разведчиков в Польше в начале 1920-х годов красноречиво свидетельствуют воспоминания бывшего первого секретаря украинского полпредства в Варшаве Г. Беседовского. По его словам, деятельность резидента украинского ИНО ВЧК-ГПУ Петра Дехтяренко представляла собой непрерывную цепь всяческих курьезов. Переведенный в Варшаву с должности заместителя председателя Киевской губчека, он сохранил за собой повадки и ментальность сотрудника «внутренних» органов безопасности. Вопреки всем правилам конспирации, он на дверях помещения резидентуры приказал повесить табличку: «Варшавское губернское отделение Чрезвычайной комиссии». Только благодаря вмешательству полпреда Шумского такой вопиющий факт «расконспирации» заграничного аппарата разведки развития не получил.
В качестве компромисса удалось договориться, чтобы злополучная вывеска перекочевала на внутреннюю часть двери помещения резидентуры[337].
Встречи со своей агентурой Дехтяренко проводил в варшавских ресторанах и кафе в присутствии своей жены, якобы бывшей графини. О «результативности» его разведывательной деятельности свидетельствуют два характерных эпизода. Первый заключался в том, что, несмотря на свою бурную деятельность по насаждению агентуры в лагерях военнопленных, Дехтяренко «проморгал» рейд армии Тютюника осенью 1921 года на территорию Советской Украины.
Много язвительных замечаний он заработал также от Шумского, когда представил «секретный военный договор» между Польшей и Люксембургом, предусматривавший совместные боевые действия против… Советской России. Причем за участие Люксембурга в войне на стороне Польши последняя в качестве компенсации «обязалась» передать Познань.
Нам сейчас трудно оценить правдоподобность таких воспоминаний, но, очевидно, какие-то основания так судить о деятельности некоторых первых разведчиков у Беседовского были.
Косвенное подтверждение сведений о неблагополучном положении в варшавской резидентуре и личности резидента ИНО ГПУ УССР Петре Дехтяренко содержится в так называемых «бумагах Павловского (Сумарокова)» – бывшего сотрудника советской разведки, ставшего на путь измены. В частности, он описывает историю с попыткой реализации дорогого платинового браслета с бриллиантами в 37 карат. Этот браслет изначально предполагалось переслать в Берлин местному резиденту Владимировскому на покрытие его расходов по руководству агентурой.
В присутствии начальника оперативной части ГПУ Зонова браслет под расписку был передан Павловским дипкурьеру, направлявшемуся из Харькова в Берлин. Через три месяца выяснилось, что резидент в Берлине Владимировский, не получив браслета, был вынужден свернуть работу своей резидентуры из-за отсутствия денег. Для выяснения обстоятельств утраты сам Павловский был вынужден ехать на «разбор полетов» в Варшаву.
Там-то и выяснилось, что браслет был самовольно отобран у дипкурьера Петром Дехтяренко и передан якобы в счет возмещения долгов резидентуры на продажу заместителю полпреда Хургину, направлявшемуся в Берлин. Браслет так и не был обнаружен. В своем рапорте о случившемся Павловский, надо думать, описал роль Дехтяренко с соответствующими комментариями, что и явилось причиной его увольнения из разведки[338].
Большую проблему для сотрудников варшавской резидентуры ИНО доставляли так называемые инициативники. Являясь в советские диппредставительства, они предлагали свои услуги в добывании разведывательной информации. Сложность для разведчиков заключалась в том, чтобы в массе таких заявителей выделить действительных доброжелателей, располагавших реальными разведывательными возможностями, и, отсеяв разного рода авантюристов и откровенных провокаторов, начать с ними повседневную работу. Польская контрразведка регулярно направляла своих агентов в надежде, что им удастся «втереться в доверие» к сотрудникам резидентуры и со временем стать агентами-двойниками. При этом подчас она не жалела усилий для придания передаваемым в советскую разведку сфабрикованным материалам вид реальных документов. И нужно признать, что ей в значительной степени удалось решить проблемы внедрения своей агентуры в сеть варшавской резидентуры и обеспечить московский Центр большим объемом дезинформационных сведений[339].
Послевоенная обстановка и привычка к агрессивным действиям заставляли тогдашних сотрудников разведки предпринимать нестандартные и в целом жесткие действия в отношении своих противников, включая подставляемых на вербовку польских агентов.
Так, осенью 1921 года в советское посольство явился бывший белогвардейский полковник Леснобродский, предложивший за высокую плату снабжать советскую разведку важными документами польского Главного штаба. Когда 10 октября 1921 года он доставил в представительство очередную порцию секретных материалов, включая дело по организации польской разведки в Германии, и предложил купить документы за 500 тысяч марок, сотрудниками резидентуры было принято решение о его физическом обыске.
При обыске было обнаружено удостоверение за № 3825, подписанное сотрудником 2-го отдела майором Кешковским. В ходе опроса было установлено, что Леснобродский, в качестве агента польской контрразведки, должен был заинтересовать сотрудников ИНО своими информационными возможностями и стать агентом-двойником. По его словам выходило, что целая группа польских контрразведчиков в течение долгого времени занималась фабрикацией указанных материалов с сохранением всех оригинальных реквизитов (подписи, резолюции руководителей, входящие – исходящие штампы и т. д.).
После завершения опроса Леснобродский вместе со своими документами был передан польским властям. Уже через два дня в польское министерство иностранных дел советским полпредством была направлена нота с перечислением всех подобных фактов провокационной деятельности[340].
В марте 1926 года польская контрразведка, в рамках оперативной игры «Бобер», направила в советское полпредство в Варшаве капитана Бобровского и капрала Венцковского со сфабрикованными секретными документами. Задание участникам операции предусматривало установление прочных конспиративных отношений с советскими разведчиками. Такую задачу можно было решить путем предоставления важной военной информации, которая позволила бы советской разведке убедиться в лояльности заявителей и их хороших оперативных возможностях. Но предлагаемая к покупке «Инструкция по обучению войск в зимний учебный период 1925–1926 года» у представителей советской разведки интереса не вызвала.
Полякам было предложено достать документацию по местам расквартирования и техническому оснащению отдельных танковых батальонов, а также другую информацию, относящуюся к планам развития бронетанковых сил Войска Польского.
К очередной встрече с советскими разведчиками, состоявшейся 7 марта 1926 года, польская контрразведка подготовила запрошенные документы и смогла получить за них 30 американских долларов.
Прибывший из Москвы эксперт, после изучения следующей партии предложенных к покупке документов, их полностью забраковал, а Бобровскому заявил, что «свинства не беру», имея в виду незначительность представленных сведений.
На встрече 23 марта советский разведчик предложил достать документы по мобилизационной готовности польской промышленности на военный период, обещая заплатить за них 10 000 долларов. Как ни старались польские специалисты придать сфабрикованным документам приемлемое содержание, им это не удалось. Очередная встреча Бобровского с представителем полпредства, состоявшаяся 27 марта 1926 года, продемонстрировала полякам хорошую информированность советской разведки о состоянии и потенциальных возможностях польской военной промышленности и заставила их озаботиться причиной таковой. Советский разведчик обвинил Бобровского в нечестности, заявив, что прерывает отношения[341].
На следующий, 1927 год приходится сразу две попытки польской контрразведки внедрить своих агентов в сеть резидентуры в Варшаве. Так, агент отдельного информационного реферата Командования 1-го корпуса (SRI DOK № 1) «Менковский» сумел войти в доверие к сотруднику советского полпредства по фамилии Афанасьев. Сохранившиеся польские документы свидетельствуют, что вначале ход операции для поляков складывался благоприятно. Вопросы, задаваемые Афанасьевым польскому агенту, свидетельствовали о заинтересованности советской разведки в получении информации по широкому кругу вопросов. В частности, ее интересовали мобилизационные документы некоторых польских полков, дислоцированных на восточной границе Польши, на участке Сарны – Тарнополь, планы учений и военных игр, структурное построение Корпуса пограничной охраны и т. д.
Отдельные вопросы были вызваны желанием Афанасьева установить судьбу двух советских летчиков, совершивших на своем самолете посадку в Польше. Характер вопросов свидетельствовал о том, что советским властям не было известно, была ли посадка вынужденной, или имело место дезертирство летчиков.
17 февраля 1927 года командующий войсками 1-го округа генерал Врублевский обратился к начальнику 2-го отдела Главного штаба с предложением подготовить и передать Афанасьеву часть запрашиваемых им документов. Чем закончилась операция с участием агента «Менковского», не известно[342].
Также не известно, чем была завершена операция польской контрразведки с внедрением своего агента «Чарноцкого» в сеть резидентуры Разведупра в Варшаве. Указанная операция также осуществлялась по инициативе отдельного информационного реферата Командования 1-го военного округа. Агент «Чарноцкий» был направлен в советское полпредство с четырьмя секретными приказами и «Инструкцией по организации полевого артиллерийского полка в военное время». Документы были переданы сотруднице полпредства, которая через пять минут вернулась к польскому офицеру, как он писал в своем отчете, в сопровождении мужчины «с выраженными семитскими чертами лица». Поляку было передано 10 долларов и заявлено, что представленные им документы интереса не представляют, а Инструкция в распоряжении полпредства уже имеется. Деньги же заплачены заявителю в знак признательности за инициативу и как свидетельство желания продолжить контакт.
Неназвавшийся мужчина предложил польскому офицеру собрать информацию по следующему кругу вопросов:
– организация кавалерийских частей в мирное и военное время, места их дислокации;
– расположение инженерно-саперных и других технических войск;
– места производства и базы хранения отравляющих веществ;
– сведения о деятельности польской разведки на советском и германском направлениях и т. д.[343].
Следующая известная попытка внедрения в агентурную сеть советской разведки относится к 1929 году. Бывший офицер Войска Польского поручик Тадеуш Гурецкий, ранее уволенный из армии за присвоение доверенных ему денег, в 1927 году случайно вошел в контакт с неким Зигмунтом Лелециньским, предложившим продать русским или немцам имеющиеся у него секретные документы. Гурецкий вначале обратился в германское консульство в Кракове с предложением о продаже, но представители германской разведки от ведения дальнейших переговоров в Польше уклонились и предложили ему выехать в Германию.
Опасаясь возможных неприятностей, Гурецкий рассказал польским контрразведчикам о своем участии в попытках продать документы. Когда последним стал известен характер материалов Лелециньского, они решили использовать его «втемную» и через Гурецкого предложить сотрудничество уже советской разведке.
В декабре 1929 года, после получения дополнительного инструктажа, Гурецкий выехал в Варшаву и, явившись в советское консульство на Познаньской улице, попросил связать его с «каким-нибудь военным представителем при консульстве».
Рассказывая свою историю советскому дипломату, Гурецкий не стал скрывать неблагоприятные факты биографии, но, выполняя рекомендации польских контрразведчиков, использовал их для решения задачи по внедрению в советскую разведку. Так, сообщая о своем заключении в военной тюрьме, Гурецкий указал, что в это время он сблизился с некоторыми функционерами коммунистического подполья, общение с которыми заставило его пересмотреть взгляды на «новое общественное устройство». Таким образом, в мотивацию секретного сотрудничества с коммунистами был добавлен идеологический мотив. Предлагая сотрудничество и рассказывая о своих разведывательных возможностях, Гурецкий всячески подчеркивал, что он не хочет, чтобы советские представители рассматривали его как «платного агента», а относились к нему как идеологическому единомышленнику.
На вопрос, как он мыслит себе работу в пользу Советской России, Гурецкий ответил, что, как бывший польский офицер, он имеет друзей, продолжающих служить в Войске Польском, и что он готов, либо «втемную», либо вербуя их, получать интересующую советскую разведку информацию. Особо советского разведчика якобы заинтересовала персона друга детства Гурецкого, служившего в общей канцелярии отдельного информационного реферата (контрразведка) Окружного корпусного командования № V в Кракове.
Возвратившись в Краков, Гурецкий рассказал своим кураторам в польской контрразведке обстоятельства переговоров и представил тематику и вопросы, интересующие советскую разведку: изменения в организации и штатной расстановке командования частей и соединений Войска Польского, новая организационная структура ВВС и т. д.
К очередной встрече с советским разведчиком, состоявшейся 7 января 1930 года, Гурецкий был снабжен некоторыми оригинальными документами польской контрразведки, исходящими от его «друга», включая секретную переписку начальника отдельного информационного реферата ДОК-V и командира 5-го полка тяжелой артиллерии. Кроме оригинальных, Гурецкий передал сфабрикованные польской контрразведкой документы по вопросам боевого применения 2-го отдельного саперного батальона и 5-го полка польских ВВС, дислоцированных в Кракове. Далее состоялось несколько подобных встреч Гурецкого с советским разведчиком.
Ход операции, с учетом ее значимости для польской контрразведки, был взят на особый контроль тогдашним начальником контрразведывательного отделения 2-го отдела Главного штаба майором Стефаном Майером, имевшим значительный опыт проведения подобных операций в бытность его начальником Экспозитуры № 1 в Вильно. Но уже в марте 1930 года так успешно начатая игра была прервана по инициативе советской стороны: сотрудник консульства, контактировавший с Гурецким, в экстренном порядке выехал в Советский Союз.
Обстоятельства прекращения операции оценивались в среде сотрудников польской контрразведки, принимавших непосредственное участие в ее проведении, крайне неоднозначно. Одни считали, что причиной неудачи было низкое качество передаваемой дезинформации, другие – что в какой-то момент советская разведка получила твердое указание о проводимой поляками операции. Но все они сходились во мнении о высокой оценке профессионализма советских разведчиков[344].
На основе анализа совокупности всех данных, относящихся к ходу операций по внедрению агентов «Бобровского», «Менковского», «Чарноцкого» в сеть советской разведки, таких как поведение советских разведчиков, характер задаваемых ими вопросов и отрабатываемых заданий, польские контрразведчики пришли к выводу, что большинство их инициатив противником вскрыта. Многие же задания давались не с целью получения объективной информации, а были вызваны желанием скрыть истинные объекты заинтересованности советской разведки[345].
В 1923 году на совмещенную должность резидента Разведывательного управления и ИНО в Варшаве был назначен Мечислав Логановский. В годы Гражданской войны он проявил себя как преданный делу партии коммунист и за заслуги на поле боя был награжден орденами Красного Знамени. Беседовский характеризовал его как человека «твердой воли, железной выдержки и зверской жестокости». Объединенная резидентура Разведупра и ИНО действовала под прикрытием советского полпредства в Варшаве и имела в своей практической деятельности большие полномочия, обусловленные высокой степенью доверия Логановскому со стороны руководителей внешней и военной разведок и самим характером деятельности в стране будущего вероятного противника.
Заместителем Логановского по военной разведке был сотрудник Разведупра Стефан Узданский (псевдоним Еленский)[346], а по линии иностранного отдела ВЧК-ОГПУ – Казимир Баранский (псевдоним Кобецкий)[347]. Беседовский обоих характеризует как высоких профессионалов в своих сферах специальной деятельности.
В совокупности у нас нет данных, чтобы судить о результативности разведывательной работы варшавской резидентуры внешней разведки, но некоторые опубликованные документы дают основания считать, что, несмотря на противодействие польской контрразведки, советская разведка в тот период добилась серьезных успехов в освещении значимых для советской стороны военных и военно-политических процессов в соседней стране. В частности, к этому периоду относится работа ценного источника в аппарате польской разведки, проходящего по учетам ИНО ОГПУ под криптонимом «68»[348].
В его агентурных сообщениях содержались сведения не только о «внутренней кухне» 2-го отдела Главного штаба, но и информация политического характера, получаемая по каналам польской разведки из других стран.
В апрельской сводке 1923 года читаем:
«…9) 2-й отдел люблинского корпуса доносит во 2-й отдел Генштаба, что рядовой в 13-й пехотной дивизии, некий Ковальчук, является советским разведчиком и поддерживает связь с неким Клейманом Янкелем, который пребывает в Варшаве. По этому же делу замешан сержант или поручик 35-го батальона пограничной стражи, который способствует агентам Ковальчука и Клеймана при переходе границы.
10) Тот же самый отдел люблинского корпуса сообщает, что в прифронтовой полосе в районе Ровно имеется телефонная связь с каким-то приграничным пунктом советской стороны. По этому поводу упомянутым отделом ведется усиленное наблюдение.
11) 2-й отдел Брестского корпуса сообщает во 2-й отдел Генштаба, что им завербован некий еврей, проникший в организацию “Полотная”, во главе которой стоит Плотников-Вель-Гинзбург.
В письме не сказано, какого рода эта организация.
12) Поручик Вернер Тадеуш из реферата Центральной Агентуры уезжает на некоторое время в Москву (предположительно на 3 месяца), для работы в какой-то пляцувке…
17) Польский агент Андрей Волянский, работавший раньше в Львовской экспозитуре, командирован сейчас в Данциг для установления связи в русскими монархистами, к которым он явится якобы с поручением от русских монархистов из Харькова…
25) Работника ГПУ, завербованного львовской экспозитурой 2-го отдела, о чем уже писали… звать Макаренко Дмитрий. Последний числится на службе 2-го отдела с 1 мая с. г. и работает, по нашему предположению, на одном из пограничных пунктов КРО правобережной Украины».
Как видно из приведенного примера, информация «68-го» отличалась точностью и актуальностью. Каждый пункт агентурного сообщения по оперативным вопросам давал возможность советским спецслужбам предпринимать неотложные действия как по нейтрализации польской агентуры (Макаренко, Волянский), так и по спасению своих собственных агентов от «застенков дефензивы» (Ковальчук, Клейман). Сведения по численному составу, организации и планах использования Войска Польского также высоко ценились в соответствующих отделах НКО РСФСР.
Можно предположить, что человеком, скрытым под криптонимом «68», был кадровый сотрудник 2-го отдела Главного штаба С. С. Бор-Боровский. О нем известно относительно немного. После демобилизации из рядов Войска Польского он был принят на службу в органы разведки, где последовательно занимал должности заместителя начальника приграничной плацувки и нелегального резидента. После его вербовки в 1922 году сотрудниками ОГПУ он в своей работе замыкался на представителей КРО, действовавших под прикрытием советской репатриационной комиссии в Варшаве. После того как поляки заподозрили его в работе на советскую разведку, Бор-Боровский был арестован, но, очевидно, за отсутствием улик был отпущен.
После своего бегства в СССР он еще какое-то время работал на органы безопасности, но, не пользуясь с их стороны доверием, был исключен из состава негласной сети[349].
В первые годы становления органов зарубежной разведки, когда разведчики только осваивали новую для себя сферу деятельности, имелись многочисленные недостатки и случаи различного рода недоразумений, заметно снижавших эффективность работы.
Заместитель Логановского по линии военной разведки Еленский рассказал Беседовскому об одном из своих агентов Курляндском, который одновременно использовался и представителем киевского аппарата ИНО Дехтяренко. Такая практика свидетельствовала о ненормальных взаимоотношениях между Центром, его региональными представительствами и зарубежными аппаратами.
Относительно низкой была деятельность по обеспечению собственной безопасности резидентуры. Одна из самых результативных агентурных групп, замыкавшихся на варшавский аппарат Разведупра-ИНО, действовала под руководством двух польских офицеров-коммунистов поручика Багинского и подпоручика Вечоркевича. Например, один из сотрудников Логановского Калнаруткис, обеспечивавший связь этой группы с резидентурой, ездил на встречи с агентами на автомобиле диппредставительства с советским флажком, «гарантировав» себе таким нестандартным образом «дипломатическую неприкосновенность». Калнаруткису, очевидно, было невдомек, что такими своими действиями он ставит под удар польской контрразведки замыкавшихся на него агентов.
О серьезных нарушениях в деятельности варшавской резидентуры по обеспечению безопасности группы Багинского – Вечоркевича свидетельствует тот факт, что информация о них относительно свободно циркулировала в стенах диппредставительства. Сам Беседовский, не являясь кадровым разведчиком, был осведомлен о характере их работы, включая особо секретную ее часть, связанную с организацией и осуществлением диверсионных и террористических актов в отношении представителей польских властей.
В мае 1923 года поручики Багинский и Вечоркевич были арестованы польской контрразведкой. Значимую роль в освещении их разведывательной и диверсионной работы сыграл неизвестный агент польской политической полиции, внедренный в организацию, возглавлявшуюся польскими коммунистами. Состоявшийся вскоре суд счел доказательную базу обвинения в целом несостоятельной, так как она базировалась на показаниях одного агента. Несмотря на то что в них достаточно подробно излагались обстоятельства работы польских офицеров в пользу советской разведки, судом они не были восприняты в качестве процессуально доказанных эпизодов их противоправной деятельности. По доказанным же эпизодам поручики Багинский и Вечоркевич тем не менее были приговорены к казни, но решением тогдашнего президента страны Станислава Войцеховского были помилованы в надежде организовать обмен на арестованных в Советской России польских агентов – священнослужителей римско-католической церкви Уссаса и Цепляка.
Ценные источники советской разведки
Сотрудники советской разведки никогда не испытывали комплексов по поводу представительного внешнего вида и высоких должностей своих кандидатов на вербовку. В их агентурную сеть входили и высшие чиновники гражданских ведомств Польши, и высшие офицеры ее вооруженных сил.
Одним из ценных источников советской разведки с 1928 по 1936 год был подполковник Войска Польского Людвик Лепяж[350]. Заслуженный и многократно награжденный за храбрость на поле боя офицер был выходцем из «кузницы кадров» Второй Речи Посполитой – первой бригады польских легионов. После окончания Высшей военной школы он 1 октября 1924 года был назначен начальником одного из отделов организационного департамента Военного министерства Польши, где занимался вопросами материально-технического обеспечения Войска Польского. Прошлые заслуги Лепяжа и друзья-покровители из высшего командования создали основу для его карьерного роста в рядах польской армии[351].
После службы в Военном министерстве он последовательно назначался на различные штабные и командные должности, пока в 1934 году не стал начальником штаба VI корпуса Войска Польского, дислоцированного в г. Львове.
Вербовочная разработка Лепяжа была начата в середине 1920-х годов, когда внимание вербовщика советской военной разведки Северина Крушиньского было обращено на одного из завсегдатаев многочисленных увеселительных заведений Варшавы. Проведенные через агентуру проверки показали, что Лепяж занимает ответственную должность в организационном департаменте Военного министерства и, по причине пристрастия к алкоголю и низких доходов, уязвим в вербовочном отношении. Крушиньский, выступая в роли коммерсанта и бывшего «товарища по оружию», сумел завязать с Лепяжем «дружбу», благо последний вел чересчур свободный образ жизни даже для офицера польской армии, славящейся своеобразным «шляхетским духом».
Сам Крушиньский имел значительный опыт вербовочной работы, сотрудничая с советской военной разведкой с 1924 года. В то время он замыкался на неназванного помощника советского военного атташе в Варшаве, в 1926 году передавшего его на связь в пражскую резидентуру Разведупра. Проживая в Варшаве, Крушиньский поддерживал связь с Прагой через связника и с использованием почтовой переписки.
Во время одного из застолий, сопровождавшихся немереным потреблением горячительных напитков, Крушиньский между прочим поделился своими «коммерческими» планами относительно снабжения отдельных польских гарнизонов углем по льготным расценкам. Для изучения рыночной конъюнктуры и осуществления своих планов ему якобы требуется сущая безделица: точные данные о местах дислокации (куда посылать коммерческие предложения), сведения о численности личного состава (изучение потребностей в угле), характеристики командиров (можно ли с ними договариваться «полюбовно»).
Лепяж, находившийся под впечатлением от широкого образа жизни преуспевающего коммерсанта, который к тому же оплачивал совместные застолья, сам предложил Крушиньскому снабдить того необходимыми сведениями. На очередной встрече Лепяж дал Крушиньскому ни много ни мало, а «Боевой порядок», в котором в полном объеме содержались данные на все части и соединения Войска Польского. За пользование документом была заплачена круглая сумма. Начало плодотворному сотрудничеству с советской разведкой, таким образом, было положено.
Но до завершения вербовки было еще далеко. На прямое вербовочное предложение Лепяж ответил отказом. Крушиньскому пришлось давить на вербуемого, угрожая обнародовать факт предоставления Лепяжем совершенно секретного документа.
В конце концов вербовка была успешно завершена на основе сочетания мотивов материальной заинтересованности и угрозы разоблачения. Польский офицер, судя по значительным выплатам (до 3000 американских долларов ежемесячно), вплоть до своего перевода во Львов, стал одним из самых ценных источников информации по польским вооруженным силам. Уже после его ареста польские контрразведчики установили, что советская разведка в тот период стала обладателем значительного объема совершенно секретной информации, содержащейся в документах, переданных Лепяжем. К их числу относились материалы по модернизации Войска Польского, сведения о покупке за рубежом вооружения и амуниции, ходе военно-политического сотрудничества с вооруженными силами Франции и Великобритании и т. д. Для Разведупра практически не было тайн в области оценки военного потенциала и строительства Войска Польского.
Для советской разведки перевод Лепяжа во Львов в 1934 году не выглядел предпочтительным, что было связано с резким снижением его информационных возможностей. Видно, материалы о деятельности штаба VI военного округа не особенно ценились в Разведупре, иначе ежемесячные выплаты Лепяжу не составили бы относительно небольшие суммы, от 50 до 300 американских долларов[352].
В 1936 году во время встречи с неизвестным курьером пражской резидентуры ИНО ГУГБ Северин Крушиньский был арестован польской контрразведкой. Чтобы избежать высшей меры наказания, он «сдал» Лепяжа. Обстоятельства своего сотрудничества с Разведупром польский офицер от следствия утаил, совершив в камере в 1937 году самоубийство. Польские власти не стали афишировать свою неудачу и, соответственно, успех советской разведки и дали возможность семье тихо похоронить Лепяжа на одном из варшавских кладбищ.
Летом 1931 года крупным шпионским скандалом были омрачены и без того сложные польско-советские отношения. Начало успешной разработки советских дипломатов и их польского агента было положено 20 мая 1931 года в 19.50, когда бригада наружного наблюдения, следившая за автомобилем советского диппредставительства, установила факт конспиративной встречи вице-консула советского полпредства Гребенчикова с неизвестным поляком. Собеседники, отъехав от места встречи, начали оживленную беседу. По ее завершении Гребенчиков попрощался с неизвестным, который пешком, в сопровождении «наружки», проследовал в центральные кварталы Варшавы, где и ускользнул от слежки. Обстоятельства встречи заставили польских контрразведчиков признать, что на этот раз они вышли на действительно «крупную рыбу». Примечательно, что сотрудники «наружки», осуществлявшие наблюдение, пользовались одним автомобилем и несколькими велосипедами.
К дальнейшей разработке Гребенчикова и поиску его неизвестного агента были привлечены значительные силы наружного наблюдения, пока 1 июня удача вновь не улыбнулась полякам. В автомобиль полпредства, имевшего номерной знак W23824D, сел польский офицер в форме (!) в звании майора. После завершения очередной встречи «наружке» удалось скрытно «довести» неизвестного до дома № 44 на Францисканской улице. Первичные проверочные мероприятия ввергли польских контрразведчиков в «шоковое» состояние: советским агентом оказался майор Войска Польского Петр Демковский, до своего ареста исполнявший обязанности начальника реферата IV отдела Главного штаба Войска Польского[353].
11 июля в 18.00 польский офицер в штатской одежде проследовал в Центральную военную библиотеку, где находился около двух часов. В руках у него была толстая папка. Выйдя из библиотеки, сел в трамвай, на котором проследовал на улицу Польную, где его уже поджидал известный польским контрразведчикам автомобиль полпредства.
Решение о захвате разведчика и агента с поличным принял ответственный за операцию поручик Юлиан Дзевульский, когда ему доложили об очередной тайной встрече советского военного дипломата с польским офицером. Он лично участвовал в операции, находясь в некотором отдалении от места захвата. Перегородив дорогу автомобилю полпредства, поляки открыли его заднюю дверь, где обнаружили майора Демковского и советского военного атташе в Варшаве комбрига Богового. В изъятой папке находился многостраничный документ Главного штаба Войска Польского с грифом «совершенно секретно».
После проверки документов Богового, обеспечивших ему дипломатическую неприкосновенность, его отпустили восвояси. Демковского же доставили в здание расположенного на улице Брацкой, 18, отделения IIб (контрразведывательного), где его начальник майор Шалиньский и начальник 2-го отдела Главного штаба подполковник Тадеуш Пельчиньский провели первый допрос. Было 20 часов 15 минут (!).
В ходе допросов выяснилось, что в конце апреля Демковский обратился в советское полпредство с просьбой о выдаче разрешения на переселение в Польшу его отца, проживавшего в СССР. В советском диппредставительстве он встретил своего знакомого по участию в военных маневрах 1928 года комбрига Богового. Последний пообещал Демковскому оказать содействие в решении его вопроса. В знак благодарности майор спросил, чем он может быть полезен Боговому. Далее последовала беседа в направлении выяснения возможностей Демковского поставлять советским властям требующуюся им информацию военного характера. Такой поворот стал возможен после того, как Демковский сообщил собеседнику, что он с юности испытывает симпатию к коммунистическому движению и только в силу жизненных обстоятельств не стал его активистом. По его словам, в Советском Союзе, кроме отца, у него проживают родные брат и сестра, являющиеся членами партии большевиков.
На просьбу Богового достать мобилизационные документы польского Главного штаба Демковский ответил отказом, пояснив, что по роду своей служебной деятельности он доступа к таким материалам не имеет. Взамен он предложил представить документацию 4-го (расквартирования войск) отдела и часть документов оперативного отдела Главного штаба, которые он может изредка получать для служебных надобностей.
По результатам дальнейшего расследования и судебного разбирательства выяснилось, что Демковский за полгода сотрудничества передал Гребенчикову и Боговому большой объем секретной документации, включая такие важные материалы, как:
– «План боевой подготовки польской армии на 1931 год»;
– «Штатное расписание Главного штаба»;
– «Отчет 2-го отдела о деятельности польской контрразведки за 1929 год»;
– «План обороны страны «С» с многочисленными приложениями, и много другой служебной документации IV отдела Главного штаба.
Польская контрразведка установила, что большинство переданных советским военным представителям документов имело гриф «совершенно секретно» и относилось к строго охраняемой государственной тайне.
18 июля 1931 года в 19.25 бывший майор Войска Польского Петр Демковский по приговору военного трибунала был расстрелян. Боговой, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью, через Данциг отбыл на родину[354].
«Дело Демковского» служит примером немыслимой беспечности и исключительного непрофессионализма Богового и Гребенчикова, которые в светлое время суток (!), на служебной машине полпредства (!!), известной всем полицейским Варшавы, проводят встречи с ценным источником информации, предпринимая лишь жалкие, неуклюжие попытки обнаружить за собой наружное наблюдение (один автомобиль и велосипеды «наружки»). Интересная подробность: водитель автомобиля Иван Соколов, ни до непосредственного захвата, ни пока Демковского «с правой стороны» заднего сиденья автомобиля в течение минуты выволакивали польские контрразведчики, не удосужился предпринять никаких действий, чтобы спасти агента.
В истории советской разведки имеется немало примеров, когда профессионально грамотные и самоотверженные действия оперативных водителей позволяли разведчикам и агентам выпутываться из самых неприятных ситуаций. Другой немыслимый пример непрофессионализма советских военных дипломатов связан с проведением встречи в автомобиле полпредства с ценным источником, одетым в военную форму[355].
Во второй половине того же 1931 года польской контрразведкой была вскрыта деятельность еще одного агента советской разведки. Подробности разработки нам не известны, известно лишь, что основанием для ее заведения послужили сведения о неблагополучном положении дел в польском посольстве в Бухаресте. Незбжицкий был направлен в румынскую столицу с щекотливой миссией подтвердить или опровергнуть ранее полученную информацию о фактах несанкционированных контактов польских дипломатов в Румынии с лицами, подозреваемыми в работе на иностранные разведки.
Сложность его задания была также связана с тем, что тогдашний польский посол Ян Шембек имел в центральном аппарате польского МИД авторитетных покровителей, и, соответственно, Незбжицкому для выполнения его задания предстояло пройти между «Сциллой и Харибдой» ведомственных интересов и противоречий между МИД и разведкой.
В отчете от 10 июня 1931 года в Центр он писал: «Обстановка в здешнем посольстве просто ужасная. Атмосфера пронизана эротизмом, причем доминирует гомосексуализм. В результате проведенной проверки подтверждены сведения о контактах Лубы с Марией Шварц, несомненно, являющейся агентом ГПУ»[356].
Ярослав Луба в то время исполнял обязанности польского вице-консула в Бухаресте. Его жена София Луба, вместе с рядом других сотрудников польского консульства, также была заподозрена Незбжицким в контактах с советской разведкой. Выяснилось, что проверяемые действительно поддерживали какие-то подозрительные отношения с представителями некоего акционерного общества «Романа Африкано», «под крышей» которого якобы действовала резидентура ОГПУ.
В связи с тем что добыть убедительные для ареста факты шпионской деятельности указанных лиц не удалось, «афера» была ликвидирована путем ареста Сигуранцей ряда местных граждан и увольнением с дипломатической службы некоторых поляков, включая Лубу[357].
Непосредственно перед началом Второй мировой войны у польской контрразведки появились какие-то основания подозревать в шпионаже командира дислоцированного в г. Дубне пехотного полка полковника Яна Скоробогать-Якубовского. Когда последний после 17 сентября отдал приказ подчиненным войскам не оказывать сопротивления наступавшим частям РККА, подозрения в его адрес еще больше укрепились.
Советская внешняя разведка в 1920–1930-е годы создала себе прочные позиции в польских спецслужбах. Кроме упоминаемых выше «68-го» и группы Вечоркевича, в ее агентурную сеть входило как минимум три агента. Одним из наиболее результативных источников в аппарате польской военной разведки был ротмистр Владислав Бораковский, исполнявший обязанности начальника секретариата отдельного реферата «Россия» 2-го отдела Главного штаба. Его вербовочная разработка и последующее привлечение к сотрудничеству проходили по известному нам по «делу Лепяжа» сценарию. Причем эта операция демонстрирует высокий профессионализм участников, согласованность их действий при четком разделении функций и задач, стоявших перед исполнителями[358].
Агент-вербовщик советской разведки, бывший польский офицер Фалевич, действовавший в Польше под фамилией Банковского, имея вербовочное задание в отношении офицеров Главного штаба и Главного инспектората вооруженных сил (GISZ), обратил внимание на одного из посетителей ночного ресторана. Только после выяснения служебного, финансового и семейного положения кандидата на вербовку Банковский в 1932 году осуществил личное знакомство с ротмистром Бораковским, как звали завсегдатая ночных заведений польской столицы[359].
О себе последний рассказал, что в составе Пулавского легиона он принимал участие в Первой мировой войне, а в составе 1-го уланского полка – в советско-польской. Дважды был ранен. За боевые заслуги был трижды награжден «Крестом Храбрых». Не имея желания продолжать военную службу, из вооруженных сил уволился, но через некоторое время пожалел о своем скоропалительном решении. По протекции однополчан был вновь зачислен в Войско Польское, на этот раз в Главный штаб.
Схожесть жизненного пути и общность интересов привели к тесной «дружбе» Банковского и Бораковского. За время их общения личные качества кандидата на вербовку были хорошо изучены, и было принято решение о вводе в разработку нового участника – агентессы советской разведки Тоси Маевской. В одном из ресторанов Банковский познакомил Бораковского с Маевской, которой в оперативном замысле советских разведчиков была отведена важная роль «контролера» за психологическим состоянием вербуемого, особенно на заключительной стадии операции (после вербовочного предложения). Став его любовницей, она должна была дополнить его характеристику и с использованием «женских хитростей» помочь Банковскому в побуждении Бораковского принять вербовочное предложение советских разведчиков.
Образовавшаяся компания однажды выехала на побережье Балтийского моря в г. Сопот «проветриться». «Программа» увеселительной поездки включала в себя посещение казино, ресторанов, кафе-шантанов и т. д.
Ротмистр Бораковский, будучи азартным игроком, довольно быстро проиграл в казино свою наличность и был вынужден за кредитом обратиться к Банковскому. Последний, воспользовавшись поводом, предложил ротмистру выехать в Данциг к знакомому финансисту, у которого предполагалось одолжить деньги.
Дальнейшее было делом техники. Первый «транш» в тысячу злотых был быстро «оприходован» в казино и в ночных ресторанах.
В конце концов, невозможность своевременно вернуть долги привела польского разведчика в «объятия» ИНО ОГПУ. Конечную точку в привлечении Бораковского к сотрудничеству с советской внешней разведкой поставил ее сотрудник по фамилии Ладовский, известный некоторым своим агентам под псевдонимом «Леопольд»[360].
Из материалов следственного дела Артузова следует, что под фамилией Ладовского скрывался один из самых результативных и одновременно исключительно противоречивых сотрудников советской внешней разведки Винценты Илинич.
В ходе вербовочной беседы Ладовский, выступая от имени подпольного «Общества по борьбе с большевизмом», предложил Бораковскому сообщить сведения и подготовить письменную информацию о деятельности советской разведки в Польше, что последний, в желании покрыть свои денежные долги, и сделал к очередной встрече.
Реферат «Россия», как основное аналитическое подразделение 2-го отдела Главного штаба по вопросам изучения советской проблематики, имел для советской разведки особое значение. В этом реферате концентрировалась вся информация, получаемая по многочисленным агентурным каналам. Большую работу проводили сотрудники этого подразделения по аналитическому изучению и обобщению открытых источников информации (книги, газеты, журналы). На регулярной основе в реферате изучалось от 150 до 300 наименований советской периодической печати – от центральных газет и журналов до районных малотиражек.
Исполняя свои служебные обязанности, Бораковский имел практически неограниченный доступ к материалам разведывательного характера, получаемым из Советского Союза. Вся входящая – исходящая корреспонденция реферата «Россия» с рефератом «Восток» как основным добывающим аппаратом польской разведки, а также с пограничными Экспозитурами № 1 (г. Вильно) и № 5 (г. Львов) становилась его достоянием.
Особую значимость для советской разведки имела переписка военного атташе Польши в СССР Яна Ковалевского. Он, в отличие от своих предшественников, был исключительно результативным и энергичным сотрудником польской разведки в Москве, чем доставлял советским контрразведчикам множество хлопот. Весной 1933 года Ковалевский советскими властями был объявлен «персоной нон грата» с предписанием покинуть СССР.
К последней перед арестом встрече с советским резидентом Бораковский приготовил материал объемом в несколько тысяч страниц секретных документов.
Деятельность Бораковского как советского агента привела к ликвидации нескольких крупных резидентур польской разведки в СССР и множества агентурных групп. Увеличение за относительно короткий промежуток времени количества провалов заставило польскую разведку искать их причину в деятельности «советского крота» в своем аппарате. К такому выводу поляки пришли, анализируя конкретные обстоятельства провалов и тот факт, что арестованные резиденты и агенты в своей деятельности замыкались на разные разведывательные органы и, соответственно, не были осведомлены о характере проводимой «соседями» работы.
Польская контрразведка в конце концов смогла выйти на след Бораковского, продемонстрировав очередной раз свой профессионализм, и сумела довести дело до суда военного трибунала. Ротмистр за измену был казнен.
Источники свидетельствуют, что польские судебные органы никакого снисхождения к разоблаченным советским агентам из числа военнослужащих Войска Польского не испытывали, вынося, как правило, смертные приговоры. Так, были расстреляны: майор Урбанович, капитан Рудницкий, капитан Микута, капитан Окулич, поручик Хумницкий[361].
Вербовщик Бораковского, упоминавшийся выше Винценты Илинич, был одним из самых результативных советских разведчиков, работавших в 1920–1930-е годы по Польше. Об этом говорят не только имена лично им привлеченных к сотрудничеству с ИНО ОГПУ польских агентов, но и тот факт, что о результатах его работы был осведомлен сам Сталин.
После завершения службы в царской армии он в 1919 году в звании капитана вступил в Войско Польское. В начале 1920-х годов Илинич активно занимался политической деятельностью, руководя небольшой по численности Аграрной партией, совмещая ее с занятием коммерцией.
По некоторым источникам, он был завербован в качестве агента в 1924 году сотрудником Разведупра Семеном Фириным-Пупко как лицо, имевшее в польских военных кругах много знакомых. По другим – Марией Скоковской. После провала варшавской нелегальной резидентуры Разведупра Илинич был осужден, но по каналу обмена заключенными в Польше и СССР был передан советским властям. После кратковременного пребывания в Союзе он уже в качестве резидента ИНО был направлен в Данциг.
«Звездным часом» Илинича стала вербовка польского посла в одной из европейских стран. Информация, получаемая по этому каналу, некоторое время высоко оценивалась на Лубянке, пока не выяснилось, что никакого «посла» как агента советской разведки не существовало, а реальная разведывательная информация исходила от скромного чиновника польского МИД Стефана Рыттеля, являвшегося родственником Илинича[362].
Кроме Бораковского, с советской разведкой успешно сотрудничали офицеры польских спецслужб Альфред Ярошевич и Влодзимеж Лехович. Последний был завербован на советскую разведку предположительно в 1933 году его приятелем – сотрудником 2-го отдела Главного штаба А. Ярошевичем. В тот период он проходил службу в отдельном информационном реферате (SRI) Командования военного округа № 2 (Варшава), где занимался контрразведкой и вопросами обеспечения безопасности варшавского гарнизона.
В 1937 году Лехович был назначен в центральный аппарат 2-го отдела Главного штаба на должность начальника национально-политического реферата, в задачи которого входила борьба с проявлениями «коммунистической активности» в Войске Польском. Ирония судьбы заключалась в том, что, решая специальные задачи в своем учреждении, Лехович еще с юных лет был связан с «левыми» организациями, включая Коммунистическую партию Польши[363].
Другие подробности их разведывательной деятельности в предвоенные годы нам не известны, известно лишь, что они находились на связи у резидента советской разведки Л. Ферстера. Кто скрывался под этим псевдонимом – также остается загадкой. Их связь польской контрразведкой вскрыта не была, а факт сотрудничества был установлен уже после войны в ходе следствия, проводимого органами безопасности ПНР.
К недоказанным случаям работы сотрудников польских спецслужб в пользу советской разведки относится дело одного из функционеров Независимой крестьянской партии Сильвестра Воеводского, позже «перебежавшего» в СССР. В январе 1927 года проправительственная газета «Голос правды», с подачи польских спецслужб, выступила с обвинениями последнего в сотрудничестве с ОГПУ. Обвинения были построены на том основании, что, исполняя в 1921–1922 годах обязанности сотрудника национального реферата виленской экспозитуры, Воеводский якобы способствовал целому ряду провалов польских агентов в России. Состоявшийся суд не нашел в действиях последнего никакой вины, и он был полностью оправдан, но сам ход заседания суда и вскрывшиеся на нем факты доставили советской разведке настоящий подарок. В судебных заседаниях были оглашены многие секретные сведения о деятельности 2-го отдела в Советской России, включая информацию о действовавших на то время его кадровых сотрудниках и наводки на агентов, работавших за кордоном[364].
Ответные удары «двуйки»
Из документов польской контрразведки следует, что с 1929 по 1935 год в Польше в рамках расследования 1303 дел по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза было арестовано 2605 человек. Подавляющее большинство из разоблаченной советской агентуры замыкалось в своей деятельности на приграничные и территориальные органы разведки различной ведомственной принадлежности, располагавшиеся в Советской Белоруссии и Украине. К таким органам внешней разведки относились иностранные отделы полномочных представительств ОГПУ-УНКВД в Минске, Киеве, Харькове.
Подтверждая такую статистику эффективной работы польской контрразведки, бывший сотрудник советской разведки Павловский (Сумароков, Павлуновский, Яшин) в своих заметках, относящихся к 1924 году, писал: «Убыль секретных сотрудников, в особенности в Польше и Румынии – громадна. Поэтому отделу все время приходится вербовать новых людей. Так, например, в Польше было арестовано в свое время 90 человек агентов в течение короткого срока, отправленных для разведки»[365].
Специализированной военной разведкой в Польше занимались разведывательные отделы штабов Белорусского и Украинского военных округов. Через подчиненные им пункты разведывательных переправ (ПРП), которые также занимались агентурной разведкой, в Польшу через «зеленку» переправлялось большинство советских агентов.
К задачам такой категории агентуры относилось получение информации в польском прикордоне на глубину до ста километров. Изучались места дислокации, штатный состав, вооружение, планы использования, вопросы мобилизационной готовности Войска Польского и т. д. Особое внимание уделялось разведывательному изучению будущего театра военных действий: пропускная способность железных и шоссейных дорог, мостов, фортификационных сооружений и т. д.
Связь с закордонной агентурой поддерживалась в большинстве случаев через агентов-связников. В ряде случаев для поддержания связи использовались почтовые голуби штатных голубятен.
Органы разведки пограничных войск были созданы на основании приказа председателя ОГПУ от 25 февраля 1925 года «О реорганизации пограничной охраны на основе объединения пограничных органов и пограничных войск». В рамках совершенствования системы охраны границы и информационного обеспечения деятельности ее органов в структуре пограничных отрядов были созданы секретно-оперативные части (СОЧ), на которые в числе других были возложены вопросы разведки и контрразведки[366]. В зависимости от конфигурации участков границы они действовали на глубину от 10 до 15 километров.
Из отчетной документации Корпуса охраны пограничья за 1926–1930 годы следует, что из 39 дел по советскому шпионажу, реализованных при участии постерунков Виленского инспектората КОП, больше половины (68 %) приходилось на деятельность разведывательных органов ОГПУ. Только одно реализованное дело по шпионажу касалось неизвестного органа военной разведки СССР. Ведомственная принадлежность остальной разоблаченной советской агентуры точно не была установлена[367].
Такое количество реализованных польской контрразведкой дел по советскому шпионажу (более 400 в год) ясно указывает на две основные причины столь неблагополучного положения. С одной стороны, высокая эффективность органов польской контрразведки, с другой – многочисленные ошибки и недочеты, допускаемые всеми субъектами разведывательной деятельности в части подготовки и проведения разведопераций на сопредельной территории. Здесь и низкий уровень профессиональной подготовки агентуры, и ошибки в подборе агентурных кадров, включая ее засоренность неблагонадежными элементами и откровенными предателями.
Когда в июле 1933 года органами безопасности был ликвидирован так называемый «Белорусский национальный центр», выяснилось, что 19 агентов 4-го (разведывательного) отдела штаба Белорусского военного округа одновременно являлись членами центра и агентами польской политической полиции и контрразведки. В ходе расследования обстоятельств столь скандального дела было установлено, что в 1932 году польская контрразведка выявила и перевербовала нескольких агентов отдела, через которых, в свою очередь, смогла перебросить на территорию Белоруссии ряд лиц с разведывательными и диверсионными задачами[368].
Типичным примером низкой профессиональной подготовки советских «приграничных» агентов служит дело некоей Саломеи Плис, которая в августе 1932 года была арестована контрразведкой Корпуса пограничной охраны в г. Ровно. В ходе состоявшихся допросов она созналась в работе на советскую разведку и дала развернутые показания по вопросам, интересовавшим поляков.
В частности, было установлено, что после ее вербовки в Шепетовке, единственно весомыми основаниями которой были факт рождения в Польше, знание языка и наличие родственников в стране, она индивидуально прошла кратковременный курс специальной подготовки, которую проводили сотрудники харьковского ОГПУ. Бросив бесполезные попытки научить Саломею Плис читать топографическую карту и пользоваться компасом, куратор принял решение о ее переброске через границу в сопровождении проводника.
Благополучно перейдя границу и поселившись в Ровно, Саломея Плис выполнила только первый пункт задания, приобретя на выделенные ей деньги одежду польского производства. Она на допросе воспроизвела рекомендацию сотрудника ОГПУ: «Первым делом купи себе польскую одежду. В Польше люди ходят хорошо одетыми, а твоя одежда для выполнения задания никуда не годится». К непосредственным задачам агента было отнесено:
– наблюдение за ходом строительных и ремонтных работ на определенном участке железной дороги, включая строительство новых мостов и путепроводов;
– фиксация визуальным наблюдением военных перевозок;
– установление нумерации и численности воинских частей, расположенных в Ровно и Люблине.
Но основной частью разведывательного задания Саломеи Плис была попытка привлечения к сотрудничеству с советской разведкой ее родственника, проживавшего в г. Люблине, и организация связи с ним.
За незначительностью нанесенного ущерба интересам Польской Республики суд 11 января 1933 года приговорил Саломею Плис к пяти годам заключения[369].
Но не все разоблаченные польской контрразведкой советские агенты были подобны Саломее Плис. Одновременно ее сотрудники отмечали высокий профессионализм ряда других агентов, прошедших хорошую специальную подготовку и по своим личным качествам способных решать сложнейшие вербовочные и другие разведывательные задачи. Как правило, такой агентуре давались конкретные задания по привлечению к сотрудничеству интересующих советскую разведку лиц, причем информация о кандидатах на вербовку отличалась объективностью и была исчерпывающе полна.
Такими хорошо подготовленными агентами, по оценкам польских контрразведчиков, были Мария и Василий Стефановичи, разоблаченные польской контрразведкой летом 1936 года. Дело на розыск нелегальной радиостанции в районе г. Ровно было заведено отдельным информационным рефератом Командования военного округа № 2 еще в 1933 году. Основанием для его заведения стали полученные сведения от дезертира Красной армии по фамилии Довгалец, а также некоторые материалы на некую Марию Панек, разоблаченную ранее в качестве советского агента. Из них следовало, что в районе г. Ровно функционирует радиофицированная точка советской разведки, а радистом, обслуживавшим рацию, является женщина, действующая под агентурным псевдонимом «Маруся».
Для польской контрразведки сложность заключалась в отсутствии технических возможностей по пеленгации радиостанции. Она выходила в эфир нерегулярно и относительно редко, а задействовать на постоянной основе передвижные пеленгаторные станции возможности не было.
В конце концов полякам удалось выйти на след Марии и Василия Стефановичей, которые и оказались разыскиваемыми советскими агентами. В ходе обыска на их квартире было обнаружено две радиостанции, запасные лампы, батареи питания, фотоаппарат и другие уличающие их в шпионаже предметы.
В ходе предварительного следствия супружеская чета признала факт сотрудничества с советской разведкой и дала развернутые показания. Из них следовало, что Мария была завербована в 1930 году под псевдонимом «Венеция» и направлена в Польшу для сбора информации военного характера. Связь со своим руководством она поддерживала через курьеров, нелегально переходивших границу. Имевшаяся в ее распоряжении рация, по причине отсутствия у Марии навыков работы на ключе, использовалась нерегулярно.
Осенью 1934 года последовал вызов в СССР, где в течение двух месяцев она прошла интенсивную разведывательную подготовку. Опытные инструкторы обучили Марию работе на ключе, пользованию шифрами, основам вербовочной работы, визуальной разведке и т. д.
Ее новое задание предусматривало выполнение разовых поручений и организацию двусторонней агентурной радиосвязи с Центром. В этих целях, для хранения рации с запасом батарей питания и ламп, было поручено подготовить тайник. Его описание в зашифрованном виде следовало направить на известный Марии адрес в Киеве. В отдаленных от дорог районах подобрать посадочные площадки, на которые в предвоенный и военный период планировались посадки легких самолетов, направляемых для переброски агентуры и приема информации.
После завершения обучения в Киеве Мария Стефанович была переброшена через границу. После ее возвращения в г. Ровно, на другой день, прибыл курьер советской разведки, который передал радиостанцию новой конструкции. Очередной сеанс радиосвязи был неудачным – оказалось, что рация была неисправна. Через некоторое время к Марии была направлена радистка, устранившая неисправность. После ее отъезда разведывательная работа была продолжена до очередного вызова в Киев. После возвращения в Польшу, 17 июля 1936 года, Мария и Василий Стефановичи были арестованы. На основе их показаний польские контрразведчики установили, что органом, на который работали агенты, был 4-й (разведывательный) отдел штаба Киевского военного округа[370].
Понятно, что в результате следственной работы с разоблаченной советской агентурой в распоряжении польской контрразведки оказался значительный массив информации о формах и методах работы советских спецслужб, местах дислокации их органов, разведывательной «инфраструктуре» органов советской разведки, данные на ее кадровый и агентурный аппарат и т. д. Тщательный анализ такого объема знаний давал польским контрразведчикам возможность вырабатывать адекватные меры по пресечению деятельности советской разведки и совершенствованию своей.
Примером быстрого реагирования польской контрразведки на изменения оперативной обстановки служат результаты разработки агента советской разведки Бартоломея Спиньского. Он был задержан 1 сентября 1938 года сотрудниками контрразведки Корпуса пограничной охраны на основании информации одного из агентов, сообщившего о появлении в польском приграничье подозрительного человека.
На первых же допросах Спиньский начал давать признательные показания о своей деятельности в качестве советского агента, начиная с 1928 года. В частности, он сообщил, что, после демобилизации из 16-го пехотного полка в Кракове, он переехал на жительство к своей родной сестре в деревню Залузу. Оказалось, что последняя проживала в гражданском браке с неким агентом разведки Корпуса пограничной охраны. Через сестру и ее мужа Спиньский познакомился с некоторыми офицерами и агентами польской приграничной разведки. На почве развившегося конфликта с мужем сестры Спиньский решил нелегально перейти границу к своему отцу, проживавшему на территории СССР.
При переходе границы он был задержан советскими пограничниками, доставившими его в штаб пограничного отряда, где прошли первые допросы перебежчика. Спиньский дал развернутые показания по всем интересующим советскую разведку вопросам. Сообщил все известные ему сведения, относящиеся к 16-му пехотному полку: характеристики командиров, численность личного состава, методика обучения, планы использовании в военное время и т. д. Пока шла проверка его сведений, Спиньский находился под арестом. Знаком того, что он благополучно прошел проверку, стала его вербовка сотрудниками советской разведки.
На одном из допросов Спиньский рассказал о своем конфликте с мужем сестры и еще одним сотрудником разведки Корпуса пограничной охраны и даже предложил убить последнего.
Осенью 1929 года Спиньский был переправлен на территорию Польши, где 26 ноября совершил покушение на своего недоброжелателя из разведки Юзефа Верповского. Ранение в голову оказалось несмертельным. Спиньский же после неудачи снова ушел в СССР.
Следующий террористический акт также оказался неудачным.
9 июля 1930 года под дверью жилого дома, где проживал другой сотрудник польской пограничной разведки Казимеж Вишневский, случайно было обнаружено снаряженное к взрыву устройство. Запальный шнур имел следы возгорания, но, как выяснили польские саперы, по счастливому стечению обстоятельств шнур погас.
Следующие годы Спиньский работал шофером в одном из колхозов, не прерывая, впрочем, своих контактов с советской разведкой.
С разовыми разведывательными заданиями он неоднократно переправлялся в Польшу, включая «ходки» на связь с резидентом советской разведки в г. Вильно.
В октябре 1938 года, во время выполнения очередного задания в районе Сенкевичи – Лахва, он был арестован польскими контрразведчиками. Находясь под арестом, Спиньский начал давать показания о своей деятельности в качестве агента советской разведки. По ним поляки сразу арестовали нескольких агентов, а чуть позже и владельца отеля «Гранд» в Вильно, который являлся помощником резидента Недзялковского.
За время многолетнего сотрудничества с советской разведкой Спиньскому стало известно множество данных о ее деятельности, которые он в ходе допросов сообщил полякам. Все изложенные сведения в контрразведке были самым тщательным образом проанализированы и сопоставлены с уже имеющимися. Результатом такого анализа стала методическая разработка по противодействию советской разведке, циркуляром направленная во все заинтересованные органы польской разведки и контрразведки.
Сам же Спиньский 20 апреля 1939 года военным судом был осужден на 15 лет заключения[371].
В марте 1926 года разведкой Корпуса пограничной охраны был передан на связь в Экспозитуру № 1 (Вильно) агент «Ян Новаковский». Такое решение было обусловлено тем обстоятельством, что уровень деятельности агента, после произошедших с ним событий, выходил за пределы компетенции пограничной разведки. Из материалов пересланного в Вильно дела следовало, что «Новаковский» после увольнения из корпуса, где он служил в должности командира отделения, в интересах разведки был переброшен на советскую территорию. Заданием предусматривалось внедрение в агентурную сеть советской разведки, с последующим возвращением в Польшу для выявления других советских агентов.
После задержания пограничниками он был передан в ОГПУ. Объяснения мотивов нелегального перехода и данные им показания о своей прошлой службе в Корпусе пограничной охраны, после соответствующей проверки, вполне удовлетворили чекистов, и он был ими завербован в качестве агента.
Вернувшись на родину, «Новаковский» доложил своим руководителям о выполнении задания. Выполняя «поручения» советской разведки, он несколько раз переходил границу, но переданная им информация, по причине ее незначительности, советскими кураторами была оценена невысоко. Действительно, отобранные поляками для передачи в советскую разведку несекретные приказы 2-й бригады корпуса, старое штатное расписание государственной полиции и ряд других документов никакой ценности для разведки не представляли. Чтобы сохранить возможность для проведения дальнейшей «игры», и было принято решение о передаче «Новаковского» на связь в экспозитуру, потенциал которой позволял осуществлять долговременные операции.
Капитан Майер, под чье руководство поступил агент, 19 августа 1926 года направил его в Минск, чтобы довести до чекистов информацию о вербовке капрала Хомича, служащего в канцелярии 78-го пехотного полка, расположенного в Барановичах. Якобы капрал согласился поставлять проходящие через него документы и предупредил, что если суммы вознаграждения его устраивать не будут, то он связь с разведкой прервет. Кроме того, он потребовал, чтобы на связь с ним высылался специально для него выделенный курьер.
В качестве аванса Хомич передал «Новаковскому» четыре оригинальных приказа командира 78-го полка, приказ 20-й пехотной дивизии о полевых учениях 79-го полка и ряд других документов.
26 августа «Новаковский» возвратился в Вильно, где отчитался перед Майером о выполнении задания. По его словам, переданные в Минск документы интереса там не вызвали. Но положительно расцененным сигналом была выплата за них небольшой суммы и задание продолжить разработку Хомича дальше.
К очередной «ходке» Майер снабдил своего агента более серьезным «уловом» в виде трех секретных приказов Командования 9-го корпуса и некоторых других документов. 2 октября «Новаковский» в Минске доложил, что переданные материалы получены им от вновь завербованного сержанта Фрончака, который имел к ним прямой доступ.
Интерес к оригинальным секретным документам корпусного уровня вполне удовлетворил чекистов, и на очередной встрече 27 октября они заплатили 50 американских долларов, из которых 25 получил сам «Новаковский», а остальные – Фрончак и Хомич. По результатам этой встречи агент предположил, что от чекистской разведки он был передан на связь сотруднику 4-го (разведывательного) отдела штаба Белорусского военного округа.
Зимой 1926–1927 года Майер обратился к руководству 2-го отдела с предложением активизировать «игру» с советской разведкой, осуществив ее перевод на уровень контрразведывательной операции. Для этого он предлагал направить в Минск более ценную информацию, создавая условия для задействования в операции курьеров советской разведки с их последующим задержанием и перевербовкой. Были ли реализованы его планы и как успешная операция была завершена, польские источники сведений не сохранили[372].
В тисках дезинформации
«Парижские и варшавские тайны» польской и советской разведок
После обретения Польшей независимости она, по воззрениям творцов Версальской системы безопасности, должна была стать геополитическим «противовесом» Германии и препятствием в ее устремлениях к реваншу. Но и сами условия Версальского договора, и последовавшая их конкретизация в рамках Локарнских соглашений 1925 года привели к тому, что интересы Польши были ущемлены и ставились в зависимость от политической конъюнктуры в Европе. Так, франко-польский договор предусматривал оказание Францией помощи только в зависимости от соответствующего решения Лиги Наций. Если учесть, что «партию главной скрипки» в ее «оркестре» играла Великобритания, не имевшая перед Польшей никаких обязательств, границы на востоке Европы, включая польские, не были гарантированы, в отличие от ситуации с границами на западе.
Это привело к тому, что сначала наметилось, а несколько позже проявилось сближение позиций Польши и Советского Союза, недовольных итогами Локарнской конференции. Неудовлетворенность Москвы и Варшавы была обусловлена разными мотивами. Если СССР рассматривал Локарнские договоренности как попытку стран Запада договориться за его спиной, в ущерб его интересам, включая разрушение советско-германского альянса, то Польша видела в соглашениях желание Франции и Великобритании обеспечить свою собственную безопасность за ее счет. Это обстоятельство привело в конце 1920-х – начале 1930-х годов к значительному охлаждению франко-польских отношений.
В этих условиях Польша была вынуждена обеспечивать свою безопасность собственными силами. «Начальник государства» Пилсудский и министр иностранных дел Бек считали, что Польша, в сложившейся конфигурации миропорядка в Европе, должна стремиться к упрочению своего положения самостоятельно, несмотря на то что она, в силу своей относительной слабости, не сможет повлиять на расклад сил в Европе. Последствия Локарнских договоров убедили их в том, что Франция, все больше и больше подпадая под влияние Великобритании, не будет твердым гарантом соблюдения интересов Польши.
С приходом Гитлера к власти внешнеполитическое ведомство Германии и другие партийные структуры начали готовить условия для реализации большой программы вооружения. Первым шагом на этом пути являлось улучшение отношений с Польшей и Великобританией, положительную динамику которой придал отказ Гитлера от раппальской политики сотрудничества с СССР. Только такими мотивами со стороны Германии объясняются германо-польские переговоры, завершившиеся подписанием 26 января 1934 года декларации о ненападении. Кроме создания благоприятного климата для внешнеполитического обеспечения программы вооружений, Гитлер стремился включить Польшу в орбиту своего влияния путем втягивания ее в германскую систему союзов.
Польские историки считают, что Пилсудский и Бек отдавали себе отчет в намерениях Гитлера и исходили из того, что подписанный договор является вынужденной мерой, исключавшей возможность искреннего союза[373].
Проявляемый Москвой с 1933 года (после прихода к власти нацистов) интерес к налаживанию отношений с Польшей объяснялся ее беспокойством о возможном сговоре Пилсудского с Гитлером. Тенденции к польско-советскому сближению, получившие логическое завершение подписанием 25 июля 1934 года польско-советского договора о ненападении, благоприятно сказались на укреплении позиций польской и советской дипломатии. Польша с подписанием этого договора окончательно утвердилась в выборе основного вектора своей политики, получившей условное наименование как «политика равновесия». Министр иностранных дел Польши Бек, в ходе своего февральского 1934 года визита в Москву, впервые употребил это понятие, ставшее вплоть до начала Второй мировой войны ключевым при определении внешнеполитических приоритетов Второй Речи Посполитой. Но это было скорее метафорой, чем международно-правовой дефиницией. Под понятием «равновесия» польской дипломатией подразумевалась политика «строгого нейтралитета» в отношениях двух ее соседей, невзирая на кажущиеся внешне хорошие польско-германские и польско-советские отношения, которые можно было с полным основанием охарактеризовать как «холодную войну».
Для Советского Союза одним из камней преткновения, препятствующим налаживанию более тесных отношений с Польшей, являлась проблема так называемого «секретного польско-германского договора» (приложения). Поступавшие Сталину по дипломатическим и разведывательным каналам сообщения указывали на то, что, кроме официального польско-германского договора от 26 января 1934 года, существует еще некое секретное приложение, якобы зафиксировавшее договоренность о совместных действиях Польши и Германии против СССР при определенных условиях.
Сразу оговоримся, что никаких «особых» польско-германских договоренностей, протоколов, добавлений и т. д. историками не обнаружено[374].
Действительно, кроме циркулировавших в кулуарах европейских внешнеполитических ведомств и спецслужб разного рода слухов, зафиксированных документально, факт существования договора (протокола) не доказан. Соответственно, со строго научной точки зрения, нельзя обсуждать такую ключевую проблему внешнеполитической истории и доказывать реальность существования «секретного приложения», пользуясь только вторичными источниками, такими, например, как документы внешнеполитических ведомств и спецслужб. И поэтому, в лучшем случае, в исследовании проблематики «секретного» протокола и влиянии такой информации на характер принятых европейскими правительствами внешнеполитических решений мы должны оперировать только категориями версий и гипотез. Как говорят следователи, «нет трупа, нет дела».
Польская историография полностью отрицает существование такового. Более того, как считает один из крупных исследователей довоенной внешней политики Польши Владислав Булхак, версия о «секретном» протоколе является «яркой подделкой», и, соответственно, полемика о нем находится вне пределов исторической науки. Это вполне справедливое замечание[375].
Но, как известно, «дыма без огня не бывает». В западноевропейских внешнеполитических ведомствах и близких им кругах постоянно циркулировала информация об «особом» характере польско-германских отношений, на который в значительной степени накладывался специфический личностный фактор. Речь идет о так называемой «черной легенде» Бека – вполне устойчивом понятии, сложившемся в польской историографии, а в 1930-е годы серьезно осложнявшей «имидж» польской дипломатии в глазах ее партнеров и повлиявшей на степень их доверия к Польше.
«Черная легенда» Бека на всем протяжении его деятельности как министра иностранных дел играла ключевую роль в восприятии европейскими политиками и польскими оппозиционерами фигуры польского министра и результатов его деятельности. Во французских военно-политических кругах действительно широко циркулировала информация о том, что если Бек и не был платным германским агентом, то являлся сторонником урегулирования польско-германских отношений в ущерб интересам своей страны.
«Черная легенда» начала складываться еще в 1922 году в бытность Юзефа Бека военным атташе Польши в Париже. Принимая непосредственное участие в переговорах с представителями военного министерства Франции, Бек был французами заподозрен как источник утечки сведений к немцам. Сейчас трудно судить, насколько эти подозрения были оправданны. Но факт остается фактом, что с опубликования в парижской газете «L’Ere nouvelle» статьи, в которой польский военный атташе прямо был назван как лицо, сотрудничающее с германской разведкой, в глазах представителей французского Генштаба он сначала стал, а позже был официально объявлен «персоной нон грата». Некоторые польские исследователи считают, что статья была инспирирована французской разведкой, которая таким образом рассчиталась с Беком за его непреклонную позицию по ограничению ее влияния в Польше во время его службы во 2-м отделе Главного штаба[376].
Дополнительные основания недоверия Беку были связаны с некоторыми его внешнеполитическими инициативами как министра иностранных дел, которым он стал в 1932 году.
Не случайно, что сразу после подписания польско-германского договора в заинтересованных политических и дипломатических кругах начались поиски «тайного смысла» и распространение слухов о подписании совместного секретного приложения о разделе сфер влияния либо сделки «размена». Например, в обмен на Коридор и Данциг – Украина и Литва.
Так, в одном из писем бывшего посла Российской Империи в Великобритании Е. В. Саблина своему коллеге по службе в МИД В. А. Маклакову, датированном 20 марта 1934 года, читаем: «Ходят толки о том, пишет г. Маггеридж, что, на случай занятия Японией части российской территории на Дальнем Востоке, Польша и Германия пожелают, вероятно, этим воспользоваться для того, чтобы уладить свои собственные разногласия за счет России (да возрадуется “Возрождение”). Польша могла бы отказаться от Данцигского коридора в обмен на некоторую часть российской территории и другой порт»[377].
Нужно сказать, что переписка бывших послов Российской Империи в течение длительного времени перехватывалась советской разведкой и регулярно докладывалась Сталину, считавшему ее ценным источником информации[378].
Подобные сообщения регулярно докладывались советскому руководству, повышая градус недоверия ко всей внешней политике Польши в целом и к ее руководителям в частности. К проблематике «секретных» польско-германских договоренностей мы вернемся чуть ниже, обратившись к двум источникам советской разведки, от которых поступали подобные сведения, а пока остановимся на характере некоторых источников по существу вопроса.
В последние годы Служба внешней разведки России опубликовала несколько сборников своих архивных документов, отражающих многие аспекты предвоенной деятельности советской разведки.
В них также содержится значительное количество фактического материала, представляющего большую самостоятельную научную ценность, особенно для специалистов в области внешней политики в межвоенное двадцатилетие[379].
Для исследователей же, занимающихся историей внешней разведки СССР, указанные сборники позволяют приоткрыть завесу тайны над многими еще неизвестными ее операциями, проводимыми в ведущих европейских странах, и приблизить нас к пониманию многих частных вопросов, затрагивающих практическую сторону деятельности советской разведки.
В этой связи одной из главных проблем является проблема идентификации источников информации, поступавшей по разведывательным каналам. Другими словами, нас будут интересовать люди – участники тех далеких по времени событий: каков был их служебный, общественный, социальный статус. Это вовсе на праздное любопытство исследователя. Не зная их имен, мы не сможем, в свою очередь, определить степень влияния получаемой от них информации на выработку важнейших политических решений высшим руководством страны и партии.
Учитывая заявленную тематику, нас больше будет интересовать содержание сборника «Секреты польской внешней политики», в котором собраны поистине уникальные по своей научной значимости сведения. Но прежде чем приступить к анализу самих материалов, следует, на наш взгляд, сказать несколько слов о принципах составления и публикации архивных документов СВР России и о том, как отступления от общепринятых правил приводят к путанице, затрудняя будущим исследователям отыскание истины.
К сожалению, составитель сборника Л. Ф. Соцков не выполнил археографические требования, предъявляемые к публикациям такого рода документов, чем заметно осложнил исследовательскую работу. Мы не будем углубляться в чисто научные области критики издания, а остановимся на одном важном вопросе, имеющем прямое отношение к нашей теме, – вопросе хронологии[380].
Сборник, по замыслу составителя, основан на хронологическом принципе. Это значит, что публикуемые документы должны располагаться строго по нарастающей: от более ранних – к более поздним. При почти полном отсутствии на публикуемых сопроводительных документах ИНО ОГПУ рабочих отметок о резолюциях, датировках и рассылке особое значение приобретает строго хронологический принцип составления сборника. Опубликованные архивные документы СВР не являются первыми экземплярами, направляемыми в высшие государственные инстанции, а являются их рабочими копиями, сохраненными в ведомственном архиве разведки. Нам сейчас известно, что значительная часть материалов советских спецслужб, направляемых на ознакомление Сталину, после их изучения оседала в его личном архиве, в материалах фонда так называемой «Особой папки».
В этой связи в работе с копиями документов от составителя требуется особо тщательная и подчас неблагодарная работа по хронологической «привязке» публикуемого документа по отношению к уже датированным. Отступление от этих правил, допущенное составителем, приводит к тому, что хронологический принцип с первых же страниц сборника нарушается.
Например, открывающий сборник «Обзор польско-английских отношений», имеющий отметку о дате направления на ознакомление Сталину (01.04.1935), подписан начальником ИНО А. Х. Артузовым. Следующий документ – «Информация о визите Г. Геринга в Варшаву» – не содержит никаких рабочих отметок о времени его подготовки и направления в инстанции. Подписан документ А. А. Слуцким как заместителем начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР (ИНО ОГПУ), который, как известно, исполнял эти обязанности с 1 августа 1931 по 21 мая 1935 года.
Очередной «Обзор внутренней и внешней политики Польши», также не имеющий отметок о времени подготовки документа, подписан Слуцким уже как начальником ИНО. Это обстоятельство позволяет его датировать периодом как минимум после 21 мая 1935 года. Следующая за ним «Информация о польско-немецких отношениях» снова подписана Слуцким как заместителем начальника внешней разведки. «Информация о встрече министра Ю. Бека с французским политиком де ля Роком» подписана Артузовым как начальником ИНО и т. д.[381].
Такое отношение к публикации документов внешней разведки СССР не только осложняет исследовательскую работу, но и дает возможность польским историкам ставить под сомнение многие содержащиеся в документах факты внешнеполитической истории и доказательно оспаривать высказанные генералом А. Ф. Соцковым суждения[382].
Анализ представленных в Сборнике документов будет иметь целью выяснение, насколько это возможно, имен источников, их социального и должностного положения, степени доверия к ним со стороны разведки и высшего политического руководства СССР. Это сложная, но, в допустимых пределах, вполне решаемая задача. Приступая к ее решению, сразу же оговоримся, что дальнейший анализ будет строиться на серьезных, но все же косвенных данных и, соответственно, конечная точка в идентификации источников может быть поставлена только тогда, когда будут опубликованы соответствующие документы архива СВР России (если они сохранились).
В 1920–1930-е годы советская разведка имела в центральном аппарате польского МИД и его представительствах за рубежом целый ряд ценных агентов, снабжавших Кремль важной информацией по многим внешнеполитическим проблемам. В частности, в польской миссии в Берлине с 1924 года имелся агент, снабжавший советскую внешнюю разведку секретными информационными сводками польского МИД, рассылавшимися по периферии в строго ограниченном числе экземпляров[383].
Другим источником советской разведки по вопросам польской внешней и внутренней политики был человек, также замыкавшийся в своей работе на берлинскую резидентуру ИНО ОГПУ и проходивший по ее учетам под криптонимом «19». Резидент советской разведки в Берлине так описывал характер работы «19-го»: «После каждого заседания Президиума Совета министров в Польше секретариат направляет доклад о заседании Президенту Польской республики. Там имеется один пилсудчик, который неофициально печатает лишнюю копию для Пилсудского. Часто за этими копиями приходит адъютант Пилсудского, от которого копию получает наш источник».
Еще один из неназванных источников ИНО ОГПУ в аппарате польского МИД был осужден и казнен по «делу Брохиса». Последний, являясь ценным агентом советской внешней разведки, до своего ареста польской контрразведкой входил в состав нелегальной резидентуры «Монда» (И. Н. Каминского).
Парижская резидентура ИНО через свои агентурные возможности также имела доступ к информации о деятельности польского внешнеполитического ведомства и военной миссии Польши во Франции[384].
В начале 1920-х годов с парижской резидентурой Разведупра сотрудничал секретарь польского посла во Франции Шумборович, завербованный известной советской разведчицей Марией Скаковской[385].
Но эти и другие источники советской разведки, скорее всего, к документам польского МИД, содержащимся в Сборнике, отношения не имеют.
Представленные в Сборнике материалы по своему характеру делятся на три неравнозначные по объему группы. К первой (самой многочисленной) относятся переводы оригинальных документов польского МИД. Ко второй – сообщения, подготовленные на основе агентурной информации источников. К третьей – разные материалы английских и советских спецслужб, датированные периодом после 1941 года. Нас же будут интересовать первые две группы документов.
Наличие значительного по объему информационного материала, исходящего из польского внешнеполитического ведомства, однозначно указывает на наличие в его аппарате серьезного источника, располагающего доступом к важной документации, включая шифрованную переписку польских послов со своим МИД. Важное указание на его высокий служебный статус содержится в сопроводительной «Записке И. Сталину о документах МИД Польши», где после перечня наиболее важных телеграмм, направляемых руководителю Советского государства, читаем: «Документы получены нами от источника, который недавно занял крупный пост в Министерстве иностранных дел Польши»[386].
Все четырнадцать аннотируемых шифртелеграмм подготовлены польскими послами в период с 19 ноября по 14 декабря 1935 года. Это обстоятельство, вместе с процитированной припиской, дает нам важную подсказку по идентификации источника советской разведки. Из польских публикаций следует, что как раз с 1 декабря 1935 года на должность вице-директора Политико-экономического департамента МИД Польши, а по совместительству начальника его Восточного отделения (Р. III) был назначен секретарь департамента Тадеуш Кобылянский.
Информация о нем как агенте советской внешней разведки в открытых к настоящему времени источниках восходит к двум документам (блокам документов): материалам архивно-следственного дела № 612526 на Сосновского (Добжиньского) Игнатия Игнатьевича и печально знаменитому «Закрытому письму о фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР» от 11 августа 1937 года[387].
Кем же был этот человек, что его побудило так долго сотрудничать с советской разведкой, какой жизненный и профессиональный путь ему пришлось пройти? Попробуем, по мере возможности, дать ответы на эти и другие вопросы, обобщив крайне незначительные сведения в опубликованных к этому времени источниках.
Тадеуш Кобылянский родился 11 ноября 1895 года в Царстве Польском, входившем тогда в состав Российской Империи. Проходил в чине поручика военную службу в Русской императорской армии. С провозглашением независимости Польши вступил в Войско Польское. Тогда же Кобылянский получил свой первый дипломатический опыт, участвуя в феврале 1920 года в составе польской делегации под руководством князя Станислава Радзивилла в переговорах с командующим Отдельной русской армией генерал-лейтенантом Николаем Бредовым об условиях интернирования белогвардейских войск в Польше.
С 1920 по 1923 год находился на учебе в Высшей военной школе в Париже, из которой выпустился в чине ротмистра кавалерии с добавлением почетной для польских военных приставкой «дипломированный» (эквивалент понятия офицер Генерального штаба). Почти сразу Кобылянский был направлен для дальнейшего прохождения службы во 2-й департамент Военного министерства, где руководил работой одного из рефератов.
Характеризующий личность Кобылянского эпизод едва не стал причиной строгого наказания. Подробности дела не известны, но известно имя одной участницы этого скандала – некоей пани Ястржембец-Бобровской. Можно только предположить, что завязавшийся у Кобылянского роман с женой его близкого друга поручика Марияна Бобровского привел к серьезному выяснению отношений между всеми тремя сторонами. Якобы Кобылянский давал пани столь многозначительные обещания устроить их совместную жизнь, что она покинула своего мужа поручика Бобровского. Когда «пыл любовной страсти» у Кобылянского остыл, он отказался от ранее данных обещаний. Короче, дело дошло до суда офицерской чести, где на Кобылянского было наложено нестрогое взыскание. Злые языки при этом поговаривали, что причиной столь мягкого наказания явилось родство Кобылянского с сыном президента Польши Игнацы Мосцицкого Михалом.
В 1924 году в звании майора «корпуса офицеров кавалерии» он был назначен помощником военного атташе Польши в Советской России, куда и отбыл вместе со своей женой.
Для того чтобы охарактеризовать этого ценного агента ИНО и его вклад в освещение внешней политики санационного режима в Польше, необходимо обратиться к истории его вербовки на советскую внешнюю разведку.
Ключевую роль в привлечении к сотрудничеству Кобылянского с советскими спецслужбами сыграл Игнатий Игнатьевич Сосновский (Добжиньский), бывший резидент польской разведки, а после ареста и вербовки Дзержинским и Артузовым – ответственный сотрудник центрального и периферийного аппарата ВЧК-ОГПУ.
Вначале Сосновский завербовал помощника военного атташе в Москве поручика Тадеуша Ковальского, который, как многие другие польские разведчики, проявлял интерес к персоне своего бывшего сослуживца по 2-му отделу, пошедшему в «услужение к большевикам». Он инициативно вышел на Сосновского и сам предложил свои услуги советской контрразведке[388]. Мотивом обращения к Сосновскому, по словам Ковальского, послужило разочарование в идеалах, которым они оба когда-то служили, и обида на свое руководство в Варшаве, пославшее его в Москву на малопрестижную и неудобную в бытовом отношении должность резидента.
Ковальский, подтверждая серьезность своих намерений, «сдал» всю сеть польской разведки, замыкавшуюся в своей работе на посольскую резидентуру. Он также дал обстоятельную и развернутую характеристику своему начальнику по резидентуре. Из его слов следовало, что Кобылянский, испытывая хроническое безденежье, вызванное потребностями поддержания на высоком уровне имиджа военного представителя Польши, а также неуемными запросами его жены – «страшно распущенной женщины», готов к сотрудничеству с советскими спецслужбами.
В ОГПУ было принято инициированное Сосновским решение вербовать самого военного атташе Польши в Москве Тадеуша Кобылянского. Возможной основой вербовки была признана материальная заинтересованность с добавлением обстоятельств весьма «пикантного свойства» – гомосексуальных наклонностей военного атташе.
Вербовка была успешно завершена, когда с помощью подготовившего почву Ковальского на квартире Пузицкого состоялся «разговор по душам» Сосновского с Кобылянским. Первоначально озвученное условие сотрудничества в виде единовременной выплаты 20 тысяч долларов было подвергнуто обстоятельному рассмотрению, в результате которого сумма была снижена до 3000 долларов. По словам Сосновского, на связи которого после вербовки находился Кобылянский в Москве, последний до выезда из страны выдал «громадную сеть» польской разведки[389].
Насколько глубоко Кобылянский, находясь в Москве, был вовлечен в операцию «Трест», проводимую советской контрразведкой, не известно, но два эпизода с его участием косвенно на такую возможность указывают.
21 августа 1925 года 2-й отдел поручил Кобылянскому на месте оценить полученный плацувкой «R.7/I» документ, исходящий от важного источника в штабе Красной армии, который сотрудничал с указанной плацувкой в рамках операции «М». Этим литером польский Главный штаб обозначал операцию по получению информации от подпольной монархической организации «МОЦР» – «легендой» КРО ОГПУ. Первым документом, полученным по этому каналу осенью 1925 года, был фрагмент плана развертывания Красной армии на западной границе в случае начала войны с Польшей. Кобылянскому поручалось и в дальнейшем производить первичную оценку поступающих материалов, не ставя в известность другой персонал миссии в Москве. Только за первую половину 1926 года через руки Кобылянского прошло 109 секретных советских документов, полученных плацувкой «R.7/I»[390].
В январе 1927 года Кобылянский направил в Москву секретный советский документ, переданный ему военным атташе Японии в Москве майором Курашигой. Он просил Центр оценить этот документ с точки зрения идентичности материалам, полученным по каналу «М». Сам он обращал внимание на множество признаков, которые, с одной стороны, говорят об их идентичности, с другой – на возможность инспирации со стороны советской контрразведки[391].
После возвращения в 1928 году в Польшу Кобылянский короткое время служил на командной должности в кавалерии. В качестве офицера резерва, закрепленного за 2-м отделом Главного штаба, с 1 февраля 1929 года был переведен в МИД Польши. С марта того же года по май 1930 года работал секретарем, позже – первым секретарем посольства в Бухаресте. Работая на этих должностях до 1935 года, Кобылянский вновь был включен в штат 2-го отдела Главного штаба. С 1 декабря 1935 года вплоть до начала войны исполнял обязанности вице-директора политико-экономического департамента МИД и одновременно начальника Восточного отдела министерства (Р. III).
С 1937 года Кобылянский по роду своей деятельности в рамках «Прометейского» движения курировал от польского МИД процесс налаживания взаимодействия с японским внешнеполитическим ведомством на Дальнем Востоке. Активизация стала возможной после серии переговоров Кобылянского весной 1938 года с секретарем японского посольства в Варшаве Масутаро Ино. Уже в августе японский посол Сако в Варшаве поставил в известность МИД Польши о готовности японской стороны включиться в финансирование движения на Дальнем Востоке. Предполагалось внести в совместный фонд сумму в 12 000 фунтов стерлингов[392].
После поражения Польши в сентябре 1939 года Кобылянский в составе остатков министерства пересек границу с Румынией, после чего прибыл во Францию, где исполнял обязанности заместителя начальника вновь созданного политико-пропагандистского отдела Главной команды Союза вооруженной борьбы – Армии Крайовой (ZWZ-AK). Это подразделение, действуя в составе Главной команды, решало задачи поддержания высокого духа сопротивления на оккупированных территориях и интеграции бывших военнослужащих Войска Польского в подпольную Армию Крайову[393].
Последние известия о его дальнейшей судьбе восходят к 1941–1942 годам, когда он, после недолгого пребывания в Лиссабоне, отбыл в Бразилию, где и проживал вплоть до своей смерти в 1967 году.
Бывший начальник реферата «Запад» 2-го отдела Главного штаба Тадеуш Шумовский, возглавлявший одну из лондонских комиссий по изучению причин поражения Польши в 1939 году, в своих выводах характеризовал Кобылянского как «вредителя, эгоиста и глупца», не обвиняя того, впрочем, в сотрудничестве с советской разведкой. Видно, какие-то основания так судить о своем бывшем коллеге у Шумовского были.
Польский историк Анджей Пеплоньский высказывает версию, что Кобылянский после вербовки сообщил своему руководству о случившемся и, в рамках крупнейшей дезинформационной операции, проводимой польской разведкой, стал использоваться в качестве агента-двойника. Единственным доводом в пользу этой версии высказывается соображение, что проанализированные польским исследователем материалы, направлявшиеся Кобылянским во 2-й отдел Главного штаба, не содержат признаков подготовленной на Лубянке дезинформации[394].
На наш взгляд, эта версия не выдерживает критики по следующим соображениям. Первое: после своей вербовки, закрепляющей основой которой было раскрытие чекистам «огромной» агентурной сети, Кобылянский вряд ли решился бы на признание о совершенном им воинском преступлении. Гипотетически он мог пойти на такой шаг, всячески уменьшая нанесенный своими действиями ущерб. Но, как профессиональный разведчик, он не мог не предполагать, что его подчиненный Ковальский уже сотрудничал с ОГПУ, а, следовательно, его сведения о польской агентуре «перекрывались» бы информацией последнего. Напомним, что из материалов Сосновского (Добжиньского) следует, что именно Ковальский подготовил основу для вербовочного выхода на Кобылянского. Значит, Кобылянский мог предположить, что после начала следствия Ковальский рассказал бы о реальном ущербе, нанесенном его действиями польской разведке в СССР.
Второй момент: чекисты, накопившие к тому времени большой опыт в организации и проведении дезинформационных операций в отношении иностранных разведок, ни при каких условиях не пошли бы на передачу даже качественно сработанной «дезы» без риска потерять вновь приобретенного ценного агента. В конце 1920-х годов у них было достаточно поводов убедиться в том, что польская разведка продолжала получать из Советской России актуальную разведывательную информацию, и, следовательно, гарантии, что она по неконтролируемым ОГПУ каналам не войдет в противоречие с «дезой», направленной через Кобылянского, у них не было.
Третий момент: по тем же соображениям чекисты не могли пойти и на перевербовку выданных Ковальским и Кобылянским агентов, пока польские разведчики находились в Москве.
После занятия Кобылянским должности вице-директора политико-экономического департамента МИД Польши начался новый этап его деятельности в качестве агента советской разведки. Характер содержащихся в Сборнике документов, исходящих от «серьезного польского источника», как писали в сопроводительных записках руководители разведки, указывает не только на доступ Кобылянского к совершенно секретной переписке МИД Польши, но и на его постоянные служебные контакты с министром Беком, в ходе которых последний делился с агентом своим мнением по важным внешнеполитическим проблемам[395].
Тем не менее с именем Кобылянского связана еще одна загадка. Как мы помним, в закрытом письме НКВД от 11 августа 1937 года он назван как агент-двойник польской разведки. Но в недавно обнародованных архивных документах СВР России содержатся письма польских послов в Вашингтоне и Белграде в МИД Польши, датированные, соответственно, 8 ноября 1937 и 13 января 1938 годов, которые были получены из варшавской резидентуры ИНО.
Кроме того, агентурные сообщения из Варшавы «О работе японской разведки с украинской эмиграцией» (26 января 1938 г.), «О деятельности 2-го отдела польского Генштаба» (24 января 1938 г.), «О переговорах министров иностранных дел Англии и Польши» (5 февраля 1938 г.) указывают на вероятность того, что контакт с Кобылянским продолжал поддерживаться, несмотря на его обвинения в двурушничестве[396].
Это значит, что либо к февралю 1938 года он действительно продолжал сотрудничать с советской разведкой, либо в аппарате польского МИД действовал еще один ее высокопоставленный агент. Последнее предположение возможно, но маловероятно. Учитывая сам характер документов и высокий служебный уровень корреспондентов, можно скорее согласиться с первой версией. В таком случае получается, что, озвучивая в письме от 11 августа 1937 года факт «сотрудничества» Кобылянского с польской разведкой в качестве агента-двойника, его авторам либо не было ничего известно о продолжении работы с ним в Варшаве, либо они не согласовали соответствующий раздел письма с руководством ИНО ГУГБ НКВД СССР.
В любом случае этот пример демонстрирует ситуацию организационного хаоса и неразберихи, царивших в то время в кабинетах на Лубянке, когда «левая рука не ведала, что творит правая». Обнародование же в письме имени действующего ценного агента, информация которого в течение семи месяцев продолжала поступать Сталину и Молотову, само по себе является вопиющим фактом расконспирации.
Возвращаясь к тематике «секретного» польско-германского договора и информации о существовании такового, переданной Кобылянским, обратимся к упоминавшемуся ранее агентурному сообщению «О встрече министра Ю. Бека с французским политиком де ля Роком». К сожалению, этот важный документ, кроме косвенных указаний, содержащихся в самом тексте, не имеет ни одной рабочей пометки, по которым его можно датировать. Попробуем хотя бы приблизительно определить дату подготовки этого агентурного сообщения.
Учитывая, что документ подписан Артузовым как начальником ИНО, который, как известно, с мая 1934 года приступил к исполнению обязанностей начальника 4-го (разведывательного) Управления РККА, он не может быть датирован позже указанного срока. Содержащееся в тексте высказывание начальника Главного штаба Польши генерала Гонсиоровского о подготовке терактов (не позже 15 февраля) в отношении Постышева и Косиора также ограничивает время подготовки документа серединой февраля 1935 года. Указания на декабрьские 1934 года переговоры Бека с англичанами (группа Нормана – Хейлша) и французами (де ля Рок) позволяют нам ограничить время подготовки документа максимум январем – серединой февраля 1935 года.
Возможно, именно в этот временной промежуток укладывается ознакомление Кобылянского с текстом «секретного добавления». Процитируем часть 4-го раздела агентурного сообщения «Развитие польско-германских отношений»: «Наш агент категорически утверждает (так как сам читал), что к известному и официально опубликованному пакту о неагрессии в течение десяти лет между Польшей и Германией, заключенному 26 сентября 1934 года, имеется секретное добавление, подписанное того же 26 января 1934 г.
В силу этого добавления взамен за священное обязательство Германии ни в каком случае не выступать против Польши как самостоятельно, так и в коалиции с другими государствами Польша взяла на себя обязательство по отношению к Германии, которое имеет следующую редакцию (текст этого секретного добавления написан на немецком и польском языках): “В случае непосредственного или посредственного нападения на Германию – Польша соблюдает строгий нейтралитет даже и в том случае, если бы Германия вследствие провокации была вынуждена по своей инициативе начать войну для защиты своей чести и безопасности”.
Наш агент считает это добавление ликвидацией со стороны Германии Раппальского договора взамен за обязательство Германии не поднимать вопроса о ревизии своих восточных границ за счет Польши, т. е. за счет Коридора, Данцига и Верхней Силезии, иначе как только мирным путем – путем доброжелательного двустороннего соглашения.
Наш агент узнал о существовании этого секретного добавления к договору лишь на днях. Он придает ему исключительно важное значение, считая, что Польша согласно смысла этого добавления уже год тому назад порвала франко-польский союз, так как этот пункт в польско-немецком протоколе есть не только джентльменское соглашение Гитлер – Пилсудский, – это уже обязательство между государствами.
В связи с этим наш агент должен изменить свое прежнее личное мнение о том, что без Франции, только с одной Германией, Пилсудский якобы никогда не решится на войну против СССР. Поскольку дело зашло так далеко, наш агент вообще стал серьезнее относиться к известным планам Гитлер – Пилсудский. По мнению агента, при наличии вышеупомянутого добавления к договору следует считаться с возможностью войны против СССР без участия Франции, т. е. силами Германии и Польши в Европе при участии Японии на Востоке.
Наш агент считает угрозу войны тем более вероятной, если учесть известную позицию Англии, которая обеспечит во всяком случае нейтралитет Франции. Со слов Гонсиоровского агент передает, что когда условием подписания официального пакта о неагрессии Германии поставила принятие вышеизложенного секретного добавления, то Пилсудский произнес такую фразу: “Случается, что как для народа, так и для отдельной личности отсутствие смелости является самым большим несчастьем”.
Наш агент теперь настроен не так скептически, как раньше, в отношении планов Гитлер – Пилсудский и говорит, что положение весьма серьезное и что от сумасбродного авантюриста Пилсудского можно всего ожидать, а следовательно, надо быть начеку»[397].
Сейчас сложно что-либо определенно сказать по существу процитированного отрывка и, соответственно, на его основе оценить саму возможность существования «добавления». Несомненно лишь, что эта информация советским руководством была воспринята весьма серьезно, как еще одно доказательство враждебной политики Польши по отношению к Советскому Союзу.
Если исходить из того, что подобных «добавлений» в природе никогда не существовало, то возникает естественное предположение, что эта часть агентурного сообщения была кем-то инспирирована.
В таком случае сам агент стал вольным или невольным источником распространения дезинформации. Учитывая, что другие, то есть не содержащиеся в тексте агентурного сообщения, данные для такого анализа отсутствуют, попробуем проанализировать процитированный отрывок.
Указанный раздел сообщения обращает на себя внимание твердой уверенностью, с которой агент советской разведки говорит о существовании «секретного добавления» (сам читал). Но из сообщения непонятно, в каком виде ему стал доступен его текст. Не известно, были ли это официальные служебные документы польского МИД, черновые или рабочие записки. Обращает также на себя внимание отсутствие в тексте «закавыченных» (цитированных) германских обязательств по отношению к Польше, хотя, по логике, именно эта часть «добавления» для польской стороны была наиболее важной.
Кроме того, из контекста его комментариев следует, что до ознакомления с текстом «добавления» он полностью исключал возможность совместного выступления Польши и Германии против СССР, без участия Франции. Высказывание генерала Гонсиоровского косвенно указывает на то, что именно он был источником сведений агента о самом «добавлении» и обстоятельствах, предшествовавших его подписанию. В таком случае эти сведения исходили не из польского МИД как основного места службы Кобылянского, а из Главного штаба, с которым агент постоянно находился в рабочем контакте. А если это так, то вероятность инспирации поляками текста «добавления» возрастает.
Но в этой связи возникает вопрос: был ли сам Кобылянский сознательным распространителем дезинформации или невольно стал участником мероприятий польской разведки по ее актуализации? Как в большинстве аналогичных вопросов, он останется безответным.
Важные, но все же косвенные объяснения вероятности распространения поляками дезинформации об «особом» характере польско-германских отношений в целом и о существовании «секретного» добавления в частности содержатся в другом агентурном сообщении, датированном 29 июня 1934 года. Характер содержащихся в нем сведений, а также ссылки на личные беседы советского агента с Беком, Гонсиоровским, Фабрыцы могут свидетельствовать о том, что этим агентом также был Тадеуш Кобылянский.
Так, в разделе III сообщения, посвященного реакции польской дипломатии на франко-советское сближение, продемонстрированное в ходе июньской 1934 года Женевской конференции, сказано:
«Чрезвычайно обеспокоила Пилсудского тактика Франции и СССР на последней конференции в Женеве. Тактика Барту – Литвинова была понята так, что наступает реальность союза СССР с Францией, Малой Антантой. Это застигло Бека в Женеве врасплох. Когда Пилсудский получил от Бека телеграмму о создавшемся положении в Женеве, он немедленно после получения телеграммы Бека дал следующие телеграфные указания:
а) Беку – лавировать, ни в коем случае не доводить до разрыва с Францией.
б) Липскому – немедленно переговорить с Гитлером и организовать приезд в Варшаву Гитлера или его ближайшего соратника в целях демонстрации и предупреждения для Франции в связи с возможностью франко-советского союза.
в) Гонсиоровскому – сообщить Дебнею, чтобы задержал свой приезд или приезд генерала Петена в Варшаву для переговоров по вопросу о франко-польском военном союзе…»[398].
В приведенном отрывке, во-первых, обращает на себя внимание сама последовательность конкретных действий польской дипломатии, главными из которых (пункт а) являются установка на маневрирование, имевшее целью недопущение окончательного разрыва польско-французских отношений. Соответственно, второй пункт можно расценить как средство нажима на французов, другими словами, откровенного шантажа, для недопущения перевода франко-советских отношений в область союзнических, чего Пилсудский ни в коем случае не хотел допустить.
Если в качестве средства давления на Францию в тех условиях предусматривалась организация визита главы соседнего государства, то уж подготовку и распространение в следующем году по каналам польской разведки «состряпанного» текста германо-польского «секретного» добавления вполне можно предположить как действие в рамках той же политики при реализации конкретного оперативного замысла.
Повторим, что мы не ставим целью доказывать или опровергать факт существования «секретного приложения». Эту задачу при существующей источниковой базе решить невозможно. На наш взгляд, использование же в аргументации в пользу реальности существования «приложения» вторичных источников непродуктивно. К числу таковых относится, например, текст польско-германского «секретного договора», опубликованный 20 апреля 1935 года в «Правде» и «Известиях» и являвшийся, в свою очередь, перепечаткой из французской провинциальной газеты «Bourbonnais republican» за 18 апреля того же года[399].
Кстати, сама скорость опубликования в центральных советских газетах текста «договора» косвенно может свидетельствовать о прямом участии НКИД и советской разведки в актуализации тематики германо-польских «секретных» договоренностей путем размещения в зарубежных СМИ соответствующих материалов. В пользу этой версии свидетельствует подобная акция, проведенная по инициативе высшего руководства СССР годом раньше.
Речь идет об обнародовании через французскую прессу полученных по каналам советской разведки сведений о ходе и результатах женевских переговоров Геббельса и Бека в апреле 1933 года. 19 января 1934 года Сталину было направлено агентурное сообщение с информацией о предмете переговоров и источнике сведений о них – секретаре министра иностранных дел Франции Поль-Бонкура Журдена. Весной этого же года заместитель наркома иностранных дел Б. Стомоняков направил полпреду СССР во Франции В. Довгалевскому письмо, в котором последнему предлагалось принять меры к скорейшему опубликованию «в близких нам французских газетах с последующей передачей напечатанного в Москву по линии ТАСС» полученного в «секретном порядке» сообщения о переговорах Геббельса – Бека[400].
Вернемся к вышеизложенному и сравним принципиальные положения агентурного сообщения Кобылянского с текстом «договора», опубликованным в газете «Bourbonnais republican». Само сравнение приведенных в агентурном сообщении и опубликованных в СМИ текстов указывает на отсутствие и текстуальной, и смысловой тождественности. Так, в агентурном сообщении упор сделан на обязательстве Польши придерживаться строгого нейтралитета в случае «провокации» в отношении Германии. В опубликованном же в прессе тексте «секретного договора» в пункте 4-м сказано: «Высокие договаривающиеся стороны обязуются объединить их военные, экономические и финансовые силы, чтобы отразить всякое неспровоцированное нападение и оказывать поддержку в случае, если одна из сторон подвергнется нападению»[401].
Такой вариант предполагает полноценный военно-политический союз Польши и Германии, направленный против Советского Союза.
Сами текстуальные различия разных редакций «договора», равно как и разночтения по его существу, могут свидетельствовать о том, что их «вбрасывание» в информационное поле является частью дезинформационных кампаний различных правительственных и политических институтов разных стран. В этом случае, в условиях межгосударственных противоречий в Европе, заинтересованных сторон в актуализации проблематики польско-германского «секретного договора» было более чем достаточно. Но для разработки версий об «авторстве» таких вариантов данных явно недостаточно.
Попробуем рассмотреть такую возможность на известных примерах деятельности польской разведки во Франции. Сразу скажем, что, несмотря на интересные и примечательные совпадения, связанные с именами Лигоцкого, Цмели и Жимерского, точку в этой истории ставить еще рано.
В межвоенное двадцатилетие позиции польской разведки во Франции были традиционно сильны. Несколько не связанных между собой агентурных групп активно действовало в среде польской, украинской, российской, германской политической эмиграции, позволяя не только фиксировать post-factum события, но и оказывать влияние на происходящие процессы в выгодном для себя направлении. Они входили в состав нескольких резидентур польской разведки.
Так, под прикрытием польского посольства в Париже с октября 1932 года действовала резидентура «Martel», до февраля следующего года руководимая Францишеком Залевским. С указанного времени его обязанности исполнял Цезары Невенгловский[402].
Указанная плацувка специализировалась на русской и советской проблематиках. Через свою агентуру она отслеживала внутренние процессы в среде русской эмиграции и стремилась выявлять советское влияние на французскую внешнюю политику. Примером информационной деятельности плацувки служит сообщение от 25 августа 1933 года, в котором речь идет о прибытии во французскую столицу группы советских агентов во главе с неким Ильей Романовичем Куртцем, о котором было известно, что он по национальности является немцем русского происхождения. Во время Первой мировой войны, находясь в Румынии, работал в интересах русской военной разведки. По сведениям поляков, к числу задач, поставленных перед последним в Париже, относилось проведение акций по дискредитации перед французскими властями наиболее непримиримых по отношению к СССР эмигрантов[403].
От некоего Маркатуна, являвшегося агентом плацувки, были получены сведения об использовании советской разведкой ночного кабаре «Chez le Viking» на Монпарнасе, фактической хозяйкой которого являлась бывшая гражданка СССР Сузина. По полученной поляками информации, последняя в недалеком прошлом была служащей советского полпредства в Париже. Объявив себя «невозвращенкой», тем не менее она поддерживала связь с советскими работниками, от которых получала деньги на содержание кабаре. К числу его постоянных посетителей, по данным плацувки, относились Д. Беседовский, Б. Лаго и некий Артур Бай (Волгин), которые, как считали польские разведчики, являлись агентами ОГПУ[404].
Французкая разведка, напротив, полагала, что Артур Бай работал на немцев, подтверждением чему, по мнению ее сотрудников, являлась информация о ходатайстве в зачислении на службу в иностранный отдел министерства пропаганды Германии.
Под прикрытием Генерального консульства Польши в Лионе действовала другая резидентура 2-го отдела Главного штаба под условным названием «Rodan». В Страсбурге – «Zula», в основном решавшая задачи по агентурному проникновению в германские объекты.
В 1934 году реферат «Запад» 2-го отдела Главного штаба в Париже под руководством Казимежа Врублевского создал еще одну плацувку, получившую криптоним «В» и нацеленную на вербовочные задачи в среде германской политической эмиграции.
В конце августа 1936 года все эти аппараты, в части решения специальных заданий, были подчинены единому координационному центру польской разведки во Франции – резидентуре под условным наименованием «Lecomte». Возглавил эту точку ротмистр Михал Балиньский. Он, будучи по своему опыту и профессиональной специализации «восточником», вначале мало что смыслил в специфике разведки на западе Европы, и прежде всего в Германии. Большую помощь в освоении нового участка работы ему на первых порах оказала его секретарша София Фризендорф, имевшая значительные познания о Германии в целом и о деятельности германской разведки в частности[405].
Но ее «познания» были весьма специфического свойства. В реферате «Запад» имелись какие-то смутные подозрения о возможной утечке информации из парижской резидентуры к немцам, а одной из подозреваемых и была пани Зося.
Чтобы развеять их или убедиться в их правомерности, с инспекционной миссией в Париж был направлен начальник реферата полковник Шумовский. Чтобы составить личное впечатление о Софии Фризендорф, он пригласил ее в кафе и предложил за чашкой кофе поближе познакомиться. В начале беседы она проявила некоторую нервозность. Когда речь зашла о «приятностях» парижской жизни – театрах, моде, музеях, пани Зося избавилась от волнения и с интересом общалась с полковником.
А вот переход беседы к обсуждению политических событий и их оценке поставил перед Шумовским множество вопросов. В частности, Фризендорф, со свойственной ей эмоциональностью, с энтузиазмом поддержала Гитлера и проводимую им политику в отношении евреев, высказалась в духе поддержки «национального социализма» как противовесе мировому коммунизму и т. д.
Шумовский был озадачен. С одной стороны, такие взгляды кадрового сотрудника польской разведки были высказаны открыто и эмоционально, невзирая на должностное положение Шумовского, и свидетельствовали как минимум о действительно неблагополучном положении в резидентуре. С другой – такая откровенность в выражении симпатий к Гитлеру с профессиональной точки зрения заставила Шумовского усомниться в правильности изначальных подозрений в отношении Фризендорф. Если бы она действительно была агентом германской разведки, то вряд ли бы себе позволила столь явное выражение своих политических пристрастий в беседе с проверяющим из Центра.
Решение вопроса о целесообразности дальнейшей работы Софии Фризендорф зависло, когда Шумовскому стало известно, что на службу в разведку она пришла по протекции друга своего родного брата – подполковника Тадеуша Скиндера.
Одним из результативных агентов плацувки «Lecomte» считался некий «Болт», поддерживавший контакты с немецким антифашистом Хельмутом Клотцем и другим политэмигрантом из Германии, скрытым под псевдонимом «Майлз». От последнего польская разведка получала много информационных сообщений о развитии Вермахта, особенно по вопросам его обеспечения новыми образцами вооружения и технологии их изготовления[406].
Среди множества агентов, замыкавшихся в своей работе на указанные плацувки, нас будут интересовать две персоны. Первым был известный польский писатель и публицист Эдвард Лигоцкий. Второй имел рабочие псевдонимы «Франек» и «Джево», но друзья, партнеры по бизнесу и руководители из польской разведки знали его также как Владислава Цмелю. Польские источники считают его одним из самых успешных агентов 1930-х годов.
В «Обзоре внутренней и внешней политики Польши» за 1935 год, подготовленном советской внешней разведкой на основании информации ее парижских источников, читаем:
«…а) В начале с. г. (1935 г. – Авт.) в Париж приехал сын генерала Галлера, который через парижские связи отца (писатель Лигоцкий) пытался установить контакт с французским генеральным штабом…
б) Писатель Лигоцкий и молодой Галлер по поручению оппозиционного центра в Польше находятся в постоянных сношениях с разведывательным бюро французского штаба, который требует от них максимальной конспирации, т. к. от этого, как выразились в штабе, всецело зависит судьба установившихся отношений…»[407].
Писатель и публицист Эдвард Лигоцкий действительно, являясь противником режима Пилсудского, до определенного времени активно участвовал в политической конспиративной деятельности польской оппозиции. Но в польских архивах также содержатся сведения о его сотрудничестве со 2-м отделом Главного штаба.
В частности, из этих материалов следует, что ключевую роль в привлечении Лигоцкого к сотрудничеству с польской разведкой сыграл прибывший зимой 1936 года в Париж известный польский писатель, журналист и путешественник Януш Макарчик. Только немногие знали истинную цель его приезда во Францию. Как бывший польский дипломат и разведчик, он, среди прочих разведывательных задач, должен был принять участие в вербовке Лигоцкого, который позиционировал себя как противника Пилсудского и его преемников. Перед Макарчиком стояла конкретная задача – уговорить Лигоцкого вернуться в Варшаву для «консультаций».
Чем Макарчик привлек Лигоцкого, не известно, но последний был несколько позже завербован лично начальником 2-го отдела Главного штаба подполковником Стефаном Майером в известном варшавском ресторане «Адрия». Он стал высокооплачиваемым агентом «двуйки» с заданием освещения внутриполитической ситуации во Франции, а также изучения деятельности польской и украинской эмиграции, особенно в части ее контактов с СССР[408].
Польский исследователь Булгак считает, что Лигоцкий использовался польской разведкой как агент влияния и сыграл значительную роль в реализации ее замыслов по задержке «эрозии» польско-французского союза в условиях франко-советского сближения. Соответственно, в условиях парижских интриг он вполне мог использоваться 2-м отделом в распространении различного рода дезинформирующих сведений, в том числе о существовании «секретного договора»[409]. Правда, следует учесть, что возможное участие Лигоцкого в дезинформационных акциях может быть датировано периодом после зимы 1936 года (миссия Макарчика в Париже), а значит, сведения о существовании «секретного приложения», имевшие особую актуальность в 1934 году, не могли исходить от него.
Другой агент польской разведки, Владислав Цмеля, родился в 1897 году. В годы Первой мировой войны служил в польских легионах, а во время Первого Силезского восстания действовал в тылу германских формирований, выполняя разведывательные и диверсионные задания 2-го отдела Верховного командования Польши. В 1923 году Цмеля переехал в Париж, где сотрудничал с разными польскими и французскими изданиями в качестве журналиста. Позже он переквалифицировался в бизнесмена. На этом поприще зарекомендовал себя как успешный и предприимчивый торговец, причем одним из направлений его деятельности была торговля оружием, что в то неспокойное время предполагало наличие связей в узких, хорошо информированных чиновничьих, военных и дипломатических кругах[410].
В ходе упоминавшейся выше инспекции полковник Шумовский встречался с Цмелей и в своих воспоминаниях поделился неблагоприятными впечатлениями о личности агента. В частности, он обратил внимание на «нахальное» выражение лица Цмели, безапелляционность его суждений, некритичность в оценках и высказываниях. Агент также обвинял Фризендорф в сотрудничестве с германской разведкой, впрочем, серьезных доводов в пользу своего предположения не представил. Много говорил о своих заслугах, требовал прибавки к денежному вознаграждению, короче, произвел на проверяющего крайне отрицательное впечатление[411].
Но капитан Мечислав Курчевский, руководивший агентом, невзирая на его характер, использовал информационные и другие полезные для польской разведки возможности Владислава Цмели «на полную». Отдельная направленность работы последнего как агента затрагивала крайне болезненную для польского правительства сферу – подпольную деятельность польской оппозиции во Франции и в самой Польше.
Одним из источников Цмели в этих кругах являлся бывший бригадный генерал Войска Польского, а по совместительству… агент иностранного отдела ОГПУ (ГУГБ НКВД) СССР Михал Жимерский (Роль). Польские историки на основании официальных документов ПНР уже давно пришли к выводу о сотрудничестве Роля-Жимерского с органами советской разведки в 1930-е годы[412].
Из польских же источников, основанных на сохранившихся документах 2-го отдела Главного штаба и части личного архива самого Цмели, следует, что последний и Жимерский были не просто знакомыми, но и близкими друзьями.
Более того, Цмеля, готовя агентурные отчеты во 2-й отдел, прямо называл Жимерского своим агентом, причем агентом «идейным», то есть не берущим денежного вознаграждения за свою работу. Когда в начале 1950-х годов часть личного архива Цмели попала в распоряжение следственных органов ПНР, стало известно, что он как минимум с 1935 года начал целенаправленно разрабатывать связи Жимерского в оппозиционных Пилсудскому кругах, в том числе с использованием контроля за его перепиской и телефонными разговорами.
Характеризуя бывшего генерала, Цмеля ясно указывал на его принадлежность к Польской коммунистической партии и считал, что он и в Париже продолжал сотрудничать с коммунистами. Отдельно Цмеля останавливался на связях Жимерского с французской и германской политической полицией. Кроме него, источником информированности 2-го отдела о принадлежности Жимерского к коммунистам были и другие лица[413].
Для того чтобы попытаться идентифицировать источник некоторых важных документов Сборника и «окунуться» в мир «парижских тайн» разведки, обратимся к личности Михала Жимерского (Роля).
Как и значительное число высших польских офицеров, Жимерский был выходцем из первой бригады польских легионов. После окончания учебы в Высшей военной школе в Париже в 1925 году в звании бригадного генерала был назначен на должность заместителя начальника Администрации армии по делам вооружений. Видно, занимаемая должность была полна соблазнов по части, говоря современным языком, получения «откатов» с поставщиков военного снаряжения, что и привело к скандальному завершению военной карьеры Жимерского. В результате судебного разбирательства он был признан виновным в получении взяток и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Не отсидев и половины положенного по приговору суда срока, Жимерский был выпущен на свободу и отбыл во Францию, где предположительно в 1931 году и был завербован советской разведкой.
Другое объяснение его ареста связано с версией о том, что Жимерский до майского переворота 1926 года был активным сторонником известного противника Пилсудского генерала Юзефа Галлера, эмигрировавшего после трехдневных боев за границу, а судебный процесс был инициирован врагами генерала. Эта версия также имеет под собой много оснований, так как после переворота многие высшие офицеры Войска Польского, не являвшиеся сторонниками санации, были просто изгнаны из вооруженных сил под различными предлогами.
Куратором агента, с учетом его больших возможностей и значимости для советской разведки, был сам парижский резидент ИНО ОГПУ Юрий (Ежи Францишек) Маковский. Возможно, и саму вербовку Жимерского провел он, поскольку известно, что они были знакомы как минимум с 1914 года по совместной деятельности в ППС (революционная фракция) и Союзе стрельцов[414].
Личные связи в интересующих разведку кругах сделали Жимерского в глазах советского руководства ценным агентом. Информация, получаемая по этому каналу, затрагивала и тематику польско-французских отношений, и вопросы деятельности 2-го отдела Главного штаба Войска Польского, и другие проблемы, представлявшие интерес для советской разведки. Родной брат Михала Жимерского Станислав был также задействован в парижской агентурной сети ИНО в качестве связника и самостоятельного источника информации.
После возвращения в Варшаву в 1933 году Михал Жимерский для поддержания связи примерно четыре-пять раз в год выезжал в Данциг на личные встречи с резидентом или его представителем, в ходе которых обсуждались оперативные вопросы, корректировались разведывательные задания и т. д. В остальное время связь поддерживалась через почтовую переписку. Советская разведка снабдила Жимерского несколькими адресами в Париже и Москве, куда он направлял агентурные сообщения почтовыми отправлениями с использованием симпатических чернил.
Вернувшись в 1934 году в Париж, Жимерский продолжил сотрудничество с Маковским или его представителем «Александром» (возможно, Александр Завадский) вплоть до конца 1937 года, пока, по понятным причинам, контакт с ним не был прерван[415].
Свои агентурные материалы М. Жимерский готовил на основании информации как минимум трех субисточников: известного политика и будущего министра эмиграционного польского правительства Кароля Попеля (политические сведения), бывшего командира 30-го пехотного полка полковника Исидора Модельского (военная и военно-политическая информация), Феликса Млынарского (экономика). Они были завербованы Жимерским, пользуясь разведывательной терминологией, «на чужой флаг», считая его представителем подпольных «антисанационных» сил, возглавляемых генералом Сикорским[416].
Цмеля, в свою очередь, зная о подпольной деятельности Жимерского, акцентировал внимание своих руководителей в польской разведке именно на этом аспекте работы своего друга, считая его активным сторонником «национально-революционного движения» и его лидера генерала Янушайтиса. Тем более что такая информация исходила от самого Жимерского.
Польские лидеры оппозиции, проживавшие в эмиграции, никогда не скрывали своего отвращения к режиму «санации» и ее вождям Пилсудскому, Беку, Рыдз-Смиглы и др. Генералы Сикорский и Галлер, близкие им «людовцы», профессор Станислав Кот, Мацей Ратай, бывший премьер-министр Игнацы Падеревский, все они считали, что в угоду своему немереному честолюбию Юзеф Бек готов поступиться интересами Польши и пойти в услужение к Гитлеру. Они полагали, что под прикрытием провозглашенной Беком политики «равновесия» Польша является «тихим» союзником Германии в ее устремлениях на Восток. И нужно прямо сказать, что веские и серьезные основания так оценивать внешнеполитический курс Польши у них были.
В «Обзоре внутренней и внешней политики Польши», подготовленном на основании агентурного сообщения, исходящего от «серьезных польских источников», читаем:
«Ген. Галлер: Известный своими французскими симпатиями, генерал Галлер говорит, что теперь уже не подлежит никакому сомнению, что между Германией и Польшей имеется секретный военный договор, направленный против СССР. По данным Галлера, этот договор обеспечивает Германии на случай войны с СССР организацию в приморской области Польши этапных пунктов и особых сил по обслуживанию немецких военных транспортов. Обосновавшись таким образом на польской территории, немцы с момента окончания военных действий автоматически завладеют всей этой территорией. Пилсудский не придает должного значения западным польским границам и готов отказаться от Поморья в целях осуществления своих фантастических планов в отношении Украины и Литвы. Но эта преступная политика, как говорит Галлер, встретит должный отпор всей польской общественности.
Генерал Сикорский: Генерал Сикорский обратился к Падеревскому с предложением выпустить специальное обращение по поводу внешней политики Бека, подвергнув острой критике его немецкую ориентацию. Падеревский с этим предложением не согласился, считая, что критика политики Бека явится лишь односторонней критикой всего режима Пилсудского.
Сикорский уверен, что между Германией и Польшей существует секретный военный договор, на основании которого судьба польского Поморья окончательно решена в пользу Германии. По мнению Сикорского, Польша оставит лишь за собой железнодорожную магистраль Катовицы – Гдыня, которая будет связывать Польшу с морем, сам порт Гдыня станет вольным городом. Польша в компенсацию за это получила бы Литву с Мемелем, который станет польским портом в Балтийском море.
Полковник Блешинский: Военный атташе во Франции полковник Блешинский в узком кругу говорил, что “польско-немецкий союз преследует более серьезные цели, чем нормализацию польско-немецких отношений. Старый игрок, как назвал Пилсудского Блешинский, не даст себя обмануть молодому Гитлеру, и он его использует для крупной политической игры, о чем мы только в будущем узнаем”. Эти слова Блешинского были поняты в том смысле, что польско-немецкие отношения скреплены военным союзом, за которым скрываются агрессивные планы обоих союзников по отношению к восточным соседям»[417].
Процитированный отрывок агентурного сообщения во многом проясняет роль агента советской разведки в актуализации тематики существования «секретного договора» и позволяет нам высказаться по существу вопроса.
Во-первых, тот факт, что сведения исходят из кругов польской оппозиции, указывает на большую вероятность того, что одним из их источников для советской разведки был именно Михал Жимерский (Роль).
Во-вторых, из контекста высказываний польских генералов Галлера и Сикорского, хотя и весьма информированных, но все же далеких от первоисточников (МИД, Главный штаб) лиц, следует, что они основаны больше на анализе лично доступной им информации и мотивированной убежденности, нежели на документальных источниках (в сравнении с тем же Кобылянским, который «сам читал»).
В-третьих, в агентурном сообщении отсутствуют указания на то, каким образом агенту стали доступны содержащиеся в нем сведения, включая высказывания Галлера, Сикорского и Блешинского. Можно только предположить, что для агента их «ретранслятором» были упоминаемые выше Попель, Млынарский и Модельский. Но с таким же успехом мы можем предположить, что Жимерский передал в Москву сведения о договоре со слов своего «друга» Цмели.
На основании указанных источников невозможно делать какие-либо определенные выводы. Но обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Информация советских агентов находилась в русле циркулировавших по всей Европе слухов и предположений о существовании «дополнения», «секретного протокола» и т. д.
Заместитель польского военного атташе в Париже майор Густав Ловчович в одном из своих донесений в Центр писал: «Не исключено, что веру многих представителей мира французской политики о существовании секретной польско-французской конвенции разделяют и военные круги. В таком случае, Россия становится естественным союзником Франции, а сотрудничество с советской армией является приоритетом»[418].
Эти слухи являлись питательной средой для различного рода интриг, далеко идущих предположений и политических комбинаций. Также обращает на себя внимание политическая ситуация в Европе, на фоне которой и появлялись указанные слухи. Это было время активных дипломатических переговоров между Францией, Польшей, СССР, Великобританией по условиям подписания Восточного пакта, одной из попыток, прежде всего, руководства Франции, Чехословакии и СССР положить предел реваншистским устремлениям Германии. Польша, как известно, выступая против своего участия в Восточном пакте, активно интриговала против его заключения, так как, в случае его подписания, позиции Советского Союза заметно улучшались.
И исключать возможность инспирации подобных сведений какой-нибудь европейской спецслужбой или политической группировкой нельзя. Польский исследователь Булхак считает, что одним из возможных инициаторов могла выступить и сама польская разведка. При этом он ссылается на высказывание генерала Казимежа Соснковского, который писал: «Я всегда понимал, что вся та работа (польско-германская декларация и ее последствия) направлена на то, чтобы вернуть Францию»[419].
И действительно, командование 2-го отдела в своей практической деятельности руководствовалось своеобразным «духом» внешнеполитической доктрины Пилсудского как непререкаемого авторитета в этой области. Его убежденность в том, что в грубой международной игре робкие и пассивные всегда проигрывают, а активные и целеустремленные, наоборот, выигрывают, проецируясь на сферу деятельности разведки, заставляла ее руководство активно использовать все возможности для проведения различного рода дезинформационных операций и отдельных акций, направленных на оказание содействия своему внешнеполитическому ведомству в реализации его задач.
В этих целях генералом Галлером, еще в его бытность начальником Генерального штаба Войска Польского, была подписана инструкция, регламентирующая порядок подготовки и проведения дезинформационных мероприятий под весьма характерным названием – «Инспирация и активность как методы современной разведки». Вначале эта инструкция предназначалась к использованию в рамках деятельности официальных военных представителей Польши за рубежом – военных атташе. Позже она была принята к исполнению на всех уровнях аппарата польской разведки. Все положения этой инструкции, объясняющие необходимость проведения дезинформационных мероприятий, в концентрированном виде выражены в тезисе «первый удар – лучшая защита». Офицер разведки, пассивно исполняющий свои профессиональные обязанности, подобен полевому офицеру, отдавшему инициативу в руки противника. Знание планов и намерений противника и активное на них воздействие – ключ к успеху в любой области противоборства. Подобными дефинициями была наполнена инструкция[420].
Практическая реализация этих теоретических установок включала в себя целый комплекс политических, информационно-аналитических и оперативных мер. Применительно к последним можно говорить о том, что польская разведка как важный государственный институт Второй Речи Посполитой на плановой основе регулярно проводила многочисленные оперативные игры со спецслужбами противника, имея целью, путем направления туда тщательно подготовленных сведений, побуждение правительств этих стран к принятию выгодных польской стороне внешнеполитических и военных решений.
Реализацией задач по дезинформированию правительств иностранных государств во 2-м отделе Главного штаба занималось сформированное в 1926 году при реферате «Ц» (С) подразделение, в переписке значившееся как Экспозитура L.IV, а позже отдельный реферат «I» (инспирационный). К практическим задачам этого аппарата относились подготовка и проведение своими силами и средствами дезинформационных мероприятий, а также с использованием возможностей других разведывательных органов 2-го отдела. Кроме того, сотрудники аппарата занимались координацией этого специфического вида деятельности в масштабах всей польской разведки.
Реферат «I» самостоятельно либо с привлечением компетентных специалистов готовил разнообразные документы, содержащие дезинформирующие сведения, которые реализовывал через собственную либо привлеченную агентуру других органов. Так, в рамках двух из таких операций противнику в 1930 году были «проданы» сфабрикованные мобилизационные таблицы штаба IV корпуса (Лодзь) и секретные материалы штаба флота. При проведении этих операций задействованная в них агентура старалась максимально поднять цену за предлагаемую документацию, продавая ее по частям. Например, за раздел по артиллерийскому вооружению – 376 данцигских гульденов, 1700 марок за раздел по мобилизационной готовности пехотных частей и т. д.
Годом раньше, в рамках операции «Ковальский», проводимой в отношении варшавской резидентуры советской разведки, поляки продали за 500 долларов сфабрикованные мобилизационные документы штаба V корпуса (Краков). Тогда же, в рамках операции «Радтке», германской разведке были переданы аналогичные материалы.
Всего с 1926 по 1930 год советской и германской разведкам было продано 430 документов, содержащих дезинформационные сведения. Как минимум немцы приобрели 176 документов, заплатив за них 2700 марок, 311 гульденов и 850 злотых. Советская разведка за 120 документов заплатила 1250 долларов, 1128 злотых, 700 марок. Для сравнения, англичане приобрели 10 документов, литовцы – 2, латыши – 1[421].
Советская разведка о «военном заговоре»
На эту тему российскими и зарубежными авторами написаны десятки, если не сотни работ, но однозначного и твердо обоснованного ответа на вопрос, так существовал ли «военный заговор», на сегодняшний день нет. В научный оборот за последние два десятилетия было введено большое число ранее неизвестных секретных источников, позволяющих по-новому взглянуть на проблематику репрессий в Красной армии и органах безопасности СССР. Но, несмотря на такое «обилие» публикаций по теме, авторы убедительных доказательств наличия или отсутствия «заговора» не представили. И упрекать их в этом нельзя, потому что источники, находящиеся в научном обороте, носят противоречивый характер и не дают в своем большинстве объективных данных. Это обстоятельство приводит к тому, что авторы, занимающиеся проблематикой репрессий в Красной армии, одни и те же источники интерпретируют по-разному и, соответственно, делают взаимоисключающие выводы[422].
В качестве примера укажем на один из основных первоисточников по заявленной теме – Справку комиссии Президиума ЦК КПСС «О проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и партийными органами тт. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим военным деятелям, в измене Родины, терроре и военном заговоре»[423]. Этот обстоятельный документ весьма тенденциозен и в совокупности своих выводов категорически отрицает участие указанных представителей высшего военного руководства страны в организации «военного заговора».
При этом обращает на себя внимание изначально заданная апологетическая направленность всего документа, обусловленная понятными задачами реабилитации советского командования времен «хрущевской оттепели». Соответственно, факты, содержащиеся в нем, подобраны таким образом, что вывод о непричастности упомянутых в нем лиц к инкриминируемым им деяниям, по замыслу авторов документа, должен напрашиваться сам собой. Но, на наш взгляд, достигается прямо противоположный эффект. Поясним наш скепсис чуть позже, а пока сделаем небольшое отступление, чтобы определиться как с общепринятой терминологией, так и терминологией, используемой авторами Справки.
Само понятие «дезинформации» в своих основных определениях предполагает распространение (доведение) субъектом (инициатором) сфабрикованных дезориентирующих сведений до заинтересованного в получении правдивых данных объекта, имея целью его побуждение к восприятию дезинформации для принятия выгодных субъекту решений. При этом ключевым обстоятельством, отличающим дезинформацию от просто ложной, является, фигурально выражаясь, ее «злонамеренность», то есть подготовка и распространение на основании «злого умысла».
Применительно к нашему предмету, то есть тематике «военного заговора», все сказанное означает, что объектом (дезинформационного) воздействия могут выступать только высшее политическое руководство СССР, а субъектом (инициатором) – только правительства зарубежных государств. По определению, самостоятельными субъектами дезинформации отдельные государственные институты (МИД, спецслужбы) выступать не могут, а являются лишь средствами (инструментами) ее распространения. Это, конечно, не означает, что они не вправе инициировать соответствующие предложения, и чаще всего такие инициативы исходят от них. Но конечная точка в принятии решений остается все же за правительственными инстанциями, которые, в силу определяемой только ими политической целесообразности, могут либо «включить зеленый свет», либо вовсе запретить их проведение. Гипотетически, конечно, можно представить себе ситуацию, когда инициатором выступает какая-либо политическая группировка, но, строго говоря, такие ее действия не будут отвечать одному из главных требований операции по дезинформированию – централизации руководства и контроля за ходом ее реализации.
Из контекста раздела Справки «Об основных направлениях провокационной деятельности международных империалистических сил в “деле” Тухачевского» следует, что все упомянутые государства (Германия, Франция, Чехословакия, Япония, Польша, Эстония) осуществляли согласованные по замыслу дезинформационные мероприятия в отношении высшего руководства СССР, направленные на дискредитацию военного командования РККА. Применительно к политической обстановке в предвоенной Европе такая постановка вопроса выглядит неубедительной.
Вместе с тем, в Справке содержится много уникального фактического материала, который в сравнении с другими опубликованными источниками позволяет значительно расширить наши представления о существе проблемы[424].
В нашу задачу не входит анализ всего документа, и тем более мы не будем высказывать свое отношение к проблематике «заговора», но некоторые соображения по существу ряда частных вопросов мы возьмем на себя смелость высказать. Предметом дальнейшего анализа и будет один из таких вопросов: проводил ли Абвер в начале 1930-х годов (до 1933 года, если быть точным) дезинформационные мероприятия по дискредитации советского военного командования? При этом анализироваться будут только сведения, касающиеся деятельности трех агентов советской разведки, которые и являлись основными источниками информации о «заговоре».
Это даст нам возможность очередной раз убедиться в необходимости «сверхкритичного» отношения к документам советской разведки в целом и конкретным сведениям, содержащимся в них, в частности.
В разделе Справки «Дезинформации немцев о военном заговоре в СССР и участии в нем Тухачевского и других военачальников» в качестве источников сведений о «военном заговоре» названы известные нам агенты ИНО Поссанер, Хайровский и «А-256» (Аугуста). Фактическая сторона вопроса в справке в целом согласуется с опубликованными к настоящему времени источниками. Но авторы документа в оценке поступающих от агентов сведений пошли по простому и непродуктивному пути, что, повторим, было обусловлено конкретным политическим заказом в условиях «хрущевской оттепели». Они стали оценивать не их существо, а личности самих агентов, что привело к недостаточно доказанным суждениям. Другими словами, авторы Справки стали «подгонять» фактуру под заданный политический шаблон.
Из сохранившихся в архивах КГБ СССР дел на указанных агентов были извлечены документы, содержащие их негативные характеристики, высказанные в свое время сотрудниками ИНО в процессе руководства их деятельностью. Но нужно помнить, что это были сомнения практического свойства, от которых зависел исход важнейших разведывательных операций, а не «подсобный» материал для обобщенной справки ЦК КПСС.
Так, например, сотрудник берлинской нелегальной резидентуры ИНО Шнеерсон («Эрих»), у которого на связи находился Поссанер, в своем отчете о встрече от 26 января 1933 года писал: «Парень нахально врет. Денег “Сюрпризу” не дал, а нужного самообладания при всовывании нам фальшивой расписки у него нет… Врал он сегодня не только в связи с деньгами, но вообще, заявив мне на вопрос, почему нет ничего интересного, что Конрад, Росинг и Штельце – все трое заболели, что лишает возможности “Сюрприза” видеться с ними… Я еще раз сегодня подтверждаю свое мнение: с “А-270” больше не тянуть… если он еще сегодня не провокатор, а просто мелкий жулик, то он станет и провокатором из-за колоссальной жадности к деньгам».
Шнеерсон был бы плохим разведчиком, если бы принимал на веру все, что ему говорил Поссанер, и не исходил бы из самой возможности «подставы» последнего со стороны Абвера. Он в своем отчете просто зафиксировал свои сомнения о надежности последнего, основываясь на одном лишь эпизоде «присвоения» Поссанером денег, предназначенных для выплаты Хайровскому. Такие ситуации очень часто встречаются в практике разведработы, и если после каждого недоразумения такого рода на агенте ставить крест, то через короткий промежуток времени резидентуру придется «закрывать на замок» за отсутствием источников информации.
Несмотря на все сомнения такого рода, Лубянка и разведчики в Германии, не в пример авторам Справки, четко разделяли «субъективный» и «объективный» факторы. Они знали, что представлял собой Поссанер как человек, со всей его «жадностью» к деньгам, бахвальством, авантюристическими наклонностями. Причем эти впечатления основывались не только на опыте общения с ним. В проверочных мероприятиях был задействован старый и проверенный агент резидентуры Борнстедт («А-26»), который, являясь владельцем частного детективного бюро, проводил установочные мероприятия и наружное наблюдение за Поссанером. Кроме того, были получены какие-то сведения от другого агента, использовавшегося по линии контрразведки, скрытого под криптонимом «А-252».
Повторим, что единственно верным оценочным критерием «качества» источника разведки является получаемая от него информация. Агент может обладать всеми мыслимыми и немыслимыми пороками, быть самых низких человеческих качеств, что, кстати, в жизни встречается достаточно часто, но если получаемые от него сведения как минимум заслуживают внимания Центра, то его по совокупности всех факторов отнесут к категории «ценных» источников информации.
По этому пути и проводились проверочные мероприятия и в отношении самих агентов, и в оценке поступающей от них информации. Так, в письме ИНО в резидентуру читаем: «В процессе работы с Сюрпризом мы уже располагаем целым рядом совершенно конкретных данных и полагаем, что наша задача должна теперь заключаться в конкретной разработке этих данных, в их проверке и пр., а не в чисто субъективной проверке поведения (агента. – Авт.) и пр. Проверка данных Сюрприза довольно трудна, но остается единственно возможным способом проверки»[425].
В нашем случае ценность Поссанера и Хайровского в глазах тогдашнего руководства ИНО заключалась в том, что они были носителями пусть и противоречивых, но все же в значительной степени достоверных сведений о «закулисье» политической и организационно-практической деятельности НСДАП и германской военной разведки. С декабря 1931 года, когда Поссанер был завербован, он был единственным крупным источником информации по национал-социалистской партии. Резидент в своем отчете писал: «Это наш первый действительно серьезный источник по национал-социалистам, т. е. той самой партии, которая сегодня играет одну из крупнейших ролей и которая за последнее время, одержав ряд побед, готовится к власти. А-270 ценен для нас не только как бывший начальник разведки гитлеровцев, но и как человек, оставшийся сейчас в партии и имеющий действительно крупные связи»[426].
В истории сотрудничества Поссанера с советской внешней разведкой, таким образом, нужно разделять два условных этапа. С момента его вербовки и использования в качестве самостоятельного источника информации, в основном о деятельности аппарата НСДАП и ее разведки, и после – когда, исчерпав свой собственный «информационный ресурс», он стал «ретранслятором» сведений одного из своих субисточников – Хайровского, который, в свою очередь, черпал их у фон Берга. Но, анализируя направление движения информации о «военной партии», мы всегда должны помнить, что ее первоисточником был все же советский военный атташе в Берлине Зюсь-Яковенко.
Нам сейчас известно, что Поссанер на первом этапе сотрудничества полностью оправдывал свое назначение. Он представил большое количество информационных сообщений о структуре и механизмах функционирования аппарата НСДАП и ее разведки, дал объективные характеристики многим нацистским руководителям, но, находясь во внутрипартийной оппозиции, со временем утратил свои информационные возможности. И надо ж такому случиться, что его «информационные проблемы» пришлись на период углубления конфликта с нацистским руководством.
Доверие к Поссанеру, проявленное на первом этапе сотрудничества, было обусловлено также тем фактом, что его информация была частично подтверждена сведениями другого советского агента – «Доктора Хитлера». Под таким необычным псевдонимом скрывался один из активистов НСДАП, доктор медицины Карл Хаймзот, завербованный при непосредственном участии неутомимого Романа Бирка.
Но основной причиной доверия к Поссанеру на первом этапе сотрудничества стало его участие в «деле Доброва». Чтобы оценить добросовестность Поссанера в работе на советскую разведку, напомним читателю канву этого «дела».
Старый и проверенный агент ЭКУ ОГПУ (позже ИНО) Александр Матвеевич Добров, исполняя обязанности сотрудника аппарата ВСНХ, в 1931 году был направлен за рубеж с важным и ответственным заданием внедрения в национал-социалистские круги и агентурный аппарат английской разведки. Замысел операции базировался на существовании в СССР якобы оппозиционной группы, ставящей своей целью борьбу с советской властью. Элементом этой борьбы являлось установление конспиративных отношений с представителями высшего руководства нацистской партии для последующей координации совместной деятельности. Доброву удалось выполнить часть своего задания. При посредничестве «эксперта» Абвера Гаральда Зиверта он сумел завязать необходимые контакты с важным функционером НСДАП Альфредом Розенбергом с перспективой их продолжения.
Тайная миссия Доброва стала известна Поссанеру как руководителю подразделения разведки НСДАП, и на одной из первых встреч с сотрудниками берлинской резидентуры ИНО он рассказал о факте и содержании переговоров. В Берлине не знали об этой операции своих коллег из ЭКУ ОГПУ и в срочном порядке проинформировали Лубянку о существе дела. Артузов, к которому попало сообщение из Берлина, распорядился прекратить дальнейшие действия по перепроверке информации.
Если бы Поссанер, предлагая свои услуги советской внешней разведке, действовал по отношению к ней нечестно или под контролем германских спецслужб, он ни при каких обстоятельствах не сообщил бы об участии нацистского руководства в этой исключительно секретной операции. Кредит доверия был, таким образом, открыт.
К началу 1933 года сведения Поссанера – Хайровского о «военной партии» стали предметом самого строгого и пристального внимания Центра, обусловленного самим характером «взрывоопасного» материала. Из отрывочных данных можно предположить, что анализу подвергались любые сомнительные моменты в работе и поведении связки двух агентов. И это вполне объяснимо и оправданно. Одно дело информация о партийной и разведывательной «кухне» нацистов, другое – подозрения в заговоре в отношении ведущих военных деятелей своей страны.
В одном из писем ИНО в резидентуру читаем: «Вносим разъяснения нашей директивы. Развитие дела “Сюрприза” внушает опасения по той причине, что сообщения о способе получения материалов, сами материалы, а также факт подслушивания малоправдоподобны».
Сомнения в добросовестности Поссанера у Шнеерсона вызывали не только характер самих материалов, но и способ их получения.
В частности, в письме от 19 января 1933 года он пишет: «…как “Сюрприз”, не работавший непосредственно в Абвере, может узнать настоящие фамилии агентов в чужой стране просто так. Ведь допустить, что в Абвере дела поставлены так скверно, что “Сюрприз”, являющийся только экспертом по делам авиации, не получающий даже от министерства (рейхсвера) жалованья (только за отдельные поручения), австриец, ставший несколько лет назад германским подданным, может так легко от отдельных работников узнавать такие строго конспиративные данные».
По столь скудным источникам нам трудно оценить оправданность и обоснованность подозрений в отношении Поссанера – Хайровского, но, может быть, «ларчик» открывается просто. Советские разведчики, не имея необходимых для анализа ситуации сведений, обусловленных отсутствием серьезных источников в аппарате Абвера, просто механически спроецировали порядки функционирования своего ведомства на германскую военную разведку.
Да, действительно, Хайровский в тот период не был кадровым сотрудником военной разведки, то есть не занимал штатную должность, не получал регулярного жалованья и т. д. Но и подавляющее большинство «экспертов» Абвера было точно в таком же положении. Напомним, что до 1934 года в его штате было не более пяти десятков сотрудников, включая офицеров-аналитиков отделов 1С (Ц) штабов военных округов. Остальные «эксперты» работали на военную разведку, если так можно выразиться, «на общественных началах». Все они, за редким исключением, были выходцами из отдела III/В (Б) Большого Генерального штаба времен полковника Вальтера Николаи и, в зависимости от объективных и субъективных обстоятельств, привлекались к практической работе на германскую военную разведку.
Тот же майор запаса Вер был рекомендован в свое время Гесслингом Протце и достаточно активно работал на Абвер, не занимая там никаких штатных должностей. Упоминаемый выше Оскар Райле тоже до 1934 года не был штатным сотрудником разведки, а работал полицейским в данцигском полицайпрезидиуме. Так что сведения об агентурном аппарате Абвера тот же Хайровский мог получать, выполняя свои обязанности «по контракту», вполне объяснимо, а способы получения информации от своих коллег были обусловлены условиями его работы в разведке.
В этой связи нужно также указать, что Хайровский к 1933 году был не рядовым «экспертом» Абвера, а входил в узкий круг его ответственных сотрудников. Об этом говорит описанный в документах советской внешней разведки эпизод, связанный с состоявшимся 18 января 1933 года совещанием, которое было созвано руководством Абвера с участием его ведущих сотрудников, а также Берга, Хайровского, Нидермайера. Предметом обсуждения являлись полученные Абвером сведения о готовящихся в СССР «серьезных беспорядках».
20 января Бергу было поручено встретиться с Яковенко и расспросить его по специально подготовленному вопроснику. Состоялась ли встреча, советским разведчикам узнать не удалось, но содержащиеся в Спецсводке «О тайной работе Германии против Советского Союза», датированной 28 июня 1933 года, ответы на соответствующие вопросы косвенно могут указывать на то, что встреча Берга с Яковенко состоялась[427].
На наш взгляд, категорично интерпретировать сведения Справки о «провокационном» характере деятельности Абвера в «деле Поссанера – Хайровского» не следует. Напомним, что описываемые события относятся к относительно короткому временному промежутку.
А точнее, периоду с 16 ноября 1931 по март 1933 года, то есть ко времени, когда «дружеские» отношения Рейхсвера и Красной армии хоть и подверглись значительному охлаждению, но по инерции продолжали поддерживаться. Зададимся несколькими вопросами, ответы на которые позволят нам приблизиться к пониманию существа проблемы.
Но прежде следует напомнить о том, что речь идет именно об «операции Абвера», то есть военной разведки Германии, а не специальных служб нацистской партии и тайной политической полиции как предшественника гестапо. Это важно помнить, чтобы невольно не связать «нашу» операцию Абвера с последующими акциями по дискредитации советского военного командования, проводимыми ведомством Гейдриха несколько позже описываемых событий. Недостаточная убедительность «немецкого» раздела Справки, возможно, объясняется именно этой, вольной или невольной, интерпретацией не связанных между собой ни по времени, ни по задействованным участникам эпизодов противоборства германских и советских спецслужб. Формально авторы, правда, оговаривают, что они все-таки проводят такое различие.
Пользуясь случаем, напомним, что в советской и российской историографии давно исследуется проблематика возможного участия гестапо и СД в фабрикации материалов так называемой «Красной папки», призванной по замыслу их инициаторов доказать факт сотрудничества Тухачевского с германской разведкой. При этом одним из аргументов в пользу версии о невозможности такового указывается на то обстоятельство, что «Красная папка» как материал, изобличающий Тухачевского в шпионаже, не использовалась в судебном заседании.
Например, О. Сувениров считает, что Сталин якобы не рискнул представить ее материалы на суд как откровенную «липу»[428]. В этой связи следует, наверное, сделать пояснение, что если признать версию доведения фальшивки Гейдриха до Сталина по каналам советской разведки через генерала Скоблина или чехословацкого президента Бенеша правомерной, то нужно учитывать, что в этом случае такие материалы рассматривались как агентурные по своему характеру и, следовательно, не могли использоваться в «открытом» судебном заседании.
И еще одно замечание, касающееся «фальшивки» Гейдриха. Исследователи этой темы, ставящие под сомнение факт и возможность проведения указанной операции, должны помнить, что имеются и другие серьезные источники (кроме Шелленберга, Хеттля, Райле и др.), прямо указывающие на ее проведение.
Например, в снятом в 1986 году документальном фильме «Тайная война» бывший руководящий сотрудник БНД и по совместительству агент КГБ СССР Хайнц Фельфе говорит: «В окружении Гейдриха, внутри государственной тайной полиции, в Главном управлении имперской безопасности это (акция по фабрикации и доведению дезинформации. – Авт.) было расценено как удачная операция. Там радовались, что тем самым военной интеллигенции Красной Армии был нанесен тяжелейший удар, если не сказать, что она вообще выведена из игры. После начала войны, в ходе доверительных бесед, вспоминая, говорили, что она была первой большой выигранной битвой против Советского Союза». Это высказывание Х. Фельфе основано на том факте, что хождение подобной информации в аппарате «внешней» разведки СД действительно имело место. Напомним, что сам он с 1942 года служил в центральном аппарате этого органа нацистской разведки.
Вернемся к «нашей» операции Абвера.
Во-первых: Если предположить, что он действительно именно в этот период начал осуществлять крупномасштабную дезинформационную операцию, какие политические цели он перед собой ставил?
Во-вторых: На каком властном уровне должно было приниматься решение о ее проведении?
В-третьих: Какой политический эффект мог быть достигнут в случае благоприятного ее завершения?
В предложенном перечне вопросов впервые в нашем анализе появилось понятие «политические цели». Дело в том, что любые «активные мероприятия» такого уровня, если пользоваться терминологией КГБ СССР, направленные на достижение какого-либо результата, объективно находятся в политической сфере межгосударственных отношений и должны способствовать укреплению позиций своего государства во взаимоотношениях с партнерами (противниками). Учитывая высокую степень риска и особую остроту, такие операции готовятся и проводятся с особой тщательностью, исключающей саму возможность утечки сведений о планах мероприятий и ходе их реализации.
Следовательно, они должны отвечать целому ряду строжайших требований, таких как: единство замысла, четкая координация всех задействованных в ней субъектов, исключительная конспиративность всех проводимых мероприятий и т. д. А самое главное – наличие объекта дезинформационного воздействия и постоянно действующего и полностью контролируемого агентурного канала. Причем речь должна идти именно о «канале» как одном из основных средств достижения цели, а не о практике инспирации слухов, которая, конечно, могла иметь место, но лишь как вспомогательная мера.
Все сказанное можно сформулировать другими словами: в чем заключалась цель операции, какими средствами Абвер пытался ее достичь и на что рассчитывал в случае успеха?
«Глобальность» замысла указывает на то, что, при всей «автономности» существования Рейхсвера и его специальной разведывательной службы в системе государственных институтов веймарской Германии, он находится далеко за пределами компетенции военного ведомства, а тем более частных задач Абвера. Значит, санкцию на проведение такой крупномасштабной операции могло дать как минимум высшее командование Рейхсвера, при условии, опять же, как минимум «молчаливого» согласия высших властей государства. Если учесть, что, в случае неудачи, политические «издержки» могли быть неоправданно высокими, в это верится с трудом.
По аналогии с «операцией Гейдриха» и в подтверждение вышеизложенного напомним, что он за санкцией на ее проведение обращался лично к Гитлеру.
Другие варианты возможны лишь при условии, что операция Абвера, если таковая действительно имела место, решала какие-то задачи, но не в отношении советской разведки и руководства СССР, а в отношении уже других объектов, например французских или английских спецслужб.
Такая версия, на наш взгляд, более правдоподобна. Тем более что имеются некоторые указания на этот счет в документах советской разведки, но относятся они, правда, к более позднему времени.
Например, в директивном письме Центра резиденту берлинской резидентуры Гордону о необходимости возобновления разработки «военной партии», датированном мартом 1935 года, читаем: «…Есть сводка: во Франции англичанами пущен в определенном кругу военных и католиков (группа Кастельца) по рукам “апокриф” относительно переговоров Геринга и Тухачевского в начале января в Берлине. Этот отчет составлен с тем (и в такой форме), чтобы укрепить в военно-политический кругах Франции недоверие к русской политике и тем самым выиграть время. При этом Германия нагонит время, а Советы его потеряют.
“Апокриф” составлен немцами. Есть такой доктор Дрегер в Берлине, большой спец по этому делу. Вот он с разрешения начальства пустил через третьих лиц этот отчет. В нем намекается на тайный сговор немецких и советских военных, чтобы провести французов и т. п. Чушь. Но есть и о Польше, но с ведома поляков, так что они не протестуют»[429].
В контексте политических событий того времени (примерно с середины 1934 года) запуск дезинформации в заинтересованные франко-английские круги о советском «военном заговоре» вполне отвечал интересам Германии. В условиях начавшегося франко-советского сближения в рамках переговоров о заключении Восточного пакта информация такого рода могла действительно оказать какое-то влияние на ход переговоров. Но «наша» операция Абвера, если она действительно проводилась, относилась к более раннему периоду. Это необходимо учитывать.
Если критически осмысливать содержание «немецкого» раздела Справки и исходить из предположения, что Абвер действительно проводил дезинформационную операцию только в отношении советского руководства, мы имеем:
а) цель операции – ослабление оборонного потенциала СССР путем актуализации противоречий в военных и политических кругах страны;
б) замысел операции – дискредитация высших военных руководителей, включая маршала Тухачевского, в глазах Сталина и Политбюро;
в) средство реализации – доведение до высших властей СССР дезинформации о существовании «военного заговора» и его участников во главе с генералом «Тургуевым-Турдеевым»;
г) дезинформационный канал с участием «цепочки»: Берг – Хайровский – Поссанер – ИНО ОГПУ – высшее политическое руководство СССР.
Теперь зададимся вопросом: насколько отвечала интересам Рейхсвера в 1932–1933 годах (до прихода нацистов к власти) такая операция в случае ее благоприятного завершения? Напомним, что Рейхсвер в то время не рассматривал Советский Союз в качестве своего потенциального противника, а видел его, скорее, как возможного союзника в будущей войне с Польшей. Следовательно, ослабление военного потенциала СССР в тот период не могло отвечать интересам Рейхсвера, по воззрениям последователей «школы генерала фон Секта», которые и составляли значительную часть тогдашнего германского генералитета.
Но это все общие проблемы. Нас же больше интересует вопрос, связанный с практическим функционированием «дезинформационного канала».
Мы уже говорили о том, что одним из важнейших условий успешного проведения операции является действующий и контролируемый канал доведения дезинформации. Понятие «контролируемый» в нашем случае означает, что при ее планировании инициаторы должны были быть полностью уверены в том, что сведения дойдут до адресата без искажения, не затерявшись в лабиринтах соответствующих ведомств.
В этой связи особое значение в благоприятном исходе операции должно было быть придано в «цепочке» двум ее элементам: Хайровскому и Поссанеру. Приступать к началу «классических» дезинформационных акций инициаторы могли только при непременном условии, что им доподлинно известно, что либо оба, либо один из них находятся в прямом контакте с советской разведывательной службой. Неважно, в каком качестве – агента-двойника или выявленного агента спецслужбы противника, используемого «втемную». Была ли у них такая уверенность? Вероятно, но опять же сомнительно.
Еще большие сомнения в пользу достоверности этой версии возникают, когда мы вспоминаем о том, что вся «конструкция» предполагаемого плана операции строилась на основании того «факта», что первоисточником сведений о «военной партии» был вовсе не Абвер в лице фон Берга, а советский военный представитель – Зюсь-Яковенко. Для нашего анализа это обстоятельство имеет решающее значение, так как «инициаторы» из Абвера, при живом и здоровом Яковенко, не могли «высосать из пальца» сведения, которые они могли приписать ему как первоисточнику. В этой связи мы также должны помнить «темную историю» с попыткой сокрытия Яковенко факта своих контактов с фон Бергом от московского Центра.
Примечательно, что авторы Справки вообще не анализировали роль Яковенко в операции Абвера, ограничиваясь только одним упоминанием о нем.
Кстати, дальнейшая судьба Зюсь-Яковенко в доступных источниках описывается неоднозначно. В частности, по информации исследователя проблематики репрессий в Красной армии О. Ф. Сувенирова, бывший военный атташе после ареста 7 июня 1937 года был осужден на 15 лет и умер в заключении 23 марта 1942 года. По воспоминаниям же эмигрантского деятеля и агента советских спецслужб И. В. Дорбы выходит, что их знакомство состоялось на пересыльном этапе перед самым окончанием войны, то есть как минимум через два с половиной года после «официальной» даты смерти Яковенко[430].
Правда, нужно оговориться, что воспоминания Дорбы не могут считаться достоверным источником по причине их противоречивости.
В связи с исследованием версии о якобы проводимой Абвером в начале 1930-х годов операции, очень показательным является приводимый в воспоминаниях Оскара Райле следующий эпизод. В частности, он пишет, что адмирал Канарис якобы отказал Гейдриху в его просьбе о предоставлении образцов почерков генералов Рейхсвера фон Секта и фон Хаммерштейна, а также специалиста по их подделке. Уже после московских процессов в одном из разговоров Гейдрих «похвастался» перед Канарисом своими успехами в доведении до Сталина сфабрикованных им материалов о сотрудничестве Тухачевского с германской разведкой. На что Канарис задал вопрос – «в чем смысл» задуманного, иными словами, в чем заключался замысел операции[431]?
Если принять версию Райле в изложении событий за достоверную, а оснований ей не верить у нас нет, то нам придется предположить, что Канарис действительно не был осведомлен о характере проводимой Гейдрихом операции. А если продолжить «логическую цепочку» дальше, то нам, в свою очередь, придется допустить, что Канарис, принимая в 1935 году «хозяйство» от своих предшественников, ничего от них не узнал и об аналогичной «операции Абвера». Отсюда следует, что она либо не проводилась, либо предшественники ее от Канариса скрыли. Последнее предположение вообще невероятно и невозможно.
При анализе таких хитросплетений агентурной деятельности противостоявших друг другу спецслужб важно всегда помнить, что их участники были обычными людьми, со всеми человеческими слабостями и достоинствами. Они могли вольно или невольно ошибаться, сомневаться, приукрашивать результаты своей работы, выдавать желаемое за действительное, подпадать под влияние агентуры и т. д. Все эти противоречия отражались в служебной документации в виде отчетов о встречах с источниками, обобщенных справках по результатам работы, служебных записках.
Например, авторы Справки, описывая противоречивые сведения о «главе военного заговора» генерале Тургуеве (Турдееве, Турганове и т. д.), заостряют внимание на том факте, что даже фамилия генерала доподлинно источнику не была известна и каждый раз на очередной встрече он ее «коверкал».
Из контекста документа резидентуры усматривается, что советские разведчики особо не «заморачивались» по поводу правильности написания фамилии и их больше интересовало фактическое служебное положение «генерала». Они могли предполагать, что при передаче сведений от Хайровского к Поссанеру было возможно некоторое искажение, от которого существо их не менялось. Кроме того, для «австрийских немцев» Хайровского и Поссанера фамилия русского «генерала» на слух воспринималась с трудом, и вполне объяснимо, что они могли путаться при ее произнесении.
Любому профессионалу-психологу или сотруднику агентурной разведки известно, что при передаче информации по цепочке, от человека к человеку, она вольно или невольно искажается. Тем более такое искажение возможно и объяснимо, когда разные люди одно и то же событие, в котором они принимали непосредственное участие, воспринимают и описывают по-разному.
Известен рассказ одного из преподавателей криминалистики, когда, описывая этот феномен в студенческой аудитории, он разыграл сценку с участием статистов. В помещение, где находилось несколько студентов-юристов, внезапно с шумом ворвалась группа посторонних, которые начали изображать потасовку между собой. Когда они быстро исчезли, студентам было дано задание описать внешность и особые приметы участников «потасовки». И вот тут-то выяснилось, что показания «свидетелей» резко различаются. Они не смогли даже назвать точное число участников розыгрыша.
Советские разведчики на практике знали эти особенности человеческого восприятия. Они также знали, что память и внимание человека избирательны, как противоречивы оценки тех или иных событий или сведений. То, чему агенты могли не придавать особого значения, для разведчиков было важно, и наоборот, агент мог считать, что сведения, которыми он обладает, ценны, а для разведчика интереса абсолютно не представляют. Поэтому Шнеерсон вновь и вновь возвращался к вопросу о «генерале Тургуеве» и требовал от Поссанера подробностей и малейших деталей по существу информации.
Авторы Справки пишут: «Все эти и другие сведения о “военной партии”, о будущем “русском правительстве”, о советских военачальниках, поступавшие в ОГПУ-НКВД от своей агентуры в Германии, длительное время не только не находили какой-либо реализации, но и вызывали сомнения у многих работников иностранного отдела ОГПУ».
Что подразумевалось авторами Справки под «реализацией», нам трудно судить. Если исходить от общепринятого положения, что такая важная, государственного значения информация реализуется только в виде информирования руководства страны, то нам известно, что Сталин с содержанием материалов Хайровского – Поссанера в 1932–1933 годах был ознакомлен[432]. И мы также знаем, что органы безопасности СССР не ограничились проверкой-перепроверкой указанных материалов в Германии и Франции. В оперативную разработку военной контрразведки по новому месту службы в Ленинградском военном округе попал бывший военный атташе Зюсь-Яковенко, о результатах которой нам ничего не известно[433].
На допросе в 1937 году бывший начальник 3-го отделения ИНО ОГПУ Штейнбрюк, который в Центре руководил ходом разработки «военной партии», показал: «Эти материалы были доложены Артузову, а последним – Ягоде, причем Ягода, ознакомившись с ними, начал ругаться и заявил, что агент, давший их, является двойником и передал их нам по заданию германской разведки с целью дезинформации. Артузов также согласился с мнением Ягоды и приказал мне и Берману больше этим вопросом не заниматься».
Это высказывание Штейнбрюка без материалов его следственного дела трудно датировать. Следовательно, нам трудно судить, на каком этапе разработки дела о «военной партии» Ягода так отреагировал на материалы Артузова. Возможно, это произошло уже после того, как первичная, еще не проверенная информация была доложена Сталину.
Если поверить словам Штейнбрюка о причинах прекращения разработки «военной партии», то обращает на себя внимание «волюнтаристское» решение Ягоды, запретившего проводить дальнейшую разработку без веских к тому оснований. Не в этом ли эпизоде скрыта одна из причин его падения в 1936 году?
Авторы Справки, делая выводы о недобросовестности Поссанера – Хайровского, неоправданно злоупотребляют понятием «связь с германской разведкой», считая, что сам факт контакта Хайровского с Бергом служит доказательством «провокации» Абвера. Но при этом полностью игнорируется другой неоспоримый факт, что инициатива в вербовочной разработке Хайровского исходила все же от советских разведчиков, решавших конкретную задачу агентурного проникновения в Абвер. Возвращаясь к личности и деятельности Поссанера, необходимо также отметить, что Артузов на допросах на Лубянке называл его нашим «ценнейшим источником» в Германии.
Но к весне 1933 года время, отпущенное Поссанеру как советскому агенту, уже истекало. Нацисты не могли забыть его «прегрешения» перед партией и сомнительный в их глазах случай обнаружения у него при обыске ряда подозрительных материалов. 16 марта 1933 года, после освобождения из нацистского заключения, Поссанер был убит при невыясненных до конца обстоятельствах.
Так что, давая свои нелицеприятные оценки последнему, «Эрих» мог сильно ошибаться в отношении своего агента. У Поссанера в то время уже «горела земля под ногами», и он, возможно, думал уже больше о своем физическом выживании, а не о сотрудничестве с советской разведкой.
Но, прежде чем обратиться к другому источнику сведений о «военном заговоре», попробуем конспективно подвести предварительный итог «делу Поссанера – Хайровского». Итак, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что, несмотря на сомнения советских разведчиков в искренности Поссанера, обусловленные, прежде всего, его личными качествами, доверие к нему и в Центре, и у разведчиков в Германии в целом было высоким.
Инициатива привлечения Хайровского к сотрудничеству с советской разведкой исходила от Поссанера и была согласована с Центром. Значит, ход вербовочной разработки, сама вербовка и последующая работа не содержали признаков «двойной игры» со стороны последнего, несмотря на имеющиеся подозрения в «двурушничестве».
В противном случае разведка не пошла бы на установление с ним агентурных отношений. Следовательно, информация о беседах Берга с Зюсь-Яковенко, при всей настороженности советских разведчиков, воспринималась ими в целом как правдивая. Особые опасения Лубянки, а значит и доверие к сведениям Поссанера – Хайровского о «военной партии» вызывало то обстоятельство, что сам Яковенко отрицал свое знакомство с Бергом[434].
Для исследователей проблематики «военного заговора» и возможного участия в нем германской разведки самой важной для осмысления проблемой является тот факт, что информация о нем поступила в советскую разведку из разных, не связанных между собой агентурных источников. Причем нужно учитывать, что группа Поссанера – Хайровского и «Аугуста» к тому времени хорошо себя зарекомендовали на практической работе и оценивались в советской разведке положительно. Это важное обстоятельство требует самого пристального внимания, поскольку в совокупности с другими данными указывает на хождение информации о «заговоре» в очень информированных и наделенных соответствующими полномочиями военных (Абвер) и политических (МИД) кругах Германии. В этой связи также трудно представить, что планирование и осуществление такой дезинформационной операции было возможно при участии двух столь разных по характеру своей деятельности государственных институтов Германии.
Из всего сказанного напрашиваются всего две основные версии. Условно назовем их «позитивной» и «негативной». Остальные версии в разных вариациях могут быть только производными.
Версия 1-я: заговор группы высших командиров РККА реально существовал, и информация о нем Хайровского – Поссанера и «Аугусты» соответствовала действительности в части, обусловленной уровнем информированности источников.
Версия 2-я: заговора не было, а информация о нем – инспирация германских спецслужб в рамках широкомасштабной дезинформационной операции с неясными замыслами в отношении неизвестных объектов (СССР, Франция, Великобритания и т. д.).
Что нам известно об «Аугусте», какими разведывательными возможностями она располагала, как ее работу оценивали на Лубянке? На эти вопросы сложно ответить обстоятельно. К большому сожалению, сведений о ее деятельности в пользу советской разведки опубликовано еще меньше, чем о работе Поссанера и Хайровского. Попробуем из отрывочных упоминаний об этом ценном агенте советской внешней разведки сложить, насколько это возможно, целостную картину.
Дополнительные сложности в исследовании роли и места «Аугусты» в освещении проблематики «военного заговора» связаны с тем, что в имеющихся источниках существуют противоречия, вызванные «путаницей» в псевдонимах агентов. Практика разведывательной деятельности допускает изменения псевдонимов агентов, особенно в отношении давно и активно сотрудничающих с разведкой. Но в нашем случае эти изменения были, возможно, вызваны не оперативной необходимостью, а фантазией некоторых авторов и редакторов.
Сравнение имеющихся источников указывает на то, что история агента «Аугусты» («А/256») по многим идентифицирующим признакам совпадает с историей агента «Марты», содержащейся в соответствующем очерке «Истории российской внешней разведки»[435]. Поэтому, несмотря на некоторые непринципиальные различия, можно вполне определенно сделать вывод о том, что «Аугуста» и «Марта» – это одно и то же лицо[436].
Вербовочная разработка «Аугусты» была начата в 1931 году нелегальным резидентом внешней разведки в Берлине «Евгением» – Федором Карповичем Парпаровым. Ко времени назначения на должность резидента он прошел большой и трудный жизненный путь. Участвовал в Гражданской войне, занимался административной деятельностью в Наркомате просвещения, в 1924 году окончил юридическое отделение МГУ. Примерно с 1925 года Парпаров работал в берлинском торговом представительстве, откуда в 1930 году перешел в разведку. Ему было предложено заняться разведывательной деятельностью в условиях подполья, как тогда называлась работа с нелегальных позиций.
План его легализации как разведчика-нелегала заключался в том, чтобы, став невозвращенцем, остаться на постоянное место жительства в Берлине. Она была успешно завершена, когда Парпаров обзавелся личными документами одной из латиноамериканских стран и организовал прикрытие своей разведывательной работы в виде экспортно-импортной фирмы, имеющей представительства в ряде европейских стран.
Лубянка так оценила этап легализации Парпарова: «Закончилась программа вживания. Выполнена она блестяще. Сам он серьезный и опытный разведчик. Имеет возможность ездить по странам. Планируем поручить ему связь с наиболее ценной агентурой. Его следует использовать для завершения вербовок лиц, предварительная работа с которыми закончена»[437].
Самостоятельная вербовочная разработка Парпаровым «Аугусты» была начата в 1931 году после личного знакомства с ней. Для поиска возможных кандидатов на вербовку он поместил в газете объявление следующего содержания: «Молодой предприниматель ищет партнершу для совместного времяпрепровождения и помощи в журналистской работе. Полная конфиденциальность гарантируется». Из всех женщин, откликнувшихся на объявление, он и выделил «Аугусту», оказавшуюся женой крупного чиновника германского МИД. Муж тогда еще кандидата на вербовку «Аугусты» по своему служебному положению входил в круг приближенных к министру лиц, а позже исполнял обязанности посла Германии в одной из европейских стран.
После завершения проверочных мероприятий ее вербовка в мае 1931 года сначала на «японскую разведку», а несколько позже перевод на «советский флаг» сделали «Аугусту» в глазах руководства советской разведки источником ценной политической информации по Германии. Она не только пересказывала содержание важных устных сведений, исходивших от мужа и его коллег-дипломатов, но со временем начала поставлять и оригинальные документы германского МИД.
По мере налаживания работы с «Аугустой» начали проявляться и «узкие» места в мотивации ее работы на разведку. Несмотря на в целом антинацистские взгляды, основным мотивом ее сотрудничества являлась близость с Парпаровым, что затрудняло передачу агента на связь другому разведчику. Это обстоятельство в полной мере проявилось после того, как муж «Аугусты» был назначен послом и она, вслед за ним, переехала в другую страну. На все просьбы Парпарова о необходимости временной работы с его преемником по ее новому местожительству она ответила категорическим отказом. Это также создавало предпосылки для провала самого Парпарова, так как его частые поездки за пределы Германии могли насторожить спецслужбы. По этим причинам стали возможны и временные перерывы в связи с «Аугустой».
В целом успешно развивавшаяся операция была прекращена в начале 1938 года в связи с вызовом Парпарова в Москву, где он по ложному обвинению в связях с «врагами народа» был арестован.
С этого времени и вплоть до декабря 1940 года контакт с «Аугустой» был прерван.
Восстановление связи с ценным агентом было поручено сотруднице нелегальной разведки Елизавете Юльевне Зарубиной – супруге известного уже нам советского разведчика Василия Михайловича Зарубина, одно время бывшего одновременно с Парпаровым резидентом-нелегалом ИНО в Германии. С большими сложностями, вызванными отказом агента продолжать работу на разведку, и только благодаря мастерству и опыту Елизаветы Юльевны связь была восстановлена и продолжалась почти до самого начала Великой Отечественной войны. Как стало известно после ее завершения, жизнь «Аугусты» закончилась в психиатрической клинике, куда она попала, не выдержав высокого эмоционального напряжения, связанного с ее прошлой работой на советскую разведку.
Из всего сказанного обращает на себя внимание то обстоятельство, что, несмотря на все сложности и шероховатости в работе с «Аугустой», все это время она рассматривалась руководством советской разведки как источник ценной политической информации, пользующийся абсолютным доверием. Множество примеров в истории советской разведки, связанных с работой других агентов, демонстрируют нам практику отказа от продолжения контактов с ними, если их бывшие кураторы из числа кадровых сотрудников «запятнали» себя связями с «врагами народа», «шпионаже» и т. д. Пример «Аугусты» говорит прямо о противоположном. Потребность в получении ценной информации политического характера и результаты ее прошлой работы заставили Центр принять меры к восстановлению связи, невзирая на все сложности этого процесса.
В эпизоде с попыткой восстановления контакта с агентом через Зарубину есть какое-то противоречие, мало поддающееся логическому объяснению, но ставящее перед нами дополнительные вопросы. Дело в том, что примерно в то же время (декабрь 1940 года) за рубеж после своей реабилитации был направлен Парпаров для восстановления связи с другим ценным агентом советской разведки «Эльзой», в свое время завербованной им же. И как сообщают источники, задание Парпаровым было успешно выполнено[438].
Спрашивается, зачем было «городить огород» с задействованием неизвестного «Аугусте» постороннего сотрудника в лице Зарубиной, если Парпарову было гораздо проще и легче выполнить задачу «реанимации» и активизации агента. Такое решение Центра теоретически можно объяснить его желанием в будущей работе с «Аугустой» избежать тех самых «узких мест» в мотивации сотрудничества (личная привязанность к Парпарову), осложнявших процесс работы с ней в прошлом. Но соизмерение желаемого и возможного противоречит такому объяснению. Наверняка руководство разведки, давая Зарубиной такое задание, учитывало и историю взаимоотношений «Аугусты» с ИНО, и профессионализм связника. Но почему перед предполагаемой угрозой утраты ценного агента (возможный отказ от сотрудничества) Центр пошел на такой шаг, если избежать этого могло участие Парпарова в восстановлении контакта, все же остается необъяснимым.
Немного отвлечемся от личности самой «Аугусты», чтобы на ее примере очередной раз продемонстрировать «ущербность» нашей источниковой базы. Одним из наиболее авторитетных источников по истории довоенной советской внешней разведки является соответствующий шеститомник очерков. Несмотря на обилие действительно ценных сведений о конкретных операциях советской разведки и сотрудниках, их проводивших, авторы некоторых очерков, произвольно, то есть специально не оговаривая, присвоили некоторым участникам реальные или придуманные агентурные псевдонимы, чем донельзя «запутали» существо дела.
Так, например, неоднократно упоминаемый Роман Бирк авторами различных очерков, при описании конкретных операций по вербовке агентуры, называется псевдонимами «Джим», «Эстонец», а то и просто обезличенно «агент-нелегал». Тот факт, что он был одним за самых ценных источников информации и «продуктивным» вербовщиком, при непосредственном участии которого к сотрудничеству с советской разведкой были привлечены Талер, Хаймзот, Гесслинг, Флик-Штегер, мы уже знаем. Наверняка за многолетнюю работу он сменил несколько псевдонимов, но какой из них был основным – трудно сказать определенно[439]. Как представляется, реальным псевдонимом Р. Бирка был псевдоним «Иван» («Иоганн», «А/218»), вовсе не упоминаемый на страницах очерков[440].
История с «Аугустой» представляется еще более запутанной. Этот псевдоним, так же как ее криптоним «А/256», является наиболее правдоподобным. Мы также уже упоминали, что псевдонимы «Аугуста» и «Марта» принадлежат одному лицу. Но ситуацию с идентификацией этого агента окончательно «запутывает» появление ценного агента «Эльзы». В соответствующем очерке истории разведки есть множество косвенных признаков, указывающих на то, что «Эльза» и «Аугуста» (Марта) также могут быть одним и тем же лицом. К этим признакам относятся: участие Парпарова в вербовке «Эльзы», ее частые поездки в Женеву (местопребывание «Аугусты»), то, что «она принята в высших дипломатических кругах» и т. д.
С другой стороны, признаками того, что «Эльза» и «Аугуста» – это не одно и то же лицо, являются обстоятельства вербовки первой (установление контакта через третье лицо), выезд Парпарова в командировку для восстановления связи с «Эльзой», работа с ней до весны 1941 года (последняя встреча Зарубиной с «Аугустой» произошла в середине июля 1941 года) и т. д.
Эти примеры свидетельствуют, насколько противоречивыми являются, казалось бы, «выверенные» и написанные на основании архивных документов источники по конкретным эпизодам деятельности советской разведки и, соответственно, насколько это затрудняет их исследование.
Вернемся теперь к «Аугусте» как источнику сведений о «военном заговоре». Опубликованная недавно в оригинале Спецсводка «О тайной работе Германии против Советского Союза», в части информации, исходящей от «источника ИНО ОГПУ, близко стоящего к кругам германского МИД, сообщения которого заслуживают доверия», в сравнении с соответствующим разделом Справки, однозначно указывают на то, что этим источником и была «Аугуста».
Для анализа некоторых принципиальных вопросов обратимся к первоисточнику:
«1) Руководство всей работой, направленной против СССР, сосредоточено в руках Геббельса и Розенберга, при участии в этом деле Рейхсвера, Союза офицеров и Союза немцев, живущих за границей. Кроме руководящего центра существует, так называемая, рабочая группа, в состав которой входят полковник в отставке Хазельмейер – председатель парламентской фракции н.-с. партии и его ближайшим сотрудником Дрегер. Хазельмейер высказался против привлечения к этой работе людей, выделенных Рейхсвером. На этой почве у него произошел конфликт с Розенбергом, которому он указал на поспешность ряда мероприятий. Геббельс в этом вопросе стал на сторону Розенберга, в результате Хазельмейер и Дрегер заменены майором Веберштедт (прессе-шеф парламентской н.-с. партии).
2) Министерство иностранных дел в своем докладе о внешней политике Советского Союза указывает, что эта политика направлена к отчуждению Германии. В связи с этим германское правительство якобы решило форсировать подготовку переворота в СССР.
3) В первых числах июля на вечере у Надольного, состоявшемся по случаю дня его рождения, между Бломбергом и Мейснером, присутствовавшим на этом вечере, произошла беседа, касающаяся контр-революционных группировок в Советском Союзе и перспектив готовящегося якобы переворота.
Русский контрреволюционный лагерь делится на две группировки – национал-большевистская и монархическая. Первую поддерживает Геббельс, она якобы имеет среди своих сторонников значительное количество крестьянства, Красной армии и связана с видными работниками Кремля – оппозиционерами, которые добиваются экономических реформ и падения Сталина.
Немцы поддерживают тесный контакт с этой группой и совместно разрабатывают экономическую программу, увязывая ее с колониальным вопросом.
Монархическую группу поддерживает Геринг. Главные силы этой группы находятся за границей, однако они якобы развили активную работу по разложению крестьянства и Красной армии.
Тактика обоих группировок направлена к дезорганизации советского хозяйства, к всевозможным препятствиям во внешней политике Советского Союза и должна завершиться переворотом путем провозглашения военной диктатуры. Между Герингом и Геббельсом существуют разногласия в вопросах форм управления будущей России. Гитлер пока еще колеблется между двумя течениями…
5) Руководитель Восточного отдела МИДа Майер говорит, что отношения между Германией и Советским Союзом принимают угрожающий характер. Он считает, что создавшаяся обстановка ведет к отрыву СССР от Германии и усилению влияния Франции. Он полагает, что только свержение власти в СССР приведет к установлению нормальных отношений…»[441].
При анализе такого рода документов мы не должны упускать из виду характер сведений, содержащихся в них, практически-прикладные задачи, решаемые авторами при их подготовке, конкретные обстоятельства, приведшие к написанию, и т. д. Если сравнить содержание немецкого раздела Справки со Спецсводкой «О тайной работе Германии против СССР», то сразу бросается в глаза разница в выводах. Одни и те же факты авторами оцениваются с диаметрально противоположных позиций. Если направляемая Сталину информация «Аугусты» для Артузова свидетельствует как минимум о действительном участии германских представителей в делах возможного «военного заговора», то авторы Справки, на основе субъективных оценок конкретных агентов, делают вывод о «провокации» Абвера, «состряпавшего» дезинформацию об участии советских командиров в заговоре.
Сведения, содержащиеся в Спецсводке, указывают на то, что информация «Аугусты» носила устный характер и документально не была подтверждена. Тем не менее обращает на себя внимание, что этот источник находился в непосредственной близости от носителей информации о готовящемся «перевороте». Особенно это заметно при оценке беседы между Бломбергом и Мейснером, из которой следует, что либо сама «Аугуста» принимала в ней участие, либо ей стало известно ее содержание от мужа.
В любом случае тот факт, что информация «Аугусты» регулярно догладывалась Сталину, свидетельствует о высокой степени доверия к ней со стороны руководства ИНО.
Заключение
В практике работы разведывательных служб часто встречаются ситуации, когда их кадровые сотрудники, действующие под дипломатическим прикрытием, общаются со своими «коллегами» из противостоящего лагеря в рамках дипломатических протокольных мероприятий. При таком общении они решают и свои официальные (по должности прикрытия), и неофициальные (разведывательные) задачи. Не менее часто встречаются случаи, когда, выполняя свои официальные обязанности, агенты различных разведывательных служб из числа иностранных дипломатов, не являясь кадровыми разведчиками, вступают в контакты со своими коллегами (уже без кавычек) из МИД страны пребывания. И уж совсем нечасто происходят встречи между агентами из числа дипломатов разных стран, принадлежащих к разным разведывательным службам третьей страны.
Именно такая встреча состоялась 18 октября 1938 года в МИД Польши между агентами советской разведки – советником германского посольства в Варшаве Рудольфом фон Шелия и вице-директором политического департамента МИД Польши Тадеушем Кобылянским[442]. Какие вопросы обсуждались на встрече – дело второе. Нам интересен сам факт, очередной раз указывающий на противоречивый характер деятельности спецслужб и являющийся примером того, что в этом странном мире возможны самые невероятные совпадения.
Каждый человек имеет свои секреты. Даже у детей есть маленькие тайны, не предназначенные для посторонних. Что уж говорить о людях – героях нашей книги. Профессиональной обязанностью части из них было воровство чужих тайн, другой, соответственно, – их охрана.
Читатель, прочитав эту книжку, смог не один раз убедиться, что все ее герои в ходе выполнения своих служебных обязанностей неоднократно сталкивались друг с другом либо прямо, либо опосредованно. Какие-то секреты профессиональной деятельности, связывавшие их, очевидно, никогда не станут известны, к каким-то мы сможем только приблизиться. По мере ввода в научный оборот новых источников таких тайн будет становиться все меньше и меньше. Но все равно воссоздать полную картину агентурного противоборства в части, касающейся отдельных его эпизодов, нам не удастся никогда. Автор в самом начале оговаривал, что при описании тех далеких по времени событий он будет вынужден пользоваться версиями и гипотезами. Насколько они правдоподобны, пусть читатель судит сам.
Краткий биографический справочник
Агабеков Георгий Сергеевич (1895–1937?). Сотрудник ИНО ОГПУ. Участник Первой мировой войны. С 1918 года в Красной армии. Член РКП (б) с 1920 года. С 1922 года сотрудник ВЧК Туркестанского фронта. Резидент ИНО ОГПУ в Афганистане, Персии. На руководящих должностях в центральном аппарате внешней разведки. После измены сотрудничал с рядом иностранных спецслужб. Ликвидирован советской разведкой.
Анисимов И. Д. (1886–1938). Советский военный разведчик. Интендант 1-го ранга. Участник Гражданской войны в составе армии Врангеля. Завербован в 1922 году Разведупром РККА. Сотрудник резидентур РУ в Харбине (с 1926), Париже (с 1929). С 1933 года сотрудник центрального аппарата Разведупра в Москве. Начальник сектора. Репрессирован в августе 1938 года. Приговорен к ВМН.
Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891–1937). Начальник ИНО ОГПУ (с 1931), заместитель начальника Разведупра (с 1934). С 1919 года заместитель начальника особого отдела ВЧК. С 1922 по 1927 год начальник КРО ОГПУ. Репрессирован в мае 1937 года. Приговорен к ВМН.
Багинский Валерий (1893–1925). Агент советской разведки. Член ПОВ. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. Поручик. После советско-польской войны член Польской коммунистической рабочей партии. В 1923 году арестован как участник взрыва Варшавской цитадели. Приговорен к смертной казни. По обмену на польских заключенных в СССР освобожден из заключения. При перемещении через границу застрелен польским жандармом.
Баевский Артур Матвеевич (1892–1971). Сотрудник советской внешней разведки. Во время Первой мировой войны в австро-венгерском плену. Участник Гражданской войны. Сотрудник ВЧК. С 1926 года сотрудник КРО ОГПУ. С 1930-го – в ИНО ОГПУ. С 1931 по 1933 год сотрудник резидентуры в Берлине. С 1934 по 1937 год резидент ИНО в Стокгольме. В 1938 году уволен из НКВД. Работник «Мосфильма».
Байер Михал (1884–?). Начальник 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. В польской армии с 1919 года на командных должностях. С 1921 года начальник отделения в Военном министерстве. В 1923 году (март – июль) начальник Государственной полиции. С 1923 года исполняющий обязанности начальника и начальник 2-го отдела Главного штаба. С 1926 года в распоряжении начальника Главного штаба. С 1927 года в резерве.
Балиньский Михал. Сотрудник польской разведки. До 1934 года проходил службу в реферате «Восток». С 1935 по 1939 год возглавлял крупнейшую плацувку во Франции «Lecomte».
Бардах Марко (Морис) (1882–1962). Агент советской внешней разведки. Украинский литератор, издатель, журналист. Завербован Игнацем Порецким. До 1933 года проживал в Берлине, после – в Париже.
Басов Константин Михайлович (Аболтынь Ян Янович) (1896–1938). Советский военный разведчик. В РККА с 1919 года. Член РКП (б) с 1919 года. Участник Первой мировой войны. С 1918 по 1920 год сотрудник Особого отдела ВЧК Латвии, органов военной разведки. С 1922 года на руководящих должностях в аппарате Разведупра. Резидент в Германии. Репрессирован в 1937 году.
Бек Юзеф (1894–1944). Польский политик, дипломат. Близкий сподвижник Ю. Пилсудского. Член ПОВ с 1914 года. Рядовой польских легионов. Адъютант Пилсудского. В 1922–1923 годах военный атташе Польши в Париже. В 1924–1925 годах слушатель Варшавской академии Главного штаба. С 1926 по 1930 год начальник секретариата Военного министерства. С 1932 года вице-министр, министр иностранных дел. После начала Второй мировой войны депортирован в Румынии.
Беланг Эрика (?–1938). Агент польской разведки. Гражданская служащая штаба 1-го корпусного округа Люфтваффе в Кёнигсберге. Завербована в 1935 году. Разоблачена в 1937 году. Расстреляна.
Берзин Ян Карлович (1889–1938). Руководитель советской военной разведки. Участник Гражданской войны. В Разведупре РККА на должностях начальника отдела (1920–1921), заместителя начальника (1921–1924), начальника (1924–1935). С 1936 по 1937 год главный военный советник в республиканской армии в Испании. Репрессирован.
Берлингс Орестес (1913–1978?). Агент-двойник германских спецслужб. Латвийский журналист в Берлине. Завербован резидентом советской разведки А. Кобуловым под псевдонимом «Лицеист». Одновременно сотрудничал с нацистскими спецслужбами под псевдонимом «Петер». Представлял советской разведке дезинформационные сведения.
Берман Борис Давыдович (1901–1939). Сотрудник советской внешней разведки. С 1921 года сотрудник Иркутской ГубЧК. В Красной армии в 1922–1923 годах. Член РКП (б) с 1921 года. В Экономическом управлении ОГПУ (с перерывом) с 1921, 1925 годов. На руководящих должностях в Полномочном представительстве ОГПУ по Средней Азии. Участник борьбы с басмачеством. С 1931 года в ИНО ОГПУ в должности резидента в Берлине. С 1934 года в центральном аппарате ИНО ОГПУ в Москве. С 1937 года нарком внутренних дел БССР. Репрессирован.
Беседовский Григорий Зиновьевич (1896–1951). Советский дипломат. С 1918 года член партии эсеров. В 1920 году в составе большинства партии левых эсеров вступил в КП(б)У. С 1922 года в Наркомате иностранных дел Украины. Консул в Вене, секретарь, советник в Париже, Токио. В октябре 1929 года попросил политическое убежище, будучи поверенным в делах СССР во Франции. Активный участник антисоветской деятельности. Состоял в контакте с рядом спецслужб европейских стран.
Бетке Вилли. Сотрудник германской полиции. С 1920 по 1939 год проходил службу в полиции порядка в Данциге. С указанного времени в структурах СА (СА штандартенфюрер). С 1939 года комендант офицерской школы полиции в Берлине. Позже – в полиции порядка округа «Богемия – Моравия».
Бирк Роман Густавович (1894–1938). Агент советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в составе русской армии. С 1918 по 1920 год сотрудник Генерального штаба эстонской армии. Во время работы в Москве по линии эстонской разведки привлечен к сотрудничеству с органами безопасности СССР. Агент КРО ВЧК-ОГПУ. Участник операции «Трест». С 1927 года агент ИНО ОГПУ в Европе. В 1937 году отозван в Москву. Репрессирован.
Биркенмайер Альфред (1890–?). Сотрудник польской разведки.
В 1913 году окончил философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. Участник Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. С 1919 года в Войске Польском в должности сотрудника 2-го отдела Главного командования, позже начальник 2-го отдела 6-й армии. С 1920 года начальник экспозитуры в Кракове. В течение двух лет руководил плацувкой «Бжоза» в Берлине. С 1924 по 1925 год начальник реферата «Запад». После ухода из разведки занимался журналистской и общественно-политической деятельностью как редактор газеты «День Поморья», член военной комиссии Сейма. На руководящих должностях в МВД. В годы войны руководитель нелегальных аппаратов польской разведки во Франции. После войны в эмиграции.
Блант Энтони (1907–1983). Агент советской внешней разведки в Великобритании. Завербован в 1937 году советским разведчиком-нелегалом А. Дейчем. Член «Кембриджской группы». С 1940 года сотрудник МИ-5. Ценный источник информации. После войны занимался научной деятельностью в области искусствоведения. Советник королевы Елизаветы. В 1963 году расшифрован как агент советской разведки.
Боговой Василий (Борис?) Григорьевич (1893–1937). Советский военный разведчик. Участник Гражданской войны в должности командира стрелковых полков. На штабных должностях в РККА. С 1928 по 1931 год помощник, военный атташе в Польше. На руководящих должностях в Разведупре штаба РККА. Репрессирован.
Богомолец Виктор Васильевич (1895 – после 1964). Резидент МИ-6, 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. Участник Гражданской войны в составе контрразведывательных органов Белой армии. С 1922 по 1931 год помощник резидента МИ-6 в странах Восточной Европы. Активный участник операций английской разведки в СССР. После вербовочного выхода на него сотрудника ИНО ОГПУ связь с МИ-6 утратил. С 1934 года самостоятельный резидент 2-го отдела Главного штаба. Одновременно сотрудничал с румынской Сигуранцей. Проживал в Румынии, Лондоне, Берлине, Париже, Варшаве. После начала Второй мировой войны проживал в Лиссабоне, Каире. Начал сотрудничать с советской внешней разведкой.
Бор-Боровский С. (?–1937?) Агент советской внешней разведки. Бывший офицер Войска Польского. Сотрудник территориальных аппаратов 2-го отдела Главного штаба. Завербован в 1922 году. Замыкался на сотрудников ИНО и КРО ОГПУ. После ареста поляками по подозрению в работе на советскую разведку был оправдан. После ухода в СССР использовался в вербовочных мероприятиях ОГПУ. Исключен из агентурного аппарата в связи с утратой доверия. Репрессирован.
Бораковский Владислав (?–1934). Агент советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны, советско-польской войны. Дважды был ранен. Проходил службу в реферате «Россия» исследовательского отделения 2-го отдела Главного штаба. Завербован резидентом ИНО ОГПУ в Данциге В. Илиничем, работавшим под фамилией Ладовский. Разоблачен польской контрразведкой. Расстрелян.
Бриль Виктор Иосифович (Минин Михаил Робертович) (1896–1934). Нелегальный резидент польской разведки в Москве. До ареста заместитель директора транспортного отдела треста «Союзрыбсбыт».
Бутенко Федор Хрисанфович (Христафорович) (1905–?). Советский дипломат. Невозвращенец. Участник Гражданской войны с 14 лет. Член ВКП (б) с 1935 года. Окончил Ленинградский НИИ сравнительного изучения языков. Защитил диссертацию. С 1935 года в аппарате НКИД. С 1937 года назначен советником полпредства СССР в Румынии, позже – поверенным в делах. В феврале 1938 года осуществил побег в Италию. Активно занимался антисоветской деятельностью. Использовался министром иностранных дел Италии графом Чиано как консультант по советским делам.
Быстролетов Дмитрий Александрович (1901–1975). Сотрудник советской внешней разведки. После Гражданской войны проживал в эмиграции в Константинополе, Праге. Привлечен к сотрудничеству с ИНО ОГПУ в 1923 году. В 1925 году под прикрытием должности в торгпредстве в Праге занимался вербовочной работой. С 1930 года в штате ИНО ОГПУ. В 1930-е годы сотрудник нелегальных резидентур в ряде европейских стран (Германия, Австрия, Голландия и т. д.). Участник крупнейших операций советской внешней разведки. После возвращения в Москву в 1938 году арестован. Отбывал наказание в ИТЛ ГУЛАГа. Выпущен на свободу в 1954 году. Реабилитирован. Работник Всесоюзного НИИ медицинской и медико-санитарной информации. Занимался литературной деятельностью. Автор сценария к фильму «Человек в штатском».
Васильев Степан Григорьевич (Борель Стефан Григорьевич) (1895–?). Агент английской, польской, германской разведок. До 1934 года в должности помощника резидента МИ-6 Богомольца действовал в Румынии, Польше, Прибалтике. После ухода из английской разведки сотрудничал со 2-м отделом Главного штаба, румынской Сигуранцей, Абвером. После начала войны кадровый сотрудник аппаратов Абвера в Болгарии («бюро Делиуса»), на Восточном фронте (Абвергруппа-105). Арестован органами СМЕРШ.
Вебе Вальтер. Сотрудник Абвера. С 1934 по 1938 год руководил аппаратом Абвернебенштелле «Данциг».
Веземан Ганс (1895–1971). Агент гестапо, Абвера. Член СДПГ. Занимался литературной и журналистской деятельностью. В 1935 году участвовал в похищении Бертольда Якоба в Швейцарии. Содержался в заключении. После освобождения выехал в Латинскую Америку. Принимал участие в операциях Абвера в США. После войны работал на хозяйственных должностях на радиостанции «Немецкая волна».
Вечоркевич Антоний (1895–1925). Деятель Польской коммунистической партии, агент советской разведки. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. Принимал участие в советско-польской войне в составе Войска Польского. Примкнул к коммунистам. В 1923 году арестован польской контрразведкой. Обвинялся во взрывах в Варшавском университете и Варшавской цитадели. Приговорен к смертной казни. В ходе обмена на арестованных в СССР поляков застрелен польским жандармом.
Витолин Алексей Мартынович (1893–1938). Сотрудник советской военной разведки. Участник Гражданской войны. С 1922 года в аппарате Разведупра штаба РККА. Помощник резидента, резидент в Германии. Репрессирован.
Вулле Рейнхольд (1882–1950). Агент советской внешней разведки. Немецкий политический деятель, журналист и издатель. В 1920–1924 годах депутат германского Рейхстага. Председатель Германской национальной народной партии. С 1938 года заключенный в концлагере Заксенхаузен. После войны основатель Германской партии построения.
Вурм Матильда (1874–1935). Германский политик, публицист. Активистка, функционер СДПГ. С 1919 года депутат городского совета Берлина. Член Рейхстага от СДПГ от Тюрингии. Занималась антинацистской деятельностью. После прихода НСДАП к власти – в эмиграции во Франции, Великобритании. По официальной версии, покончила жизнь самоубийством.
Галлер Юзеф фон (1873–1960). Польский военный и политический деятель. Окончил технологический университет в Вене. До 1910 года 16 лет служил в австро-венгерской армии на командных должностях. С 1912 года занимался общественной деятельностью на польских землях Австро-Венгрии. Участвовал в Первой мировой войне в составе польских легионов. С 1917 года командир 2-й бригады легионов. Участвовал в боях с германской армией. Через Россию перебрался во Францию, где сформировал так называемую «Голубую армию» – польское добровольческое формирование. Участвовал в боях на Западном фронте. Участник советско-польской войны. До 1926 года – генеральный инспектор артиллерии. Во время майского переворота выступил противником Пилсудского. Проживая в Германии и Франции, активно занимался «антисанационной» политической деятельностью. В годы войны в правительстве Польши в изгнании. Умер в Лондоне.
Гано Станислав (1895–1968). Сотрудник польской разведки. Окончил технологический институт в Москве. Участник Первой мировой войны в составе русской армии. С 1918 года служил в строевых частях Войска Польского. После окончания высшей военной школы служил в 3-м отделе Главного штаба. С 1928 года на руководящих должностях во 2-м отделе штаба. В период Второй мировой войны заместитель начальника 2-го отдела штаба Верховного командования. После войны проживал в Марокко.
Герасимович Тадеуш (Гапке, Брониковский Эрвин) (1896 – после 1944). Агент Абвера. Бывший офицер Войска Польского. В 1920-е годы сотрудник 2-го отдела Главного штаба. Инициативно предложил услуги О. Райле. Участник крупнейших операций Абверштелле «Кёнигсберг» в Польше. Арестован польской контрразведкой. После освобождения – сотрудник органов Абвера на Восточном фронте. Инструктор по агентурной разведке Абверкоманды-103. До 1943 года заместитель начальника Борисовской разведшколы. Позже на аналогичной должности в школе Нидерзее (Вост. Пруссия). Захвачен сотрудниками СМЕРШ. Умер в заключении.
Гискес Герман (? – 1971). Сотрудник Абвера. В 1937 году зачислен в состав реферата 3F (внешняя контрразведка) Абверштелле «Гамбург». В годы войны разработчик операции «Северный полюс» по нейтрализации английской и голландской разведдеятельности в Голландии. После войны сотрудник организации Гелена, БНД.
Голиков Филипп Иванович (1900–1980). Советский военачальник, Маршал Советского Союза, с июля 1940 по ноябрь 1942 года заместитель начальника Генштаба – начальник Разведывательного управления НКО СССР.
Горачек Ганс (Йоханнес). Сотрудник Абвера. В 1930-е годы начальник мельдекопфа Абверштелле «Остпройссен», начальник Абвернебенштелле «Эльбинг». Исполнял обязанности начальника Абверштелле «Кёнигсберг». В годы Второй мировой войны начальник АНСТ «Варшава», «Жешув».
Грейзер Артур Карл (1897–1947). Деятель НСДАП, обергруппенфюрер СС, генерал полиции. Член НСДАП с 1932 года, СС – с 1933 года. С 1941 года начальник Штабного управления имперского комиссара. Арестован союзниками. Приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме.
Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987). Советский военачальник, диссидент, правозащитник. С 1931 года слушатель военно-технической академии РККА. Начальник штаба отдельного саперного батальона 4-го стрелк. корпуса. Командир 52-го инженерного батальона. Учеба в академии Генштаба РККА. Участник боев на р. Халхин-Гол. В годы войны командир 18-й отд. стр. бригады, 202-й стр. дивизии. После войны преподавательская (Военная академия им. М. Фрунзе) и правозащитная деятельность.
Гриф-Чайковский Юзеф (?–1933). Агент Абвера. Сотрудник польской разведки. С 1924 по 1931 год резидент в Германии. Находясь в Берлине, инициативно предложил свои услуги германской разведке. Уволен из Войска Польского по дискредитирующим обстоятельствам в 1931 году. В 1933 году разоблачен как германский агент. Расстрелян.
Гробицкий Ежи (1891–1972). Бригадный генерал Войска Польского. После окончания советско-польской войны на командных и штабных должностях. С 1931 по 1939 год военный атташе в Тегеране, Стамбуле, Бейруте, Афинах, Мадриде. После 1939 года в советском плену. Заместитель командира 5-й пехотной дивизии армии генерала Андерса. После войны – в эмиграции.
Гурский Феликс Антонович (1899–1937). Сотрудник советской внешней разведки. С 1916 года член партии большевиков. С 1922 года сотрудник 4-го (разведывательного) управления штаба РККА, КРО ОГПУ. Директор Инторгкино. С 1931 года сотрудник Особого отдела, ИНО ОГПУ. В 1930-е годы на нелегальной работе в Германии. В 1937 году покончил жизнь самоубийством.
Дамб-Бернацкий Стефан (1890–1962). Польский военный деятель. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. С 1918 года в Войске Польском. В 1920-е годы на командных и административных должностях. С 1930 по 1939 год Инспектор армии. В сентябрьской кампании 1939 года командующий армией «Прусы». В период нахождения в Лондоне политический противник генерала Сикорского.
Дворжецкий Вацлав Янович (1910–1993). Агент польской разведки. Известный советский актер театра и кино. С 1926 года студент Киевского политехнического института. Параллельно окончил курс театральной студии. В 1929 году арестован органами ОГПУ за участие в деятельности «подпольной» организации ГОЛ. В 1937 году освобожден из заключения. Повторно арестован в 1941 году, освобожден в 1946-м.
Демковский Петр (1895–1931). Агент советской военной разведки. Окончил школу прапорщиков в г. Тифлисе. Участник Первой мировой войны. В 1918 году вступил в Войско Польское. Службу проходил на штабных и командных должностях, участник советско-польской войны. Обучался в Варшавской военной академии. Сотрудник мобилизационного отдела Главного штаба. В 1931 году завербован военным атташе СССР в Варшаве Б. Боговым. После разоблачения казнен.
Добров Александр Матвеевич (1879–1940). Агент ЭКУ ОГПУ.
В 1931 году по заданию ОГПУ был направлен в Германию для установления контактов с руководством НСДАП, британской разведкой и русскими эмигрантскими организациями. Репрессирован.
Дрыммер Виктор (1896–1975). Польский дипломат и разведчик. Деятель польской военной организации до 1918 года. С этого времени сотрудник и начальник разведывательного отдела Подлясской оперативной группы Войска Польского. С 1919 года во 2-м отделе. Резидент на Украине.
С 1923 года военный атташе в Ревеле. С 1928 года в МИД Польши. С 1931 по 1939 год директор персонального (кадрового) департамента МИД Польши. Ближайший сподвижник Ю. Бека. Умер в эмиграции в Канаде.
Дубич-Пентер Кароль (1892–1945). Сотрудник польской разведки, дипломат. С 1919 года сотрудник 2-го отдела в польской военной миссии в Данциге. С 1930 года в реферате «Восток». С 1933 по 1937 год резидент плацувки «Anitra» в Стамбуле. С 1937 по 1943 год посол Польши в Лиссабоне.
Жимерский (Роль) Михал (1890–1989). Агент советской внешней разведки. До Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии. В годы войны – в польском легионе. В 1918 году начальник штаба 2-го корпуса Войска Польского. Во время советско-польской войны командир 2-й бригады и 2-й дивизии. С 1923 года в звании бригадного генерала заместитель начальника военной администрации. Во время майского переворота выступил против Пилсудского. По обвинению в злоупотреблении служебным положением приговорен к пяти годам заключения. Находясь в эмиграции в Париже, завербован ИНО ОГПУ. С началом войны действовал в коммунистическом подполье. С 1943 года военный советник Главного штаба Гвардии Людовой. В 1944 году назначен главнокомандующим Войска Польского. В 1945 году в звании маршала назначен военным министром ПНР. В 1953 году арестован министерством общественной безопасности ПНР. Реабилитирован.
С 1955 по 1967 год вице-президент Польского национального банка. Член ЦК ПОРП.
Зарубин Василий Михайлович (1894–1974). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой, Гражданской войн. С 1918 года член РКП (б). С 1921 года в органах ВЧК на оперативных и руководящих должностях. С 1924 года сотрудник ПП ОГПУ ДВО. С 1925 года в ИНО ОГПУ. Резидент в Финляндии, Дании, Франции, Германии, США. Заместитель начальника внешней разведки. Участник крупнейших операций советской внешней разведки.
Зарубина Елизавета Юльевна (1901–1987). Сотрудник советской внешней разведки. Супруга В. М. Зарубина с 1929 года. С 1924 года сотрудница Венской резидентуры ИНО. Помощница резидента во Франции, Германии, США. Участница крупнейших операций советской внешней разведки в 1920–1930-е годы. В 1946 году уволена из органов МГБ СССР.
Зюсь-Яковенко Яков Иванович (1892–1942). Советский военный деятель. В РККА с апреля 1919 года. С 1929 года военный атташе СССР в Берлине. С января 1930 года командир 3-го стрелкового корпуса. Начальник штаба Ленинградского военного округа. Репрессирован в 1937 году. Приговорен к 15 годам лишения свободы. Умер в лагере.
Ибрагимов Мустафа. Агент польской разведки под псевдонимом «Мос». В середине 1930-х годов находился на связи у В. Богомольца. Участвовал в вербовочной разработке советского полпреда в Румынии М. Островского.
Илинич Винценты (Виктор Антонович) (1892–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в составе российской армии. Штабс-капитан. С 1918 года в Войске Польском. Сотрудник министерства финансов Польши в 1922–1923 годах. Председатель партии «Союз земледельцев». Завербован советской военной разведкой в 1923 году. В 1925 году арестован, приговорен к шести годам заключения. После обмена на поляков вернулся в СССР. Перешел в ИНО ОГПУ. Направлен резидентом в Данциг. В 1936 году отозван в Москву. Репрессирован. Не реабилитирован.
Ильк Бертольд Карлович (1896–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Участник революционного движения в Австрии, Венгрии.
С 1926 года в ИНО ОГПУ. Нелегальный резидент в Германии. Руководитель крупного разведывательного центра. После возвращения в СССР на руководящих должностях в центральном и периферийных аппаратах ОГПУ-НКВД. Репрессирован.
Йена Ирена фон (1899–?). Агент польской разведки. В 1920-е годы гражданская служащая Рейхсвера. В 1928–1929 году завербована Сосновским. Входила в состав его сети «In.3». После ареста, суда и заключения проживала в Германии, Швейцарии.
Каминский (Монд) Иван Николаевич (1896–1942?). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Член РКП (б) с 1919 года. С 1921 года в органах ВЧК. Помощник резидента ИНО в Польше, Чехословакии. Резидент в Латвии, Италии, Финляндии.
С 1930 года резидент в Германии. Подвергался аресту в Швейцарии. После освобождения – в центральном аппарате ИНО ОГПУ-ГУГБ. Репрессирован. По инициативе Судоплатова освобожден для направления на оккупированную территорию. Покончил жизнь самоубийством под угрозой ареста гестапо.
Картельери Зигфрид. Сотрудник Абвера. В 1920-е годы резидент в Польше. В 1930-е годы на руководящих должностях в Абверштелле «Кёнигсберг».
Каштелян Антоний (1896–1942). Сотрудник польской контрразведки. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. С 1918 года на командных должностях в Войске Польском. С 1931 года проходил службу в ВМФ Польши в должности адъютанта морского батальона. С 1934 года референт, начальник отдельного информационного реферата (контрразведка) Командования флота. После 1939 года содержался в офицерском лагере военнопленных. В 1940 году передан в гестапо. Казнен в Кёнигсберге.
Кинг Джон Генри. Агент советской внешней разведки. Сотрудник департамента связи МИД Великобритании. Работал шифровальщиком в дипломатических представительствах на Ближнем Востоке, в Женеве, Париже, Берлине. Завербован Ханом Пиком. После сообщения В. Кривицкого о сотрудничестве с ИНО ОГПУ арестован и осужден.
Ковалевский Ян (1892–1965). Сотрудник польской разведки. Окончил университет в Льеже. Участник Первой мировой войны в радиотелеграфных частях русской армии. С 1918 года в Войске Польском. С 1919 по 1924 год начальник отделения радиоразведки Бюро шифров 2-го отдела. Способствовал вскрытию советских шифрсистем во время советско-польской войны. Участник 3-го Силезского восстания. С 1924 по 1927 год служба в 74-м пех. полку, учеба в высшей военной школе в Париже. С 1928 по 1933 год военный атташе в Москве. Объявлен «персоной нон грата». С 1933 по 1937 год военный атташе в Бухаресте. В годы Второй мировой войны руководил крупнейшей в Европе разведывательной сетью, находившейся в подчинении МВД Польши. После войны в эмиграции в Лондоне. Сотрудничал с «Радио Свобода».
Коротков Александр Михайлович (1909–1961). Сотрудник советской внешней разведки. С 1928 года в ИНО ОГПУ. Работал в нелегальных резидентурах в Австрии, Франции. В 1939 году был уволен из НКВД. Принят вновь с назначением на должность помощника резидента в Берлине. Через ценную агентуру получал информацию о ходе подготовки нападения Германии на СССР. В годы войны на руководящих должностях в аппарате разведки. После войны начальник управления нелегальной разведки в МГБ, Комитете информации при МИД СССР.
Кот Станислав (1885–1975). Польский политический и общественный деятель. Окончил Львовский университет. Доктор права. До Первой мировой войны занимался преподавательской и общественной деятельностью. С 1914 по 1919 год редактор «Польских вестей». Пресс-секретарь военного отдела Высшего национального совета. С 1933 года деятель Крестьянской партии. Преподавал во Франции. В годы Второй мировой войны вице-премьер в правительстве генерала Сикорского. В 1941–1942 годах посол польского эмиграционного правительства в Москве. С 1945 по 1947 год посол ПНР в Риме. С этого времени проживал в эмиграции.
Крибиц Вильгельм (1892?–?). Сотрудник Абвера. С лета 1938 года начальник реферата 3F (внешняя контрразведка) Абверштелле «Кёнигсберг». Организатор и участник операций по агентурному проникновению в сеть резидентуры советской разведки в Кёнигсберге. После начала войны до середины 1942 года начальник Абвернебенштелле «Минск». Принял участие в операциях по ликвидации двух составов минского подпольного обкома ВКП (б).
Кривицкий Вальтер Германович (1899–1941). Сотрудник советской внешней разведки. Изменник. До зачисления на службу в Разведупр штаба РККА в 1921 году находился на нелегальной партийной работе в Польше, Австрии. С 1931 года переведен в ИНО ОГПУ. Руководил резидентурой в Гааге. В 1937 году попросил политическое убежище в США. После бегства сотрудничал с английской разведкой. По официальной версии, покончил с собой.
Курницкий Петр (1899–?). Польский дипломат и разведчик. Референт Политико-экономического департамента МИД Польши. С 1932 по 1936 год сотрудник консульства и вице-консул в Киеве. С 1936 года референт Политико-экономического департамента МИД.
Лаго (Озеров) Борис Федорович (1898–1938). Агент советской внешней разведки. Участник Гражданской войны на стороне Белой армии.
В эмиграции в Константинополе, Праге. Примерно в 1923 году привлечен к сотрудничеству с Разведупром штаба РККА в Вене. Арестован в Румынии. Отбывал заключение в тюрьме. После выхода объявил себя невозвращенцем, выпустив книгу антисоветского содержания. Завербован помощником резидента МИ-6 в странах Восточной Европы Виктором Богомольцем. Участник крупнейших контрразведывательных и разведывательных операций ИНО ОГПУ по противодействию британским, французским, польским и румынским спецслужбам. Репрессирован.
Леман Вилли (1895–1942?). Агент советской внешней разведки. Сотрудник контрразведывательного реферата германской политической полиции (отдел 1А полицайпрезидиума). В 1929 году привлечен к сотрудничеству с берлинской резидентурой ИНО ОГПУ. Ценный источник информации о деятельности германских спецслужб под псевдонимом «Брайтенбах» (А/201). Сотрудник гестапо с 1934 года. Арестован гестапо в 1942 году после неудачной операции по восстановлению связи. Казнен.
Лепяж Людвик (1891–1937). Агент советской военной разведки. Участник советско-польской войны в составе 1-й бригады легионов. В 1924 году окончил обучение в высшей военной школе. Распределен на руководящую должность в 4-м отделе Главного штаба Войска Польского. Завербован на советскую разведку. С 1931 года зам. командира 30-го полка стрельцов. До 1934 года начальник штаба 6-го военного округа, зам. командира 19-го пех. полка. Разоблачен польской контрразведкой. В тюрьме покончил с собой.
Лехович Влодзимеж (1911–1986). Агент советской разведки. С согласия руководства Польской коммунистической партии сотрудник Отдельного информационного реферата (контрразведка) Командования округа № 1 в Варшаве. С 1937 года начальник национально-политического реферата 2-го отдела Главного штаба. В годы войны действовал как агент советских спецслужб в подпольных структурах Армии Крайовой. После создания органов власти Люблинского правительства начальник контрразведки в Информационном отделе Гвардии Людовой. С 1947 года министр снабжения и торговли ПНР. Арестован министерством общественной безопасности ПНР. Проходил обвиняемым по делу Мариана Спыхальского. Реабилитирован. На руководящих постах в партийных и государственных органах. С 1970 по 1974 год посол Польши в Голландии.
Лигоцкий Эдвард (1887–1966). Агент польской разведки. Польский писатель, публицист. Окончил Ягеллонский университет. Перед Первой мировой войной проживал в Швейцарии, где занимался литературной деятельностью. В 1918 году секретарь польского посольств в Берне. Активный сторонник генерала Галлера. С 1926 года противник Ю. Пилсудского. Проживал в Тулузе, Париже. Активно занимался литературной деятельностью. С ноября 1936 года агент 2-го отдела Главного штаба со специализацией по франко-польским, франко-советским отношениям. В годы Второй мировой войны в информационных, пропагандистских структурах правительства генерала Сикорского. С 1945 года проживал в Польше. Автор нескольких десятков литературных произведений.
Логановский Мечислав Антонович (1895–1938). Сотрудник советской внешней разведки. До Первой мировой войны участник подпольных структур ППС, ПОВ. Находился в ссылке в Нижегородской губернии. Участвовал в февральском и октябрьском переворотах как член ППС. В 1918 году вышел из партии, вступил в ВКП (б). Участник Гражданской войны. С 1920 года в Регистрационном (разведка) отделе 15-й армии. С 1921 года в органах ВЧК-ОГПУ. Резидент ИНО в Варшаве, Австрии. Помощник начальника ИНО ОГПУ (1925). С ноября 1925 года в НКИД СССР. Замнаркома внешней торговли (с 1934), пищевой промышленности СССР (с 1937). Репрессирован.
Лукасевич Юлиуш (1882–1951). Сотрудник польской разведки, дипломат. С 1920 года в штате 2-го отдела Главного штаба. Секретарь польского представительства в Москве. Референт и начальник восточного отделения МИД Польши (1919–1921, 1922–1925). Секретарь польского посольства в Париже. Директор Политико-экономического департамента МИД (1925–1926). Посол в Праге (1926–1929), директор Консульского департамента МИД (1929–1931), посол в Вене (1931–1933), в Москве (1933–1936), Париже (1936–1939).
Люшков Генрих Самойлович (1900–1945). Сотрудник органов безопасности СССР. Перебежчик. С 1917 года член РСДРП (б), в РККА. С 1918 года в органах ЧК-ВЧК-ОГПУ-НКВД на руководящих должностях в центральном, территориальных аппаратах. До побега в 1938 году в Маньчжурию занимал должность полномочного представителя НКВД по Дальнему Востоку. Сотрудничал с японскими спецслужбами. Принимал участие в подготовке убийства Сталина. В 1945 году убит японцами как нежелательный свидетель.
Маак Бертольд (1898–1981). Нацистский деятель. С 1931 по 1940 год проходил службу в «общих» СС, включая руководство концлагерем «Дахау» (1934), Абшниттом XXVI (Данциг) (1935–1936). С указанного времени переведен в Ваффен СС на командные должности в дивизиях «Викинг», «Норд». С марта 1945 года командир 20-й дивизии СС.
Майер Стефан (1895–1981). Руководитель польской разведки. С 1923 по 1928 год руководил деятельностью Экспозитуры № 1 в г. Вильно. Имея значительный опыт контрразведывательной работы, с 1928 года в течение двух лет был начальником отделения IIb 2-го отдела Главного штаба. С 1930 по 1939 год был начальником отделения IIa (разведывательного).
Макарчик Януш (1901–1960). Польский писатель, дипломат, разведчик. С 1918 года в ПОВ. Обучался на правовом факультете Варшавского университета. Участник советско-польской войны. С 1923 года сотрудник консульства в Чикаго (США). Окончил курс Сорбоннского университета. Корреспондент «Варшавского курьера». С 1927 года в центральном аппарате польского МИД. Офицер резерва. Участник операций польской разведки. После сентябрьской кампании в германском плену. После войны занимался педагогической, литературной деятельностью в ПНР.
Маклаков Василий Алексеевич (1869–?). Русский политический, общественный деятель, дипломат. С 1906 года член ЦК кадетов. Проходил по спискам партии во 2-, 3-, 4-ю Государственную думу. С октября 1917 года посол Временного правительства во Франции. Дипломатический представитель Колчака, Деникина, Врангеля. С 1924 года председатель эмигрантского комитета. С 1932 года во главе Совета русских послов.
Маковский Юрий Игнатьевич (1889–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Активист ППС (Польской социалистической партии).
С 1918 года член РКП (б). Участник Гражданской войны. Руководил нелегальным военным аппаратом Компартии Польши. Арестован в Польше в 1920 году. Член польского бюро ЦК РКП (б). С перерывами служил в органах ВЧК-ОГПУ. В 1925 году окончил Военную академию РККА. С 1932 года резидент ИНО во Франции. Репрессирован.
Макохин (Махонин, Макагон, Мазепа, Разумовский) Яков. Украинский деятель. Участник Первой мировой войны в составе армии США. Подданный Великобритании украинского происхождения. В межвоенное двадцатилетие занимался журналистской, издательской, информационной деятельностью. Деятель подпольных структур ОУН. Польской разведкой подозревался в сотрудничестве с МИ-6.
Малли Теодор Степанович (1894–1938). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. Содержался в русском плену. Участник Гражданской войны. В РККА с 1918 года. С 1920 года член РКП (б). С 1921 года в органах ВЧК. Сотрудник КРО и Особого отдела ОГПУ. С 1934 года резидент ИНО в Париже. Участник крупнейших разведывательных операций ИНО в Европе. Резидент в Лондоне в 1936 году. Репрессирован.
Млынарский Феликс (1884–1972). Польский государственный и общественный деятель. Окончил Ягеллонский университет. Член подпольных структур ППС до 1914 года. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. Один из основателей Польского банка, вице-президент до 1939 года. Участник оппозиции режиму санации. После начала Второй мировой войны находился в Лондоне. С санкции генерала Сикорского принял участие в денежной эмиссии оккупационных властей Германии. С 1945 года занимался научной, преподавательской деятельностью в Польше.
Модельский Исидор (1889–1962). Польский политический и военный деятель. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. Последняя должность командир батальона. Участник советско-польской войны. Слушатель высшей военной школы в Варшаве. На командных и штабных должностях в Войске Польском. В 1926 году командир 30-го пехотного полка. Во время переворота Пилсудского выступил на стороне правительственных сил. Возглавлял ветеранские организации Польши. С 1939 года член правительства в эмиграции. Заместитель военного министра. После войны исполнял функции начальника специальной миссии в Лондоне по возвращению эмигрантов в ПНР. С 1946 по 1948 год военный атташе в Вашингтоне. Отказался вернуться на родину.
Мосцицкий Игнацы (1867–1946). Польский политический и государственный деятель. Профессор химии. Одни из создателей Польской социалистической партии (ППС). Ближайший соратник Пилсудского. В 1926–1939 годах президент Польской Республики. После сентября 1939 года был интернирован в Румынии. Проживал в Швейцарии.
Натцмер Рената фон (1898–1935). Агент польской разведки. Будучи гражданской служащей отдела VI министерства Рейхсвера, в ноябре 1928 года была завербована Ежи Сосновским. Была ценным источником документальной информации. В феврале 1935 года арестована гестапо. После приговора трибунала казнена.
Нидермайер Оскар фон (1885–1948). Германский военный деятель и разведчик. Доктор географии. В 1912–1914 годах участвовал в научной экспедиции по странам Ближнего и Среднего Востока. Участник Первой мировой войны. В 1914–1917 годах принимал участие в операции германской разведки по инспирации повстанческого движения против Великобритании в Афганистане. С 1924 по 1931 год в Центральном представительстве Рейхсвера в Москве (аппарат Ц-МО). Занимался научной, преподавательской деятельностью. С 1942 по 1943 год командир Восточного легиона Вермахта.
В январе 1945 года арестовывался гестапо за «пораженческие настроения». Захвачен органами СМЕРШ. Умер в заключении.
Ноцны-Гаджински (Ноцни) Эдинхард фон (1894–1970). Сотрудник Абвера. В 1920-е годы сотрудник германской полиции. Привлечен к работе в интересах германской разведки в 1922 году. В 1931 году захвачен польской контрразведкой. Приговорен к 8 годам заключения. С марта 1936 года зачислен в Вермахт в звании майора. Службу проходил на командных и штабных должностях в 1-м военном округе. В 1938 году начальник реферата Абверштелле «Кёнигсберг». С 1940 по июнь 1941 года начальник АНСТ «Тильзит». С июня 1941 года начальник Абвергруппы при группе армий «Север». Подполковник с 1 августа 1942 года. С марта 1942 по середину 1944 года начальник Абверштелле «Кёнигсберг». На 22 января 1945 года состоял при штабе коменданта Кёнигсберга генерала Ляша. Сдался в плен американцам. Допрашивался в лагере сотрудниками ОСС. После войны проживал в Германии.
Орлов Владимир Григорьевич (1882–1941). Активный деятель антисоветской эмиграции. Участник Русско-японской, Первой мировой войн. Сотрудник контрразведывательных органов Российской Империи. По подложным документам служил в Петроградской ЧК. Под угрозой ареста бежал в Финляндию. В эмиграции, проживая в Берлине, активно занимался антисоветской деятельностью, включая изготовление фальшивых документов. Осужден. После отбытия заключения проживал в Бельгии. Арестован гестапо и направлен в концлагерь, где и умер.
Орлов (Никольский) Александр Михайлович (1895–1973). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Гражданской войны. С 1919 года в Особом отделе 12-й армии. Член РКП (б) с 1920 года. На оперативных и руководящих должностях в органах безопасности. С 1925 года начальник отделения и помощник начальника ЭКУ ОГПУ. С 1926 по 1930 год резидент ИНО во Франции, Германии. С 1934 года резидент ИНО в Великобритании. Участник вербовок «Кембриджской группы». С 1936 года резидент в Испании. Невозвращенец. Переехал в США, где выпустил две книги о деятельности советской разведки и политических репрессиях в СССР. Преподавал в американских университетах.
Островский Михаил Семенович (1892–1939). Советский дипломат. Член ВКП (б) с 1919 года. С 1919 по 1922 год служба в РККА. С указанного времени по 1925 год заместитель военного комиссара Военной академии. С 1925 по 1932 год работа по линии Нефтесиндиката в Турции, Германии, Франции. С 1932 года работа в Союзнефти. С 1933 по 1934 год торговый представитель во Франции. В 1934–1937 годах – полпред СССР в Румынии. Репрессирован.
Парпаров Федор Карпович (1893–1959). Сотрудник советской внешней разведки. С 1919 года в РККА. Сотрудник Наркомата внешней торговли в Берлине. После спецподготовки в 1930 году выведен по линии нелегальной разведки в Германию. Резидент-нелегал ИНО ОГПУ. В связи с изменой В. Кривицкого отозван в Москву. Находился под следствием. В 1939 году восстановлен в НКВД. В годы войны в 4-м управлении НКГБ СССР, Главном управлении по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. С середины 1950-х годов руководитель военной кафедры в МГУ.
Павловский (Сумароков, Карпов, Якшин) Михаил Георгиевич (1895–?). Сотрудник советской внешней разведки. Невозвращенец. Участник Гражданской войны. Сотрудник особого отдела Южного, Юго-Западного фронтов. До 1924 года работал в Берлине под прикрытием советской репатриационной комиссии. С указанного времени порвал с советской разведкой, начал сотрудничать с германской полицией, белогвардейскими организациями. Привлекался к суду за участие в изготовлении В. Орловым фальшивых документов, дискредитирующих американских конгрессменов.
Пельчиньский Тадеуш (1892–1985). Начальник 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. В молодости в польских молодежных подпольных организациях. С 1918 года командир роты в польских легионах. Слушатель высшей военной школы в Варшаве (1921–1923). На командных и штабных должностях. С 1935 года начальник 2-го отдела Главного штаба. В январе 1939 года освобожден от должности. Участник сентябрьской кампании. После поражения находился в подполье на руководящих должностях. Участник Варшавского восстания. После поражения содержался в немецком плену. После войны в эмиграции в Лондоне.
Петрушевич Евгений Емельянович (1863–1940). Украинский политический и общественный деятель. Окончил Львовский университет. Занимался преподавательской, адвокатской, общественно-политической деятельностью на территории Австро-Венгрии. Возглавлял Галицийскую делегацию на переговорах в Брест-Литовске. Президент Украинского национального совета. Возглавлял правительство Западно-Украинской Народной Республики в изгнании. Проживал в эмиграции в Берлине.
Пик Хан Генри Кристиан (1895–1972). Сотрудник советской внешней разведки. По профессии художник. Член голландской компартии. В 1930 году завербован И. Порецким (Рейсом) в качестве агента. Участник важнейших операций ИНО ОГПУ в Великобритании. В 1935 году награжден боевым оружием. После провала в Голландии отошел от советской разведки. После начала войны арестован гестапо как член компартии. После войны сообщил английской контрразведке о своей работе в интересах СССР.
Пилсудский Юзеф (1867–1935). Польский политический деятель. Обучался в Харьковском университете. Примкнул к Польской социалистической партии (ППС). С 1888 по 1892 год находился в ссылке в Сибири.
В 1907 году выступил одним из создателей ППС – революционной фракции. Во время Первой мировой войны командовал польскими легионами. В 1918 году возглавил независимое польское государство. С 1918 по 1922 год начальник государства. После совершения в мае 1926 года военного переворота возглавил режим санации (оздоровления). С 1926 по 1928 год и в 1930 году премьер-министр. Генеральный инспектор Войска Польского.
Пискор Тадеуш (1889–1951). Польский военный деятель. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов в должностях командира батальона, начальника штаба бригады. С 1919 по 1920 год главный адъютант Ю. Пилсудского. После советско-польской войны на командных и штабных должностях. С 1926 года начальник Главного штаба. С 1931 по 1939 год инспектор армии. После сентябрьской кампании в немецком плену. После войны в эмиграции в Лондоне.
Попель Кароль (1887–1977). Польский государственный и общественный деятель. Один из основателей Национальной рабочей партии Польши. Участник Первой мировой войны в составе польских легионов. В годы Второй мировой войны министр в правительстве генерала Сикорского.
В 1945 году вернулся в Польшу. Член Национального совета.
Порецкий Игнац (Рейс) (1899–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Перебежчик. До 1921 года находился на подпольной партийной работе. С указанного времени как сотрудник Разведупра участвует в операциях в Польше. Резидент в Голландии. В 1931 году переведен в ИНО ОГПУ. Направлен в Швейцарию. В 1937 году отказался вернуться в СССР. Ликвидирован советской разведкой.
Поссанер Эренталь Курт фон (1898–1933). Агент советской внешней разведки. Член НСДАП с 1928 года. Сотрудник информационного (разведывательного) аппарата в Мюнхене. Примыкал к левому крылу партии.
В ноябре 1931 года инициативно предложил свои услуги советской разведке. Ценный источник по проблематике НСДАП. Убит гестапо как сторонник братьев Штрассеров.
Путлиц Вольфганг Ганс Эдлер Хер цу (1889–1975). Германский дипломат. Агент МИ-6. С 1916 по 1918 год проходил службу в гвардейских частях, Фрайкорпс. С 1925 года в МИД Германии. С 1934 по 1938 год начальник консульского отдела германского посольства в Лондоне. С 1938 года советник посольства Германии в Гааге. Под угрозой ареста за шпионаж перебежал в Великобританию. Исполнял функции консультанта МИ-6. После войны, по некоторым данным, сотрудничал с советской разведкой.
С 1952 года проживал в ГДР. Занимался литературной деятельностью.
Радтке Рудольф (Тео, Альберт) (1899?–1979). Сотрудник Абвера.
С 1934 года капитан, слушатель военной академии. С 1935 по 1937 год в центральном аппарате Управления Абвер/Заграница. С 1937 года в Абверштелле «Кёнигсберг». Начальник 1-го отдела (Служба сбора донесений) АСТ. В 1941 году начальник Абверкоманды-104 на Восточном фронте. После 20 июля 1944 года находился в заключении. С 1946 по 1951 год сотрудник организации Гелена в должности начальника III отдела (контршпионаж).
В 1951 году назначен вице-президентом Ведомства по охране конституции.
Райле Оскар. Сотрудник Абвера. Участник Первой мировой войны.
С 1921 года сотрудник данцигского полицайпрезидиума. В 1923 году привлечен к сотрудничеству с Абверштелле «Остпройссен». Участник крупнейших операций Абвера в Польше. В 1934 году откомандирован в Центральную Германию для работы против Франции. С мая 1940 года начальник Абверкоманды во Франции, реферата 3F. С 1949 по 1961 год сотрудник организации Гелена, БНД.
Розенберг Альфред (1893–1946). Нацистский деятель. Заместитель Гитлера по идеологии. С 1933 года начальник управления внешней политики партии. Рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Рощин Василий Петрович (1903–1988). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Гражданской войны. С 1925 года в органах военной разведки. С 1926 года переведен в ИНО ОГПУ. Сотрудник резидентуры, резидент в Харбине. С 1930 года в центральном аппарате в Москве. С 1932 года в Берлинской, Венской резидентурах. В годы войны на руководящих должностях в 4-м управлении НКВД СССР, 1-м управлении НКГБ. Резидент в Стокгольме, Хельсинки.
Рудлоф Гюнтер (?–1941). Агент польской разведки. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. В конце 1920-х годов сотрудник польской секции Абверштелле «Берлин». Завербован Ежи Сосновским. После провала плацувки «In.3» был арестован гестапо, но реабилитирован. В 1938 году сотрудник центрального аппарата Абвера в звании подполковника. После захвата архивов 2-го отдела идентифицирован немцами как агент Сосновского. Арестован. Покончил жизнь самоубийством.
Рыдз-Смиглы Эдвард (1886–1941). Польский военный и государственный деятель. Обучался живописи и философии. Активный участник польских подпольных структур ППС. В годы Первой мировой войны воевал в составе польских легионов. С 1922 года инспектор, генеральный инспектор Войска Польского. Член Малого военного совета. С 1936 года маршал. После нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года находился в Румынии, Венгрии. Как одному из виновников поражения, ему генералом Сикорским было отказано в сотрудничестве. Скончался от инфаркта.
Сикорский Владислав (1881–1943). Польский военный и государственный деятель. С 1902 года начал обучение во Львовском университете. Активист ППС в подполье. Участник Первой мировой войны в составе австро-венгерских войск. По согласованию с командованием откомандирован для формирования польских легионов в должности начальника военного департамента. Участник боевых действий на Украине и в советско-польской войне. С апреля 1921 года начальник Главного штаба. С 1922 года премьер-министр, одновременно военный министр. В связи с конфликтом с Пилсудским с 1928 года в отставке. Проживая во Франции, занимался оппозиционной режиму Пилсудского деятельностью. После начала Второй мировой войны приступил к формированию польских вооруженных сил в эмиграции. После серии переговоров приступил к формированию кабинета министров в должности премьера. Верховный главнокомандующий Войска Польского в изгнании. 25 мая 1943 года погиб в авиакатастрофе.
Силли Карл Иванович (1893–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. Содержался в русском плену. Участник Гражданской войны. В органах ВЧК с 1920 года. С 1931 года в зарубежных (Турция, Австрия, Германия) резидентурах ИНО ОГПУ. С 1935 года в центральном аппарате разведки. Репрессирован.
Синклер Хью (?–1939). Руководитель британской разведслужбы. До 1923 года офицер ВМС Великобритании. С указанного времени по 1939 год начальник МИ-6.
Смоленьский Юзеф (1894–1978). Начальник 2-го отдела Главного штаба Войска Польского. В польских вооруженных силах с 1918 года на командных должностях. С 1922 по 1924 год обучался в Высшей военной школе в Варшаве. Начальник отделения в 1-м отделе Главного штаба. С 1925 по февраль 1939 года на штабных и командных должностях. Зимой 1939 года назначен начальником польской разведки. В эмиграции во Франции и Великобритании. Заместитель главного коменданта ZWZ. Далее на командных и преподавательских должностях. Погиб в автомобильной аварии.
Сова Фридерик (1896–?). Сотрудник германских спецслужб. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. С 1922 года сотрудник полицайпрезидиума в Данциге. Создатель и руководитель эффективной агентурной сети в Польском Поморье.
Соснковский Казимеж (1885–1969). Польский военный и политический деятель. Один из основателей Союза вооруженной борьбы. Участник Первой мировой войны в составе легионов. Начальник штаба 1-й бригады. В 1919 году заместитель военного министра. В 1922 году военный министр. С 1925 года командир 7-го корпуса. Один из ближайших сподвижников Пилсудского. Сторонник диалога с «антисанационной» оппозицией. После смерти Пилсудского крупных постов не занимал. В годы Второй мировой войны в правительстве генерала Сикорского. После его смерти – верховный главнокомандующий. В силу политических причин в 1944 году отошел от дел. Проживал в эмиграции в Канаде.
Сосновский Ежи (1896–?). Сотрудник польской разведки. Участник советско-польской войны. До 1926 года служил в 13-м кавалерийском полку. С указанного времени зачислен в штат 2-го отдела Главного штаба. Резидент плацувки «In.3» в Берлине. Арестован в 1934 году. После возвращения в Польшу в 1938 году осужден за измену. В 1939 году задержан НКВД и препровожден на Лубянку. По одной из версий, умер в Саратовской тюрьме, по другой – выполнял задания советской разведки за рубежом.
Сосновский (Добжиньский) Игнатий Игнатьевич (1897–1937). Сотрудник органов безопасности СССР. С 1918 года в Войске Польском. Сотрудник 2-го отдела Верховного командования. Резидент на Украине. Перевербован А. Артузовым. С 1920 года сотрудник ВЧК. На руководящих должностях в особом отделе ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР. С 1925 года заместитель начальника УНКВД по Саратовскому краю. В 1936 году арестован. Репрессирован.
Сташевский (Гиршфельд, Степанов) Артур Карлович (1890–1937). Советский военный разведчик. Участник Гражданской войны. Первый резидент объединенных резидентур (РУ и ИНО) в Берлине. Работал за рубежом и в СССР в структурах Наркомата внешторга. Торгпред в Испании в 1936–1937 годах. Репрессирован.
Стивенс Ричард Генри (1893–1967). Английский разведчик. В 1913 году поступил в индийскую полицию. В Первую мировую войну служил в территориальных частях индийской армии, позже – в местной полиции.
С 1933 года сотрудник разведки Британской Индии. С 1938 года переведен в МИ-6 с назначением на должность резидента в Гааге под прикрытием бюро паспортного контроля. При проведении операции по связи с оппозиционной нацистскому режиму группой, легендированной гестапо и СД, захвачен в плен (инцидент в Венло). В годы войны содержался в концлагере. Сообщил германской контрразведке сведения о предвоенной работе МИ-6 в Германии.
Такке Эрих Альбертович (Альберт Альбертович) (1894–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Член КПГ с 1919 года, ВКП (б) – с 1924 года. Короткое время служил в германской армии. С 1923 по 1924 год сотрудник Разведотдела, Разведупра штаба РККА. С 1924 года в ИНО ОГПУ. С этого времени по 1932 год находился на зарубежной работе в резидентурах в Китае, Германии. Репрессирован.
Узданский Стефан Лазаревич (Еленский Стефан Андреевич) (1898–1937). Советский военный разведчик. Участник Гражданской войны на командных должностях в РККА. Военный атташе в Польше (1922–1924). Помощник резидента Разведупра в Австрии (1924–1925), резидент-нелегал во Франции. Был арестован французской полицией. На руководящих должностях в Разведупре. Репрессирован.
Фабиан Дора (1901–1935). Германский политик, журналист. В молодости активистка СДПГ. Защитила докторскую диссертацию по экономике и политическим наукам в университете Гессена. После прихода нацистов к власти эмигрировала в Голландию, позже в Великобританию. Занималась антинацистской деятельностью. По официальной версии, покончила жизнь самоубийством.
Фалькенгейн Бенита фон (1900–1935). Агент польской разведки. Трижды была замужем. Завербована Ежи Сосновским в 1926 году. Принимала активное участие в его вербовочных разработках: в 1927 году – Ирена фон Йена («Дактыл»), 1928 году – Рената фон Натцмер («фон Платен»). Арестована гестапо. Казнена.
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940). Агент польской разведки. Русский политический, общественный деятель, литератор. До революции занимался литературной деятельностью. Во время советско-польской войны вместе с З. Гиппиус и В. Мережковским нелегально перешел линию фронта. Вместе с Б. Савинковым принял активное участие в борьбе с советской властью. В 1920–1930-е годы сотрудничал с польской разведкой. Советник Ю. Пилсудского по советско-украинской проблематике. Занимался издательской деятельностью.
Форстер Альберт (1902–1962). Деятель НСДАП, обергруппенфюрер СС, член НСДАП и СА с 1923 года. С 1930 по 1939 год гауляйтер Данцига. Инициатор политики германизации Польши, сторонник репрессивной политики в отношении польских граждан. В 1945 году взят в плен американцами. Передан польским властям, которые приговорили его к смертной казни. Повешен.
Фургальский Теодор (1893–1939). Польский военный деятель, полковник. С 1924 года в Главном штабе, с 3 января 1932 года начальник 2-го отдела Главного штаба, с 1934 года на командных должностях. В сентябре 1939 года командир 8-й пехотной дивизии. Умер в плену.
Хайровский («Сюрприз», «А/333») (1882–?). Агент советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. Службу проходил в ВВС. В 1932 году эксперт Абвера. Завербован Поссанером. Во второй половине 1930-х годов сотрудник министерства авиации. С осени 1939 года комендант Варшавского аэродрома.
Хаймзот Карл (?–1934?). Агент советской разведки. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. После войны занимался врачебной практикой. Входил в руководство националистической организации Оберланд. Примыкал к левому крылу НСДАП. Завербован Романом Бирком. Источник ценной информации о деятельности НСДАП. В феврале 1934 года вызван в гестапо на допрос, с которого не вернулся.
Харнак Арвид (1901–1942). Агент советской внешней разведки. Доктор юриспруденции. Занимался научной деятельностью. С 1933 года организовал антинацистский кружок. В 1935 году завербован советской разведкой. Работал в министерстве экономики в ранге правительственного, старшего правительственного советника. Источник ценной разведывательной информации о ходе подготовки Германии к нападению на СССР. В 1942 году арестован. Казнен.
Хомутов Александр Дмитриевич (1887–1938). Агент советской внешней разведки. Лейб-гвардии полковник Измайловского полка русской армии. Участник Гражданской войны в составе Северо-Западной (ген. Юденича) армии. В эмиграции с 1920 года, проживал в Берлине, Праге. Участник крупнейших операций внешней разведки в 1920–1930-е годы. Репрессирован.
Хупер Джон Билл (1905–1970). Сотрудник МИ-6. С 1928 года принят на работу в бюро паспортного контроля в Роттердаме, позже – в Гааге. Заместитель резидента английской разведки Далтона. После падения Франции сотрудник МИ-5, МИ-6. Занимался подготовкой голландской агентуры для МИ-6 и голландской разведки. Служил офицером связи между руководством МИ-6 и голландским правительством в изгнании. После войны успешно занимался бизнесом в Турции, Японии, Пакистане, Гане.
Цмеля Владислав («Франек», «Джево», «2021») (1897–1971). Сотрудник, агент польской разведки. Офицер польских легионов и Войска Польского. Участник Силезских восстаний в качестве сотрудника 2-го отдела Верховного командования. С 1923 года в эмиграции в Париже. Занимался бизнесом, журналистикой. Как агент плацувок «Lecomte», «Martel» занимался разведывательной работой. После войны проживал в эмиграции в Лондоне.
Шалиньский Станислав (1896–1951). Сотрудник польской разведки. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. С 1919 года в Войске Польском. Участник советско-польской войны. Проходил службу командиром батальона в 58-м пехотном полку. С 1925 года зачислен во 2-й отдел Главного штаба. Начальник национального реферата отделения IIb, начальник отделения с 1930 по сентябрь 1939 года. В период Второй мировой войны на командных должностях в Войске Польском. В эмиграции занимался коммерцией.
Шатцель Тадеуш (1891–1971). Польский дипломат и разведчик. С 1919 года в Штабе Верховного вождя во 2-м отделе. С 1922 года начальник исследовательского отделения Генштаба. С 1924 по 1926 год военный атташе в Турции. Начальник 2-го отдела Главного штаба. С 1929 по 1930 год секретарь, посол Польши во Франции. Начальник кабинета председателя совета министров, вице-маршал Сейма. После начала войны интернирован в Румынии. После войны в эмиграции.
Шелия Рудольф фон (1897–1942). Агент советской военной разведки.
С 1922 года штатный сотрудник МИД Германии. В 1937 году завербован нелегальным резидентом Разведупра Рудольфом Гернштадтом во время службы в чине легализационного секретаря в германском посольстве в Варшаве. После отъезда из Польши продолжил сотрудничество с Ильзой Штебе. Разоблачен гестапо. Казнен.
Шнеерсон Натан Михайлович (1901–1939). Сотрудник советской внешней разведки. В 1921 году в Главном управлении государственной политохраны ДВР в Чите. Член РКП (б) с 1922 года. С 1925 года начальник КРО полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю. Участник боев на КВЖД. С 1931 года в ИНО ОГПУ на должности помощника резидента в Берлине. С 1936 года в центральном аппарате ИНО в Москве. В 1937–1938 годах помощник начальника 6-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Репрессирован.
Шнитман Лев Александрович (1890–1938). Советский военный разведчик. Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1926 года в Разведупре штаба РККА. С мая 1926 по август 1929 года резидент Разведупра в Берлине под прикрытием должности помощника военного атташе. Военный атташе СССР в Финляндии (август 1939 – сентябрь 1930), Германии (1932–1934), Чехословакии (1936–1938). Репрессирован.
Шпальке Карл (1881–1967). Германский военный деятель. Проходил службу в Тильзите (1-й кав. полк). Сотрудник 5-го отделения отдела Т-3 (разведывательный) Генштаба сухопутных войск. Советник в консульстве Германии в Одессе. С 1935 года начальник 5-го отделения. Военный атташе в Румынии (1942–1944). Генерал-майор. Арестован органами СМЕРШ.
Штебе Ильза («Альта») (1911–1942). С 1931 года агент, групповод советской военной разведки в МИД Германии. После разоблачения гестапо казнена.
Штейнбрюк Отто Оттович (1892–1937). Сотрудник советской внешней разведки. Участник Первой мировой войны в звании капитана австро-венгерской армии. Находился в русском плену. Член РКП (б) с 1918 года. Сотрудник военного отдела Коммунистической партии Венгрии. На нелегальной работе в Германии. С 1921 года сотрудник особого отдела ВЧК.
В 1923 году на работе в Германии. Резидент ИНО ОГПУ в Швеции.
С 1925 года в центральном аппарате ОГПУ (КРО, ИНО) в Москве. С 1935 года начальник отдела Разведупра РККА. Репрессирован.
Шульце-Бойзен Харро (1909–1942). Агент советской внешней разведки. Занимался журналистской, издательской деятельностью. В 1933 году арестован нацистами. Содержался в концлагере. После освобождения обучался в училище транспортной авиации. Сотрудник аппарата министерства авиации Рейха. Привлечен к сотрудничеству с советской разведкой при помощи А. Харнака. Поставлял ценную информацию о ходе подготовки Германии к нападению на СССР. В 1942 году арестован гестапо. Казнен.
Энглихт Юзеф (1891–1954). Польский разведчик. Участник Первой мировой войны в составе легионов. Референт, начальник отделения, заместитель начальника 2-го отдела Главного штаба. С 1937 по март 1939 года командир 79-го пехотного полка. Вернулся на должность заместителя начальника 2-го отдела. В эмиграции в Лондоне руководил Центром обучения пехоты, Высшей военной школой. После войны редактор газеты «Беллона».
Юст Эмиль («37», «437») (1885–1947). Агент советской военной разведки. Сотрудник Абвера. С 1937 года военный атташе Германии в Литве, с июня 1940 года в Румынии. Генерал-майор. С 1941 года главный военный комендант в Литве. С 1944 года в отставке.
Якоб Бертольд (1898–1944). Антинацистский деятель. Участник Первой мировой войны в составе германской армии. После войны участник многих пацифистских организаций. Активно занимался литературной и журналистской деятельностью, направленной против НСДАП. С 1932 года в эмиграции. В 1935 году похищен гестапо в Базеле (Швейцария). Содержался в заключении, где подвергался пыткам. По настоянию швейцарских властей выпущен на свободу. После начала Второй мировой войны находился в неоккупированной зоне Франции, позже в Испании, Португалии. Повторно захвачен гестапо.
Янковский Хенрик. Сотрудник польской разведки. С 1933 по 1936 год возглавлял в Киеве плацувку «Кh».
Организационная схема центрального аппарата 2-го отдела Главного штаба (1935 год)
Схема организации экспозитур 2-го отдела Главного штаба
Плацувки 2-го отдела, работавшие но СССР с позиций других стран
Плацувки реферата «Восток» 2-го отдела в СССР
Начальники 2-го отдела Главного штаба
Начальник Экспозитуры № 3 в г. Быдгощи Ян Хенрик Жихонь
Заместитель начальника Экспозитуры № 3 Витольд Лангенфельд
Довоенный Данциг
Начальник 2-ю отдела Главного штаба полковник Тадеуш Пельчиньский
Начальник разведывательного отделения 2-го отдела Главного штаба подполковник Тадеуш Скиндер
Здание полицайпрезидиума в Данциге
Начальник Абвернебенштелле «Данциг» Оскар Райле
Сотрудник Абверштелле «Кёнигсберг» Ганс (Йоханнес) Горачек
Полицайпрезидиум в Кёнигсберге
Начальник отдела гестапо в Кёнигсберге Вальтер Албат
Агент ИНО ОГПУ Курт фон Поссанср Эрснталь
Агент ИНО ОГПУ в гестапо Вилли Леман
Агент ИНО ОГПУ Роман Бирк
Агент Разведупра штаба РККА в Главном штабе Войска Польского Петр Демковский
Могила Петра Демковского
Начальник реферата «Восток» 2-го отдела Главного штаба капитан Ежи Антоний Незбжицкий
Начальник 2-го отдела Главного штаба Тадеуш Шатцель
Начальник отделения На подполковник Вильгельм Хейнрих
Начальник 2-го отделения (разведка) 2-го отдела Главного штаба Юзеф Смоленьский
Член аналитической группы «Лаборатория» подполковник Казимеж Глабиш
Ротмистр Ежи Сосновский (справа) со своими агентами Бенитой фон Фалькенгейн, Гюнтером Рудлофом, Бухгольц
Агент ИНО ОПТУ Тадеуш Кобылянский (второй слева) в МИД Польши на дипломатическом приеме
Резидент плацувки «In.З» в Берлине ротмистр Ежи Сосновский
Резидент ИНО ОГПУ в Швейцарии Игнац Порецкий (Рейс)
Резидент плацувки «Мартель» в Париже Мечислав Курчевский
Агент ИНО ОГПУ в Париже бригадный генерал Войска Польского Михал Жимерский (Роль)
Сноски
1
Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. С.-Пб: Нева, М.: Олма-пресс, 2001. С. 20.
(обратно)2
В связи с неоднократными изменениями в наименовании органов советской военной разведки в 1920–1930-е годы, мы будем пользоваться наиболее часто употребимым – Разведывательное управление Штаба РККА (Разведупр).
(обратно)3
Материалы конференции (круглого стола) «Современная историография и источниковедение истории отечественных органов госбезопасности. Тенденции развития» / Труды Общества изучения отечественных спецслужб. М.: Кучково поле, 2007. Т. 3.
(обратно)4
Военная разведка информирует / Документы Разведуправления Красной Армии: январь 1939 – июнь 1941 г. М.: Фонд «Демократия», 2008. С. 568.
(обратно)5
Там же. С. 527.
(обратно)6
Там же. С. 536.
(обратно)7
Лебедев В. Деятельность внешней разведки по вскрытию сроков нападения Германии на СССР // Исторические чтения на Лубянке. М., 2001. С. 20. В списке, скорее всего, речь идет об агенте «Аугуста» (Марта).
(обратно)8
Колпакиди А. Ликвидаторы КГБ: Спецоперации советских спецслужб. 1941–2004. М.: Яуза, Эксмо, 2004. С. 31.
(обратно)9
Несмотря на множество косвенных указаний, включая документы советской и французской разведок, документально подтвержденный факт его существования отсутствует.
(обратно)10
Былинин В., Коротаев В. Портрет лидера ОУН в интерьере иностранных разведок // Труды общества изучения истории отечественных спецслужб. М.: Кучково поле, 2006. Т. 2. С. 109.
(обратно)11
Мотов В. НКВД против Абвера. Незримый поединок. М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 91.
(обратно)12
Czarnecka R. Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) w latach 1921–1939. Zarys organizacyjny i przegląd zawartości inwentarza // Biuletyn Wojskowej Słuźby Archiwalnej, 2006, № 28. S. 64.
(обратно)13
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. Warszawa Bellona, 2001. S. 10.
(обратно)14
Генеральный штаб состоял из пяти управлений (отделов), созданных на базе расформированных структур Верховного командования Войска Польского и штаба Военного министерства: 1-й отдел – организационный, 2-й отдел – разведывательный, 3-й отдел – обучения, 4-й отдел – обеспечения войск, 5-й отдел – служба офицеров Генштаба.
(обратно)15
Czarnecka R. Op. cit. S. 67.
(обратно)16
Мисюк А. Спецслужбы Польши, Советской России и Германии. Организационная структура польских спецслужб и их разведывательная и контрразведывательная деятельность в 1918–1939 годах. М.: Крафт, 2012. // С. 34–35.
(обратно)17
Czarnecka R. Op. cit. S. 75.
(обратно)18
Аналоги советской военной разведывательной терминологии – стратегическая и оперативно-тактическая разведка.
(обратно)19
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 24–25.
(обратно)20
Ćwięk H. Rola majora Jana Henrika Źychonia w rozpoznaniu zagrożenia II RP ze strony niemiec // Acta universitatis Wratislaviensis, № 3079. Wrocław, 2008. S. 415.
(обратно)21
Генеральный штаб Войска Польского 1 января 1929 года переименован в Главный штаб. В дальнейшем мы будем пользоваться этим наименованием.
(обратно)22
Ćwięk H. Rola majora Jana Henrika Źychonia. S. 418.
(обратно)23
До реорганизации 1930 года аппарат 2-го отдела в Данциге назывался экспозитурой, но не был самостоятельным территориальным разведывательным органом.
(обратно)24
Ćwięk H. Rola majora Jana Henrika Źychonia. S. 417.
(обратно)25
До образования в 1930 году Экспозитуры № 3.
(обратно)26
Skóra W. Pomorski epizod konfrontacji polskich i niemieckich służb granicznych. Przebieg i skutki prowokacji pod Opaleniem 24 maja 1930 r. // 80 Rocznica powstania straźy granicznej II Rzeczypospolitej. Warszawa – Kętrzyn, 2008. T. 2. S. 171.
(обратно)27
В настоящее время города Щецин и Свиноустье (Республика Польша).
(обратно)28
Skóra W. Działalność polskiego wywiadu wojskowego w międzywojennym Szczecinie (1919–1939) // Przegland Zachodnipomorski. Szczecin, 2011. XXVI. S. 16–17.
(обратно)29
Ibid. S. 18.
(обратно)30
Skóra W. Pomorski epizod. S. 174–175.
(обратно)31
Ibid. S. 178.
(обратно)32
Райле О. Тайная война: Секретные операции абвера на Западе и Востоке (1921–1945). М.: Центрполиграф, 2002. С. 37–38.
(обратно)33
Porwanie dwuch oficerów // Republika, 26.05.30 r.
(обратно)34
Skóra W. Pomorski epizod. S. 181–182.
(обратно)35
Ibid. S. 185.
(обратно)36
Ibid. S. 189.
(обратно)37
Будущий начальник Абверштелле «Кёнигсберг» с ноября 1942 года. По другим данным, обмен состоялся 12 апреля 1934 года.
(обратно)38
Skóra W. Pomorski epizod. S. 187.
(обратно)39
Ćwięk H. Rola majora Jana Henrika Źychonia. S. 420.
(обратно)40
Gondek L. Wywiad Polski w III Rzeszy: Sukcesy i porażki. Warszawa: Bellona, 2011. S. 139.
(обратно)41
Ibid. S. 141.
(обратно)42
Ibid. S. 138.
(обратно)43
Ibid. S. 143.
(обратно)44
Райле О. Указ. соч. С. 9.
(обратно)45
Ćwięk H. Rola majora Jana Henrika Źychonia. S. 420.
(обратно)46
Ibid. S. 421
(обратно)47
Ibid.
(обратно)48
Pepłoński A. Wojna o tajemnice: W tajnej słuźbie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1944). Kraków: Wydawnictwo literackie, 2011. S. 199; Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 72.
(обратно)49
Шнейдемюлле – в настоящее время г. Пила (Республика Польша).
(обратно)50
Мисюк А. Указ. соч. С. 99.
(обратно)51
Halicki K. Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939 // Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji, 2011, № 4. S. 70–71.
(обратно)52
Райле О. Указ. соч. С. 40–42.
(обратно)53
Там же. С. 57.
(обратно)54
Gliński M. Geneza obozu koncentracyjnego Stutthof na tle hitlerowskich przygotowań w Gdańsku do wojny z Polską // Stutthof. Zeszyty museum. Wroclaw – Gdansk: Zaklad narodowy imeni Ossolinskich, Wydawnictwo, 1979, № 3. S. 32–33.
(обратно)55
Ibid.
(обратно)56
Ibid. S. 36.
(обратно)57
Ibid. S. 37.
(обратно)58
В разные периоды данцигский аппарат АСТ «Кёнигсберг» назывался по-разному: Абвернебенштелле (АНСТ) «Данциг», Мельдекопф «Данциг», Небендинст «Данциг».
(обратно)59
Gliński M. Op. cit. S. 37.
(обратно)60
Ibid.
(обратно)61
Wszendyrówny A. Ekspozytura № 2 oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1929–1939. Siedlce, Academia Podlaska w Siedlcach, 2010. S. 240–241.
(обратно)62
Szymanowicz A., Olejnik A. Znaczenie militarne Prus Wschodnich w latach 1918–1939. Zeszyty naukowe WSOWL, 2008, № 4 (150). S. 83.
(обратно)63
Ibid.
(обратно)64
Бухгайт Г. Абвер – щит и меч III Рейха: Немецкая военная разведка 1918–1944. М.: Яуза, Эксмо, 2003. С. 57. В 1936 году Абверштелле «Остпройссен» был переименован в Абверштелле «Кёнигсберг».
(обратно)65
г. Гусев, Калининградской области.
(обратно)66
Gajownik T. Trójstronna współpraca wywiadów litewskiego, niemieckiego i soweckiego w odniesieniu do państwa polskiego w latach 1920 XX wieku // Europa a Rosja: Przezlość, teraźniejszość, przyszłość. Elbląg, Wyd. Elbląskiej Uczełniа Humanistyczno-Ekonomicznа, 2005. S. 495.
(обратно)67
Название Кёнигсбергского университета.
(обратно)68
Halicki K. Działalność policji. S. 60.
(обратно)69
Ibid. S. 68.
(обратно)70
Ibid. S. 64.
(обратно)71
Ibid. S. 61–62.
(обратно)72
Niemiecko-polska wojna wywiadów 1918–1939. URL: -polska-wojna-wy… (дата обращения – 03.11.2012).
(обратно)73
Левицкий С. Шпионы кайзера и Гитлера. М.: Крафт, 2004. С. 184.
(обратно)74
Gondek L. Op. cit. S. 211.
(обратно)75
Ibid.
(обратно)76
г. Мальборк (Республика Польша).
(обратно)77
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 113.
(обратно)78
Ibid. S. 114–115.
(обратно)79
Gondek L. Op. cit. S. 132.
(обратно)80
Niemiecko-polska wojna wywiadów 1918–1939.
(обратно)81
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 118.
(обратно)82
В предвоенные и военные годы в штате Абверштелле «Кёнигсберг» действительно числился переводчиком некий Вичорек.
(обратно)83
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 358–359.
(обратно)84
О. Райле называет только арестованных 16 агентов Абверштелле.
(обратно)85
Gondek L. Op. cit. S. 242.
(обратно)86
Ibid. S. 243.
(обратно)87
Ibid. S. 242.
(обратно)88
Ibid. S. 246.
(обратно)89
Ibid.
(обратно)90
Ibid. S. 247.
(обратно)91
Ibid. S. 248–249.
(обратно)92
Ibid.
(обратно)93
Из имеющихся материалов невозможно установить, является ли «Каминский» начальником контрразведывательного реферата Экспозитуры № 3.
(обратно)94
Gondek L. Op. cit. S. 140, 144.
(обратно)95
Ibid. S. 251.
(обратно)96
Ibid. S. 250.
(обратно)97
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 84; Gajownik T. Op. cit. S. 495.
(обратно)98
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 194.
(обратно)99
Bochaczek-Trąbska J. Z dzialalności Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy w latach trzydziestych. Akcia «Wózek» // Zeszyty naukowe. Wyzsza szkola oficerska wojsk ladowych, 2011, № 4 (162). S. 201–202.
(обратно)100
Ibid.
(обратно)101
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 87. На оперативном жаргоне лица, непосредственно принимавшие участие в выемках, назывались «куницами».
(обратно)102
Bochaczek-Trąbska J. Op. cit. S. 203.
(обратно)103
Ibid. S. 205–206.
(обратно)104
Gondek L. Op. cit. S. 303.
(обратно)105
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 396.
(обратно)106
Halicki K. Działalność policji. S. 71.
(обратно)107
Halicki К. Z dziejów Bydgoskiej policji – Losy komisarza Andrzeja Fąferka // Przeglad Policyiny, 2008, № 1. S. 134–135.
(обратно)108
Ćwięk H. Słuźba Polsce majora Jana Henryka Źychonia na obczyźnie w latach 1939–1944 // Przegląd Polsko-Polonijny. Gorzów-Wielkopolski, 2012, № 3. S. 392.
(обратно)109
Райле О. Указ соч. С. 131.
(обратно)110
Rekuć Z. Przedwojenne archiwalia w forcie Legionów. Rocznik archiwalno-historyczny CAW.
(обратно)111
Цифра в сто человек озвучена О. Райле. По воспоминаниям В. Шелленберга, судебному преследованию подверглось 430 граждан Германии, обвиненных в работе на польские спецслужбы. Там же говорится об обнаружении картотеки польской агентуры. См.: Шелленберг В. Мемуары. – Минск: Родиола-плюс, 1998. С. 92. После войны чехословацкие власти передали Польше фотокопии трофейных германских документов, включавших 75 приговоров Военного суда Третьего Рейха в отношении немцев и поляков, сотрудничавших с польской разведкой. См.: Gondek L. Op. cit. S. 31.
(обратно)112
Gondek L. Op. cit. S. 33.
(обратно)113
Ibid. S. 30.
(обратно)114
Ibid. S. 68.
(обратно)115
Ćwięk H. Słuźba Polsce. S. 392.
(обратно)116
Ibid. S. 393.
(обратно)117
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки. М.: Олма-пресс, 2000. Кн. 1. С. 195.
(обратно)118
Очерки истории российской внешней разведки. М.: Международные отношения, 1996. Т. 2. С. 213.
(обратно)119
Ставинский Э. Наш человек в гестапо. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 97. Несмотря на беллетризованную форму изложения материала, этот источник можно признать авторитетным, т. к. он указывает на знакомство автора с материалами личного дела Вилли Лемана (Брайтенбаха).
(обратно)120
Из архивов ВУЧК-НКВД-МГБ-КГБ, Киев. 2001. С. 47; Хома I. Сiчовi стрiльцi: Створення, вiйськово-полiтична дiяльнiсть та збройна боротьба сiчових стрiльцiв у 1917–1919 рр. Киïв: Наш час, 2011. С. 10, 13; Имеется короткое упоминание об аресте Дидушка в Польше в 1921 году. См.: Ландер И. Негласные войны: История специальных служб 1919–1945. Кн. 1. Одесса: Друк, 2007. С. 331. Но арест мог состояться не раньше конца 1922 года, после провала резидентуры РУ в Данциге.
(обратно)121
Алексеев М. Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты» (1922–1929). М.: Кучково поле, 2010. С. 552.
(обратно)122
Лурье В., Кочик В. ГРУ: Дела и люди. С.-Пб.: Нева; М.: Олма-пресс, 2002. С. 506.
(обратно)123
Мотов В. Указ. соч. С. 142. В этом источнике Дидушок назван Петром Федоровичем.
(обратно)124
Там же. С. 143. До 1919 года Протце проходил службу на командных должностях в ВМФ Германии. С указанного времени до 1931 года руководил службой контрразведки военно-морской базы в Киле. См.: Roewer H., Schäfer S., Uhl M. Lexikon der Geheimdienste im 20 Jahrhundert. München, F. A., Herbig, 2003. P. 359.
(обратно)125
Горбунов Е. Сталин и ГРУ. М.: Яуза, Эксмо, 2010. С. 132.
(обратно)126
Мотов В. Указ. соч. С. 113, 138.
(обратно)127
Там же. С. 143.
(обратно)128
При условии, что агент не является двойником.
(обратно)129
Ставинский Э. Указ. соч. С. 71; Ставинский Э. Зарубины: Семейная резидентура. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 417; Воскресенская З. Под псевдонимом Ирина. М.: Современник, 1997. С. 55.
(обратно)130
Кривицкий В. Я был агентом Сталина. М.: Современник, 1996. С. 146. У этого автора Дидушок назван Владимиром.
(обратно)131
Мотов В. Указ. соч. С. 142.
(обратно)132
Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир. М.: Терра, 1992. С. 184.
(обратно)133
Бондаренко К. Александр Севрюк: Революционер или аферист? // Профиль, № 28, 09.07.2011.
(обратно)134
Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб. Киев: К.И.С., 2008. С. 110.
(обратно)135
Тинченко Я. Генерал Олександр Грекiв. Вiйськова дiяльнiсть i доля // Из архивов ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Киев, 2001, № 2 (17). С. 52.
(обратно)136
О характере проверочных мероприятий см.: Корнилков А. Берлин: Тайная война по обе стороны границы. М.: Кучково поле, 2009. С. 43–46.
(обратно)137
Порецки Э. Тайный агент Дзержинского. М.: Современник, 1996. С. 161.
(обратно)138
Прохоров Д. Сколько стоит продать Родину. С.-Пб., М.: Нева, 2005. С. 79.
(обратно)139
Порецки Э. Указ. соч. С. 162.
(обратно)140
Там же С. 161.
(обратно)141
Pepłoński A. Wywiad Polski na ZSRR: 1921–1939. Warzsawa: Gryf, Bellona, 1996. S. 245.
(обратно)142
Тинченко Я. Указ. соч. С. 118. Агент «Альберт» (№ 2192, «Альф», «Войнар») – Савченко Георгий Сильвестрович (1894–?) – активно использовался польской разведкой в среде украинских националистических организаций. См.: Былинин В., Коротаев В. Указ. соч. С. 103.
(обратно)143
Мотов В. Указ. соч. С. 144.
(обратно)144
Лурье В., Кочик В. Указ. соч. С. 326.
(обратно)145
Мотов В. Указ. соч. С. 38; Тайны дипломатии Третьего рейха: 1944–1945 / Сб. документов. М.: Демократия, 2011. С. 35–39.
(обратно)146
Мотов В. Указ. соч. С. 38; Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе / Сб. документов. М.: Демократия, 2011. С. 28, 162.
(обратно)147
Дьяков Ю., Бушуева Т. Фашистский меч ковался в СССР. М.: Советская Россия, 1992. С. 286.
(обратно)148
Горбунов Е. Указ. соч. С. 141–142.
(обратно)149
Генералы и офицеры вермахта рассказывают: Документы из следственных дел немецких военнопленных 1944–1951 гг. / Сб. документов. М.: Демократия, 2009. С. 357.
(обратно)150
Тайны дипломатии Третьего рейха. С. 720.
(обратно)151
Дьяков Ю., Бушуева Т. Указ. соч. С. 88.
(обратно)152
Мотов В. Указ. соч. С. 143.
(обратно)153
Военно-исторический архив. Вып. 2. М., 1998. С. 12. Герман Вильгельмович (Васильевич) фон ден Берг – до революции российский предприниматель. В 1919 году, находясь в штате министерства финансов Германии, исполнял обязанности заведующего финансами и торгово-промышленным отделом Военно-политического совета Западной России. См.: Фельштинский Ю. Полковник П. Р. Бермонт-Авалов: Документы и воспоминания // Вопросы истории, 2003, № 1. С. 13.
(обратно)154
Мотов В. Указ. соч. С. 47.
(обратно)155
Там же. С. 144.
(обратно)156
Там же. С. 175.
(обратно)157
Там же. С. 183; ОИРВР. Т. 3. С. 381–382.
(обратно)158
Баевский, будучи резидентом ИНО в Стокгольме, в отсутствие Силли проводил встречи с Вером.
(обратно)159
ОИРВР. Т. 3. С. 382.
(обратно)160
Мотов В. Указ. соч. С. 141; ОИРВР. Т. 3. С. 368.
(обратно)161
ОИРВР. Т. 3. С. 369–370; Мотов В. Указ. соч. С. 152.
(обратно)162
Там же. С. 156.
(обратно)163
Фараго Л. Игра лисиц: Секретные операции Абвера в США и Великобритании. М.: Центрполиграф, 2004. С. 103.
(обратно)164
Мотов В. Указ. соч. С. 164. В следственном деле НКВД СССР «Иностранец» содержатся документы по обвинению Р. Бирка в связях с иностранными разведками. В одном из пунктов обвинения Бирка сказано: «Несмотря на наличие доказательств связи Бирка с советской разведкой, Бирк к ответственности не привлекался и легально выехал из Германии». См.: ERAF f. 138 n. 1. S. 6. URL: allin777. livejournal com/216449. html. (дата обращения 5.10.2013).
(обратно)165
Кривицкий В. Указ. соч. С. 146.
(обратно)166
Хеттль В. Секретный фронт. М.: Центрполиграф, 2003. С. 92.
(обратно)167
Колвин И. Двойная игра. М.: Терра, 1996. С. 20. Этот источник представляется наиболее правдоподобным в вопросе о начале разработки Сосновского, так как автор лично интервьюировал Рихарда Протце в 1950 году. Сведения Протце дублируются следственными материалами на Юзефа Гриф-Чайковсокого.
(обратно)168
Во многих русскоязычных источниках Сосновского называют по имени Юрек, что не верно. Скорее, это полонизированный вариант имени Георг, под которым он работал в Германии. Полная фамилия – Наленч фон Сосновски.
(обратно)169
Кроме указаний на Лика как агента ИНО ОГПУ, содержащихся в работах Ставинского, и косвенного упоминания Воскресенской о наличии агента в гестапо, другие сведения о его работе на советскую разведку отсутствуют. Вполне возможно, что по учетам ИНО он проходил под криптонимом «А/252». См.: Мотов В. Указ. соч. С. 48.
(обратно)170
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 161.
(обратно)171
В русскоязычных источниках Леа Нико названа Ритой Паси.
(обратно)172
Мисюк А. Указ. соч. С. 87.
(обратно)173
Koch Р. F. Enttarnt Doppelagenten: Namen, Fakten, Beweise. Salzburg: Ecowin Verlag, 2011. P. 38–40.
(обратно)174
Ibid. Р. 39–41.
(обратно)175
Бочкарев В. 60 лет в ГРУ. М.: Яуза, Эксмо. С. 81–83.
(обратно)176
Ćwięk H. Przeciw Abwehrze. S. 117.
(обратно)177
Ibid. S. 160.
(обратно)178
Воскресенская З. Указ. соч. С. 55.
(обратно)179
Мисюк А. Указ. соч. С. 87.
(обратно)180
Найтли Ф. Ким Филби – супершпион КГБ. М.: Республика, 1992. С. 120.
(обратно)181
Фараго Л. Указ. соч. С. 107.
(обратно)182
У Л. Фараго Джон Билл Хупер неверно назван Джоном Уильямом (Джеком) Хупером. Последний был родным братом Билла. См.: Kluiters F. Bill Hooper and secret service. URL: -intelligence.nl/ (дата обращения 15.02.2013).
(обратно)183
Фараго Л. Указ. соч. С. 108.
(обратно)184
Kluiters F. Op. cit. P. 2.
(обратно)185
Фараго Л. Указ. соч. С. 111.
(обратно)186
По Клуйтерсу, согласие Каутрика работать на Абвер было обусловлено желанием не навредить своим отказом близким родственникам жены, проживавшим в Германии.
(обратно)187
Kluiters F. Op. cit. Р. 11.
(обратно)188
Колвин И. Указ. соч. С. 86–87.
(обратно)189
Фараго Л. Указ. соч. С. 116.
(обратно)190
Kluiters F. Op. cit. Р. 2.
(обратно)191
Царев О., Вест Н. КГБ в Англии. М.: Полиграф, 1999. С. 158.
(обратно)192
Там же. С. 199.
(обратно)193
Там же. С. 200.
(обратно)194
Там же. С. 203.
(обратно)195
Судя по всему, Парланти как агент МИ-6 принимал непосредственное участие в разработке Пика как советского разведчика. Клуйтерс считает, что Парланти работал на советскую разведку.
(обратно)196
Kluiters F. Op. cit. Р. 2.
(обратно)197
Царев О. Указ. соч. С. 195.
(обратно)198
Там же.
(обратно)199
Kluiters F. Op. cit. Р. 7.
(обратно)200
Фараго Л. Указ. соч. С. 116. В другом издании работы Фараго сказано, что выход на Хупера и его вербовку провел Г. Гискес. См.: Фараго Л. Игра лисиц. М.: Международные отношения, 1979. С. 80–81.
(обратно)201
Kluiters F. Op. cit. P. 12.
(обратно)202
Фараго Л. Указ. соч. С. 118–119.
(обратно)203
Там же.
(обратно)204
Kluiters F. Op. cit. Р. 13.
(обратно)205
Ibid. Р. 15.
(обратно)206
Фараго Л. Указ. соч. С. 121.
(обратно)207
Там же.
(обратно)208
Kluiters F. Op. cit. Р. 16; Шелленберг В. Вторжение 1940. Нацистский план оккупации Великобритании. М.: Олма-пресс, 2005. С. 364.
(обратно)209
Kluiters F. Op. cit. Р. 7.
(обратно)210
По настоянию Порецкого Пик отошел от коммунистической деятельности еще в 1930 году. См.: Царев О. Указ. соч. С. 158. После войны Пик был подвергнут допросам в МИ-5, результатами которых англичане были удовлетворены.
(обратно)211
Чего стоит только отсутствие отпечатков пальцев на револьвере, из которого «застрелился» Кривицкий, а также ненайденная пуля.
(обратно)212
Судоплатов П. Спецоперации: Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. М.: Олма-пресс, 1997. С. 81.
(обратно)213
Barnes J., Barnes P. Nazi Refugee turned Gestapo Spy: Life of Hans Wesemann 1895–1971. London: Preger, 2001.
(обратно)214
Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб. М.: Терра, 1997. Т. 1. С. 253.
(обратно)215
Порецки Э. Указ. соч. С. 163.
(обратно)216
Barnes J., Barnes P. Op. cit. P. 73–75.
(обратно)217
Ibid. P. 58, 72.
(обратно)218
Ibid. P. 56, 66.
(обратно)219
Токарев М. Из истории тайных служб // Шелленберг В. Вторжение: Нацистский план оккупации Великобритании. М.: Олма-Пресс, Образование, 2005. С. 487–488.
(обратно)220
Barnes J., Barnes P. Op. cit. P. 95.
(обратно)221
Ibid. P. 97–98.
(обратно)222
Ibid. P. 87.
(обратно)223
Кукридж Е. Тайны английской секретной службы. М.: Изд. Мин. обороны СССР, 1959. С. 225.
(обратно)224
Фараго Л. Указ. соч. С. 278. Барнс оспаривает эту версию.
(обратно)225
Там же. С. 112. Не исключено, что Протце, делясь воспоминаниями с Фараго о Кривицком, был знаком с книгой последнего, в которой бывший резидент ИНО называл свои данные по прикрытию.
(обратно)226
Например, факт случайного обнаружения Веземана в Нью-Йорке и идентификация его как «агента гестапо» немецким художником-эмигрантом Эмери Келеном.
(обратно)227
В операции по захвату Бетрольда Якоба в соседней с Германией стране было задействовано непосредственно четыре человека (Веземан, Рихтер, Краузе, Манц). И это помимо обеспечивавших ее ход сотрудников.
(обратно)228
Фараго Л. Указ. соч. С. 281.
(обратно)229
Факт самоубийства Кривицкого, несмотря на наличие противоречий в этой версии, мы не будем оспаривать.
(обратно)230
Веземан также принимал участие в похищении немецкого профсоюзного активиста Баллинга и его жены в Копенгагене. См.: Фараго Л. Указ. соч. С. 278.
(обратно)231
Колвин И. Указ. соч. С. 7.
(обратно)232
Krzak A. Kapitan Jerzy Antoni Niezbrzycki // Rocznik archiwalno-historiczny Centralnego archiwum wojskowego, 2009, № 2/31. S. 300.
(обратно)233
Ulatowski Ł. Niezbrzycki – wybrane aspekty biografii wywiadowczej kierownika Referatu «Wschod». URL: (дата обращения – 17.04.2013).
(обратно)234
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 2.
(обратно)235
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 36.
(обратно)236
Дословный перевод названия учреждения (Biuro Ścisłej Rady Wojennej) звучит как «Бюро точного военного совета».
(обратно)237
Krzak A. Op. cit. S. 306.
(обратно)238
Тумшис М., Папчинский А. Большая чистка. НКВД против ЧК. М.: Яуза, 2009. С. 415.
(обратно)239
Niezbrzycki J. Polesie: Opis wojskowo-geograficznyi studjum terenu. Warszawa: Wojskowy instytut naukowo-wydawniczy, 1930.
(обратно)240
Krzak A. Op. cit. S. 303.
(обратно)241
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 3.
(обратно)242
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 107.
(обратно)243
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 4.
(обратно)244
Ibid. S. 17. Являлся ли агент «4015» источником польской разведки в ОГПУ, не известно.
(обратно)245
Peplonski A. Wywiad na ZSRR. S. 106–107.
(обратно)246
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 4.
(обратно)247
Ibid. S. 5.
(обратно)248
Ibid. S. 5.
(обратно)249
Ibid.
(обратно)250
Ibid. S. 5.
(обратно)251
Krzak A. Op. cit. S. 304.
(обратно)252
Предшественниками Гано и Незбжицкого на должности начальника реферата были капитан Михал Таликовский и ротмистр Александр Недзиньский. См.: Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 36.
(обратно)253
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 8.
(обратно)254
Ibid. S. 8.
(обратно)255
Ibid.
(обратно)256
Ibid. S. 9.
(обратно)257
Ibid.
(обратно)258
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 37.
(обратно)259
До 1934 года в Москве действовала Миссия Польской Республики.
(обратно)260
Skóra W. Działalność Polskiej Sluźby konsularnej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) // Науковi записки Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету, 2009. Вип. 16. С. 202.
(обратно)261
Ibid.
(обратно)262
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 9.
(обратно)263
Skóra W. Działalność Polskiej Sluźby konsularnej. S. 205.
(обратно)264
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 70.
(обратно)265
Ibid. S. 122.
(обратно)266
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 10.
(обратно)267
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. Op. cit. S. 118.
(обратно)268
Skóra W. Działalność Polskiej Sluźby konsularnej. S. 203.
(обратно)269
С. Забелло и С. Коженевский в то время были кадровыми сотрудниками разведки.
(обратно)270
Skóra W. Działalność Polskiej Sluźby konsularnej. S. 210.
(обратно)271
Зазан Л. Тайна Вацлава Дворжецкого // Совершенно секретно, № 10, 2010. С. 32–33.
(обратно)272
Там же. С. 32–33.
(обратно)273
Pepłoński А. Wywiad na ZSRR. S. 121.
(обратно)274
Ibid. S. 109.
(обратно)275
Зданович А. Органы государственной безопасности и Красная Армия. Деятельность органов ВЧК-ОГПУ по обеспечению безопасности РККА (1921–1934). М.: Кучково поле, 2008. С. 502.
(обратно)276
Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк: Детинец, 1981. С. 187.
(обратно)277
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 115.
(обратно)278
Ibid. S. 203.
(обратно)279
Кен О. М. С. Островский и советско-румынские отношения (1934–1938) // Россия в XX веке: Сб. статей. С.-Пб: Нестор-история, 2005. С. 358–359.
(обратно)280
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 118. // 281 В некоторых источниках В. Яковлев. См.: Русская военная эмиграция: Документы и материалы. М., 2010. Т. 5. С. 600, 704. Польские источники называют его Михаилом.
(обратно)281
Бабенко О. Выстрел на главном вокзале // Родина, 2007, № 1.
(обратно)282
Виноградов Н. Убийство Войкова и дело Бориса Коверды // Русская эмиграция в борьбе с большевизмом. М.: Центрполиграф, 2005. С. 230–231.
(обратно)283
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 244–245.
(обратно)284
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 14.
(обратно)285
Соцков Л. Операция «Тарантелла». М.: Международные отношения, 2001. С. 31.
(обратно)286
Беседовский Г. На пути к термидору. М.: Современник, 1997. С. 323.
(обратно)287
Соцков Л. Указ. соч.
(обратно)288
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 19. Васильев в 1920–1930-е годы активно работал в качестве помощника резидента МИ-6 Гибсона. В годы войны работал на Абвер на Восточном фронте. Арестован органами СМЕРШ.
(обратно)289
Ibid.
(обратно)290
Ibid. S. 20.
(обратно)291
Не оправдавший надежд. К отставке М. М. Литвинова в 1939 г. // Родина, № 10, октябрь 1993 г. С. 51.
(обратно)292
Соцков Л. Указ. соч. С. 212–213.
(обратно)293
Покивайлова Т. Проблемы адаптации русской белой эмиграции в Румынии. Виктор Богомолец – агент румынских секретных служб // В поисках лучшей доли: Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Вторая половина ХIХ – первая половина XX в. М.: Идрик, 2009. С. 151.
(обратно)294
Там же.
(обратно)295
Там же.
(обратно)296
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 202.
(обратно)297
При существующей источниковой базе невозможно сказать определенно, был ли агент «Кобальт-7» советской «подставой». На такую возможность указывает то обстоятельство, что работавший на Богомольца агент Вишневский, поставлявший сходную с тематикой «Кобальта-7» информацию, изначально действовал под контролем советских органов безопасности. См.: Соцков Л. Указ. соч. С. 212. Несмотря на имеющиеся признаки в пользу такой версии, автор все же склонен считать, что «Кобальт-7» не сотрудничал с советской контрразведкой.
(обратно)298
Дьяков Ю. Неизвестные документы об отношениях СССР (России) и Польши в XX веке // Советско-польские отношения в политических условиях Европы 30-х годов XX столетия: Сб. статей. М.: Наука, 2001. С. 67–69.
(обратно)299
Там же.
(обратно)300
Мисюк А. Указ. соч. С. 80.
(обратно)301
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 28.
(обратно)302
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 180.
(обратно)303
Ulatowski Ł. Ostatnia polsko-fińska konferencja ewidencyjna: Helsinki 30 maja – 1 czerwca 1939 roku – Notatka dla Pana Szefa Szt. Gł. URL: http:// www. Academia. Еdu / 4148771. S. 5 (дата обращения – 12.04.2013 г.).
(обратно)304
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 191.
(обратно)305
Ibid. S. 192.
(обратно)306
Ibid. S. 158.
(обратно)307
Kuromiya H., Libera P. Notatka Włodzimerza Bączkowskiego na temat współpracy Рolsko-Japońskiej wobec ruchu Prometejskiego (1938) // Zeczyty Historyczne. Paryz, 2009. S. 130.
(обратно)308
Курас Л. Украинская этническая группировка в Харбине в 1930-е годы в освещении советской разведки // Исторические чтения на Лубянке. М.: Нижний Новгород, 1997. С. 84.
(обратно)309
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 168–169.
(обратно)310
Секреты польской политики. С. 431.
(обратно)311
Мисюк А. Указ. соч. С. 140.
(обратно)312
Там же. С. 142.
(обратно)313
В 1935 году за рефератом «Восток» было закреплено пять служебных помещений: кабинет № 109 площадью 21 кв. метр (ротмистр Закревский, поручик Телатыцкий, поручик Бабиньский и трое гражданских чиновников); кабинет № 111 площадью 11,5 кв. метров (поручик Уряш и один чиновник); кабинет № 115 (капитан Незбжицкий); кабинет № 117 (пять гражданских чиновников); кабинет № 119 (два офицера). Всего в реферате состояло семь офицеров и девять гражданских чиновников. См.: Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 206.
(обратно)314
Ibid. S. 208.
(обратно)315
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 33.
(обратно)316
Лубянка. 1922–1936. С. 756–757.
(обратно)317
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 123.
(обратно)318
Лубянка. 1922–1936. С. 823. Польские источники называют должность прикрытия арестованного как секретаря военного атташе. В российских же источниках он назван секретарем консульского отдела полпредства СССР в Варшаве. Возможно, под фамилией Соколин работал известный сотрудник советской внешней разведки Дмитрий Георгиевич Федичкин. См. Петров Н. Кто руководил органами госбезопасности. 1941–1954: Справочник. М.: Мемориал, Звенья, 2010. С. 866.
(обратно)319
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. Op. cit. S. 163–164. Для сравнения напомним, что крупномасштабная операция Экспозитуры № 3 «Возок» по досмотру германской почтовой корреспонденции, проводимая с участием нескольких десятков исполнителей, обходилась 2-му отделу в 1000 злотых ежемесячно.
(обратно)320
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 25–36.
(обратно)321
Уже после начала войны в комиссии по исследованию причин поражения Польши подполковник Людвик Садовский сослался на мнение заместителя начальника 2-го отдела Главного штаба Юзефа Энглихта, который летом 1939 года считал, что «Советы доброжелательно настроены по отношению к Польше и враждебно к Германии. Советы хотели бы заключения союза с Англией, затрудняя, однако, положение Польши. Выступление Советов против Польши исключено». См.: Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 326.
(обратно)322
Ibid. S. 322.
(обратно)323
Ibid. S. 325.
(обратно)324
Ulatowski Ł. Op. cit. S. 36.
(обратно)325
Krzak A. Op. cit. S. 308.
(обратно)326
Цит. по Мисюк А. Указ. соч. С. 59.
(обратно)327
В межвоенное двадцатилетие органы политического сыска Польши несколько раз переименовывались (дефензива политическая, окружные отделы IV/D Государственной полиции, информационная служба, следственная служба, политическая полиция). См.: Halicki K. Działalność policji. S. 66.
(обратно)328
Halicki K. Działalność policji. S. 67.
(обратно)329
В некоторых районах Польши использовалась разная валюта в зависимости от прошлой государственной принадлежности региона (Германия, Россия, Австро-Венгрия).
(обратно)330
Halicki K. Działalność policji. S. 66.
(обратно)331
Gajownik T. Op. cit. S. 492; Мисюк А. Указ. соч. С. 105.
(обратно)332
Halicki K. Działalność policji. S. 67.
(обратно)333
В некоторых польских источниках Степанов назван Степановичем. См.: Gajownik T. Op. cit. S. 491–492.
(обратно)334
Русская военная эмиграция. Т. 5. С. 678.
(обратно)335
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 226.
(обратно)336
Ibid. S. 227.
(обратно)337
Беседовский Г. На пути к термидору. М.: Современник, 1997. Несмотря на «политически ангажированный» характер воспоминаний Беседовского, его сведениям о деятельности советской разведки в Польше в целом можно доверять.
(обратно)338
ВЧК / ГПУ: Документы и материалы / сост. Фельштинский Ю. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1995. С. 256.
(обратно)339
ОИРВР. Т. 2. С. 238.
(обратно)340
Равич Н. Война без фронта. М.: Советская Россия, 1968. С. 41.
(обратно)341
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 249.
(обратно)342
Ibid. S. 249–250.
(обратно)343
Ibid. S. 248–249.
(обратно)344
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 342–344.
(обратно)345
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 250.
(обратно)346
Беседовский Г. Указ. соч. С. 64; Лурье В., Кочик В. Указ. соч. С. 479.
(обратно)347
Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. С.-Пб.: Нева, М.: Олма-пресс, 2001. С. 160.
(обратно)348
Русская военная эмиграция. Т. 2. С. 312–314.
(обратно)349
Тумшис М., Папчинский А. Большая чистка. С. 327–328.
(обратно)350
Польские источники считают, что Лепяж работал на советскую военную разведку.
(обратно)351
Wiorko A. Ragziecka dzialalnosc szpiegowska w Drugiej Rzeczypospolitej // Kolo historii. Lublin, 2003, № 7. S. 22–23.
(обратно)352
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 268–269. Для сведения: сумма в 3 000 американских долларов в то время примерно соответствовала 12 000 злотых. Средняя зарплата чиновника, полицейского, учителя составляла от 150 до 250 злотых.
(обратно)353
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 349.
(обратно)354
Wiorko A. Op. cit. S. 22.
(обратно)355
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 348–349.
(обратно)356
Peplonski A. Wywiad na ZSRR. S. 193.
(обратно)357
Ibid.
(обратно)358
Wiorko A. Op. cit. S. 24.
(обратно)359
В русскоязычных источниках, включая материалы следственного дела Артузова, Бураковский.
(обратно)360
Wiorko A. Op. cit. S. 24.
(обратно)361
Peplonski A. Wywiad na ZSRR. S. 267.
(обратно)362
Тумшис М., Папчинский А. Большая чистка. С. 400.
(обратно)363
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 268.
(обратно)364
Польский исследователь А. Пеплоньский, со ссылкой на С. Майера, считает, что операция по инфильтрации С. Воеводского в СССР с самого начала проходила под контролем 2-го отдела, а сам он действовал как агент-двойник польской разведки. См.: Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 120.
(обратно)365
ВЧК / ГПУ. С. 264.
(обратно)366
Ландер И. Указ. соч. Кн. 1. С. 188.
(обратно)367
Скубиш П. Разведывательная деятельность Корпуса охраны пограничья на участке с СССР в 1924–1939 гг. Щецин: Институт народной памяти, 2010. С. 14.
(обратно)368
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ. Кн. 1. М.: Олма-Пресс, 2000. С. 199.
(обратно)369
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 350–352.
(обратно)370
Peploński A. Wywiad na ZSRR. S. 274–275.
(обратно)371
Ibid. S. 276–277.
(обратно)372
Ibid. S. 251–252.
(обратно)373
Kornat M. Polska polytyka zagraniczna: 1932–1939 // Biuletyn Instytutu pamieci narodowej, 2009, № 12. S. 35–36.
(обратно)374
Чему свидетели мы были: Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940 годов: Сб. документов. М.: Гея, 1998. Кн. 1. С. 56.
(обратно)375
Bułhak W. Krótki kurs dezinformacji // Biuletyn Institutu pamięci narodowej, 2009, № 12. S. 15.
(обратно)376
Kalbarcyk S. Twarza zwrocony ku Polsce. Jozef Beck // BIPN, 2009, № 12. S. 87.
(обратно)377
Чему свидетели мы были. Кн. 1. С. 48.
(обратно)378
Агабеков Г. Секретный террор. М.: Современник, 1996. С. 319–320.
(обратно)379
Прибалтика и геополитика: 1935–1945 / Сб. документов СВР России под ред. Л. Соцкова. М.: Рипол-классик, 2010; Секреты польской политики: 1935–1945 / Сб. документов СВР России под ред. Л. Соцкова. М.: Рипол-классик, 2010.
(обратно)380
Покровский Н. О принципах издания документов XX века // Вопросы истории, 1996, № 6. С. 33–35. Гораздо проще и эффективнее, несмотря на отступление от общепринятых правил, было бы размещение материалов Сборника в сети Интернет в виде сканированных копий, как сделал МГИМО с переданной туда коллекцией других рассекреченных СВР России документов.
(обратно)381
Секреты польской политики. С. 11, 17, 19, 25, 27.
(обратно)382
Bułhak W. Op. cit.
(обратно)383
ОИРВР. Т. 2. С. 173. Указанный агент, возможно, проходил по учетам ИНО ОГПУ под криптонимом «А/36». См.: Ставинский Э. Наш человек в гестапо. С. 95.
(обратно)384
ОИРВР. Т. 2. С. 172, 218, 238.
(обратно)385
Кочик В. Разведчики и резиденты ГРУ. За пределами отчизны. М.: Яуза, Эксмо, 2004. С. 136.
(обратно)386
Секреты польской политики. С. 42.
(обратно)387
Папчинский А., Тумшис М. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. М.: Современник, 2001. С. 290–294; Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД 1937–1938: Сб. документов. М.: Материк, 2004. С. 312.
(обратно)388
Сосновский в то время исполнял обязанности помощника начальника особого отдела ОГПУ по Московскому военному округу.
(обратно)389
Тумшис М., Папчинский А. Большая чистка. С. 461–462.
(обратно)390
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 100.
(обратно)391
Ibid. S. 102.
(обратно)392
Kuromiya H., Libera P., Pepłоński A. O współpracy polsko-japońskiej wobec ruchu Prometejskiego raz jeszcze. Zeszyty Historyczne, 2009, № 170. S. 230–231. Возможно, этой причиной объясняется наличие некоторых документов 2-го отдела, попавших в распоряжение ИНО.
(обратно)393
Mazur G. Biuro Informacij I Propagandy ZWZ-AK. URL: http:// www polishresistence-ak.org (дата обращения – 23.02.2013).
(обратно)394
Pepłoński A. Za kulisami «Dwujki» // Nasza Polska, 21.06.2011.
(обратно)395
Секреты польской политики. С. 28, 119. Несмотря на то что Кобылянский только через год займет должность вице-директора департамента, источником сведений является, скорее всего, он.
(обратно)396
Там же. С. 378–395.
(обратно)397
Там же. С. 35–36. Бригадный генерал Януш Гонсиоровский с 3 декабря 1931 по 7 июня 1935 года исполнял обязанности начальника Главного штаба Войска Польского.
(обратно)398
Лубянка: Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД (январь 1922 – декабрь 1936) / Сб. документов. М.: Демократия, 2003. С. 534–535.
(обратно)399
Морозов С. К вопросу о секретном польско-германском договоре 1934 года // Славяноведение, 2005, № 5. С. 37.
(обратно)400
Белоусова З. Советский Союз и европейские проблемы: 1933–1934 годы // Вопросы истории, 1999, № 10. С. 59.
(обратно)401
Морозов С. Указ. соч. С. 37–38.
(обратно)402
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 310–311.
(обратно)403
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 242.
(обратно)404
Ibid.
(обратно)405
Gondek L. Op. cit. S. 70–71.
(обратно)406
Ibid. S.122.
(обратно)407
Секреты польской политики. С. 22.
(обратно)408
Bułhak W. Op. cit. S. 23.
(обратно)409
Ibid. S. 24.
(обратно)410
Некоторые польские источники указывают на принадлежность Цмели к кадровому составу 2-го отдела. См.: Bułhak W. S. 25.
(обратно)411
Gondek L. Op. cit. S. 123.
(обратно)412
Wiorko A. Op. cit. S. 23.
(обратно)413
Bułhak W. Ibid. S. 25–26. Жимерский еще в период своей учебы в Париже в начале 1920-х годов особенно не скрывал своих симпатий к Польской коммунистической партии. См.: Protokół z zeznania Teofili Cembrowskiej i Marianny Raaff. URL: /2280 (дата обращения – 17.08.2013).
(обратно)414
Bułhak W. Op. cit. S. 24.
(обратно)415
Завадский Александр (1899–1964), «Вацек», в 1930-е годы руководитель военного аппарата (войсковки) КПП.
(обратно)416
Bułhak W. Op. cit. S. 25.
(обратно)417
Секреты польской политики. С. 21–22. К сожалению, этот документ также не имеет временных идентифицирующих признаков. Единственными указаниями на время его подготовки является подпись Слуцкого как начальника ИНО ОГПУ (с мая 1935 года) и упоминание в тексте событий «Ночи длинных ножей» в Германии (30 июня 1935 года).
(обратно)418
Bułhak W. Op. cit. S. 23.
(обратно)419
Ibid.
(обратно)420
Pepłoński A. Wywiad na ZSRR. S. 252.
(обратно)421
Pepłoński A. Wojna o tajemnice. S. 337.
(обратно)422
См., например: Колпакиди А., Прудникова Е. Двойной заговор. // М.: Олма-пресс, 2000; Мартиросян А. Заговор маршалов. М.: Вече, 2003; Черушев Н. 1937 год: элита Красной Армии на Голгофе. М.: Вече, 2003; Черушев Н. Удар по своим. Красная Армия 1938–1941. М.: Вече, 2003; Сувениров О. Трагедия РККА: 1937–1938. М.: Терра, 1998; Минаков С. Сталин и заговор генералов. М.: Эксмо-Яуза, 2005; Лесков С. Сталин и заговор Тухачевского. М.: Вече, 2003.
(обратно)423
Реабилитация: Как это было, Февраль 1956 – начало 80-х годов / Сб. документов. М.: Фонд «Демократия», 2003. Т. 2. С. 671. В этом сборнике псевдонимы агентов не указаны. Полный текст с указанием псевдонимов содержится в публикации Военно-исторического архива. Вып. 1–3.
(обратно)424
См., например: URL: http://www.мgimo.ru/library/docs/period (дата обращения – 17.08.2013).
(обратно)425
Мотов В. Указ соч. С. 44.
(обратно)426
ОИРВР. Т. 2. С. 187.
(обратно)427
Спецсводка о тайной работе Германии против Советского Союза. URL: (дата обращения – 17.04.2013).
(обратно)428
Сувениров О. Указ. соч. С. 265.
(обратно)429
Реабилитация: Сб. документов. Т. 2. С. 741.
(обратно)430
Сувениров О. Указ соч. С. 387; Дорба И. Свой среди чужих. В омуте истины. М.: Вече, 2011. С. 215. Противоречивы также сведения о месте смерти Яковенко. Одна версия гласит, что он умер в Свердловской тюрьме, другая – в Вятском лагере. См.: Черушев Н., Черушев Ю. Расстрелянная элита РККА. 1937–1941. М.: Кучково поле, 2012. С. 218.
(обратно)431
Райле О. Указ. соч. С. 144.
(обратно)432
Мотов В. Указ. соч. С. 55.
(обратно)433
Там же. С. 50.
(обратно)434
Спецсводка о тайной работе Германии против Советского Союза. URL: (дата обращения – 17.04.2013).
(обратно)435
ОИРВР. Т. 3. С. 355–366.
(обратно)436
В воспоминаниях П. Судоплатова «Аугуста» названа «Юной». См.: Судоплатов П. Указ. соч. С. 196.
(обратно)437
ОИРВР. Т. 3. С. 397.
(обратно)438
ОИРВР. Т. 3. С. 399. В соответствующем очерке (41) имеются указания на работу «Эльзы» в аппарате МИД Германии. В этой связи может быть еще одно объяснение неучастия Парпарова в восстановлении связи с «Аугустой»: если два агента работали в одном учреждении, то Центр старался работу с ними поручать разным сотрудникам. Это делалось для обеспечения безопасности проводимых мероприятий.
(обратно)439
ОИРВР. Т. 2. С. 180; Т. 3. С. 368, 380; Ставинский Э. Зарубины: семейная резидентура. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 367.
(обратно)440
Мотов В. Указ. соч. С. 108.
(обратно)441
Спецсводка о тайной работе Германии против Советского Союза (дополнительно к сводке от 27.06.1933 г.). URL: http://www. мgimo.ru/library/docs/period (дата обращения – 17.04.2013).
(обратно)442
Трубайчук А. 1939: К истории советско-германского сговора. Киев: Истина, 1994. С. 33.
(обратно)


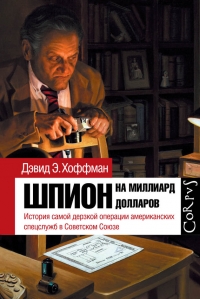








Комментарии к книге «Очерки агентурной борьбы: Кёнигсберг, Данциг, Берлин, Варшава, Париж. 1920–1930-е годы», Олег Владимирович Черенин
Всего 0 комментариев