Джон Лаймонд Харт РУССКИЕ АГЕНТЫ ЦРУ
Посвящается моей жене Кэтрин, дочерям Лизе Гамильтон и Кэти Мичелз и семи моим внукамПредисловие
Вот уже не одно столетие все, что связано со шпионами, притягивает внимание писателей, журналистов и историков, как, впрочем, и читающей публики. Используя всевозможные профессиональные приемы, авторы пытаются описать успехи, приключения и человеческие трагедии, связанные с древним искусством шпионажа, часто при этом неразборчиво смешивая факты с вымыслом. К сожалению, большинство книг на эту тему написано людьми, весьма далекими от профессии разведчика. Многие из них давали излишнюю волю своему воображению, стараясь получше описать психологический прессинг, соблазны и нервные нагрузки, связанные с этой опасной профессией, которым неизбежно подвергаются практически все неординарные люди, посвятившие ей свою жизнь.
Джон Харт находит новый подход к пониманию этой древней как сам мир профессии. Являясь руководящим сотрудником разведки, он часто действует как ученый-исследователь. Его оценки — это не фантазии стороннего человека по поводу того, что должна представлять собой жизнь тайного агента, а выводы, основанные на многолетней практике непосредственного участия в вербовке, руководстве, а иногда и в психологической подготовке реальных шпионов. После Второй мировой войны Харт почти двадцать пять лет провел в качестве резидента в Корее, Таиланде, Марокко и Вьетнаме, руководя разведывательной деятельностью ЦРУ, разрабатывал операции против Албании, Китая и Кубы и в течение почти четырех лет возглавлял работу ЦРУ в Западной Европе. Ему не понаслышке знакомы все трудности противостояния службам контрразведки коммунистических режимов; он лично испытал на себе трагические последствия измены агентов, подпольно работающих на Советский Союз, таких, как сотрудник английской разведки Ким Филби, в течение многих лет выдававший себя за патриотически настроенного гражданина Великобритании.
Однако я знал Джона не только как надежного и деятельного исполнителя, он был также вдумчивым исследователем шпионажа как профессии. В 1971 году, уже подойдя к завершению своей активной карьеры в ЦРУ, он попросил тогдашнего директора агентства Ричарда Хелмса позволить ему провести годичное исследование личных мотивов и внешних обстоятельств, которые привели некоторых советских граждан к работе в пользу Соединенных Штатов. В течение года Джон изучил в подробностях ряд шпионских дел, толстые тома документации по которым занимали не один сейф в хранилищах ЦРУ. Эти рабочие документы были не просто безличными, хронологически составленными протоколами, в них отражались мысли и эмоции людей, взявших на себя риск шпионажа в пользу Соединенных Штатов, что стоило многим из них жизни. Джон Харт попытался изучить человеческий фактор, причины, заставившие этих людей добровольно действовать в роли шпионов, а также показать их положительные и слабые стороны, чтобы помочь сотрудникам американской разведки в будущем выявлять таких личностей и успешно работать с наиболее перспективными кандидатами. Джон, давно интересовавшийся этими необычными людьми, получил даже диплом психолога, стремясь как можно лучше разобраться во взаимоотношениях, которые должны складываться между потенциальным шпионом и контактирующим с ним сотрудником разведки.
Результатом исследований Харта стал высокопрофессиональный анализ этих взаимоотношений, долгое время остававшийся предметом внимания писателей и жадных до сенсаций журналистов. В своих выводах Джон делает различие между индивидуумами, просто спасающимися бегством от удушающей деспотической обстановки, и лицами героическими, иногда действующими безрассудно, которые оставались в стране, пытаясь оградить нас от опасностей, грозящих нашей нации. Изучив общую политическую атмосферу и настроения узкого круга элиты Советского Союза, как перед его развалом, так и в наше время, он выяснил, что шпионили против своей родины не только представители пролетариата, но и многие деятели привилегированных социальных структур российского общества. Вполне вероятной является гипотеза о том, что именно эти структуры фактически являлись передовым отрядом гораздо более многочисленного слоя общества, впоследствии поднявшегося против советской диктатуры, чтобы занять подобающее место в содружестве свободных наций.
В заключение, заглядывая в будущее и признавая улучшение отношений между Соединенными Штатами и странами бывшего Советского Союза, Харт вместе с тем говорит о необходимости продолжения шпионской деятельности на территории бывшего СССР, где шпионаж так процветал ранее.
Уильям Е. Колби, директор ЦРУОт автора
В конце 1971 года, заканчивая двадцатипятилетнюю карьеру в Операционном отделе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и имея за плечами несколько заграничных назначений в качестве резидента, а также должность заведующего региональным отделом главного управления, я направлялся в кабинет Ричарда Хелмса, тогдашнего директора ЦРУ, чтобы предложить весьма необычное задание, идея которого принадлежала лично мне. На мой взгляд, никто из нас не знает точно, почему столь малое количество советских официальных лиц соглашается тайно сотрудничать с нами или же остается на Западе. Необходимо было более тщательно разобраться в том, что именно приводит одних людей к подобного рода сотрудничеству, в то время как другие даже не помышляют об этом. В конце концов, агенты на местах составляли основу нашей разведывательной деятельности против Советского Союза, имевшей в то время наивысший приоритет, и нам следовало понять их лучше.
Я изъявил готовность потратить год на глубокое изучение имеющихся в распоряжении ЦРУ дел агентов, занимающихся шпионажем в Советском Союзе. Согласно моему плану, исследование должно было проводиться с привлечением лучших сил психологов и психиатров специальных служб ЦРУ. Это давало надежду на выявление некоторых скрытых и, возможно, общих мотивов, которые приводили определенных лиц к решению шпионить в пользу США, при том, что подавляющее большинство советских людей к этому не было склонно. Хелмс одобрил мое предложение.
Позднее, через нескольких лет, когда я уже провел некоторое время на заслуженном отдыхе в своем тихом доме в пригороде Вашингтона (округ Колумбия), меня попросили на несколько месяцев вернуться к своим обязанностям в ЦРУ. Мне было сказано, что Управлению понадобился специалист, способный разобраться в сложном и весьма неприятном деле советского гражданина Юрия Носенко, который продолжительное время содержался в одиночном заключении в Соединенных Штатах. Предполагалось, что именно я обладаю той мерой жизненного опыта, независимости и объективности, необходимой для выявления истины и ответа на вопрос, почему вполне благопристойная государственная организация США более трех лет продержала его в самых унизительных условиях. И в связи с ранее проведенным мною исследованием я оказался наиболее подходящей для этого кандидатурой.
Изучение дела Носенко потребовало от меня шесть месяцев напряженной работы. Конечным результатом ее явилась полная реабилитация Носенко, а позднее, в 1978 году, открытое слушание дела в специальном Комитете по терроризму Палаты представителей США.
Результатом этих, независимых друг от друга, исследований и стала настоящая книга, после того как я постепенно пришел к пониманию сложности мотивов тех людей, которые нашли решение своих личных внутренних конфликтов и внешних неблагоприятных обстоятельств в опасном ремесле шпионажа. Каковы же были мои источники информации? К счастью, они оказались весьма многочисленны и разнообразны. Я имел непосредственный доступ к досье ЦРУ по некоторым делам, относящимся к Советскому Союзу, включая и описанные ниже. Кроме многой другой информации, эти досье содержали в себе расшифровки стенограмм, аналитические обзоры, а также оригиналы полученных разведданных. Один лишь Олег Пеньковский передал около десяти тысяч страниц совершенно секретных военных документов, а также множество сведений о нем самом, мотивации его поступков и о возникающих у него время от времени фобиях. Решив передавать нам эти материалы, он понимал, что не сможет скрыться от Комитета государственной безопасности (КГБ) и погибнет ужасной смертью, однако ни разу не поколебался в своем стремлении раскрыть подробности происходящего в Кремле. Другой советский гражданин более простого, крестьянского происхождения, Петр Попов, также продолжал передавать большое количество информации, несмотря на все растущую личную опасность, грозящую ему со стороны КГБ. Что касается Носенко, то, кроме изучения многочисленных томов материалов по его делу, мне представилась возможность побеседовать с ним лично.
В этом издании рассказывается о судьбах некоторых советских граждан, предавших свою страну и работавших в пользу США, однако многие другие люди, достойные упоминания в этой книге, все еще активно действуют и могли бы пострадать, если бы я что-либо о них сообщил. Несмотря на эти ограничения, все сказанное на страницах книги в целом дает верное представление о том, как и почему подобные личности делают столь пагубный для себя выбор, зная, что в конце концов только пожалеют об этом.
В своей работе я написал то, что думал, и надеюсь, ничем не обидел никого из тех замечательных людей, с которыми так долго работал. Сравнительно небольшой объем этой книги, разумеется, не позволяет ей претендовать на всю полноту информации о шпионаже в СССР. Однако я надеюсь, что она может оказаться полезной как тщательное описание умонастроений этих необычных людей, которые, движимые, по всей видимости, бессознательной, неконтролируемой ими силой, предпочли стать шпионами, работающими на США.
Поскольку основная часть оригинальных материалов, использованных в данной работе, остается засекреченной ЦРУ, я оказался лишенным возможности указать ссылки на источники более точно, как это требуется при издании обычной научной работы. Приношу за это свои извинения.
Совет ЦРУ по проверке публикаций (Цензорский совет ЦРУ. — Примеч. пер.), изучив рукопись книги, оказал мне помощь в исключении из нее засекреченной информации и не имеет к публикации никаких замечаний. Однако это не
значит, что указанная проверка придала моей книге статус источника официальной информации, а также то, что она может рассматриваться как подтверждение правильности приведенных автором фактов или как одобрение высказанных в книге суждений.
Джон Лаймонд ХартБлагодарности
Хочу выразить мою признательность ныне покойному Ричарду Хелмсу за предоставленное мне для беседы с ним время, беспрепятственный доступ к засекреченным материалам, за помощь специалистов, переводчиков и технического персонала, что сделало возможным написание основной части этой книги. В ее создании большую роль сыграл также вызов меня для работы в ЦРУ (через четыре года после моей отставки) для рассмотрения дела Юрия Носенко. И повторяю, ни один из этих проектов не оказался бы реализованным, если бы не самоотверженная помощь ученых-ассистентов, лингвистов, работников секретариата ЦРУ, имена которых не могут быть здесь названы.
В более поздний период Томпсон Баканен, специалист по Советскому Союзу, недавно ушедший в отставку из Министерства иностранных дел США, оказал мне помощь в попытке предугадать будущее разведки в ближайшие годы, за что выражаю ему свою особую признательность.
АвторПролог
От союзников до врагов
Шел 1950-й — Святой год, и верующие со всего света устремились в Рим — центр христианского мира. Я не хотел привлекать к себе внимания, а, как известно, самый верный способ оставаться незамеченным в толпе туристов и паломников — смешаться с ней. К половине десятого вечера, выехав на своем маленьком фиате на площадь Св. Петра в Ватикане, я припарковался среди множества таких же автомобильчиков, битком набитых без умолку болтающими итальянцами. Все присутствующие не отрывали взгляда от папского дворца. Ожидая гостей, я приоткрыл дверцы машины. Уже зашло солнце, зажглись уличные фонари, но, судя по количеству людей, дожидающихся появления Его Святейшества в расположенном высоко над землей окне, можно было подумать, что дело происходит в самый разгар дня.
Когда ровно в десять часов вечера наконец появился римский папа и какофония говорящих на десятках языков голосов быстро стихла, тысячи мужчин и женщин молча перекрестились. Маленькая фигура в белом одеянии, волшебным образом освещенная сзади светом, идущим из дворца, подняла руку, благословляя верующих. К тому времени ко мне в машину незаметно подсели двое хорошо одетых мужчин. Это вечернее мероприятие в Ватикане предоставляло мне идеальную возможность, не привлекая к себе внимания, встретиться с моими римскими партнерами Ионом и Тони, которые помогали мне в планировании опасной секретной операции на их родине.
Внезапно осознав всю необычность ситуации, я повернулся к ним и спросил по-итальянски:
— Не кажется ли вам, что это несколько странное место для разработки шпионской операции?
— Конечно, нет! — воскликнул Ион, которому всегда не хватало воображения. — Наша миссия тоже священна.
Полагаю, что таковой она и была — наша работа, которую величайший из директоров ЦРУ Ален Даллес любил называть «интеллектуальным ремеслом». И проводилась она во множестве стран по всему миру и в военное, и в мирное время, как для добрых, так и недобрых целей. Правда, следует добавить, что, по большей части, мы были твердо уверены в ее необходимости и справедливости выполняемого дела.
Необходимость такой деятельности не подлежала сомнению, однако исполнение часто оставляло желать лучшего. Основной опыт в сборе секретной информации, касающейся других стран, был приобретен нами лишь в период Второй мировой войны. Однако по окончании военных действий ситуация в мире изменилась столь кардинально, что разведывательную деятельность Соединенным Штатам пришлось начинать практически с нуля.
Не зная точно, с какой стороны подойти к порученным заданиям, мы слишком часто терпели неудачу — как случилось и с римской операцией, к разработке которой я, Тони и Ион приложили столько усилий.
В 1948 году провалы были скорее правилом, чем исключением. Теоретически информация собирается не о дружеских странах, а о противниках, однако вскоре после войны стало не совсем понятно, в какую именно категорию попадает та или иная страна. На период войны Советский Союз был нашим союзником, но к тому времени, когда в конце 1947 года я начал работать в ЦРУ, многие страны по всему миру (включая Китай) либо уже переместились, либо находились в процессе перемещения с одного конца политического спектра на другой. Неудивительно, что мы чувствовали себя неуверенно, как мог бы чувствовать себя Колумб, обнаружив посреди океана, что «Санта Мария» дала опасную течь, а корабельный компас не исправен.
Верным ориентиром для нас в конечном счете, стала поспешность, с которой Советский Союз ревностно, как женщина своих детей, собирал вокруг себя страны-сателлиты. И СССР стал нашим главным врагом в мире.
Отодвигая железный занавес. Албанская трагедия
После трех лет пребывания в Италии, с 1948. по 1951 год, мне пришлось участвовать в крупномасштабной попытке Соединенных Штатов «отодвинуть железный занавес». Я тогда оказался в Албании (по той, не слишком убедительной причине, что прожил там с пяти до девяти лет). В то время эта маленькая страна внезапно приобрела важность, потому что политикам она казалась наиболее уязвимой мишенью для нашего нового агрессивного антикоммунистического крестового похода.
Почему? Дело в том, что с севера и востока Албания окружена Югославией, которая, хотя и оставалась коммунистической, тем не менее порвала связи с Советским Союзом. Поэтому мы полагали, что «юги» (так мы называли югославов) воспротивятся любой попытке Советов прийти на помощь Албании, когда мы попытаемся свергнуть албанского диктатора Энвера Ходжу.
На юге находилась Греция, историческая родина демократии, граница которой предоставляла сухопутный доступ к крохотной горной стране, площадью всего около 11 тысяч квадратных миль. Более того, хотя сама Албания находилась под властью жестокого коммунистического правительства, ее жители чувствовали сильную привязанность к Соединенным Штатам, поскольку за несколько предыдущих десятилетий туда эмигрировали сотни тысяч албанцев. Большинство из них осели в Америке и стали американскими гражданами, но некоторые, накопив достаточную, по их мнению, сумму на черный день, вернулись на родину. И тем не менее ощущали себя американцами в большей степени, чем албанцами. Таким образом, в сердцах этих замечательных людей и даже тех, кто никогда не покидал родную страну, Соединенные Штаты занимали особое место.
В моих детских воспоминаниях это была страна чудес, населенная высокими, до зубов вооруженными туземцами, одетыми в костюмы, оставшиеся неизменными в течение многих столетий. В тени негостеприимных скалистых гор турецкие мечети соседствовали с руинами времен Римской империи. В годы, когда я жил здесь ребенком, во всей столице насчитывалось лишь два автомобиля да и те использовались не слишком часто, так как расстояния были невелики. Свободные от транспорта улицы были заполнены людьми и тяжело груженными ослами, двигавшимися неторопливо во всевозможных направлениях. Время от времени среди белого дня мог раздаться ружейный выстрел, ставящий окончательную точку в родовой кровной мести, но подобные вещи почти не привлекали внимания, — это считалось личным делом каждого из семейств.
Поэтому неудивительно, что Вашингтону казалось, будто жестокий албанский коммунистический режим с шаткой экономикой, построенной по сталинской модели, не сможет противостоять не только шпионажу, но и последующей попытке свержения правительства. Поскольку Соединенные Штаты, возглавляемые Дуайтом Эйзенхауэром и Джоном Фостером Даллесом, планировали нечто большее, чем простое «сдерживание» коммунизма, то Албания представлялась прекрасным местом для осуществления этих планов.
К несчастью, американское руководство оказалось излишне оптимистичным в определении того, чему еще предстояло научиться в будущем: каким образом лучше осуществить свержение правительства другой страны. И хотя Америка уже доказала свои прекрасные возможности в проведении военных операций во время Второй мировой войны, впоследствии ей потребовалось приобрести совершенно иные навыки, необходимые для борьбы с жестокими и коварными коммунистическими врагами.
Американцы, вовлеченные в эту антиалбанскую кампанию, независимо от того, были ли они связаны с ЦРУ, военной разведкой, государственным департаментом или с Белым домом, брали за образец опыт сотрудничества Англии и Соединенных Штатов с французским антифашистским Сопротивлением в годы Второй мировой войны, полагая, что аналогичная помощь может привести к свержению коммунистических режимов в Восточной Европе. Однако мы забыли, что у нас не было никакого опыта борьбы с подобными просоветскими правительствами, так как в период недавней войны Советский Союз являлся нашим союзником, а не противником. Мы совершенно не понимали разницы между сопротивлением в странах Западной Европы германским оккупационным силам, имевшим дело почти с поголовно враждебно настроенным населением, и послевоенной ситуацией в только что образованном коммунистическом блоке.
В период 40–50-х годов в корне изменилось соотношение сил на политической карте мира. Советские оккупационные войска, не знавшие сострадания, имевшие подавляющее превосходство в численности, поддерживали тесную связь с коммунистическими силами внутренней безопасности восточноевропейских стран и постоянно помогали удерживать власть, захваченную с помощью советского оружия. Главной нашей ошибкой была попытка провести аналогию между ситуацией, сложившейся в Восточной Европе, находившейся под властью коммунистов, с Францией 1943 года. Однако даже без учета особого отношения албанцев к Америке, труднопроходимый горный рельеф и независимый национальный характер местного населения предоставляли нам особые возможности для ведения подрывной работы, если бы не обстоятельство, о котором в тот момент мы не имели ни малейшего понятия, — в наших рядах оказался предатель. Поэтому все попытки освобождения Албании с помощью проникновения в страну лояльных Западу албанцев были обречены на неудачу из-за постоянного и систематического противодействия человека, которому мы, к сожалению, полностью доверяли.
Ни разу не став жертвой предательства за все предыдущие четыре года военной службы, я меньше всего ожидал столкнуться с ним на новой службе, где секретности и внутренней безопасности уделялось особое внимание. Однако невозможно было не удивляться действию до странности усложненной бюрократической машины Вашингтона, пытавшейся провести одновременно две разные операции, участники которых из-за маленьких размеров страны часто только мешали друг другу.
Наладить координацию между ними оказалось сложно, так как одна управлялась из греческого отделения ЦРУ, а руководство другой осуществлялось с территории Италии. Лично меня не слишком беспокоило то, что планировалось в Афинах, потому что все мои операции управлялись из Рима.
Как потом выяснилось, направленная против Албании формально независимая, но на самом деле «скоординированная» силовая акция, спланированная в Греции, проводилась в соответствии с договоренностью совместно с англичанами. Следуя примеру тесного англо-американского взаимодействия во Франции во время войны, это новое соглашение предполагало обмен информацией о целях и деталях тайной деятельности в Албании членов команд наших двух стран. Однако, как оказалось, именно это соглашение и послужило причиной полного провала всех наших планов. Концепция обязательной координации, положенная в основу албанской операции, подразумевала наличие посредника между офицерами ЦРУ и британской разведки, базирующимися в Риме и Афинах. В Вашингтоне взаимодействие со штаб-квартирой ЦРУ осуществлял высокопоставленный сотрудник британской разведки Гарольд «Ким» Филби. С 1949 по 1951 год, в самый активный период албанской операции, Филби имел полный доступ к информации о действиях обеих стран, работая в тесном контакте с Джеймсом Энглтоном из ЦРУ, являвшимся в то время начальником оперативного отдела, а позже занявшим пост главы вновь организованного подразделения контрразведки. В обеих своих ипостасях Энглтон делился с англичанами сведениями о координатах предполагаемых точек заброски албанских агентов, работающих на ЦРУ, причем контролируемых как из Греции, так и из Италии. (Под точками заброски подразумеваются тщательно отобранные площадки, на которые воздушным путем доставляются люди и снаряжение.)
К несчастью, за внешним шармом Филби и кажущейся преданностью англо-американскому союзу скрывалась его давняя лояльность по отношению к Советскому Союзу и КГБ. Гораздо позднее выяснилось, что вся информация об операциях поступала непосредственно его советским хозяевам, что позволяло тем заблаговременно снабжать коммунистическое албанское правительство точными координатами каждого места высадки десанта. И хотя из собственного опыта ранее мне неоднократно приходилось быть свидетелем замедленной реакции албанских военных, в данном случае они уничтожили всех наших агентов.
Лично для нас, кто отвечал за вербовку албанских лазутчиков, за их профессиональное обучение и заброску на родину, невозможность связаться с ними сразу после их высадки и последующее понимание того, что они, должно быть, арестованы, стало огромным психологическим шоком. В чем были наши ошибки? Вновь и вновь анализируя свои действия, мы не могли не изумляться эффективности действий служб албанской госбезопасности в противодействии нашим планам. Никому в ЦРУ и в голову не приходило, что наши соотечественники-албанцы были обречены на смерть обходительным офицером связи британской разведки, напрямую работающим на СССР.
Интересно вспомнить, что много лет спустя обаятельный и весьма неглупый Джеймс Энглтон сказал мне: «Я всегда подозревал, что с этим Филби что-то не так». Однако это заявление вызывает определенные сомнения, поскольку он никогда не делился своими подозрениями ни с кем из своих коллег и не предпринимал в то время никаких превентивных мер.
Фабрики фальшивых поделок
Душный летний день в Вашингтоне. Стоит середина 1952 года, и я уже работаю в штаб-квартире ЦРУ, возглавляя разведывательную работу, в Юго-восточной Европе. В папке входящих бумаг я обнаруживаю тщательно разработанный план по организации для нас сети нелегальной агентуры, которая должна была покрыть весь балканский регион. Какие бы проблемы ни вставали перед нами в процессе разведывательной деятельности, недостатка в будущих агентах, желающих получить от нас деньги, не было никогда. Другое дело, что они могли принести нам взамен.
Упомянутое досье поступило в Вашингтон из Вены, и многие детали этого плана показались мне до странности знакомыми. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В период четырехсторонней оккупации союзниками столица Австрии превратилась в своего рода интеллектуальный рынок, на котором беженцы из коммунистической Европы пытались любыми способами заработать себе хотя бы на самое скудное существование. Одной из самых выгодных разновидностей этого «свободного предпринимательства» являлась торговля разведывательной информацией. Большинство из этих мошенников от разведки, свободных от каких-либо идеологических или моральных принципов, пытались одновременно удовлетворить как интерес Советов к трем своим западным союзникам, так и аналогичный интерес Запада к планам, намерениям и возможностям СССР и недавно образовавшегося мощного коммунистического блока. Ни одна из сторон, как оказалось, не слишком преуспела в правильной оценке важности предлагаемой «разведывательной» информации, поэтому бизнес процветал, несмотря на то, что большая часть предлагаемого товара представляла собой не более чем бойко состряпанные фальшивки, имевшие целью во что бы то ни стало заинтересовать потенциального заказчика.
Я обратился к своей секретарше: «Не получали ли мы недавно нечто подобное из Гааги?» Когда она принесла нужное досье, стало понятно, что память мне не изменила. На открытый рынок вышла очередная «фабрика макулатуры», широко рассылающая свои рекламные издания. Оставалось только надеяться, что базирующиеся в Вене многочисленные союзнические отделения и подразделения не поддались соблазну потратить на подобную чепуху часть своих «особых фондов», но больших надежд на это у меня не было. Ведь я только что написал обоснование отказа от плана явно мошеннической авантюры в Румынии, оплаченного легковерным Парижем, и не сомневался в том, что рынок подобных предложений далеко не исчерпан.
Корейская война — фиктивные агенты и реальные перебежчики
Проблема сфабрикованной «секретной» информации стояла перед нами многие годы, сильно затрудняя работу не только в Европе, но и в Азии, где в 1952 году я оказался в качестве резидента в Сеуле, столице Южной Кореи. По прибытии на место мне первым делом пришлось подвергнуть строгой ревизии все «замечательные» планы, на которые ориентировались мои предшественники. Для этого я собрал небольшую команду из самых способных молодых сотрудников, оказавшихся рядом, и постарался привить им здоровый скептицизм, который должен стать главным интеллектуальным оружием работника разведки. Что касается всего, что они слышали и читали со времени своего прибытия в Корею, то я попросил их задать себе единственный вопрос: «Почему я должен этому верить?».
Меня заранее предупредили, что ни один из американских оперативных сотрудников не говорит по-корейски, хотя у нас была пара действительно хороших переводчиков. Вследствие этой лингвистической несостоятельности, все наши замечательные «успехи» были по большей степени достигнуты при помощи так называемых «ведущих агентов» Кореи (ВА — на профессиональном жаргоне). Именно из рук этих местных посредников (которые, как я понял после нескольких личных встреч, являлись, скорее, предпринимателями от разведки, чем аналитиками) мы и получили показушные результаты работы их «сети» на вражеской территории. Мои сомнения в добросовестности посредников выразилось в форме следующих основных вопросов. Не появляются ли у них неожиданно большие суммы денег? Чем они занимались до начала работы на нас? Какие существуют доказательства того, что у них действительно есть контакты на Севере? Предварительное расследование, продолжавшееся около трех месяцев, завершилось решением о необходимости подвергнуть всех корейских ВА проверке на детекторе лжи.
Результаты этой проверки превзошли самые пессимистические ожидания. Хотя большинство из полученных нами «красочных» донесений вполне могло быть сфабриковано людьми, проживающими в Сеуле, появились весьма убедительные доказательства того, что несколько информационных сообщений (в совершенно законченном виде) поступили прямиком из Пхеньяна (столицы Северной Кореи). Одно из таких донесений до сих пор не выходит у меня из головы. Оно преподносилось как подробное описание всех китайских и северокорейских воинских частей, дислоцированных по линии фронта, с указанием их численности и номеров подразделений. Полученное от сеульской сети еще год назад, это донесение привлекло благосклонное внимание командования дальневосточной группы войск США, базирующейся в Японии. Высокопоставленные военные характеризовали его как «один из самых выдающихся разведывательных документов за всю военную кампанию». На самом деле, при более тщательном анализе выяснилось, что это донесение является полной фальшивкой, не содержавшей вообще никакой информации.
Тем временем наше расследование деятельности сеульских агентов начало давать определенные результаты, по большей части негативные. В процессе постоянных собеседований, подкрепленных тестами на детекторе лжи, все наши поставщики информации оказались просто мошенниками, живущими припеваючи на средства ЦРУ, Щедро выделяемые, как предполагалось, на оплату «источников» в Северной Корее. Кроме того, многие донесения, полученные от этих воображаемых агентов, поступали от наших врагов.
Я оставил свой пост в Корее в конце 1959 года. За это время ситуация с агентами улучшилась лишь в отношении здорового профессионального скептицизма. Контрмеры служб безопасности неприятеля оказались столь эффективны, что у нас по-прежнему не было агентов на Севере. По счастью, случались и светлые моменты, особенно в ясные прохладные дни, в которые Сеул, несмотря на царящую вокруг разруху, являл свое прежнее очарование. Один из таких дней преподнес мне неожиданный сюрприз. В десятом часу утра раздался звонок телефона армейской связи, и моя, обычно невозмутимая, секретарша сообщила с некоторым возбуждением в голосе: «Полковник, только что один из северокорейских военных летчиков посадил на К-16 советский МиГ [истребитель конструкции Микояна и Гуревича]». К-16 — армейское обозначение расположенной в пригороде столицы Южной Кореи американской военно-воздушной базы, в течение следующих нескольких часов ставшей центром внимания всего командного состава США, от командира базы до самых высших чинов Пентагона. До этого ни один МиГ никогда еще не попадал в распоряжение Соединенных Штатов, хотя тому, кто сумеет доставить к нам образец этого грозного оружия, было назначено вознаграждение в сто тысяч долларов. В ценах 1950-х годов это являлось настолько крупной суммой (примерно равнозначной сегодняшнему миллиону), что немногие из корейцев были в состоянии даже себе представить. Однако для военно-воздушных сил США подобная цена отнюдь не казалась чрезмерной — такой страх внушали эти советские самолеты нашим пилотам в период воздушной войны над Кореей. Пилот проделал весь путь на бреющем полете над холмистым районом к северу от Сеула, в результате чего не был замечен ни одним из наблюдателей, приземлившись нос к носу с готовившимся к взлету американским истребителем. К тому времени, когда мой оливкового цвета седан с большой белой звездой на боку, который я вел на предельной скорости, добрался до авиабазы, МиГ был уже окружен плотным кольцом военной полиции. Однако пилота, по сложившемуся порядку, должны были сначала допросить сотрудники ЦРУ.
«Вы меня расстреляете?» — первым делом спросил он. Одной из наших первостепенных задач в подобных случаях было успокоить этих необычных людей, бросающих свою коммунистическую родину и отдающих себя нашему милосердию. Подобный переход на сторону противника, как правило, наносил им сильную психологическую травму, от которой они восстанавливались долго и с большим трудом. Эта депрессия у них была часто настолько сильной, что от страха вызывала в их воображении сюрреалистические картины пыток и даже казни, которым они могут быть подвергнуты с нашей стороны. Но на самом деле, учитывая ценность информации, которую они могли бы нам предоставить, мы были готовы всячески оберегать и поощрять их. Однако, не имея возможности знать об этом заранее, они всегда ожидали худшего.
Причины перехода на нашу сторону самые разнообразные. Это может быть политически мотивированный протест, неудовлетворенность продвижением по службе или конфликт с вышестоящим начальством. Однако чем бы не было вызвано это решение, определенная эмоциональная травма почти неизбежна. До прибытия в Корею в 1952 году у меня почти не было опыта общения с людьми, покинувшими свою страну, поэтому я оказался не готов к неизбежно возникающим в подобных случаях психологическим трудностям, как, впрочем, и большинство моих коллег из ЦРУ. Никому из нас не приходило в голову, что подобная измена, даже для человека, ненавидящего сложившуюся в его стране политическую систему, неизбежно влечет за собой не только неуверенность в своем будущем, но часто и непроходящее чувство вины. Одним из свидетельств глубины подобных чувств являлось многословие перебежчиков, обычно прямо пропорциональное противоречивости их эмоций. Испытываемый ими стыд, в котором они никогда открыто не признавались, очень сильно довлел над ними, заставляя говорить и говорить, потому что в процессе этого разговора можно было бы попытаться найти мотивы, оправдывающие предательство. Что же касается корейского лейтенанта, то его адаптации к новой жизни в США подобные сложные переживания не мешали, но он являлся исключением из правил, поскольку у себя на родине в Северной Корее уже имел опыт общения с американскими миссионерами, работавшими в стране.
Шпионы и перебежчики
Высшая ступень предательства — когда оно готовится скрытно и будущий перебежчик, притворяясь внешне лояльным своей стране, тайно оповещает о своем намерении иностранную державу. Это существенно отличается как от обычного побега, так и от искреннего откровенного желания работать против своей страны, как это было в делах Олдрика Эймса, Роберта Ханссена и им подобных. Прямой побег, который также чреват психологическими травмами различной степени тяжести, по крайней мере, предпочтителен с точки зрения физической безопасности. В тех случаях, когда перебежчики прихватывают с собой ценную информацию, накопленную ими в период военной или гражданской службы, и передают ее зарубежному государству, они обычно попадают под бдительную опеку благодарного правительства. Примером этому может служить бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Говард, ныне проживающий в Москве. В нашей стране перебежчик, попросивший убежища, обычно получает новое имя и «легенду» — фальшивую биографию, позволяющую ему скрыть свое прошлое. До тех пор пока он не найдет способ зарабатывать себе на жизнь, такой человек получает от американского государства финансовую поддержку.
Шпионы, напротив, вынуждены оставаться на своих местах, поскольку их ценность для принявшей их страны заключается именно в продолжении военной или гражданской карьеры на родине. В коммунистических странах, которые традиционно, по крайней мере до развала Советского Союза, являлись для американской разведки высшим приоритетом в деятельности спецслужб, шпионы неизменно подвергались огромному риску — настолько трудна была задача тайной передачи информации из Москвы в штаб-квартиру ЦРУ. До самого окончания холодной войны страны, подобные Советскому Союзу, на жаргоне наших разведчиков назывались «тяжелыми районами», в которых активная и высокоэффективная контрразведывательная деятельность успешно противостояла усилиям американской разведки. В наше время зарождающейся свободы шпионское ремесло значительно упростилось, хотя по-прежнему далеко не безопасно.
И все же задолго до появления понятия гласности многие советские граждане шли на подобный риск, предлагая свои услуги в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Ирония заключалась в том, что, несмотря на эффективность работы КГБ, без всякого сомнения одной из самых успешно действующих подобных организаций в мире, большинство из наиболее ценных агентов, работавших на Америку в период «холодной войны», были все-таки подданными СССР. Почему же эти советские граждане шли на такой риск? Зачем шпионить в пользу страны, язык которой большинству из них был не знаком? И наоборот, почему на это соглашались столь немногие представители других крупных национальностей, в частности стран коммунистической Азии? Некоторые из этих вопросов мы будем подробнее обсуждать ниже.
В процессе этого обсуждения необходимо иметь в виду, что наша эпоха отличается быстрыми политическими переменами и выводы, сделанные на основе опыта прошлого, должны время от времени подвергаться пересмотру. Весьма сомневаюсь, что даже сами сотрудники нынешних разведывательных служб могут с уверенностью сказать, что несет с собой новое время. С другой стороны, изучая биографии шпионов прошлых лет, мы можем быть уверенными в том, что наши обобщения вполне применимы к тем, кто решит предать свою страну в будущем. Так же как либеральная американская демократия порождает индивидуумов вроде семьи Уокер, Джонатана Полларда, Олдрика Эймса и Роберта Хан-ссена, решивших работать против США, в государствах бывшего Советского Союза и многих других странах всегда найдутся люди, желающие работать против своего отечества.
О различии культур
Из всего вышесказанного невольно возникает естественный вопрос — зачем вообще заниматься разведывательной деятельностью? Зачем желать этого, если последствия столь мрачны, как описано выше. На это часто отвечают, что рассматриваемые годы можно считать детским периодом функционирования ЦРУ, во время которого мы пытались овладеть ситуацией, лежащей за пределами нашего понимания. Вся беда в том, что подобная ситуация повторилась в 1966–1969 годах, когда Центральное разведывательное управление, без сомнения, вышло из своего младенческого возраста. В то время я также был резидентом, на этот раз в зоне другого военного конфликта — во Вьетнаме. К концу 60-х годов мы уже имели достаточный опыт для того, чтобы попытаться выполнить нашу основную задачу — помочь некоммунистическому Южному Вьетнаму в его борьбе против коммунистического Севера. Однако Вашингтон ожидал, что мы будем пытаться проводить операции на Севере, и, вероятно, из ложной скромности мы не протестовали против этого так активно, как следовало. Не вдаваясь в детали наших неудач, замечу, что мы повторили все ошибки, совершенные в Корее. Хуже того, мы не только не получили от засланных в Северный Вьетнам агентов сколько-нибудь ценной информации, но до сих пор не имеем никакого понятия об их дальнейшей судьбе. Они просто исчезли, не передав нам даже той дезинформации, которую мы так часто получали от их северокорейских предшественников.
Подобные неудачи заставили нас задуматься над возможной закономерностью провалов, преследовавших ЦРУ при попытках внедрения агентов в страны коммунистической Азии. Не означают ли эти неудачи, что их сообщества психологически более недоступны к проникновению в них европейцев и американцев, чем славянские страны. Не свидетельствует ли это о наличии некого принципиального культурологического фактора, обеспечивающего наши успехи в Восточной Европе, и об отсутствии этого фактора в странах, находящихся под сильным влиянием китайской цивилизации. На.этот вопрос можно ответить анекдотичным случаем из моего опыта, иллюстрирующим проблему более наглядно, чем сотни бессвязных страниц, посвященных психологии населения Восточной Азии. В 1967 году, в последний вечер пребывания в Сайгоне, перед моей эвакуацией по медицинским показаниям, я подозвал к своей кровати двух верных слуг, мужа и жену, постоянно заботившихся обо мне в течение последних двух лет. В краткой речи я выразил им свою искреннюю благодарность за службу, но однако они молчали и стояли бесстрастно и неподвижно. После завершения речи супруги, казалось, не знали, как им на нее реагировать. (Мне пришло в голову, что их никогда не благодарили.) Наконец мистер Тан, очевидно понимая, что должен сказать перед расставанием хоть что-нибудь, пробормотал несколько коротких фраз по-вьетнамски. В переводе они звучали очень просто: «Долг слуги исполнять все желания хозяина». Затем Тан и его жена поклонились и, не сказав ни слова, вышли из комнаты. По их понятиям, власть была превыше всего. Тогда почему, пользуясь беспрекословным повиновением этих людей, я так и не смог сделать из них шпионов, подчиняющихся моим приказам после заброски в Северный Вьетнам. Многие из засланных в страну агентов были, без сомнения, арестованы, однако невозможно было поверить, что северовьетнамцы имели стопроцентный успех, хватая всех, кого мы перебросили через линию фронта. Лежа в постели, ожидая отъезда, я вновь и вновь задавал себе этот вопрос, не дававший мне покоя со времени моего пребывания в Корее. Было очевидно, что деньги, которые я платил г-ну и г-же Тан, обеспечивали их уважение (и далеко не в последнюю очередь), но агенты, засылаемые нами на Север, получали гораздо больше. Таким образом, финансовый фактор явно не являлся в данном случае главным. Может быть, власть в немалой степени опирается на личное присутствие хозяина — на возможность быть увиденным и услышанным, лично отдавать приказы. Я решил, что частично это так и есть. Азиатские традиционалисты, подобно супругам Тан, безоговорочно подчиняются физически присутствующим вышестоящим лицам, ведущим себя по отношению к ним честно и справедливо. С другой стороны, редко кто из жителей Азии, имеющих традиционное образование, способен действовать по своей инициативе, получая лишь руководящие указания издалека. Мирская (светская) власть, которую нельзя было ни услышать, ни увидеть, не имела, по их мнению, авторитета вообще. Власть религиозная и околорелигиозная была более эффективна, но даже она казалась слишком эфемерной, не будучи подкрепленной скульптурными изображениями, повторяющимися ритуалами, магическими заклинаниями, тайными знаками и, быть может, специальной униформой.
К великому сожалению, считалось, что офицер разведки не должен предпринимать подобные конкретные психологические действия, так как они входят в противоречие с принципами сохранения секретности. Кроме того, даже для наиболее творчески мыслящих сотрудников спецслужб США обращение к такого рода мистике казалось несовместимым с миром разведки. В Азии, напротив, коммунистические и подобные им тоталитарные режимы оказались способны выдвигать харизматических светских лидеров, придававших своим идеологиям силу религий. Кроме того, вера в этих лидеров всячески поддерживалась сложно организованными и вездесущими партийными организациями. Именно вездесущность этих партий и позволяла их членам шпионить против нас недоступным нам образом.
Однако не следует воспринимать эти слова как карикатуру на вьетнамцев или корейцев. Я испытываю к ним величайшую симпатию и уважение; просто их образ жизни отличается от образа жизни большинства американцев — специфика, ускользавшая от нашего понимания на протяжении двух долгих войн.
Проблема мотивации
Теперь мы можем наконец сформулировать основной вопрос — почему столь значительное число советских граждан, добровольно предложив свои услуги Соединенным Штатам и некоторым западным странам, затем успешно шпионили против своей родины. Одним из самых удивительных фактов в истории послевоенной разведки явилось неожиданно большое количество советских высокопоставленных официальных лиц, особенно из служб безопасности и разведки, долгое время снабжавших нас подробными сведениями о тайных сторонах деятельности их собственной страны, оставаясь при этом на своих гражданских или военных постах. И это несмотря на то, что советская власть рассматривала Америку в качестве главного врага (до недавнего времени мы отвечали СССР тем же). Ни в одной стране мира люди не осознавали с такой ясностью всей опасности предательства, как в Советском Союзе, где правительство имело обыкновение широко оповещать о жестоких репрессиях в отношении тех, кто предал Родину. Почему же тогда советские граждане все-таки шли на такой риск? В данной книге сделана попытка ответить на этот вопрос. Кроме того, в эпилоге будет рассмотрен вопрос о том, имеет ли смысл продолжать разведывательную деятельность против бывшей советской империи в наши дни, после распада Советского Союза.
Начнем со скромного человека по имени Петр Попов, от которого мы в ЦРУ многого не ожидали, однако удивившего всех нас, по крайней мере тех, кто был свидетелем его отваги.
Глава 1. ПЕТР ПОПОВ. ИЗДЕРЖКИ ВЕРЫ
1953 год. Советский доброволец из Вены
В новогодний день 1953 года, усаживаясь в автомобиль, припаркованный в международном секторе оккупированной Вены, молодой американский вице-консул обнаружил конверт, адресованный американскому Верховному комиссару. Тогдашняя Вена являлась городом весьма своеобразным, оккупированным войсками четырех государств, являвшихся союзниками во время прошедшей войны. Однако прежнего единства более не существовало, всем было известно, что образованный в период Второй мировой войны союз превратился в, фикцию, став объектом черного юмора. «Что такое военный герой?» — с горечью спрашивали друг друга австрийцы и отвечали: «Двое русских и литр водки». Стареющий и все более эксцентричный Сталин по-прежнему правил страной. Советская зона была строго изолирована от районов, занятых французскими, английскими и американскими войсками. -Кроме того, существовал так называемый Международный сектор — это был тщательно огороженный район, где тем не менее при желании могли свободно общаться люди всех национальностей.
С опаской открыв конверт, вице-консул обнаружил внутри записку на русском языке, датируемую 28 декабря 1952 года. Когда ее перевели, записка оказалась безмолвным криком о помощи:
«Я советский офицер и хочу встретиться с представителем американских войск, чтобы предложить определенные услуги. Время — 18:00, дата — 1 января 1953 года, место — Вена, Планкенгассе, дом 1. Если эта встреча не состоится, буду на том же месте, в то же время каждую следующую субботу».
Передача этого письма гражданину США явилась первым из многих рискованных поступков, которые пришлось совершить майору Петру Семеновичу Попову (вскоре ставшему подполковником) за шесть лет его службы в советской комендатуре Вены. Первой, но далеко не последней опасной авантюрой, но, как впоследствии заявлял сам Попов: «Не ошибается тот, кто ничего не делает!».
Контакт с американцем на Планкенгассе состоялся в назначенное время в следующую субботу. Поскольку место было людным, первая встреча была короткой, чтобы не привлекать излишнего внимания. За этой встречей последовали неоднократные и более длительные свидания в маленькой квартирке, расположенной в мрачном сером старом здании. Старая, потрепанная мебель квартиры словно подчеркивала атмосферу послевоенной Вены. Говорящий по-русски офицер ЦРУ допросил нервного молодого человека, который, несмотря на свои неполные тридцать лет, имел звание майора и, как сообщил, вскоре должен был стать подполковником. Основные факты его биографии вскоре удалось проверить, поскольку он имел при себе необходимые документы. Несмотря на это, Попов явно чувствовал себя не в своей тарелке, и поначалу его ответы были краткими и сдержанными.
После того как собеседники узнали друг друга получше, стали ясны и причины подобной нервозности. И так не слишком общительный по натуре, Попов к тому же никогда в жизни не встречался с иностранцами и не знал, как себя с ними вести. Скудные сведения об американцах, полученные им от советского командования, были неблагоприятными; и хотя эти болтающие и смеющиеся на улицах незнакомцы выглядели вполне безобидно, молодой русский предпочитал держаться настороже. В одном он был точно уверен — у американцев много денег. Среди советских оккупационных войск это мнение было широко распространено.
Что же узнали американцы о Попове? Выходец из крестьян, он получил хорошее образование, учитывая его происхождение и воспитание. Однако из разговоров с ним было не совсем понятно, прочитал ли он хоть одну книгу или по собственной инициативе попытался расширить свой кругозор. Как и для миллионов ему подобных, жизненный путь Попова определила, главным образом, война. Попытка связаться с американцем, выбранным случайно, явилась в данном случае первым осознанным желанием решать свою судьбу самому.
По своему происхождению и положению Попов никак не мог претендовать на роль ключевой фигуры в советском секторе оккупированной Австрии. Однако, учитывая возникшее напряжение между западными союзниками и русскими, нависшее подобно темному облаку над задуманной как единый организм администрацией завоеванной Австрии, источник информации в главном штабе советской зоны оккупации, даже из среднего командного состава, должен был представлять для ЦРУ большую ценность. Последующие события целиком подтвердили справедливость этого соображения, поскольку до самого вывода войск четырех держав в 1955 году, взаимоотношения между оккупационными силами оставались напряженными, даже враждебными и грозили привести к серьезным последствиям, в связи с взаимным непониманием и абсолютной разницей в политических целях каждой из сторон.
Напряжение между Востоком и Западом
Именно это напряжение между Западом и Советским Союзом и придавало предложению Попова перспективу. Первая встреча с ним в Вене произошла через семь с половиной лет после того, как германское Верховное командование подписало Акт о капитуляции 7 мая 1945 года в Берлине, однако это подписание не стало гарантией надежного мира. Напротив, с самого начала между двумя сторонами альянса возникли враждебные отношения, по большей части на почве идеологии. В те годы я был армейским капитаном и хорошо запомнил одного советского командира дивизии, с которым мне пришлось столкнуться по служебным делам, грозившего застрелить любого американского офицера (кроме, может быть, меня), если бы тот рискнул пересечь границу его зоны. Бывали
времена, когда столь явная ненависть к нам заставляла меня опасаться за собственную безопасность. Случай, разумеется, исключительный, тем не менее он наглядно характеризует американо-советские отношения того времени.
Основные разногласия между обеими сторонами быстро обрели конкретную форму в Северной Германии, особенно в Берлине и вокруг него. К маю 1945 года быстрое продвижение войск союзников привело к соприкосновению сил Запада и Востока, однако близость их расположения не означала общности цели и, скорее, привела к росту враждебности. Несмотря на энергичные попытки генерала Эйзенхауэра установить добрые отношения, ни одна из сторон не испытывала друг к другу ни малейшего доверия. Возникшая в результате огромной концентрации войск в Европе, эта проблема доверия оказалась совершенно новой для верховного командования двух сторон. Сотни тысяч вооруженных до зубов, агрессивных, хотя и связанных формальными союзническими соглашениями людей вошли в непосредственный контакт, что давало массу поводов для конфликтов между некоторыми представителями офицерского корпуса. Как западные, так и советские силы оккупации, находящиеся в процессе постоянного движения — смены дислокации, функционировали посредством сложных, но по необходимости на много закрывающих глаза систем командования. Что касается западных союзных войск, то приказы, спускаясь вниз по командной иерархической лестнице от штаб-квартиры Эйзенхауэра до боевых командиров на передовой, теряли часть вкладываемого в них смысла и содержания. Та же проблема, без сомнения, существовала и у русских, лишь усугубляясь тем, что враждебное отношение как к союзникам, так и к немцам шло от самого верха, лично от Сталина.
Сложившееся положение предоставляло множество ситуаций для взаимного непонимания и неожиданно возникающих случайных мелких конфликтов. Один из таких случаев имел место со мной, еще до того, как мы узнали о близком расположении к нам Красной армии. Мне довелось проводить разведку далеко за линией расположения американских войск, в районе Хемница (в долгие годы правления коммунистического режима известного как Карл-Маркс-Штадт), в целях подготовки железнодорожных карт, необходимых для организации эвакуации многих тысяч беженцев, просящих убежище от коммунистов у американцев. Освободив беженцев от скрывающихся в бункере остатков немецкого гарнизона, я вышел из убежища и столкнулся с вооруженной группой русских, без всяких разговоров открывших огонь по мне и моему водителю. Нам удалось благополучно скрыться только благодаря находчивости сержанта Этана Алана Вебстера, не заглушившего двигатель нашего джипа.
Первый серьезный кризис в наших отношениях возник сразу же после соприкосновения обеих сторон в Северной Германии. Гитлеровские войска благоразумно Предпочитали сдаваться американскому или британскому командованию. Советское командование, разумеется, было очень недовольно подобным развитием событий, хотя оккупационные власти должны были винить в этом только себя, поскольку вели себя так, словно не имели никакого
понятия о Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Однако генерал Эйзенхауэр отдал приказ войскам Запада не пропускать немецкие соединения на нашу территорию{1}.[1]
Взаимоотношения Запада с Востоком в Австрии были еще более запутанными. Запад относился к этой стране благожелательно, считая, что она стала частью нацистской Германии лишь в результате гитлеровской оккупации. Мнение русских на этот счет было совершенно иным. Войдя туда первыми, они быстро оккупировали маленькую страну, включая Вену, столицу и место проживания более чем пятой части всего населения. Затем они наложили на Австрию значительно большие репарации (в форме возмещения ущерба промышленным оборудованием), чем это было предусмотрено союзными соглашениями{2}.
Столкнувшись с протестами США и Англии, русские нисколько не смутились. Под эгидой Главнокомандующего советскими оккупационными силами они сколотили в Австрии временное правительство, президент которого был, правда, социалистом, однако два других ключевых поста занимали коммунисты. У правительств США и Англии появились естественные опасения, не планируют ли русские создать еще одно восточноевропейское государство-сателлит. По счастью, новое австрийское правительство преподнесло им приятный сюрприз. Более прозападно ориентированная, чем можно было ожидать, по-прежнему находящаяся под оккупацией сил четырех держав Австрия превратилась в стабильное государство с демократической формой правления. Тем не менее до самого конца оккупации в 1955 году русские и американцы продолжали посматривать друг на друга с большим подозрением.
Учитывая напряженную ситуацию, вполне естественно, что Попов, старший офицер штаба советских войск в Австрии, рассматривался ЦРУ как достаточно важная фигура, поскольку мог заранее предупреждать нас о враждебных намерениях многочисленной и не всегда предсказуемой группировки Советской армии в Европе. И хотя в конечном счете русские повели себя более сдержанно, чем могли ожидать союзники, информация, предоставленная Поповым, оказалась своевременной, успокоив Запад, что русские, хотя и неохотно, все-таки собираются придерживаться четырехсторонних договоренностей в отношении Австрии.
Ранние годы жизни Попова
Так почему же все-таки столь аполитичный человек, как Петр Попов, предложил свои услуги разведке США? Для нашего исследования главным вопросом является именно мотивация потенциального шпиона (а не ценность предоставленной им информации), и ответ совсем не так прост, как это можно было бы ожидать. Как и у многих других людей, скромно работающих на ниве шпионажа, мотивы предательства Попова при ближайшем рассмотрении оказываются далеко не однозначными. Более того, по прошествии времени внутренние мотивы, побудившие его сотрудничать с нами, кажутся все более и более сложными.
Прежде всего возникает естественный вопрос, не стало ли предложение Попова о сотрудничестве следствием его антикоммунизма. Ответом может быть категорическое «Нет!» по той простой причине, что он вовсе не мыслил подобными категориями. С другой стороны, испытывая сильное личное недовольство тем, как коммунистическая система обошлась с его семьей, Попов поначалу не имел ни малейшего понятия о политических и экономических альтернативах, предлагаемых Западом своим гражданам. Тогда на чем же основывается его мотивация? Ненависти к вышестоящему начальству? Чувстве одиночества? Крушении надежд? Отсутствии моральной поддержки? Ответы на эти вопросы ничем не отличаются от любых других — лишь частично. Подобно другим персонажам, подвергнутым нашему исследованию, тайная карьера Попова как агента американской разведки явилась следствием сложных и не всегда явных мотивов.
С уверенностью можно сказать одно: с той поры как Попов начал осознавать себя, он всегда ощущал себя чужим, не вписывающимся в реальный мир, который находился за пределами его понимания. Социальное происхождение позволило ему сделать блестящую карьеру майора, а потом и подполковника в такой элитарной организации, как советская военная разведка (ГРУ — Главное разведывательное управление). На момент передачи письма вице-консулу о готовности сотрудничать Попов был еще молод, в перспективе его ждали обеспеченная жизнь и надежды на дальнейшее продвижение по службе. Более того, как офицер разведки являясь хранителем режима, он пользовался гораздо большей свободой, чем большинство его сограждан. Однако свобода без цели в жизни, без понимания своего назначения может вызвать внутреннюю неуверенность в себе, даже тревогу. И хотя Попов стремился проявить себя как личность, а не просто как винтик в государственной машине, вести подобную бессмысленную жизнь для него было невозможно. В качестве альтернативы пассивному подчинению системе, он выбрал крайнее решение — продать тело и душу американцам.
Петр Попов родился в июле 1923 года в одном из бедных регионов Северного Поволжья. В обнищавшей деревне единственным преимуществом семьи Попова была возможность обрабатывать немного больше земли, чем давалось обычно по установленной норме (часть ее сохранилась за ними по праву). Старшие Поповы были практически неграмотны, и юный Петр, вероятно, пошел бы по стопам своих предков, если бы не решительность старшего брата Александра, настоявшего на том, чтобы Петр продолжил учение после окончания двух классов школы. Для большинства крестьянских детей образование обычно ограничивалось именно этим. Как и основная часть русского крестьянства, мать и отец Попова были приверженцами религиозных традиций и даже после массовой атеистической кампании хранили иконы, висящие в красном углу избы как непреходящий символ воли Божьей и гарантия стабильности окружающего мира.
Между тем Петр рос во времена перемен, принесших с собой относительное, хотя и кратковременное благополучие российскому крестьянству. По указанию Ленина был временно ослаблен строго централизированный характер экономической системы, произошел временный возврат к денежной экономике и некоторым формам владения землей (речь идет о периоде НЭПа. — Ред.). Таким образом, младший Попов вступил в мир в краткий период ослабления имперского гнета московских коммунистических богов, его детство было относительно счастливым, и позднее он всегда с теплым чувством вспоминал о жизни в семье.
Эти и другие факты выяснились во время неформальных встреч Попова с представителем ЦРУ Джорджем Кисевалтером, вскоре ставшим для Петра до самого конца его недолгой жизни не только куратором, но и кем-то вроде отца или брата. Кисевалтер был выходцем из высокообразованной семьи, в юности жил в России и одинаково свободно говорил и по-русски, и по-английски. Встречи этих людей обычно превращались в дружеские беседы, хотя они всегда начинались с официальных донесений Попова. Позднее, сидя в безопасном месте за рюмкой водки, Петр говорил обо всем, что приходило ему в голову:
«Я помню себя мальчиком, живущим в небольшой деревеньке. У нас было немного вещей, особенно хорошей одежды… но моя мать умела шить, так что мы всегда были прилично одеты…
Мы никогда не держали наемных работников и все делали своими руками…
…Еды хватало не всегда, но… картофель никогда не переводился. Дома все было просто и ясно, поэтому казалось, что мы живем хорошо».
Как упоминалось ранее, главой семьи был старший брат Петра Александр, о котором Попов говорил чаще, чем о других. Внешне Александр походил на настоящего гиганта. Человек он был малообразованный, но с очень решительным характером. Когда в 1929 году умер от рака их отец, именно Александр взял на себя ответственность за судьбу младшего брата.
К несчастью, для людей подобно Поповым в 1929 году, когда Петру было всего шесть лет, ситуация на селе кардинально изменилась. К тому времени Сталин уже окончательно захватил власть после смерти Ленина. Изучив положение в сельском хозяйстве, он обнаружил, что коллективизацией охвачено лишь 1,7 процента крестьянских хозяйств, тогда как остальные остаются в частной собственности. Диктатор поставил перед собой один из известных вопросов, ответ на который так часто выходил для его сограждан боком. «Может ли советская система устоять на такой шаткой основе? — задавал он себе вопрос и тут же резко отвечал: — Нет, никогда!» Вскоре после этого началась всеобщая коллективизация, особенно сильно ударившая по таким семьям, как Поповы, которые были в деревне единственными владельцами части обрабатываемой ими земли.
Попов с неодобрением отзывался о так называемых бедняках, людях, не владевших своей землей и мобилизованных московским режимом для борьбы с более зажиточными земляками. (Даже до революции их иногда называли кулаками[2]) Подобная порочная политика натравливания одной части населения на другую, которая действовала успешно в других местах, на родине Попова себя не оправдала. Многие из кулаков были местными лидерами, которых уважало население, и они часто оказывались близкими родственниками более бедных односельчан. Крестьяне таким образом отказывались делиться на определенные партией категории, выражая тем самым групповую солидарность, крайне раздражающую правительственных эмиссаров, присланных из района, чтобы провести массовую коллективизацию. «Я пережил все это лично, — рассказывал Попов, — и видел, что творилось в деревнях. В результате они возбудили против себя всеобщую ненависть». Подобная несправедливость постоянно мучила его: «Возьмите простого крестьянина… Для того чтобы по сельским меркам хорошо обеспечить себя, он работает с четырех утра до десяти вечера. При этом ест только черный хлеб, огурцы, картофель и грибы. На праздники он может позволить себе кусок мяса. У него даже имеется обувь — кожаная, которая (я хочу подчеркнуть) прослужит ему всю жизнь. В этой обуви он ходит в церковь только по воскресеньям. То есть идет он в церковь босиком, а обувается у самого входа. Выйдя из церкви, он разувается, перекидывает связанные вместе сапоги через плечо и опять возвращается домой босиком».
«И этих людей, — возмущался Попов, — коммунисты называли кулаками. По приказу Сталина многие из них были подвергнуты аресту и без всякого суда сосланы в отдаленные малообжитые места!»
Хотя семья Поповых владела двумя лошадьми и тремя коровами и считалась по сравнению с другими зажиточной, она, к счастью, не попала в категорию тех, кто подвергся депортации. Однако их имущество попало в списки собственности, подлежащей коллективизации. Первым делом, с целью уменьшения возможности к сопротивлению, им в пять раз повысили конфискационный налог. Тут уже Попов не мог сдержать себя: «Нам сказали, что мы должны уплатить две тысячи рублей! Откуда нам было взять такую огромную сумму? Мы не смогли ее собрать, поэтому они пришли в дом и описали имущество. Я помню это, будто все было только вчера. В доме стояла икона в одном углу, печь в другом, а еще стол, стул, шкаф… Коммунисты описали каждую мелочь. Потом они подошли к брату и предложили ему подписать опись, поскольку он был старшим мужчиной в семье. Брат разорвал бумагу и вышвырнул этого человека за дверь».
После этого эпизода в деревне начался настоящий террор, поэтому другие крестьяне пришли обсудить ситуацию с Александром. По его совету они решили написать коллективное письмо герою революции Михаилу Калинину, ставшему к тому времени Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это письмо было написано в стихотворной форме образованным человеком, что было большой редкостью для тех мест. Письмо содержало весьма красноречиво изложенную жалобу на то, что жители деревни были подвергнуты несправедливому и жестокому обращению, их грозили даже депортировать. В нем выражалась просьба о личном вмешательстве Калинина.
Шансы на получение ответа казались мизерными. Хотя Калинин был разрекламирован в газетах как «всенародный староста», он приветствовал «жесткие меры против кулаков», которые называл «чем-то вроде профилактической меры, антикапиталистической вакцинацией». Тем не менее среди некоторой части бюрократии излишняя жестокость антикулацкой программы вызывала определенное недовольство. Даже представители ОГПУ (организации, которая была предшественницей КГБ) отзывались о проводимых конфискациях с неодобрением, обращая внимание властей на лозунг людей, с удовольствием отбирающих чужое имущество: «Ешь, пей — теперь все наше!». Поэтому в ответ на письмо Калинину в деревню пришел прямой приказ из Москвы, запрещающий депортацию и предписывающий вернуть имущество, отобранное у семьи Поповых. Специально прибывший эмиссар верхних эшелонов власти должен был лично удостовериться в освобождении крестьян, которых к тому времени уже арестовали и готовили к высылке.
После этой победы над бюрократией Александру была предложена руководящая должность во вновь организованном колхозе (коллективном хозяйстве). Но это было не для него. Отказавшись от предложения, он попросил официально разрешить ему, жене и детям выйти из колхоза. Отслужив сержантом в Советской армии, Александр как хороший стрелок собирался зарабатывать себе на жизнь охотой. Поскольку объединить живущих в глуши охотников в колхоз не представлялось возможным, власти согласились на том условии, что Александр заплатит выкуп за выход своей семьи из колхоза, что он вскоре и сделал. Все вместе они переехали на территорию соседнего государственного лесного хозяйства, где Александр, построив избу, выращивал овощи и браконьерствовал в запрещенные сезоны, снабжая семью дичью. Таким образом, вопреки всем запретам этот исключительный человек стал, по сути дела, частным предпринимателем.
Пример Александра важен для понимания будущей шпионской карьеры Петра Попова, поскольку трудно найти принципиальную разницу между охотничьими пристрастиями старшего брата и шпионской деятельностью младшего. Оба пренебрегли традициями ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь частным предпринимательством. Настойчивость Александра в достижении цели позволяла принять два важных решения. Обосновавшись в лесхозе, старший брат вернулся в деревню, чтобы определить Петра на учебу в школе. «Один из Поповых должен быть образованным», — заявил он. Уровень образования в сельской местности был невысоким, даже родной язык преподавался весьма посредственно. Однако в условиях так называемого бесклассового общества грамотные люди составляли особое сословие{3}.
Другой результат смелого поступка Александра был для Петра далеко не столь приятным. Все хорошее, предупредил брат, имеет и свои отрицательные стороны, что в данном случае означало необходимость носить в школе кожаную обувь каждый день, а не только по воскресеньям (болезненная обязанность для человека, привыкшего зимой к валенкам и летом к лаптям — крестьянской обуви, плетенной из коры деревьев или камыша). Получение образования выше двухклассного означало для юноши кардинальную перемену в его жизни. Возможность подняться вверх по социальной лестнице заставляла мириться с неизбежными переменами как в образе жизни, так и в одежде. Стиснув зубы, маленький Петр каждое утро приносил с собой ботинки и надевал их перед входом в школу. Но перед долгой обратной дорогой домой он, разумеется, менял их на нечто более удобное — валенки или лапти.
К началу 1930-х годов советская система образования вернулась — если не содержательно, то хотя бы по форме, — к дореволюционным стандартам. Делался упор на ликвидацию поголовной неграмотности в стране, хотя требования были не слишком высокими — на уроках часто пренебрегали даже историей гражданской войны. Высочайшим приоритетом являлась лояльность к власти. Ученики, вступавшие в члены коммунистической молодежной организации и демонстрирующие желание во всем следовать политике партии, имели больше перспективы, чем другие. Насколько нам известно, именно в это время Попов в душе формально стал коммунистом. Образ жизни, который он вел в то время, без сомнения, не давал никакого повода усомниться в его преданности советскому государству.
Что же касается приспособленчества, универсального ключа к выживанию в советской системе, Попов преуспел там, где многие другие преуспеть не смогли. К примеру, он учился вместе с буйными «полусиротами», потерявшими несколько, а иногда и всех своих родственников в результате все усиливающихся репрессивных мер — массовых арестов и ссылок в Сибирь. Школы должны были не только способствовать ликвидации неграмотности, в их задачу входило также воспитание беспризорников, у многих из которых были большие проблемы с дисциплиной. Между тем Петр, будучи примерным мальчиком, уже тогда проявлял внешний конформизм, которым отличался и в дальнейшем. Вполне естественно (хотя и ошибочно), что это было принято учителями и начальством за политическую благонадежность.
Военная карьера
В последовавшие за этим тревожные годы, в условиях все увеличивающейся угрозы со стороны нацистской Германии, программа всеобщего образования была значительно сокращена. Подобно многим другим представителям своего поколения Петр, считавшийся хорошим учеником, получил аттестат зрелости досрочно и был направлен в Красную армию, где благодаря своему образованию, каким бы скромным оно не было, оказался на офицерских курсах, которые закончил в 1942 году, получив звание младшего лейтенанта. Это было не слишком большим достижением, война свирепствовала еще три года, а лейтенанты являлись тем пушечным мясом, необходимость в котором была всегда велика: они всегда погибали одними из первых.
Несмотря на полученное в тяжелом бою ранение, рассказы Попова о войне на удивление скудны. Как выяснилось из бесед, в его жизни не обошлось без драматических ситуаций, но у него не хватало воображения, чтобы описать свои переживания. Война явилась для Петра событием слишком глобальным для осознания, несмотря на личное в ней участие. Взять, к примеру, бои за Тулу, город, находящийся к югу от Москвы. Еще не получивший звание Попов, находящийся вместе со своими товарищами на учениях, оказался на пути наступления генерала Гейнца Гудериана — Джорджа Паттона нацистской Германии, чья 2-я танковая армия участвовала в последней попытке немцев захватить столицу в ноябре — декабре 1941 года{4}. Битва под Тулой явилась одним из кульминационных моментов этой войны, так как именно там наступление нацистов было окончательно остановлено. Но несмотря на это, во время опросов Попов никогда надолго не задерживался на этом сражении. Потери Красной армии были очень велики, а город оказался сильно разрушенным бомбежками, но, судя по его словам, Петр выполнял свои обязанности почти автоматически, словно наблюдая за событиями со стороны. Во время этих бесед, он никогда не хвастал своей доблестью, не ругал и не хвалил начальство и не выказывал особой антипатии к немцам и австрийцам, считавшимся в то время врагами России.
Было ясно, что Попов едва ли делает различие между событиями, произошедшими во время войны и в послевоенный период. Будучи крестьянином из глухого уголка России, для которого любое известие из Москвы несло скорее угрозу, чем надежду на лучшее, он не имел никаких оснований связывать себя со своей страной. Оказавшись в городе, Попов не стал бы избегать официальных церемоний, спортивных состязаний, даже увеселительных зрелищ, призванных демонстрировать солидарность с остальным населением страны. Вместе с тем патриотизм не вписывался в узкие рамки его жизни. Икона, висевшая в углу родительской избы, раньше, возможно, и отражала для Петра какие-то высшие ценности, но чем старше он становился, тем меньше значили для него подобные абстракции.
Некая психологическая связь у Попова установилась лишь с Красной армией, подтверждением чего может служить неблагоприятное мнение, сложившееся у него по поводу боеспособности западных войск по сравнению с советскими. Ко времени своего предательства, однако, это сравнение могло отражать лишь сложившееся лично у него предубеждение, поскольку он ни разу не видел западные армии в действии. К тому же Петр на удивление мало разбирался в военном деле в целом, и его офицерское положение скорее было делом случая, а не рационального отбора армейского начальства. В течение всей своей жизни Попов просто старался не упускать любых возможностей, предоставляемых ему судьбой; его карьерный рост до звания подполковника, казалось, не имел никакого отношения к его патриотизму или военному искусству.
Обратимся, например, к очередному продвижению Попова по службе в один из самых критических периодов войны. В конце 1944 года, находясь после ранения в госпитале, он предстал перед военной комиссией, отбирающей кандидатов для трехгодичного обучения в московскую Академию имени Фрунзе. Подобное назначение считалось для всех офицеров большой честью. Но каковы же были его профессиональные характеристики? К этому времени Попова уже дважды повысили в звании, он был старшим лейтенантом и ожидал присуждения капитанского чина. Более счастливым для него обстоятельством было крестьянское происхождение, считающееся надежной гарантией наличия у него пролетарского сознания. К тому же в его армейском досье не имелось никаких свидетельств того, что его семья когда-либо считалась кулацкой. Более того, получив рекомендацию в партию, Попов, несмотря на полное отсутствие идеологических пристрастий, не замедлил вступить в нее. К тому же принимая во внимание огромные потери во время войны. Красная армия испытывала нехватку опытных профессиональных офицеров, а Петр, по крайней мере на бумаге, более чем удовлетворял минимальным требованиям, предъявляемым к слушателям военной академии, не последним из которых было просто то, что он был жив и годен физически. И действительно, война уже унесла столько людей, что на его курс в академии смогли набрать лишь 90 кандидатов из 150.
В связи с поступлением в академию, Попов выразил определенное пожелание. В один из периодов жизни он повстречался с Галиной Петровной, тихой молодой женщиной, учительницей немецкого языка в одной из школ Калинина, и женился на ней. Петр просил выделить ему на время учебы жилье в Москве, и его просьба была удовлетворена. Молодые получили всего одну комнату в общей квартире и должны были делить кухню и ванную еще с четырьмя семьями. Но это был собственный угол.
В карьере Попова не последнюю роль играла удача. Ключевым моментом в его биографии, впоследствии сделавшим его полезным для американцев, явилось направление Попова после окончания Академии имени Фрунзе на учебу в другое высшее учебное заведение, известное под названием Военно-дипломатической академии. Несмотря на свое намеренно сбивающее с толку название, эта академия не имела с дипломатией ничего общего, а являлась учебным центром для подготовки офицеров советской военной разведки, действующей гораздо агрессивнее, чем их американские «коллеги».
После окончания второй академии этот наивный и милый, но слабый духом человек был направлен за границу в совершенно чуждое ему окружение с задачей сбора стратегической информации. Более неподходящую для этой цели кандидатуру найти было трудно. (Стратегической информацией называют сведения и оценочные выводы, используемые сильными мира сего для выработки важных военных и политических решений.) Из многочисленных и долгих бесед его американским партнерам стало абсолютно ясно, что Попов оказался не в состоянии освоить как следует даже основные принципы каждодневной разведывательной деятельности, не говоря уже о сложной и тонкой методике вербовки агентов, способных снабдить его самыми важными секретами своих стран. Как ни странно, его работа заключалась именно в вербовке агентов.
Командировка по линии разведки — Вена
В военной разведке есть задачи, которые вполне успешно может выполнять хорошо запрограммированный компьютер, но Попову такая не слишком много от него требующая работа почему-то не досталась. Вместо этого в 1951 году его направили в Вену, сложно организованный город с населением полтора миллиона жителей, о языке, культуре и истории которого он не имел ни малейшего понятия. Хотя это было первое его знакомство с зарубежным миром, свидетельств о его первой реакции после прибытия в Вену почти не осталось. В сущности абсолютно аполитичный, но пытающийся казаться человеком, умудренным опытом, Петр, по всей видимости, старался избегать дискуссий на такие темы, как политика, в которой он почти ничего не понимал[3]. На процесс привыкания к очаровательному городу дворцов и парков негативно влиял и тот факт, что советское командование обычно пыталось уберечь подчиненных, оказавшихся за границей, как от культурного шока, так и от соблазнов мира денег, чтобы избежать их моральной деградации. Поэтому в стараниях избавить своих граждан не только от скуки, но и от вредного влияния буржуазного окружения, советская военная администрация проявляла даже большую заботу, чем американская. Дисциплина была строгой, трудовая неделя продолжалась шесть дней, рабочий день был долгим и заканчивался в восемь часов вечера даже по субботам. Воскресные дни отводились для занятия групповыми видами спорта и для познавательных экскурсий по городу, при этом стремление военнослужащих к индивидуальным программам по интересам строго, хотя и не всегда эффективно порицалось. Подобные ограничения вызвали у Попова обычную для него реакцию — внешнее подчинение, сочетающееся с внутренним сопротивлением.
Не имея права выбора, Попов с женой поселился в «Гранд-отеле», одном из самых шикарных в Вене, ничем не уступающем расположенному неподалеку отелю «Империал», в котором находился офис ГРУ. Выделяющиеся своим блеском и роскошью, оба здания до 1945 года использовались нацистским офицерством, презрительно кичившимся под хрустальными канделябрами залов своим превосходством над миром все семь лет вхождения Австрии в состав германского рейха. Однако ни окружающая Попова красота, ни драматическая история страны, казалось, не произвели на него никакого впечатления — во всяком случае, на беседах он не сказал об этом ни слова.
Разумеется, все семь дней в неделю Попов должен был обедать в общей столовой гостиницы и участвовать (часто против его желания) в организованном и заранее спланированном отдыхе (отсутствие на мероприятиях без предварительного уведомления и официального позволения могло расцениваться не в его пользу). Поначалу он как будто приспособился, проводя большую часть свободного времени за игрой в бильярд, настольный теннис и баскетбол со своими коллегами. Однако подобное времяпрепровождение было явно не в его вкусе. Не слишком жизнерадостный по натуре, Попов плохо сходился с сослуживцами и, будучи единственным из них крестьянского происхождения, вероятно, выглядел белой вороной. К счастью, специфика сбора разведывательной информации сама по себе предполагает некоторую отстраненность от официального окружения. Ведь невозможно вербовать осведомителей с помощью вооруженного взвода. Таким образом, Попов, на свое счастье, имел возможность прикрываться своими «операциями». Какими бы фиктивными ни были эти операции, они служили идеальным оправданием его отсутствия на общих мероприятиях.
Итак, «операции» Попова, во всяком случае поначалу, были не более чем поводом для оправданий. По идее, он должен был вращаться в разных слоях венского общества в поисках персоны, могущей и желающей шпионить за союзниками. Но без знания немецкого языка эта задача далеко превосходила его возможности да и способности тоже. Как бы то ни было, неудачи Петра не остались незамеченными ни в Австрии, ни в самой Москве. Начальник Попова в Вене полковник Егоров часто критиковал его работу, но хуже всего Петру пришлось на докладе в Москве в Главном разведуправлении, куда он был вызван в 1954 году. Там отозвались о его работе вполне откровенно, в чем он позднее признался сочувствующему ему Кисевалтеру: «Результаты работы завербованных мною агентов оказались совершенно неудовлетворительными. Мне сказали, что в газетах можно найти больше информации, чем они мне приносят».
Попов предпочел работать на американцев
Встречавшиеся с Поповым сотрудники ЦРУ постоянно говорили, что ценят его не только как агента, но и как друга. И это особо расположило его к американцам. По всей видимости, он никогда не был ни с кем в близких, доверительных отношениях, не мог ни перед кем открыть свою Душу, даже перед находившейся с ним рядом в Вене женой. В беседах с Кисевалтером он полностью раскрылся. Впервые за всю его нелегкую жизнь кто-то, превосходящий его по званию и образованию, обращался с ним не только как с равным, но и как с уважаемым человеком.
В отличие от этого его отношения с вышестоящим русским начальством были строго официальными. В традициях Красной армии было отдавать приказы быстро и кратко, в несколько презрительной манере. Подобное, слегка пренебрежительное, отношение могло не только отражать разницу в служебном положении (армия, как известно, является обществом отнюдь не бесклассовым) — вышестоящие чины явно видели в Попове простого крестьянина. И он прекрасно это чувствовал.
Отношения Попова с новыми американскими работодателями, с другой стороны, развивались настолько легко, что постепенно становились похожими на родственные. У него не появлялось никакого желания хоть как-то логически обосновать причины своего перехода на сторону противника. Прошло немало времени, прежде чем он смог выразить их более-менее внятно. Несмотря на то, что для многих находящихся в его положении людей подобное предательство влекло за собой болезненную, долго длящуюся моральную травму, у него оно было простым освобождением от нестерпимого психологического напряжения. Собственно говоря, в этом не было ничего удивительного: создавалось такое впечатление, что у него совершенно отсутствовало чувство патриотизма или даже теплое чувство к своей стране. Не могу не противопоставить его русским эмигрантам, которых я встречал в свою бытность за границей. Почти все они были хорошо образованны, прекрасно знали западноевропейские языки, как свой собственный, и вынуждены были покинуть Россию ради спасения своей жизни. Многие имели дворянское происхождение, но почти все обнищали до такой степени, что должны были зарабатывать себе на жизнь уходом за чужими детьми и репетиторством. Однако их рассказы о своей стране поразили меня, насколько это было возможно в детском возрасте. Несмотря на ужасы революции, они до конца жизни любили Россию-матушку. Для Попова же понятие родины как объекта любви и уважения не существовало вовсе. Его переход на нашу сторону не имел никакого отношения к идеологии.
Мотивация
Давайте сделаем критический обзор всего, что мы узнали об этом человеке в результате его сотрудничества с ЦРУ, и попытаемся понять мотивы, толкнувшие его на предательскую связь с врагом. Во время первой же встречи с представителями ЦРУ Попов почти случайно обмолвился о том, что решил предложить свои услуги, поскольку «должен разрешить одну проблему». Однако «проблема» эта оказалась отнюдь не глобальной или политической, она заключалась просто в том, что он не знал, как содержать двух женщин одновременно. Как объяснял Попов, он никак не мог найти выход из этой ситуации. «В качестве крайней меры я решил наконец прийти к вам», — сообщил он. Разумеется, чтобы попросить денег в обмен на информацию о Советской армии. Это подразумевалось само собой. Что же еще он мог продать?
Выяснилось, что до того как передать свое письмо американскому вице-консулу, Попов уже делал несколько подобных попыток, но отказывался раскрыть себя или место работы, поэтому, естественно, был отвергнут. Крайне наивный для офицера разведки, он забыл (если вообще когда-нибудь знал) главную заповедь своей профессии — разведданные хороши настолько, насколько хорошо отобран источник их поступления. Поэтому попытка сохранить тайну о себе не имела ни малейшего успеха (в Вене было слишком много мошенников, пытающихся выступить в роли потенциальных шпионов, чтобы подобная тактика могла сработать). Только после того как Попов показал свой советский паспорт (даже тогда тщательно закрывая большим пальцем свое имя), барьеры недоверия начали рушиться. Поскольку этот человек так осторожен, он стоит хотя бы того времени, которое понадобится на его допрос. Фальшивые информаторы, напротив, всячески старались преувеличить свои возможности, но поскольку Попов вел себя иначе, были основания полагать, что он именно тот, за кого себя выдает.
После того как его намерения окончательно прояснились и было достигнуто соглашение о сотрудничестве, Попова авансировали небольшой суммой в австрийских шиллингах. Поблагодарив, он высказал просьбу, прозвучавшую почти как мольба: «Прошу только одного: относитесь ко мне по-человечески!». Это неожиданно прозвучавшая фраза пролила свет на другие причины предательства. Попову нужны были не только деньги, но и подтверждение своей значимости. Не в состоянии получить эту уверенность от суровых советских начальников, он приобрел ее, придя к американцам.
Каким бы неумелым на своей основной службе в ГРУ. ни казался Попов, его работа в качестве агента ЦРУ была весьма эффективна. Дело в Том, что, в отличие от ГРУ, поручения его американских связников оказались вполне в пределах его компетенции. Русским нужна была информация о том, что творится в штаб-квартирах трех западных союзников — Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. К такой информации Попов доступа не имел, он не говорил ни на одном из иностранных языков, так что был не в состоянии завести хотя бы самый безобидный разговор с американским, британским или французским офицером, даже случайно встретившись с ними в каком-либо общественном месте. Представители ЦРУ просили от него сведений (предпочтительно в документальной форме) из советского штаба в Вене, где он работал. Будучи к тому времени уже подполковником, Попов имел возможность свободно передвигаться по зданию штаба, и хотя имел некоторые ограничения, большинство документации было ему доступно. Значительная часть этих документов была напрямую связана с проблемой, занимающей умы лидеров Запада и населения всего мира, — возможность войны с Россией.
Обратимся на минуту к сложившейся на тот момент политической ситуации. Прогрессирующая паранойя Сталина, неустойчивость его психики вызывали все большую тревогу Запада. Вторжение коммунистических сил, подобное вторжению в Южную Корею в 1950 году, теоретически было возможно и в Австрии. Но если такой захват действительно произойдет, рискнет ли недавно созданная Организация Североатлантического договора (НАТО) выступить в защиту Австрии — одной из самых маленьких стран в Европе. Большинство в этом сомневалось. Вряд ли стоит рассматривать корейскую войну в качестве прецедента, поскольку этот азиатский конфликт завершился без каких-либо заметных последствий для северного агрессора, хотя каждая из сторон по-прежнему грозит своему противнику самыми строгими карами. Как бы то ни было, страх очередного коварного нападения, на этот раз на Западе, будоражил американскую разведку в Европе все первые послевоенные годы. В такой ситуации задача проникновения в ГРУ стала приоритетной.
Организации, занимающиеся разведкой, ценятся в качестве объекта изучения уже сами по себе, так как их досье являются хранилищем особо важной информации. Но не меньший интерес вызывают сведения о внутренней структуре подобной организации, к примеру, сравнительная численность сотрудников, занимающихся той или иной проблемой. Особое значение имеет также степень внимания, уделяемая боеспособности той или иной страны (численность военных подразделений и распределение функций между ними), интенсивность усилий, направленных на подрывную работу, — все эти и другие подобные детали много говорят разведке о целях и задачах вооруженных сил противника. Иными словами, разведывательные службы страны, нацеленной на агрессию, интересуются совсем иной информацией, чем государства миролюбивого.
Поэтому, когда Попову удалось заполучить для ЦРУ организационную схему штаба ГРУ в Австрии вместе с именами, личными характеристиками офицеров и указанием их служебных функций, его работа была признана весьма полезной. Эти сведения не давали никаких указаний на агрессивные намерения русских в этой части мира. Работа ЦРУ была очень высоко оценена руководством западных союзников, что сильно подняло Попова в глазах тех немногих сотрудников ЦРУ, которые знали о его существовании.
Плохая работа на ГРУ
Если деятельность Попова на ЦРУ оценивалась его американскими друзьями как весьма удовлетворительная, то информация, доставляемая им советскому командованию, продолжала оставаться ниже всякой критики. Столь неудовлетворительные результаты работы Попова против союзников в Вене заставили местное руководство ГРУ направить его усилия на другое направление — на беженцев из Восточной Европы — легкое для разработки, но весьма перспективное поле деятельности разведки, поскольку русские всегда с большим вниманием относились к возможному подрывному потенциалу этих беглецов из советского блока, находящихся вне их официального контроля. В Вене нашли себе прибежище тысячи беженцев и политических эмигрантов; большинство из них ранее проживали в странах, попавших после поражения немцев в войне в руки коммунистов, — это югославы, чехи, болгары и многие другие. Они боялись коммунистической власти не меньше, чем нацистов. Оказавшись под защитой Запада, они чувствовала себя в относительной безопасности, хотя нескрываемая враждебность СССР внушала им беспокойство.
Какой бы слабой ни являлась подготовка Попова, вербовка агентов в среде этих людей не должна была вызывать у него каких-либо затруднений. Несмотря на то, что большинство перемещенных лиц (таково было их официальное название по терминологии союзных правительств) были настроены антикоммунистически, тем не менее они испытывали крайнюю нужду, а тайная работа на офицера советской разведки (независимо от их политических взглядов) все же позволяла им свести концы с концами. Но даже такая легкая добыча никак не давалась Попову в руки. Он не был способен заставить себя сделать даже то, что на жаргоне американской разведки называется «закидыванием удочки наудачу», то есть предложить совершенно незнакомому человеку оказывать сотрудничество в шпионаже. Противоречило ли это его понятиям о порядочности или он не выносил мысли, что его предложение будет отвергнуто, — мы об этом уже никогда не узнаем. Каковы бы ни были причины, но и здесь Попов оказался столь же неспособен к вербовке агентов.
Видя его безвыходное положение, Милица Коханек, сербка — любовница Попова, взяла над ним руководство во всех отношениях. После того как он признался ей в скудности своей агентурной сети, она с готовностью предложила свою помощь. Никаких идеологических разногласий между ними быть не могло; являясь членом австрийской коммунистической партии, Милица смотрела на членов югославской общины, по большей части настроенных антикоммунистически, как на законную добычу и отнюдь не страдала застенчивостью своего любовника. То, что можно было узнать в результате довольно поверхностного проникновения в организации беженцев, было, разумеется, весьма далеко от «стратегической информации», которую должен был добывать Попов в Вене. Но что из того! Многие сотрудники различных разведок, включая американскую, давно уяснили себе простую истину: предоставление какой-либо документации (любой документации) своему начальству гораздо полезнее для карьеры, чем не представление никакой информации.
Во всяком случае, информация, которую он собрал для ГРУ через «Мили», касающаяся в основном политической активности проживающих в Вене беженцев, позволила Попову удовлетворить свое самолюбие. Вскоре Мили стала для него более, чем просто помощницей. Попов явно был в нее влюблен, хотя она отнюдь не была красавицей. Сотрудник ЦРУ, который вел наблюдение за обедавшей в ресторане парой, отметил в донесении, что она «обладает, должно быть, какими-то скрытыми достоинствами, поскольку даже ее родная мать вряд ли могла назвать ее красивой». Но для Попова отношения с ней казались отдушиной в строго регламентированной жизни «Гранд-отеля». Поскольку эти личные встречи являлись грубым нарушением правил поведения, проведенное с ней время заносилось в графу «сбор информации», хотя, разумеется, он был далеко не единственным офицером разведки (независимо от национальности), позволявшим себе это послабление. Как бы то ни было, Попов и Милица наслаждались прогулками по Пратеру или Данубу и посещали такие общедоступные мероприятия, как боксерские матчи. Попов даже купил два велосипеда, которые держал у нее на квартире, и маленькую лодку для катания по реке. Оба приобретения были, вероятно, сделаны на деньги, заработанные в ЦРУ. И все же несмотря на проводимое в компании Мили почти все время, он никогда не демонстрировал свою привязанность к ней; слушая его, можно было подумать, что их отношения по большей части были связаны только с работой. Попов любил подчеркивать покорность своей любовницы, уверяя Кисевалтера в том, что она не будет причиной беспокойства его семьи.
«Мили разумная девушка, — говорил он, — и знает, что у меня есть жена и дети… Но она ко мне привыкла. У меня простая русская душа; если ей чего-то не хватает, я дам ей все, что она захочет, даже если у меня этого нет[4]. Но Мили никогда ничего от меня не требует». Что именно он понимал под понятием «требовать» — не совсем понятно, однако взаимоотношения Попова с Милицей были довольно долгими и стабильными, по крайней мере, она была три раза от него беременна и сделала три аборта на его средства (на самом деле — на деньги ЦРУ). Каковы были ее чувства по отношению к нему в действительности, мы уже не узнаем, но есть основания полагать, что Милица была далеко не так покорна, как ему казалось. К примеру, когда Советская армия вторглась в Венгрию, она демонстративно порвала с Коммунистической партией Австрии и вызвала немалый скандал тем, что рассказала о манипуляциях компартии с бюллетенями на выборах. В конце концов Милица окончательно разочаровалась в коммунизме. Ее отношения с Поповым оставались прежними почти до конца его жизни, что имело для него весьма серьезные последствия.
Растущая преданность Соединенным Штатам
Чем дольше длилась работа Попова на ЦРУ, тем большей лояльностью к Соединенным Штатам он проникался. Одной из вершин в его карьере было получение подарка от тогдашнего директора ЦРУ Аллена Даллеса. Встретившийся с Петром резидент американской разведки в Австрии подарил ему изготовленные по специальному заказу золотые запонки. Они символизировали, как объяснили Попову, «крепкую связь между советским подполковником и его американскими друзьями, хотя по соображениям безопасности дизайн изделия был намеренно упрощен. Его символика навеяна мотивами греческой мифологии. Шлем Афины является признаком мудрости, а меч — храбрости… В подарке нет ничего американского». Мнение на этот счет самого Попова осталось неизвестным — не имея никакого понятия об Афине, он, вероятно, ничего не понял.
Как бы то ни было, резидент ясно дал понять, что запонки имеют также и практическое значение, являясь опознавательным знаком американских спецслужб. Аналогичная пара будет храниться в штаб-квартире ЦРУ, чтобы при необходимости подтвердить полномочия любого эмиссара, который может быть направлен для установления связи с Поповым, будь то в Советском Союзе или в любом другом месте. Попов был очень благодарен. Сравнивая обращение с ним американцев и советских из ГРУ, он так отзывался о своих начальниках в СССР: «Они никогда не интересуются тем, насколько опасным может быть задание, и думают только о том, чтобы выжать из человека как можно больше». И более позднее высказывание: «Вы, американцы, находите время на то, чтобы выпить с человеком и расслабиться. Это настоящий человечный подход. Вы уважаете личность собеседника… Что касается нас, то личность у нас — ничто, а государственные интересы — всё».
Но к 1955 году, когда его пребывание в Австрии уже подходило к концу, даже деликатное и дружеское обращение американцев не уберегло Попова от стресса, вызванного его двойной жизнью; он страдал от постоянных головных болей и повышенного давления. Однако получение из московского Управления одобрительного отзыва о его работе и обещание производства в звание полковника сильно приободрили Попова. Главную роль в этом успехе он отводил своей любовнице, снабжавшей его основными материалами о политической активности беженцев, которые он передавал в ГРУ. «Моя девушка Мили очень мне помогла», — сдержанно признавался Петр.
Его привязанность к Милице стала еще сильнее, чем раньше. Попов никак не мог привыкнуть к мысли о разлуке с ней, но делал вид, что жалела об этом расставании только она. При этом он говорил: «Моя девушка очень расстроилась. Она знает, что я ничего ей не обещал, но так ко мне привыкла». Неожиданно он завел разговор об абсолютно нереальной (учитывая ее разрыв с компартией) возможности приезда Милицы в Москву в качестве делегата Конгресса демократической молодежи. «Как только она приедет в Москву, я о ней позабочусь. И если получится, оставлю ее там, найду ей работу». Милица, разумеется, так никогда и не осмелилась посетить Советский Союз или какую-нибудь другую страну коммунистического блока. Несмотря на это, она оставалась в памяти Попова и оказывала влияние на его жизнь до самого конца.
На встречах со своими кураторами из ЦРУ Попов редко упоминал о своей семье, приехавшей в Вену уже после начала его отношений с Милицей, которые, первоначально возникнув от одиночества Петра, к тому времени окрепли окончательно. Но, несмотря на этот роман, Попов был крепко привязан к жене и детям и беспокоился о том, чтобы с ними ничего не случилось.
В нелюбви Попова к своей стране, какой она стала после революции, он ничем не отличался от многих своих сограждан, в разное время оказавшихся за границей. Исследование, основанное на опросах 320 человек, эмигрировавших из России сразу после Второй мировой войны, показало, что 83 процента опрошенных назвали в качестве причины эмиграции «желание жить на Западе», тогда как «свободы» искали только 6 процентов, а высокий «уровень жизни» привлекал лишь 2 процента эмигрантов. Отсюда становится ясно, что из СССР их выдавливал не дефицит чего-либо конкретного, а общая ситуация в стране.
В середине 1955 года Попов, возвратившийся в Вену после командировки в Москву в Главное разведывательное управление, выглядел даже более разочарованным, чем обычно.
«Ужасно видеть, — сообщил он, — как живут люди в наших деревнях… В Калинине, районном центре всего в ста километрах от Москвы, невозможно купить масла; сахар бывает очень редко… Только для того, чтобы купить продуктов, люди едут двенадцать часов в Москву из Костромы. В других городах нет и этой возможности… Из моей деревни ездили в Горький, но купить там было нечего».
О деревне, в которой он вырос, Попов рассказывал следующее:
«Каждый раз, приезжая домой, я вижу что сотни людей, фактически все поголовно, не имеют хлеба. Обращаясь ко мне, они говорят: “Ты приехал из города, скажи же нам, пожалуйста, когда мы начнем жить по-человечески?” Что я могу им ответить? Что? Как член коммунистической партии я должен говорить, что, пока они не начнут работать по-настоящему и не установят порядок в колхозе, хлеба у них не будет. Но мне прекрасно известно, что это полная чепуха».
В своем негодовании Попов был не одинок. Другие были даже менее осторожны, чем он. «Среди офицеров, работающих за границей, — говорил он, — также много недовольных режимом. Недавно я слышал, как один офицер сказал: “Посмотрите, как живут эти австрийские безработные. Их квартиры намного лучше моей, которую я, офицер, имею в Москве!”». Большинство коллег Попова были гораздо искушенней его в житейских делах, и все же их отношение к родной стране не слишком отличалось от остальных. Один из них, говоря об обстановке недовольства в России, заметил: «Впечатление такое, будто в этих людей (речь идет о советском офицерском корпусе, служившем в Вене) вдохнули некий дух дерзости и отваги… Это уже случалось в истории. В период войны 1812–1814 годов офицеры царской армии дошли до Парижа и оттуда принесли с собой новые идеи, давшие толчок проведению земельных реформ в России и раскрепощению крестьян».
Оставив в покое прошлое, Попов продолжил тему, о которой рассуждал его коллега: «Сегодня среди наших офицеров этот дух несомненно присутствует. Разумеется, они являются привилегированной группой. Мы живем гораздо лучше, чем остальное население СССР, и каждый из нас боится говорить откровенно из страха лишиться своих преимуществ. Сейчас очень мало патриотизма как такового».
Несколько раз Попов цитировал другого коллегу, тоже подполковника, делавшего подобные подстрекательские заявления: «Мне кажется, что упразднение частной собственности было абсолютной ошибкой. Это привело к уничтожению последних остатков инициативы среди крестьян». Как объяснял Попов, он всегда остерегался поддерживать такого рода мнения из страха, что этот коллега может оказаться провокатором. Сам он не верил в возможность революционного выступления против коммунистов. «Я сомневаюсь в возможности какого-либо открытого антиправительственного движения или действия… Организовать крестьянство совершенно некому. Нет лидеров. Нет никакой оппозиции. Многие надеются на перемены, но это не более, чем надежды».
Вспоминая, вероятно, совет брата Александра, данный ему много лет назад, «выдоить из системы все, что только можно», Попов так пояснил позицию советской бюрократии: «Когда кто-нибудь в СССР получает государственную должность, на которой можно выгадать что-то для себя лично, он, не задумываясь, это делает. Причем неважно, какой именно пост он занимает, хоть бы и министерский… Причины этого весьма просты: жизнь среди всеобщей нищеты вынуждает его прежде всего заботиться о своем благополучии».
Перевод в Западную Германию
В 1955 году оккупация Австрии силами четырех государств завершилась и страна стала независимой и нейтральной. Начался быстрый вывод советских войск, и Попов, как и большинство его коллег-офицеров, не знал, что сулит ему будущее. Внезапно он исчез из поля зрения ЦРУ после перевода в Москву, а затем в город Шверин, находящийся в советской зоне оккупации Германии, где потерял всякую возможность контакта со своими американскими друзьями.
После нескольких безуспешных попыток восстановить эти связи Попов воспользовался возможностью, которая представилась ему в один из январских вечеров 1955 года. Заметив припаркованный возле гостиницы автомобиль, принадлежавший английский миссии, он рискнул выяснить номер комнаты владельца и постучал в дверь. Представившись советским подполковником, офицером разведки, работающим в шверинском отделении ГРУ, он сообщил, что давно безуспешно пытается установить контакт с американцами, заверив собеседника, что пришел без ведома своего начальства.
Попов рассказал британскому офицеру историю своей жизни, начиная с бедного деревенского детства, а потом сообщил об отношениях с американцами из ЦРУ и о том, как пытался установить с ними контакт через «надежную женщину по имени Мили», но неудачно. Попов просил британского офицера помочь ему связаться с сотрудниками ЦРУ для передачи им «совершенно секретной директивы Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза». С этими словами он предъявил конспект засекреченной брошюры об использовании атомного оружия и попросил офицера передать его, вместе с письмом американским властям.
Узнав от англичан об этой встрече, американцы немедленно приняли меры для восстановления связи с Поповым. Для этой миссии были тщательно подобраны два сотрудника армейской службы связи США — назовем их А. и Б. Последний говорил по-русски. Неоднократно бывавшие ранее в Восточной Германии, эти двое должны были встретиться с Поповым, забрать у него сообщение и обеспечить постоянный канал связи. По счастью, временная договоренность о связи была уже достигнута благодаря расторопности английского офицера, хотя Попов буквально свалился ему как снег на голову.
Говорящий по-русски капитан Б. оказался главным действующим лицом в этом рискованном, но несколько комичном эпизоде. Прибыв в кафе, ранее выбранное Поповым и британским офицером, оба американца стали ожидать встречи, назначенной в мужском туалете на 9:10 вечера. Устроившись за столом, Б. заказал специальный напиток в связи с якобы имеющимися у него проблемами с желудком. В назначенное время он зашел в туалет и стал ждать. Через несколько минут вошел восточногерманский солдат, и капитан сделал вид, что его тошнит. Прождав еще несколько минут и видя, что никто не заходит, он вышел из туалета.
В это время в кафе вошел Попов, но он и не говорящий по-русски А. не стали делать попытки войти в контакт. Инициативу взял на себя вышедший из туалета Б., знающий Попова по фотографии (Б. знал, что бесхитростный Попов готов был довериться любому человеку, одетому в американскую форму). Сцена повторилась вновь: Б. опять удалился в туалет, ожидая, что Попов последует за ним. Но тот этого не сделал, возможно потому, что не получил конкретных инструкций или считал выбор туалета в качестве места встречи не слишком удачным. (На своем родном языке он наверняка назвал бы такие действия «некультурными».) Следовательно, Б. ждал его напрасно. В это время в туалет вошел еще один посетитель, и капитану вновь пришлось сделать вид, что его тошнит. Эта сцена повторилась еще два раза, но Б. так и не удалось начать разговор с Поповым.
Наконец в туалет вошел А., сообщивший, что Попов, прождав час, вышел из кафе. Американцы решили вернуться в свой отель, но на лестнице наткнулись на Петра, к которому приставали два пьяных немца. Появление американцев, видимо, смутило их, что позволило Попову ретироваться в туалет холла, куда за ним последовал и Б. После проверки пароля Попов передал Б. записную книжку в красной обложке, содержащую разведдонесение на 48 страницах и четыре страницы инструкций о порядке будущих встреч.
Поскольку Попов служил в одном из районов Восточной Германии и это затрудняло его встречи с американцами, было решено использовать в качестве связного одного пожилого немца из Западного Берлина. Для подтверждения своих секретных полномочий старик должен был иметь при себе дубликат подаренных Попову золотых запонок. Курьерские рейды немца были спланированы настолько хорошо, что вскоре Попов забыл об имеющихся у него тревогах. Во время одной из встреч, состоявшейся в конце апреля 1956 года, заметив, что Попов мурлычет что-то себе под нос, курьер спросил о его настроении и услышал в ответ, что «в иные дни настроение бывает хорошим, в другие — не очень, но сегодняшний деть — один из самых удачных».
Поездки в Западный Берлин
В августе того же года курьер, вернувшийся из Восточной Германии, привез с собой хорошие новости. Попов передавал, что в связи с возникшей необходимостью он должен посетить Восточный Берлин по делам службы и может тайно появиться в Западном Берлине. В октябре 1956 года, когда личные контакты были уже установлены, Попов сообщил еще более хорошие новости. При помощи двух своих друзей-полковников он смог получить назначение в коммунистический Восточный Берлин. После прибытия туда в июне 1957 года его прямые связи с американцами возобновились.
Тот Попов, которого связной ЦРУ встретил в Восточном Берлине, казался, по крайней мере внешне, гораздо более уверенным в себе и умудренным жизнью человеком, чем при первом контакте в Вене четыре с половиной года тому назад. Это было неудивительно: работа, которую русские требовали от него в Восточной Германии, была крайне необременительна. Чтобы завербовать немца в качестве советского агента, достаточно было обратиться в восточногерманскую полицию или к местному руководству коммунистической партии (имеется в виду СЕПГ — Социалистическая единая партия Германии. — Ред.) и получить список подходящих кандидатов. Отказ последних, разумеется, был маловероятен, поэтому провалить подобное задание было практически невозможно. Тем не менее ГРУ регулярно поощряло его за подобные успехи. Попов таким образом извлекал для себя выгоду из пристрастия бюрократии к самовосхвалению — феномен, распространенный в авторитарных государствах еще в большей степени, чем в демократических. После долгого периода недовольства со стороны начальства такие успехи несколько вскружили ему голову.
Но когда он рассказал о некоторых операциях, проведенных им для ГРУ в Восточной Германии, его связной отметил, что они были столь же неэффективны, как и прежние. Основной его проблемой была поразительно плохая память. Это можно было бы считать почти комичным, если бы не грозило провалом в таких местах, как коммунистический Восточный Берлин. Попов имел обыкновение забывать детали назначенных встреч. Прибыв в Западный Берлин на второе свидание со связным ЦРУ, он не смог вспомнить адрес конспиративной квартиры. Хуже того, он оставил дома записную книжку, содержащую телефоны некоторых служб ЦРУ для непредвиденных случаев, со специальным устройством, облегчающим запоминание номеров, изготовленным для него одним из американских кураторов. Вернувшись в Восточный Берлин, Попов позвонил по межгороднему телефону жене в Шверин, чтобы получить нужные телефонные номера, но, пренебрегая всеми правилами безопасности, сделал этот звонок из своего рабочего кабинета.
Эффективность организации встреч улучшалась очень медленно, хотя, для того чтобы их агент не зашел ненароком в другой дом, сотрудники ЦРУ установили на двери конспиративной квартиры в Западном Берлине табличку с красным номером. В добавление ко всему, даже к пятой со времени переезда из Шверина в Берлин встрече Попов так и не изучил как следует систему городского общественного транспорта. Однажды по чудовищной ошибке сев не в тот электропоезд, следовавший без остановок через Западный Берлин, он оказался в Потсдаме, где и был задержан советским военным патрулем. Будучи в штатской одежде, Попов предъявил свое служебное воинское удостоверение, но, несмотря на это, патрульный передал его дежурному сержанту. После выяснения обстоятельств сержант разрешил Попову сесть на ту же электричку, идущую в обратную сторону, но сообщил об инциденте по официальным каналам. Позднее начальство объявило Попову выговор за транзитный проезд через территорию Западного Берлина без разрешения. К тому же в конце октября 1957 года один из агентов ЦРУ, встретившийся с ним в Западном Берлине, заметил, что Попов забывает имена так же быстро, как и инструкции, касающиеся требуемой от него информации.
В дополнение к проблемам с памятью появившаяся у Попова во время работы в Восточном Берлине чрезмерная самоуверенность продолжала чередоваться с периодами депрессий, сопровождающимися головными болями и повышением кровяного давления. Его настроение часто менялось даже на протяжении одной конспиративной встречи. К примеру, в августе 1957 года, через два месяца после перевода в Восточный Берлин, он заявлял о своей работе в ГРУ следующее: «Собственно говоря, работать здесь совсем нетрудно. За прошедший месяц я вошел в курс дела и способен справиться с любым заданием». Однако к концу беседы его тон кардинально изменился, речь стала почти бессвязной, и присутствующим на встрече двум агентам показалось, что он вот-вот заплачет: «Я хочу, чтобы вы помогли мне, иначе дела могут пойти неважно». Голос Попова дрожал: «Не то, чтобы все обстояло совсем плохо, но мне не хочется выглядеть хуже, чем остальные». Более всего, пытался объяснить он, на него действует психологическое напряжение двойной жизни.
«Поддержание контакта с вами, — жаловался Попов, — требует большого нервного напряжения, но больше всего на меня давит моя собственная работа. Не говоря уже о партийных обязанностях. Партийный секретарь должен быть лидером. От всего этого у меня голова идет кругом».
Надвигающиеся неприятности
Через два месяца после этого разговора руководство ГРУ дало Попову задание, оказавшее влияние на его дальнейшую судьбу. В октябре 1957 года ему поручили помочь отправить из берлинского аэропорта Темпельхоф советского агента-женщину по фамилии Таирова. Случай вышел смехотворный — по прошествии лет он кажется эпизодом из скверно написанного шпионского романа.
Закончив обучение искусству маникюрщицы в Польше, Англии и Франции (в Париже), Таирова направлялась к своему мужу-дипломату, уже три года занимавшему должность в нью-йоркском Бруклине. На жаргоне разведчиков оба были «нелегалами» (людьми, не только прошедшими интенсивное обучение навыкам разведывательной деятельности, но и имеющими документально подтвержденные фальшивые биографии, обычно граждан не их страны, а других государств). Вылет прошел без происшествий, но вскоре после прибытия Таировой в Соединенные Штаты операция пошла не так, как планировалась. В середине 1958 года по незначительному поводу (якобы они проживали вместе в одной квартире как муж и жена, но не были зарегистрированы по принятым в США правилам) пара была подвергнута допросу сотрудниками государственной Службы иммиграции и натурализации. Без всяких видимых причин, только из одного присущего русским страха перед полицией, они запаниковали и вернулись в Москву. Чтобы оправдать свои действия, Таирова утверждала, что от самого Темпельхофа заметила за собой интенсивную слежку, которая продолжалась в Соединенных Штатах. Хотя это утверждение было ложным, Попов боялся, что в ГРУ оно будет воспринято серьезно и бросит тень на него, как ответственного за ее отправку из Темпельхофа. Он был сильно встревожен этим случаем, особенно когда прибывший из Москвы полковник начал расследование этого дела. «Этот полковник вчера расспрашивал меня, — сказал Попов своему связному, — и я не спал потом всю ночь… Никаких свидетельств, разумеется, у них нет, но начальство в Москве не допускает даже мысли о том, что они могли сами хоть в чем-нибудь ошибиться. Кто-то должен быть виновным». В его голосе послышалась нотка отчаяния: «Поэтому мы, возможно, никогда больше не встретимся!».
Эти «неприятности» с нелегалами случились в самое неподходящее для Попова время. В апреле (1958 года. — Ред.) руководство упрекнуло его в недостаточной активности. «Леонид Иванович [его непосредственный начальник] отругал меня: “К концу мая мне нужно, чтобы вы завербовали двух агентов… Вокруг полно людей, а от вас никакого толку. Берите пример со своих коллег”». Подобная критика вряд ли могла привести к нужному результату, поскольку Попов начинал вести себя все более и более неадекватно. Более того, вскоре после фиаско с нелегалами подошло время предоставления полугодового отчета о проделанной работе, а предоставить фактически он мог немногое.
Однако последний удар оказался направленным совершенно с другой, неожиданной для него стороны. 5 ноября 1958 года Попов подал сигнал о необходимости срочной внеочередной встречи. Когда его связной прибыл на конспиративную квартиру, Попов был весь в слезах и не очень связно изложил очередную проблему. «Наверное, все кончено… Меня отсылают назад… это все из-за Мили». Попов сел и вытер слезы: «Извините меня,- что я так себя веду».
Оказалось, что в конце октября произошел инцидент, привлекший внимание ГРУ к продолжавшимся отношениям Попова с Милицей. По несчастливому совпадению, в это же время высшее руководство ГРУ в Москве само попало под огонь критики Центрального Комитета Коммунистической партии за «недостаточные результаты» (обвинение, которое часто выдвигалось по отношению к самому Попову), поэтому начальник местного отделения ГРУ был вдвойне заинтересован в том, чтобы рапортовать об успехе.
Прежде всего, по распоряжению из Москвы Попова опросили по поводу Мили: ГРУ подозревало ее в «работе на какую-то службу», поскольку нашлись свидетельства, что в 1957 году она стала осведомительницей полиции. Наряду с фактом ее разрыва с Коммунистической партией Австрии после публичного разоблачения подтасовок компартии во время выборов, факт осведомительства превращал длительную связь Милицы с Поповым в серьезную проблему, относящуюся к компетенции органов безопасности. Однако даже в столь сложных обстоятельствах проявилось свойственное Попову легкомыслие по отношению к серьезным событиям. Несмотря на то что от него уже потребовали письменного покаяния по поводу его отношений с Милицей, он попытался оправдаться. Как можно предположить, ему это не удалось. Попову было приказано вернуться в Москву для дальнейшего расследования, хотя и под предлогом «оперативных консультаций».
В тот момент ЦРУ совершило ошибку, не сумев уговорить его не подчиняться приказу. Элементарное знание процедур, общепринятых в Советском Союзе в подобных случаях, подсказывало, что Попов должен был немедленно бежать и сразу быть переправлен в безопасное место. Вместо этого руководство ЦРУ согласилось с доводами Петра, ошибочность суждений которого теперь уже стала легендой. Находясь в одной из своих неоправданно оптимистичных эмоциональных фаз, Попов, хотя и понимал всю серьезность своего положения, но заверил американцев, что сможет опровергнуть все выдвигаемые против него обвинения. При этом он произнес незабываемый афоризм: «Если меня будут обвинять в ошибках, я просто скажу им, что в нашей профессии не ошибается только тот, кто ничего не делает».
Разумеется, это не слишком умное заявление, но бывали случаи, когда Попов проявлял поразительное упорство в своих заблуждениях. В середине ноября представители ЦРУ в Берлине сообщали в Вашингтон: «Существенным моментом реакции объекта на расследование дела Мили было абсолютное нежелание спасти свою шкуру [искать убежища в Соединенных Штатах]… Если мы хотим этого добиться, необходимо оказать на него серьезное давление». Подобное давление могло и должно было быть оказано, но этого не произошло. Последняя встреча с Поповым состоялась 17 ноября 1958 года. Она не очень отличалась от всех предыдущих, хотя ощущалось приближение беды. Несмотря на это, Попов потратил массу времени на пустые разговоры, в частности, покупать ли ему подарки своим друзьям, в России. После некоторого обсуждения, он решил этого не делать, а просто устроить по прибытии в Москву ужин. «У меня есть тысяча восточногерманских марок, отложенных женой. Она хотела купить диван». Теперь Попов собирался пригласить на эти деньги самых близких знакомых в один из наиболее дорогих ресторанов Москвы.
Развязка
Петр Семенович Попов так больше и не появился на Западе. Что же произошло после его возвращения в Москву в конце 1958 года? Агенты ЦРУ имели с ним в столице несколько встреч. Во время первой, состоявшейся в начале января 1959 года, Попов передал письмо, содержавшее ценные сведения, и сообщил, что был переведен из ГРУ в резерв и ожидает нового назначения. Как выяснилось из полученной позже информации, это было сделано по настоянию КГБ, чтобы перекрыть ему доступ к секретам ГРУ, выиграть время и проследить, как будут связываться с ним в Москве американцы и нет ли у него сообщников.
После нескольких встреч, в сентябре 1959 года в Москве состоялась последняя, на которой Попов нашел в себе смелость передать секретное послание, сообщающее о его временном аресте в феврале 1959 и о контроле КГБ за всеми последующими встречами. Продолжение контактов Попова с ЦРУ было санкционировано КГБ, чтобы обезопасить те акции ГРУ, которым он мог навредить. Наконец, в октябре 1959 года, достигнув своей цели, сотрудники КГБ с большим шумом, демонстративно арестовали Попова и агента ЦРУ во время их встречи в московском автобусе. Сотрудника ЦРУ продержали недолго и вскоре объявили персоной нон грата{5}. Позднее в Советском Союзе было объявлено, что Попов осужден, приговорен к смертной казни и расстрелян.
Что же могло вызвать подозрение в деятельности Попова? Некоторые из его поступков вполне могли вызвать сомнение у советских руководителей в его лояльности. Кое-кто из авторов статей о нем предлагал другие объяснения, а некоторые даже ожесточенно спорили по поводу причин его гибели{6}. Не имея доступа к необходимой информации, я оставляю этот анализ экспертам. В любом случае, по моему мнению, гибель Попова не была неизбежной и случилась не только вследствие его собственного упрямства и неоправданной уверенности в благополучном исходе дела, но также из-за неспособности сотрудников ЦРУ настоять на своем.
Выводы
Сущностью феномена Попова было то, что на языке разведки называют «доступ». Этот термин является ключевым, ибо, каким бы великолепным не был шпион, но, не имея доступа к секретам, он не представляет никакого интереса. При первом предложении о сотрудничестве Попов продемонстрировал природное чутье, воспользовавшись жадным интересом ЦРУ к секретной информации. После этого, дополнительно к сведениям, которые у него просили, он по своей собственной инициативе доставлял данные, представляющие как оказалось, значительный интерес для ЦРУ — и все потому, что обладал доступом к секретам и умел воспользоваться ими в своих интересах и в интересах спецслужб.
Чтобы по достоинству оценить вклад Попова, вспомним временные рамки его активной деятельности: с 1953-го до конца 1958 года. Секретная аэрофотосъемка с У-2 была еще в новинку, спутниковое наблюдение — в стадии разработки. А холодная война в самом разгаре. После смерти Сталина в 1953 году Хрущев ввязывается в бескомпромиссную борьбу с бывшими соратниками по власти, одновременно проводя агрессивную политику, в результате приведшую к кубинскому ракетному кризису. В Соединенных Штатах Джон Фостер Даллес, энергичный и рационально мыслящий государственный секретарь, вдохновляет своего младшего брата, директора ЦРУ Аллена Даллеса, на использование любых средств и приемов (как честных, так и нечестных), чтобы «раздвинуть железный занавес». Организация Североатлантического договора (НАТО) существовала уже с 1949 года, но Германия, расположенная в самом центре блока, вступила в него лишь в 1955-м. Всякий воевавший в Европе на полях сражений Второй мировой войны был свидетелем беспощадной мощи Красной армии и, подобно многим из нас, поступившим на службу в ЦРУ, опасался, что блок НАТО окажется недостаточно эффективным.
В подобных обстоятельствах советский офицер высокого ранга вроде Попова, служащий в военной разведке и имеющий доступ к самой секретной документации, стоил того, чтобы заняться им всерьез. К сожалению тех из нас, кто знал его и ему симпатизировал, сам Попов, несмотря на все одобрения и поощрения со стороны своих кураторов из ЦРУ, не смог в полной мере оценить вклад, который он внес в достижения американской разведки.
Глава 2. ОЛЕГ ПЕНЬКОВСКИЙ. В ПОИСКАХ СЛАВЫ
Отступничество
История шпионажа полна удивительных примеров, но в ней невозможно отыскать фигуру, настолько непохожую на Петра Попова, чем та, к которой мы теперь обратимся. Возьмем, к примеру, письмо, написанное почти через два года после расстрела Попова, доставленное в Лондон в апреле 1961 года англичанином по имени Гревил Винн. Это аккуратно напечатанное на русском языке письмо уместилось всего на одном листке бумаги. Немедленно переданное представителям британской и американской разведки, оно сообщало следующее:
«Ее Величеству королеве Великобритании Елизавете II
г-ну Макмиллану
г-ну Эйзенхауэру
г-ну Кеннеди
г-ну Хертеру
г-ну Никсону
г-ну Гейту
г-ну Джонсону
г-ну Брукеру
г-ну Раску
г-ну Аллену Даллесу
г-ну Макнамаре
Глубокоуважаемая Королева, глубокоуважаемый Президент, глубокоуважаемые господа, В своем первом письме от 19 июля 1960 года я уже сообщал Вам, что по-новому оценил свое место в жизни и, придя к определенному выводу, решил посвятить себя благородному Делу борьбы за гуманный, справедливый и свободный мир для человечества. За это Дело я буду бороться до конца.
Прошу Вас считать меня своим солдатом. С этого времени ряды Ваших вооруженных сил пополнились еще одним человеком.
Можете не сомневаться по поводу моей преданности, стойкости, бескорыстия и решительности в борьбе за Ваше Дело (которое отныне является и моим). Вы останетесь довольны мною и всегда будете вспоминать меня добрым словом. Что же касается Вашей признательности — я ее заслужу. Для этого много времени не потребуется».
Это феноменальное письмо было написано Олегом Владимировичем Пеньковским, полковником Советской армии, проходившем службу в Москве, который уже в течение некоторого времени пытался завербоваться на службу в качестве «воина-борца за Правду, за идеалы истинно свободного мира и демократии для всего Человечества». Говоря другими словами, он предлагал себя в качестве шпиона, поскольку шпионаж являлся единственным доступным ему оружием. К несчастью для Пеньковского, предлагать себя Западу в этом качестве в Москве в 1960-х годах было задачей нелегкой: даже иностранные граждане, неважно, посещавшие Россию с кратким визитом или проживающие в ней постоянно, опасались возможной провокации: репрессивного режима боялись все.
Несмотря на это, человек, написавший приведенное выше письмо, был вполне искренен, хотя и крайне раздражен тем, что ни один представитель Запада не принимал его всерьез. Олег Пеньковский кардинально, по крайней мере внешне, отличался от Петра Попова. Хорошо образованный, ясно выражающий свои мысли, в некотором роде космополит, он был из хорошего рода, его предки до революции входили в высшее общество, о чем он никогда не забывал (впрочем, это помнили и сами власти). В отличие от большинства русских, Пеньковский довольно свободно говорил по-английски, и если бы не его происхождение, являвшееся в советской системе несмываемой черной меткой, без сомнения, стал бы генералом. Однако прежде чем его происхождение привлекло внимание КГБ, он уже успел к своим тридцати годам дорасти до звания полковника и достичь служебного положения, о котором могли мечтать лишь немногие советские граждане.
Кроме всего сказанного, Пеньковский был натурой динамичной и агрессивной. Американский бизнесмен, имевший с ним дело в 1961 году в Париже, характеризовал его следующим образом — «налетает как ураган». И действительно, в своем стремлении привлечь внимание американского и английского правительств он действовал подобно урагану. Решение тайно сотрудничать с Западом против своей страны не было для Пеньковского трудным — к этому его толкали обстоятельства. С другой стороны, установить контакт с достойными внимания американцами или англичанами, через которых можно было бы наладить взаимодействие, было крайне трудно, поскольку он, как почти каждый человек, живущий в Советском Союзе в 1950–60-х годах, не исключая и иностранных подданных, находился в постоянном страхе перед КГБ.
В Москве проживали дипломаты почти всех ведущих стран мира, а также некоторое количество приезжих с Запада, прибывающих обычно по делам бизнеса или с целью учебы. Иметь с ними знакомство было чревато для русских большими неприятностями, не говоря уже о более близких отношениях. «Прошлым августом, — вспоминал впоследствии Пеньковский, — я вместе с женой и дочерьми отдыхал в Одессе. Возвращаясь обратно поездом из Киева, я оказался в одном вагоне с американскими студентами и их преподавателями русского языка (тоже американцами). Однако общение с ними оказалось невозможным из-за постоянного присутствия армянина, известного как осведомителя КГБ»; В других случаях он рассказывал так: «Я, словно волк, рыскал вокруг американского посольства в поисках надежного иностранца, патриота… Однажды я даже побывал возле “Американского дома” (здание, предназначенное для проживания и отдыха американских морских пехотинцев — охраны посольства США), где мог наблюдать, как они там внутри играют в карты и пьют виски, но у входа дежурила милиция. Я поджидал, пока оттуда не выйдет какой-нибудь американец, чтобы подойти к нему и сказать: “Господин, вы патриот своей страны. Возьмите, пожалуйста, это письмо и доставьте его в ваше посольство. Там все объяснено”. Но я так и не дождался. Никто не вышел».
Письмо, предназначенное Пеньковским для передачи в американское посольство, по содержанию было похоже на процитированное в начале главы, и при воспоминании о нем на ум ему пришло сравнение с атомной бомбой.
«Я даже устроился с этой “бомбой” напротив посольства, через улицу (там есть арка и две скамейки за ней) и долго сидел, курил. Сейчас скажу вам, почему, — рассказывал Пеньковский. — Рядом с вашим посольством стоит новое здание, в котором расположена конспиративная квартира, откуда автоматически осуществляется киносъемка всех, кто проходит через ворота, въезжает или выезжает, а также кто долго находится недалеко от посольства… Ваши люди почти всегда из ворот выезжали, их мощные машины двигались быстро и исчезали — их невозможно было догнать, даже на такси.
Я сидел на скамье… Там можно было находиться, потому что это место отдыха — рядом протекала Москва-река. Я прогуливался по набережной, заходил в магазины, разглядывал товары».
Стараясь выглядеть как праздношатающийся прохожий, Пеньковский поджидал выходящих из посольства людей, оценивая их, поскольку важный американец мог оказаться наиболее для него полезен. «Когда выходили американцы, которым милиционер отдавал честь, я знал — это были постоянные дипломатические работники. Тех, у кого не было дипломатических паспортов, или случайных посетителей он не приветствовал».
Время от времени Пеньковский выбирал перспективного, по его мнению, человека, которому отдавали честь. «Я выходил из магазина или вставал со скамьи. Этот человек шел по другой стороне улицы. Боясь быть сфотографированным из конспиративной квартиры, я не переходил на другую сторону, а двигался параллельно ему». Но неожиданно американец останавливал такси и уезжал. Все старания Пеньковского оказывались напрасными. «За одним американцем я шел до самого Большого театра. Мне хотелось подойти к нему и сказать: “У меня к вам просьба”. Но он мог позвать милиционера. Я испугался и прошел мимо».
Наконец после многих попыток, около одиннадцати часов вечера 12 августа 1960 года, на темной набережной Москвы-реки, Пеньковский установил долгожданный контакт с заметным по своей рыжей бороде американцем, вышедшим на прогулку с приятелем-туристом. По счастливому совпадению Пеньковский видел эту пару в поезде по пути из Киева. Сухой отчет посольства описывает это событие следующим образом:
«Прошлой ночью, вскоре после полуночи, г-н Элдон Рэй Кокс, 26 лет, турист из Америки, попросил встретиться с каким-либо ответственным сотрудником посольства. Вкратце сообщение Кокса заключалось в следующем:
В одиннадцать часов вечера, когда Кокс с группой товарищей-туристов шел с Красной площади по направлению к реке, к ним подошел советский гражданин и завязал разговор. Подошедшему, по словам Кокса, было лет сорок, сложение среднее, рост около 175 сантиметров. Кокс, говорящий по-русски, заметил у него украинский акцент.
Когда группа направилась к мосту, гражданин двинулся вместе с ними и обратился к Коксу и его товарищу со словами: “Я прошу мне помочь”.
…Этот советский гражданин сообщил, что имеет офицерское звание, ранее был коммунистом, но теперь им не является. Он довольно хорошо говорит по-английски… Далее он сообщил, что с середины июля носит с собой два письма, но так и не смог никому их передать. Во время прогулки вдоль берега реки Москвы гражданин передал Коксу эти два письма и попросил немедленно отнести их в посольство».
Беседовавший с Коксом посольский работник, не зная что делать, закончил встречу категорическим требованием в будущем воздерживаться от любых контактов подобного рода.
Прочитав письма Пеньковского, дипломатические работники более высокого ранга решили оставить их без ответа, подозревая возможную провокацию со стороны какой-либо советской правительственной организации. («Провокациями» назывались акции, проводимые обычно КГБ против американских дипломатов или граждан других некоммунистических стран для их компрометации. По мнению советских властей, провокации были полезны в том отношении, что заставляли дипломатов проявлять крайнюю осторожность, иногда препятствующую их секретной деятельности — как это и оказалось в данном случае.) Как обычно, единственной реакцией посольства была пересылка этих писем в Вашингтон, где Государственный департамент передал их в ЦРУ.
В одном из них Пеньковский писал:
«Я имею в своем распоряжении весьма важные материалы, имеющие большую ценность для вашего правительства… Прошу сообщить соответствующим ведомствам США, что я хочу немедленно передать эти материалы для изучения, анализа и дальнейшего использования… Желательно, чтобы передача происходила не при личном контакте, а через почтовый ящик…
Пожалуйста, перешлите мне ваш ответ (предпочтительно на русском языке) через мой тайник № 1 (см. описание и правила пользования тайником, а также касающиеся порядка, формы, времени и места передачи указанного материала).
Когда вы получите от меня эти материалы, было бы желательно организовать личную встречу с вашим представителем…
Прошу, чтобы во время работы со мной вы соблюдали все правила безопасности и секретности и не допустили ошибок. Защитите меня».
В Вашингтоне, как и в Москве, инициатива Пеньковского не произвела почти никакого впечатления. Американский посол в Москве тут же высказал свое мнение — он был против ответа на эти письма и оказался в этом не одинок. Недавний провал с У-2 вызвал соответствующие настроения, среди которых преобладала осторожность. Что если предложение Пеньковского было частью плана, направленного на дальнейшую дискредитацию Соединенных Штатов?
Немногим ранее, в том же 1960 году, США попались с поличным, после того как американский высотный самолет У-2, проводивший аэрофотосъемку в разведывательных целях, был сбит русскими. Соединенные Штаты заявили было, что занимались сбором метеорологической информации, однако отговорка не помогла: пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был пойман и под давлением КГБ признался в шпионаже. Премьер Хрущев отменил намеченный визит президента Дуайта Эйзенхауэра в Советский Союз. Следует признать, что поскольку дипломаты и сотрудники разведки получают деньги за разработку самых неприятных сценариев возможного развития ситуации, подобный ход событий давал им повод вести себя как можно осторожнее.
Прошло нескольких недель, но ответа не было, однако Пеньковский никогда не пребывал в бездействии. К счастью, у него было множество деловых связей. В конце 1960 года он был направлен на работу в Государственный научно-технический комитет (ГНТК), занимающийся сбором научно-технической информации в развитых странах. Организация была укомплектована прекрасными специалистами, среди которых работало немало офицеров разведки. В официальные служебные обязанности Пеньковского входило общение с посещающими СССР иностранными бизнесменами.
В середине декабря того же года известный английский ученый-металлург доктор А. Д. Мерримен выступал (в Москве. — Ред.) с докладом на тему «Термодинамика процесса производства стали» перед группой советских «экспертов» и был несколько озадачен, заметив, что смысл того, о чем он говорит, понятен лишь немногим из собравшихся. После доклада он оказался в компании «довольно дружелюбно настроенного русского» по фамилии Пеньковский и вернулся в отель вместе с ним и еще одним британцем. За выпивкой в баре отеля Пеньковский спросил Мерримена, не найдется ли у него в запасе нескольких пачек сигарет. В этой просьбе не было ничего необычного — сигареты в России были дефицитом, особенно иностранные марки. Мерримен ответил положительно, и они поднялись в его номер за обещанными упаковками.
Зайдя в номер, Пеньковский как будто потерял всякий интерес к сигаретам. Вместо этого он закрыл дверь, включил радио на полную громкость и вынул из кармана пачку завернутых в целлофан листков бумаги, шепотом сообщив Мерримену, что это секретные документы, которые необходимо передать в американское посольство. Пеньковский подчеркнул, что не может передать их непосредственно Мерримену — только американскому должностному лицу. Он попросил англичанина позвонить в американское посольство и потребовать немедленно прислать в гостиницу соответствующего официального представителя.
Мерримен, прекрасно осознающий опасность быть скомпрометированным во время посещения такого полицейского государства как СССР, отказался не только содействовать передаче, но даже прикасаться к пакету. После недолгих уговоров Пеньковский сдался, засунул бумаги обратно в карман и, не выказывая ни гнева, ни обиды, вышел из номера. До конца пребывания в СССР ученого-металлурга он был постоянно на виду, но не сделал ни единой попытки поднять этот вопрос во второй раз.
Однако через несколько дней, когда Мерримен находился уже в аэропорту, собираясь вылететь в Лондон, произошло, как можно узнать из отчета ЦРУ, следующее событие. «За пять минут до отлета появился Пеньковский и, отозвав Мерримена в сторону, попросил передать соответствующим американским официальным лицам в Лондоне, что Пеньковский будет ожидать их звонка у своего домашнего телефона каждое воскресенье в 10 часов утра. Американскому представителю требуется только позвонить, после чего он получит дальнейшие инструкции». Внешне не проявляя из осторожности никакого интереса, Мерримен после возвращения в Лондон тем не менее предупредил об опасности британских и американских должностных лиц, так как этого упрямого русского трудно остановить. После каждого отказа, он будет искать новых путей.
Другой английский бизнесмен, присутствовавший при встрече Мерримена с Пеньковским, припомнил, что особенно поначалу у того чувствовалось сильное нервное напряжение, в какой-то момент он чуть не заплакал. Коллега Мерримена считал, что если предложение Пеньковского не было искренним, то он очень хороший актер. Пеньковский предлагал секреты советских ракетных двигателей в обмен на помощь американцев в бегстве его вместе с семьей на Запад. Его жена, сопровождавшая мужа на ужин, устроенный в честь английской делегации, в которую входили Мерримен с коллегой, была образованной женщиной, прекрасно говорившей по-французски. Создавалось впечатление, что она полностью понимает своего мужа и, следовательно, в курсе его намерений. Несмотря на предупреждение, полученное в английском посольстве по поводу возможных советских провокаций, обоим англичанам поступок Пеньковского показался актом отчаявшегося человека, действия которого внушают сочувствие.
Поскольку Пеньковскому приходилось встречаться в Москве в основном с англичанами, ЦРУ запросило у британских властей всю информацию о нем, которая была в наличии. Англичане приложили к досье также краткий отчет их военного атташе в Анкаре, где Пеньковский работал какое-то время. Отчет описывал его следующим образом: «Приятный в общении, хорошо воспитан, рост 175 см, стройного телосложения, волосы серо-стальные, имеет европейские черты лица». Более конкретным казалось одно важное замечание: «Встречаясь время от времени с Пенъковским, я заметил, что веселый и жизнерадостный в компании, вне ее он мрачнеет, выражение его лица становится несколько беспомощным, почти испуганным».
К тому времени высокопоставленные чиновники ЦРУ в Вашингтоне решили ответить на попытку Пеньковского установить связь. Руководитель советского отдела Джон Мори, выходец из старинной аристократической семьи в Вирджинии, презирал трусость, в какой бы форме она не проявлялась. Будучи к тому же умным, практичным и образованным человеком, он в чине полковника морской пехоты служил в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Принимая близко к сердцу положение Пеньковского и поверив в искренность его предложений, Мори решил проигнорировать осторожную позицию американского посла в Москве, никак не желавшего вовлекать в эту историю свое посольство. Что касается точки зрения посольского офицера, представляющего контрразведку, утверждающего, что действия Пеньковского — обыкновенная провокация, то Мори просто отмахнулся от нее и решил, что ЦРУ должно присоединиться к мнению более смелых англичан.
Подготовка к секретной встрече Пеньковского с представителями ЦРУ шла своим чередом, но он успел на свой страх и риск совершить еще одну попытку. В середине января 1961 года Москву посетила делегация канадских бизнесменов, возглавляемая доктором Дж. М. Харрисоном. По возвращении в Оттаву он так вспоминал о встречах с Пеньковским: «Это был мужчина примерно 42 лет, он немного знаком с тем, как живет другая половина мира… по-английски говорит неважно, тем не менее вполне грамотно, он имеет довольно хорошие манеры, явно городское воспитание… Одевается хорошо, на западный манер, насколько это возможно для Советского Союза». Поскольку именно Пеньковский отвечал за организацию визита канадской делегации, он и Харрисон нередко имели возможность встречаться наедине. Однажды, улучив момент, он попросил Харрисона организовать ему встречу в Москве с Уильямом Ван Влетом из Канадской торговой палаты. «Я заметил, что это можно организовать через канадское посольство, — писал позднее Харрисон, — но он явно хотел встретиться в моем номере конфиденциально. Это немного озадачило меня, но я ответил, что попытаюсь».
Когда эта встреча наконец состоялась, она ничем не отличалась от произошедшей ранее, с поспешным отключением телефона, предупреждением насчет возможного прослушивания, включением радио на полную громкость и разговором шепотом. Целью контакта было вручить Ван Влету конверт для передачи его в американское посольство. Канадец, вероятно, настолько удивился, что не успел отказаться и положил конверт в карман. «Я виделся с Ван Влетом вечером за день до моего вылета из Москвы, — писал Харрисон, — и он сказал мне, что этот заклеенный липкой лентой толстый конверт не был подписан. В случае приезда Пеньковского в Канаду, его могли бы там принять. У него в Москве есть жена и ребенок, но он увлечен другой женщиной. Это может оказаться подходящим поводом для того, чтобы бросить жену». «Если Пеньковский действительно приедет в Канаду, — заключает Харрисон, — я надеюсь узнать об этом заранее, чтобы постараться быть от него подальше».
Эта последняя инициатива Пеньковского вызвала в штаб-квартире ЦРУ в Вашингтоне панику, но вскоре поступили более благоприятные новости. Москву посетила делегация коммерсантов из Англии, возглавляемая англичанином Гревилом Винном. За все обеспечение их приема отвечал Пеньковский. На приеме в честь Винна, устроенном 10 марта 1961 года, Пеньковский сообщил английскому торговому советнику, что Советский Союз собирается направить в Англию собственную делегацию, возглавлять которую будет он. Пеньковский явно гордился этим назначением, поскольку постоянно подчеркивал, что, хотя он говорит по-английски, его нельзя будет считать за простого переводчика.
Случилось так, что Гревил Винн недавно начал работать в английской разведке, поэтому, когда он о предполагаемом лондонском визите Пеньковского сообщил в Англию, новость быстро достигла ЦРУ в Вашингтоне, и обе службы решили установить встречу с этим загадочным русским именно в Лондоне. Тем временем в Москве события развивались совсем по другому сценарию, так как нетерпеливый Пеньковский не мог дожидаться поездки в Лондон, назначенной на конец апреля. Все еще находящийся в Москве Винн был поставлен им перед необходимостью немедленной передачи секретных скопированных документов британским властям.
6 апреля Пеньковский появился в номере Винна и после предосторожностей, превратившихся уже в ритуальные, показал Гревилу потайной карман брюк, который разрезал лезвием бритвы. Вытащив пачку листов бумаги, он попросил Винна взять документы с собой в Англию. Сославшись на большой объем материалов, англичанин попытался отказаться, но в конце концов согласился взять два из них, выбранных им наугад. Бедняга Винн не представлял, что его ждет впереди. Не рискуя держать документы при себе, он решил оставить их на хранение в английском посольстве. К несчастью, был выходной день, никого из дипломатических работников не было на месте, поэтому Винн попросил у охранника пакет, вложил туда документы, запечатал конверт и сделал надпись «Отдать только по требованию мистера Винна». Охранник обещал сохранить конверт в ящике своего стола.
На следующее утро, вернувшись в посольство, Винн забрал конверт и попросил аудиенции с британским послом, с которым уже встречался по делам делегации. Однако секретарь сообщил, что посол занят и принять его не может. Винн настаивал, что желает обсудить не обычные деловые вопросы, а проблему государственной важности, но его протест не был принят, и он покинул посольство, прекрасно сознавая, что имеет при себе документы, которые, при обнаружении их властями, обеспечат ему суровое уголовное наказание. Кроме того, после отказа о встрече в британском посольстве у Винна больше не было места для безопасного их хранения.
Как это часто случается, Пеньковский, успокоившись на какое-то время в своих намерениях, позднее все-таки постарался осуществить их до конца. 12 апреля, доставив Винна в аэропорт и дождавшись момента, когда до отлета осталось всего 20 минут, он завел англичанина в туалет. Удостоверившись в том, что все кабинки пусты, Пеньковский заявил: «Господин Винн, вы должны решить, стоит ли доверять мне. Возьмите с собой оставшиеся документы». Потом, видя явное нежелание собеседника, добавил: «Если не согласны, то заберите хотя бы это письмо».
Несмотря на нехорошее предчувствие, но зная, что самолет уже готов к взлету, Винн наконец принял предлагаемый ему листок бумаги. Обнимая его по русскому обычаю на дорогу, Пеньковский со слезами в голосе сказал: «Вы не представляете себе, как много сейчас сделали для своей страны и для меня лично!» Этот «листок бумаги», переданный Винном по прибытии в Лондон руководителям разведки, представлял собой то самое письмо, адресованное королеве Елизавете и президенту Кеннеди. Письмо содержало несколько личных просьб, что было вполне естественно, принимая во внимание тот риск, которому Пеньковский подвергался до сих пор и неизбежно будет подвергаться в будущем. Каким бы экстравагантным ни казался язык письма, в нем ясно отражались его чувства, и в конечном счете Пеньковский доказал, что он человек слова. В добавление к приведенному в начале главы отрывку привожу текст второй части письма Пеньковского. Он писал:
«У меня есть несколько личных просьб.
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении мне с этого момента гражданства США или Великобритании. Прошу также о получении подобающего, на Ваше усмотрение, звания в армии США. Обладая достаточными знаниями и опытом, работая в США, о чем я постоянно мечтаю, надеюсь принести Вам реальную пользу не только сейчас, но и в будущем.
Во-вторых, прошу Вас распорядиться насчет принятия соответствующих мер предосторожности, которые Ваши сотрудники должны будут неукоснительно соблюдать в течение всего времени моего крайне опасного тайного сотрудничества с ними.
В-третьих, в настоящее время я располагаю рядом материалов, собранных мною за последние годы. Прошу Вас дать указание оценить их качество и принять решение о выплате за эту работу назначенной суммы. У меня нет никаких сбережений, и эти деньги будут необходимы мне в будущем. Прошу также положить выделенную мне сумму в какой-нибудь американский банк.
Таковы мои личные просьбы.
В очередной раз заверяю Вас в безграничной любви и уважении к Вам лично, к народу Америки и к тем, кто выступает под Вашими знаменами. Я верю в торжество Вашего Дела. Я готов выполнить любые Ваши приказы. Я жду их».
Новые свершения
«Операция проходит по плану. Первая встреча с Пеньковским должна состояться сегодня поздно вечером». Телеграмма сотрудников ЦРУ из Лондона в Вашингтон одновременно удивила и обрадовала всех, кто занимался этим необычным делом. В ней сообщалось, что Олег Пеньковский должен прибыть в Лондон 20 апреля 1961 года в качестве главы советской делегации. Наконец-то оперативные работники смогут оценить этого экстраординарного человека, так настойчиво пытающегося помочь Америке и Англии, несмотря на продолжающиеся категорические отказы.
Первая встреча состоялась в номере лондонского отеля, одного из тех огромных, полных людьми зданий, где почти каждый при желании может остаться незамеченным. Одним из оперативных работников, занятых этим делом (все они были специалистами по СССР), был Джордж Кисевалтер, тот самый русскоговорящий сотрудник, который занимался некогда Поповым в Вене и Берлине. Было принято решение во время первой встречи дать Пеньковскому свободу говорить обо всем, что придет ему в голову. Последовавшие затем другие встречи, состоявшиеся в Лондоне и в некоторых других городах Англии (поскольку делегация совершила поездку по провинции), вскоре превратились в обстоятельные и плодотворные беседы. Пеньковский оказался необыкновенно словоохотливым человеком, но подверженным внезапным и немотивированным переменам настроения. Однако, как ни досаждали эти перемены сотрудникам разведки, находящимся под постоянным давлением требований соблюдения высочайшей степени безопасности, именно они способствовали лучшему пониманию этого неординарного человека и мотивов его желания работать против своей страны.
С самого рождения Олег Пеньковский пользовался всеми благами, которые только могла предоставить ему советская система. Столь привилегированное положение, однако, отнюдь не являлось следствием его «пролетарского» происхождения. Совсем наоборот. Он гордился своей принадлежностью к «высшему классу», прекрасным образованием и достатком выше среднего уровня. Несмотря на предпринятые после революции попытки отобрать у русских все накопленные в годы царизма ценности, его матери удалось, благодаря то ли случаю, то ли своей предусмотрительности, сохранить часть небольшого семейного состояния. Во время встреч со своими американскими и британскими собеседниками Пеньковский нисколько не скрывал эти свои преимущества.
Отец Пеньковского погиб в 1919-м — в том же году, в котором родился Олег. В то время старший Пеньковский сражался под знаменами так называемой Белой армии, в одном из вооруженных соединений (обычно субсидируемых англичанами или американцами), безуспешно попытавшихся силой вырвать власть у большевиков. К счастью для юного Пеньковского, письменные свидетельства обстоятельств гибели его отца, который воевал против коммунистов, многие годы «не всплывали». Когда они наконец появились (в результате долгой и систематической работы КГБ), Пеньковский уже являлся полковником Советской армии, обладающим очень хорошими связями. Поэтому, а также благодаря прекрасному послужному списку, браку с дочерью генерала и личной дружбе с другими высокопоставленными военными, недавно поступившие сведения о его неблагонадежном происхождении не повлияли на карьеру Пеньковского. Поначалу этот вопрос даже не поднимался.
Хотя он и был вынужден вести себя скрытно, Пеньковский гордился своей родословной. Семь абзацев в отчете о первой встрече с ним в Лондоне посвящены его пространным рассказам о происхождении. «Я родился на Кавказе. Мой отец был лейтенантом царской армии, а дед известным юристом. Совсем недавно начальство раскрыло мое дворянское происхождение. Моя мать вырастила меня одна. Я был единственным сыном, отец бесследно исчез».
Во время этой первой встречи из-за постоянного нервного напряжения Пеньковский говорил торопливо, временами не завершая предложения, и часто возвращался к рассказу о своей семье. «Мой отец был хорошего происхождения, по профессии горный инженер. Можно сказать, что я его не видел и никогда не смог назвать его Отцом… Мне было всего четыре месяца, когда он в последний раз держал меня на руках, больше мы не виделись».
У Пеньковского был высокопоставленный родственник, Валентин Антонович Пеньковский — кадровый офицер Красной армии, подвергнутый аресту во время сталинской чистки армии в 1937 году. По счастью, этот дядя не был расстрелян, как это случилось со многими его коллегами, и наряду с другими выжившими счастливцами после нападения немцев на Советский Союз, был возвращен на службу, когда армия быстро наращивала численный состав перед лицом новой угрозы. Тогда многие опытные представители высшего командования неожиданно обнаружили, что из отверженных и бесправных они превратились в нужных для страны людей. «Сейчас он командует Дальневосточным военным округом, — восторженно сообщил Пеньковский. — Генерал-полковник Пеньковский! Он мой двоюродный дядя, но, зная о нашем благородном происхождении, не хочет со мной иметь дела. Мы иногда встречаемся, но он избегает меня, спросит: “Как дела?” И не более того».
Однако, каковы бы ни были его отношения с дядей, сам Пеньковский не скрывал того, что считает себя принадлежащим к высшим слоям общества. Во время одной из встреч, изучая вместе с оперативными работниками план Москвы, чтобы отыскать на нем местоположение одной из важных правительственных организаций, внимание Пеньковского привлек дом, в котором находилась его собственная квартира. «Вот где живет господин Пеньковский! — воскликнул он. — Господин, а вовсе не товарищ». Пеньковский настаивал, чтобы его зарубежные друзья обращались к нему т; к, как это принято в Советском Союзе при обращении к иностранцам-капиталистам.
В этом якобы бесклассовом обществе Пеньковский считал бесполезным насаждение мифа о равенстве. Что и говорить, он сам являлся живым примером того, что, хотя революция и правление Сталина кардинально изменили социальный состав общества, стремление к власти и материальным приобретениям в среде коммунистической верхушки не уменьшилось с дореволюционных времен. Эта жажда наживы вскоре явно проявилось и в Пеньковском. «Знаете, — сказал он однажды, — я люблю немного пройтись по Лондону… В магазинах много чудесных товаров, жена дала мне целый список вещей, которые нужно купить. Я видел замечательные фарфоровые вазы; они стоят около десяти фунтов. Когда я был командиром полка, мы освободили город, славящийся производством фарфора (центр фарфорового производства в Чехословакии), и я привез домой много ваз и прочих изделий. Чехи даже подарили мне и Коневу [маршалу Советского Союза Ивану Коневу] по вазе из хрусталя. Кстати, у меня дома много дорогих вещей, включая турецкие ковры; для коммуниста я живу шикарно».
Покупки, сделанные Пеньковским за время его визитов в Западную Европу, постоянно являлись причиной головной боли для оперативников. В одном из отчетов Гревила Винна говорится: «Пеньковский привез с собой из Парижа два красных кружевных женских зонта для жены и дочери (наверняка, уникальные для Москвы). Он был единственным из чиновников ГНТК, носившим нейлоновые рубашки, — большая редкость в то время. Хуже того, он приобрел себе копию такого же как у Винна галстука частной школы, который Пеньковский носил с гордостью, вероятно, не понимая, что моральное право на это имеют только выпускники данной школы». Чтобы заставить Пеньковского снять этот привлекательный символ, Винну пришлось сделать вид, что он очень на него рассердился.
Стремление Пеньковского к наживе можно сравнить лишь с его любовью к прекрасному полу, с представительницами которого он всегда обращался несколько свысока. Он признавался беседовавшим с ним оперативникам: «Мне нравится жить свободно и время от времени встречаться с женщинами. Я знаю к ним подход и никогда не пью слишком много». Пеньковский не скрывал, что имеет привычку к роскоши, и это подтверждается свидетельствами Винна. «В одном из таких случаев, — говорится в отчете в 1965 году, — Винн привез с собой [в Советский Союз] Пеньковскому двое золотых часов с браслетами, одни из них тот сразу же подарил продавщице из овощного магазина на улице Горького». Как правило, за границей он покупал вещи, которые нельзя было купить в России, вроде «мебельного гарнитура для своей квартиры».
Экстравагантные покупки Пеньковского совершались не только ради повышения благосостояния его самого и его семьи. Вскоре стало очевидно, что они играют существенную роль в установлении хороших отношений с представителями советского правящего класса. «Клянусь своей дочерью и будущим сотрудничеством с вами, — объяснял он, — что я просто должен поступать определенным образом, обязан привезти каждому из своих знакомых, знающих о моей поездке за границу, маленький сувенир. Этот подарок не обязательно должен быть дорогим, но пренебречь кем-либо считается дурным тоном». Надо отдать ему должное, в рассматриваемый период времени привилегированные русские, имеющие возможность бывать за границей, действительно считали своей моральной обязанностью привозить подарки своим менее счастливым друзьям и их женам (вспомните, что Пеньковский тоже чувствовал себя обязанным делать это). И если он казался в этом более экстравагантным, чем обычный человек, то можно сказать, что он был также необычен и в политических убеждениях, и в вежливой манере обращения, и в стремлении к удовольствиям.
В примечании к отчету об одной из лондонских встреч отмечено следующее: «Список включал длинный перечень самых разнообразных мелочей, вроде авторучек, галстуков, лака для ногтей, губной помады и некоторых медицинских препаратов — для обычных приятелей и более дорогих подарков, предназначенных для более влиятельных знакомых: маршалов, генералов и полковников. В его искусно сделанной записной книжке указаны размеры обуви жены и дочери, вложены журнальные вырезки, рекламирующие модную женскую одежду, а также заказ от некоего главного военного администратора Оболенцева [высокопоставленный генерал Военно-воздушных сил]».
Весьма вероятно, что в основе его экстравагантности и приспособленчества в какой-то мере было подсознательное неприятие необходимости скрывать свое буржуазное происхождение. Не стоит огульно и ханжески критиковать манеры и моральные качества человека, живущего в постоянном страхе наказания только за то, что его отец принадлежал к высшему обществу. Нельзя также забывать, что основной причиной успеха деятельности Пеньковского в качестве нашего тайного агента были важные связи, налаженные им с помощью знакомств с представителями правящей советской элиты. Объясняя, почему он должен привезти подарок секретарю известного чиновника Гвишиани, Пеньковский говорил: «Он является моим начальником и женат на дочери Косыгина [советский премьер-министр при Брежневе]. Отец Гвишиани был генерал-лейтенантом КГБ». Ссылаясь на этих высокопоставленных людей, он говорил о них, как о своей страховке в жизни. Как бы то ни было, суммы, потраченные Пеньковским на собственные нужды, оказались мизерными по сравнению с ценностью полученной от него информации.
Становление отступника
Несмотря на иногда показную аффектацию и преднамеренную возбужденность в поведении, жизнерадостность была присуща самой натуре Пеньковского. Он любил быть окруженным людьми, хотя его коммуникабельность часто была вызвана необходимостью иметь широкий круг знакомств. Сами эти знакомства, в свою очередь, были по большей степени завязаны благодаря тому, что с самого начала военной карьеры Пеньковский показал себя успешным офицером. Первое свое звание он получил в 1939 году после окончания двухгодичных офицерских курсов и поначалу ничем не отличался от многих других членов Коммунистического союза молодежи — комсомола. «Я считал себя прогрессивным молодым человеком, гражданином своей страны, борющейся за идеалы Ленина. Главной моей мечтой было членство в Коммунистической партии, и к 1941 году я был уже кандидатом».
Начало активной службы Пеньковского совпало с временем интенсивных чисток, предоставивших некоторым офицерам больше возможностей для продвижения, чем в другие годы. Массовые чистки проводились под руководством Николая Ежова, главы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Пеньковский, таким образом, являлся представителем поколения офицеров, занявших место репрессированных, павших не в бою с врагом, а ставших жертвой коммунистической паранойи.
К тому времени Гитлер уже разгромил польскую армию, хотя пока еще не оккупировал всю Польшу. Сталин опасался (подобно всем русским правителям) наличия вражеских армий у своих границ и решил их расширить, заняв области, пока еще не находящиеся под властью Германии. В советских официальных источниках эта акция называлась «освобождением Украины», поскольку население оккупированных Советским Союзом районов Польши говорило по большей части на украинском языке. Именно в то беспокойное время Пеньковский стал одним из многочисленных «политических комиссаров», задачами которых была идеологическая обработка населения в коммунистическом духе и наведение дисциплины среди быстро увеличивающихся в числе армейских соединений, расположенных на новых оккупированных территориях. В этом не было ничего удивительного; установлено, что в период сталинско-ежовских чисток было арестовано и в большинстве случаев уничтожено по крайней мере двадцать тысяч коммунистических политработников{7}. Начало военной карьеры Пеньковского, следовательно, предоставляло ему особенно широкие возможности для действий в двух ипостасях: в качестве политического пастыря менее образованных и плохо выражающих свои мысли людей и в качестве боевого офицера. Потенциальные преимущества подобной двойственности функций в советской системе можно проиллюстрировать тем фактом, что деятель гораздо более высокого ранга Хрущев достиг своего положения будучи полновластным военно-политическим руководителем советских войск на Украине.
После Украины настал черед Финляндии. «В январе 1940 года нашу дивизию направили туда (на войну с Финляндией. — Ред.)… и через два дня она уже была почти полностью уничтожена. Осталось в живых только десять процентов состава. Были убиты все полковые командиры. Мне удалось выжить только потому, что я был артиллеристом и наши позиции располагались несколько позади линии фронта. Несмотря на все трудности, я все еще был полон энтузиазма, после окончания войны меня приняли в партию». Эти слова, переведенные и занесенные на бумагу, звучат сухо и по-деловому, но машинописный текст вводит в заблуждение: люди, ведущие с ним беседы, часто отмечали его возбужденность и нервозность. В этом не было ничего удивительного, ведь большая часть его сознательной жизни представляла собой настоящий клубок конфликтов и противоречий, когда моменты успеха быстро сменялись неудачами, Разочарованиями, а следовательно, по его мнению, унижением.
Одной из таких шуток, которую сыграла с ним жизнь, было то, что он познакомился со своей будущей женой из-за ее отца генерал-лейтенанта Гапановича, бывшего заметной фигурой в политических кругах, членом так называемого Военного совета, одним из руководителей Москвы. По своим служебным делам в качестве политрука Пеньковскому приходилось встречаться с генералом, которого позднее он описывал следующим образом: «Замечательный человек; он очень помог мне, я ему понравился. Он видел, что я полон энтузиазма [политического]. В то время это было абсолютной правдой, не могу отрицать. Я сделал это замечание, чтобы объяснить, почему позднее изменил свои взгляды… Я работал у Гапановича до ноября 1943 года. Тогда праздновалось освобождение Киева, и мне казалось, что войне скоро настанет конец, а у меня до сих пор нет ни одной награды. За финскую кампанию я не получил ничего, кроме благодарности и портсигара». Не менее тысячи человек уже получили желанное звание Героя Советского Союза, но Пеньковского среди них не было. «Поэтому я попросился на фронт и оказался снова на Украине». Эта обширная территория все еще оставалась оккупированной немцами. Карьера Пеньковского как политработника на этом завершилась, он был назначен заместителем командира артиллерийского полка.
На Украинском фронте Пеньковскому удалось отличиться. Как артиллерийский офицер он прославился своей бескомпромиссностью, даже лично застрелил из пистолета двух офицеров, которых заподозрил в подстрекательстве к дезертирству из страха перед огнем врага. Первый инцидент случился в декабре 1943 года, когда один из капитанов, по словам Пеньковского, «оказался трусом и не только побежал сам, но начал подговаривать других офицеров присоединиться к нему вместе с подчиненными». Как бы то ни было, его решительные действия предотвратили беспорядочное бегство и заслужили одобрение начальства. Другой случай произошел в марте 1944 года. Тогда он застрелил лейтенанта пехоты, который, действуя в качестве корректировщика-наблюдателя артиллерийского полка Пеньковского, начал отходить вместе со своим соединением еще до того, как наступающие вражеские танки оказались в зоне огня артиллерии. И опять его жестокая решительность «предотвратила панику».
Три месяца спустя, в июне 1944 года, произошло событие, коренным образом повлиявшее на будущее Пеньковского. Уже выписываясь из военного госпиталя после двухмесячного лечения от ранения, он случайно узнал, что его бывший командир, маршал Варенцов, тяжело ранен. В то же время его жена, мать и две дочери, несмотря на высокий ранг Варенцова, оказались без продуктов питания и топлива. «Я пришел им на помощь, поскольку он был хорошим человеком, и я знал, что он достойно вознаградит меня за все». Когда офицеры вместе возвращались на фронт, Варенцов сказал: «Теперь ты для меня как сын».
Непосредственным результатом этого знакомства стало то, что Пеньковский был направлен на Учебу в Академию имени Фрунзе — российский Вест-Пойнт. За этим последовала двухгодичная Учеба в Военно-дипломатической академии, где его уже обучали как офицера ГРУ. В начале 1950 года он был произведен в звание полковника. По иронии судьбы, именно с этого, явно благоприятного для Пеньковского момента, когда в его жизни появились новые возможности, командировки в различные страны, почти все в ней пошло наперекосяк.
Анкара
Первая встреча Пеньковского с американцами состоялась в 1955 году, когда он был назначен исполняющим обязанности военного атташе с одновременным исполнением обязанностей резидента ГРУ в Анкаре. Термину «резидент» в ЦРУ соответствует «глава станции», и в этом качестве Пеньковский временно руководил разведывательными операциями ГРУ, проводимыми из турецкой столицы. Как всегда социально активный, он общался со многими американцами, работавшими в Турции, но более всего помнил и ценил как настоящего друга полковника Чарльза М. Пика, военного атташе посольства США. В письме, которое! Пеньковский позднее передаст на берегу Москвы-реки рыжебородому Коксу, он просил напомнить о себе именно Пику. Пеньковский вообще высоко ценил свои знакомства с американцами, англичанами и канадцами, что явно проявилось во время третьей встречи в Лондоне, когда он спросил, что думали о нем американские друзья по Турции. Вот выдержка из стенограммы:
Пеньковский: Это меня очень интересует… Отзывались ли эти американцы обо мне хорошо?
Кисевалтер: Да, конечно. Очень хорошо. Как о настоящем парне.
П: Они так и сообщили?
К: Разумеется. Приятный в общении, дружелюбный.
П: Рад это слышать… У меня были очень хорошие отношения с американцами. Я всегда желал им всего наилучшего.
К: Они это чувствовали.
Касаясь последующего своего отзыва из Турции по приказу министра обороны, Пеньковский говорил: «Если бы Пик был в то время на месте, я бы с ним связался. Во мне происходила вполне естественная борьба, были большие сомнения, однако Пику я бы открылся [перешел бы на сторону американцев]. К несчастью, он в это время отсутствовал в связи со смертью матери». С другими, малознакомыми ему американцами, работавшими в Анкаре, Пеньковский говорить боялся. «Но если бы Пик оказался на месте, я попросил бы его: “Дайте мне адрес для будущей связи”». Эти размышления подтверждают, что Пеньковский предвидел свой отзыв из Турции. Ему на смену в Анкару направили генерала, принявшего на себя обязанности военного атташе и резидента, которые Пеньковский исполнял в течение пяти месяцев.
Время для него было очень тяжелым. «Этот генерал Савченко прибыл под фамилией Руден-Ко, — объяснял Пеньковский. — Он был стариком, лет шестидесяти с лишним. Я передал ему Все дела. Но вместе со старым генералом прибыл подполковник Ионченко, который был настроен против меня. Владея турецким языком, он возмущался, что заместителем атташе был назначен не он, а я со своим английским. [Они с генералом] были настроены решительно против меня и сделали мою жизнь невыносимой».
«Между тем, — рассказывал Пеньковский, — Ионченко просто встречался с турками в ресторанах и предлагал им деньги за работу на него. [Он также пытался] в той же самой топорной манере купить у турок армейские уставы. Естественно, что достаточно эффективная турецкая контрразведка обратила на это внимание… Доллжен вам признаться, мои отношения с генералом] и Ионченко были [столь плохи, что] я сделал анонимный телефонный звонок из уличной телефонной будки в турецкую контрразведку и сообщил им о деятельности Ионченко и местах его встреч с агентами». После паузы он добавил: «По натуре я человек мстительный. При виде того, как несправедливо со мной обходятся, я уже тогда решил перейти к вам!»
Объявленный турецкими властями персоной нон грата, Ионченко был отправлен в Москву. По словам Пеньковского, причиной подобной акции турок послужило нарушение инструкций ГРУ самим генералом. «В это время в СССР проходил государственный визит шаха с супругой, и турецкая контрразведка была приведена в полную готовность. Мы получили указание от руководства ГРУ ни при каких обстоятельствах не проводить в этот период никаких операций. Тем не менее генерал разрешил Ионченко выйти на встречу с агентом [потому что 3 она была уже назначена]… Инцидент [в результате приведший к выдворению Ионченко] произошел во время передачи ему турецким лейтенантом секретной инструкции… Я находился в кабинете генерала, когда вошел дежурный офицер и сообщил: “Товарищ генерал, ваш помощник арестован турецкой контрразведкой”. Генерал был ужасно расстроен и приказал мне вызволить Ионченко из тюрьмы. Я спросил: “Почему вы вообще позволили ему пойти на встречу?”».
Поскольку доносчиков не любит никто, появившись в штабе ГРУ, он обнаружил, что здешнее руководство поддерживает его бывшего начальника по Турции. «Он посылал им [своим коллегам в Москве] разнообразные подарки, разумеется, все они пьянствовали вместе… Конечно, они возмущались, что “сопливый” молодой полковник вроде меня посмел так себя вести по отношению к генералу. Все считали, что я убрал его намеренно, желая занять место военного атташе».
Был ли кто-нибудь на стороне Пеньковского? По всей видимости, нет. «“По существу, он может быть, и прав, — говорили они, — но не следовало вести себя в столь хулиганской манере”. [В результате] ни один генерал в ГРУ не хотел со мной работать. “Вы сплетник, — говорили они, — более того, Вы обратились в другое ведомство. Зачем надо было ставить в известность Серова? Вы опозорили нас в глазах соседей” [«Соседями» J в ГРУ называли КГБ, организацию, не очень любимую военными]. Поскольку никто не хотел со мной работать, что было делать? Я обратился к маршалу Варенцову. Он посоветовал мне подождать, пока все успокоится….Меня долго держали в резерве ГРУ, затем я получал разовые задания… потом вновь оказался в резерве».
В резерве
Время реванша и удовлетворения униженного самолюбия настало для Пеньковского лишь в конце 1958 года. Его реабилитация ни в коем случае не являлась извинением или желанием восстановить справедливость. В Советском Союзе это не было принято. Очередной переменой в своей судьбе он был скорее обязан личному вмешательству бывшего его командира, Главного маршала артиллерии Варенцова, которому Пеньковский помог восстановить здоровье во время войны. По рекомендации маршала он был направлен на учебу в Военную академию им. Дзержинского, специализирующуюся на изучении самого современного советского оружия — ракетного, и назначен старостой группы. Положение старосты предоставляло ему определенную власть, и он пользовался ею не только в учебных целях. Пеньковский занимался усердно, но отнюдь не из-за патриотизма. К тому времени он уже не был «полон патриотизма» и больше не считал себя «прогрессивным юношей, борющимся за дело Ленина». Все это давно позади. «Если быть честным до конца, — говорил он в Лондоне, — то мое недовольство политической системой в целом зародилось уже давно. Она основывалось на демагогии и обмане людей. Мне захотелось стать солдатом новой армии, объединиться с прогрессивными людьми, бороться за новые идеалы демократии и, в какой-то степени, отомстить за отца и миллионы других людей, погибших ужасной смертью… Я подумал, что слова, в конце концов, есть только слова. Мне хотелось сделать что-то конкретное… Я должен сам сделать нечто ощутимое, реальное… Я обладал кое-какой властью, что включало возможность брать книги и Документы из специальных фондов в такое место, где мог работать в одиночестве. Подставив стул под ручку двери, я делал копии всего, что только возможно. Так как у меня не было фотоаппарата, это занимало массу времени. Я переписывал бумаги по вечерам и делал это с таким усердием, что натер на пальце большую мозоль. Я работал очень аккуратно, потому что знал, вы проверите каждое слово, и, если все окажется в полном порядке, награда не минует меня».
По окончании академии Пеньковский узнал, что его ожидает блестящее будущее. Серов, которому он некогда направил донесение из Анкары, и переведенный к тому времени с поста председателя КГБ на должность главы ГРУ, теперь намеревался послать его резидентом в Дели. Это было важным назначением, дававшем надежду на производство в генеральский чин.
Довольный Пеньковский уже готовился к отъезду, когда неожиданно был вызван к генерал-майору, возглавлявшему отдел кадров. «Генерал спросил меня о моем отце, о котором с моих слов было известно лишь то, что он умер. “Мне не пришлось увидеть своего отца, я даже никогда на получал от него куска хлеба”, — ответил я. “Но вы явно скрыли тот факт, что он погиб в рядах Белой армии”, — сказал он».
В дальнейшем Пеньковскому все же удалось, хотя бы до некоторой степени, развеять подозрения генерала — по крайней мере, КГБ дало согласие на его краткосрочную командировку за границу. В КГБ заставили мать написать письмо, в котором она заявила, что никогда не сообщала сыну об обстоятельствах гибели его отца, более того, эти обстоятельства были не известны ей самой. Они поженились во время Первой мировой войны, потом, уже в период революции, у них родился сын. Вскоре после этого ее муж уехал и пропал навсегда. КГБ предпочел (по крайней мере внешне) принять объяснения Пеньковского, хотя это не реабилитировало его до такой степени, чтобы направить за границу в качестве резидента. Пеньковский говорил об этом с большой обидой: «Если бы к тому времени я уже отслужил положенные для отставки двадцать пять лет, они демобилизовали бы меня как политически неблагонадежного». Вместо отставки ему позволили продолжить работу, но под тщательным присмотром.
Несмотря на подобные ограничения, новая работа имела одно важное преимущество: значительное место в ней занимали контакты с иностранцами. Поначалу они ограничивались Москвой, но со временем в его обязанности стали входить и краткосрочные поездки за границу. Одна из таких судьбоносных встреч — знакомство с Гревилом Винном, прикрытием деятельности которого являлись экспортно-импортные операции фирм Великобритании со странами советского блока. Они понравились друг другу лично, и именно через Винна Пеньковский послал сообщение о том, что желает встретиться с представителями британской разведки, если найдется повод для официальной поездки в Англию.
На этот раз Пеньковскому повезло — Серов назначил его заместителем руководителя ГНТК, прикрытие, позволяющее советским эмиссарам скрывать свою деятельность по сбору передовых технологий других стран. Благодаря этому назначению у Пеньковского появилась возможность возглавить заграничную делегацию ГНТК, а значит — провести в Лондоне две недели. В дополнение к своим обязанностям по руководству советской делегацией, неутомимый Пеньковский собирался поздно ночью встретиться со специально созданной для этого группой сотрудников американской и британской разведок. Таким образом, поздним апрельским вечером 1961 года, когда Пеньковский вошел в фойе довольно обшарпанного лондонского отеля «Маунт-Роял», началась одна из величайших шпионских операций в истории. Более того, впоследствии все не утверждали, что Пеньковский ясно ощущал всю важность момента, к тому же, он сам не замедлил объяснить гостям в отеле свою точку зрения: «Я чувствую себя представителем Свободного мира… Я ваш… ваш солдат, ваш воин и готов выполнить любую миссию, которую вы на меня возложите, как сейчас, так и в будущем. Верю, что смогу с большой пользой послужить вам на месте [то есть, в ГРУ], по крайней мере, год или даже два, особенно если буду работать, руководствуясь вашими конкретными инструкциями, направленными на наилучшее использование моих потенциальных возможностей».
Натиск Хрущева
А возможности Пеньковского оказались почти безграничными. Однако, чтобы по достоинству оценить впечатление, которое он произвел на Вашингтон и Лондон, необходимо вспомнить о серьезных испытаниях и напряжении, которые мы пережили в начале шестидесятых годов. В январе 1961 года в США был избран новый президент, и внешняя политика в целом пересматривалась. Весьма преуспев в Европе, Америка излишне увлеклась периферийными районами вроде Лаоса. Гораздо ближе к нашим границам 17 апреля 1961 года на Кубе в заливе Свиней высадились кубинские эмигранты, но правительство США в последний момент предпочло не оказывать им полномасштабной военной помощи, хотя она была заранее обещана.
Хрущев, оценив эти события с точки зрения человека, вся жизнь которого проходила в неослабевающей, бескомпромиссной борьбе за личную и государственную власть, усмотрел в действиях Вашингтона слабость. Став председателем Совета Министров СССР еще в 1958 году, Хрущев сравнительно недавно смог укрепить свою власть окончательно. Жадный до власти, он в течение одного года объявил себя «главным творцом победы во Второй мировой войне» и развернул кампанию по созданию своего культа личности. Во внешней политике он сосредоточил усилия на борьбе с «главным врагом» Советского Союза (так Хрущев называл Соединенные Штаты). Однако его антиамериканская политика не могла включать прямые столкновения, нужно было действовать обходным путем. Хрущев начал с поиска слабых звеньев, могущих стать мишенями его агрессии, И первым его выбором оказалась Германия. Несмотря на мощную поддержку Советского Союза, коммунистическая Восточная Германия так и не смогла добиться законного признания ее в мире подобно Федеративной Республике Германии. Берлин — историческая столица Германии, три четверти которого составлял некоммунистический сектор, располагался прямо в середине ГДР. И это оскорбляло патриотические чувства не только германских коммунистов, но и саму Россию.
Если бы мирный договор был подписан со всей германской нацией как целое, с подобной оккупацией Берлина было бы вскоре покончено, но из-за разделения Германии на коммунистическую и некоммунистическую части такое положение могло длиться до бесконечности. Хрущев, видевший в разрушении этого противоречия шанс снизить роль Америки на европейском континенте, грозил подписать с Восточной Германией односторонний мирный договор, что поставило бы под сомнение право союзников на оккупацию Берлина. В меморандуме, переданном Хрущевым президенту Кеннеди на их Венской встрече в июне 1961 года, эта угроза была выражена почти открыто и была подкреплена мощью советских вооруженных сил, приблизительную численность которых союзники знали, однако их сведения о новинках вооружения не отвечали требованиям времени.
Одной из самых главных заслуг Пеньковского явилось предоставление Соединенным Штатам секретной информации (по большей части в виде документов), позволившей определить степень развития современного советского оружия. Он заблаговременно составил список материалов и; документов, готовых к передаче. Эти документы, вывезенные Гревилом Винном из Советского Союза, содержали информацию о большом количестве новейших систем советского вооружения, к которым у Пеньковского был доступ. В список вошли следующие сверхсекретные материалы:
Описание ракеты ЗР1 — 2 страницы
Ракеты ЗР2 и ЗР3 — 2 страницы
Ракета ЗР7 — 1 страница
Конструкция пусковой установки 2П2 — 6 страниц
Привожу выдержку из брифинга, устроенного в 1964 году тогдашним директором ЦРУ Джоном Б. Макконом, который заявил:
«К октябрю 1962 года, когда полковник Пеньковский был арестован в Москве, он передал нам более 10000 страниц секретных и совершенно секретных документов [выделено мной], не считая устных сообщений… Основная часть этих документов касалась советской военной доктрины, стратегии и тактики. Кроме того, в этих документах содержались детальные описания всех советских тактических ракет, включая ракету земля — воздух, сбившую самолет У-2. Информация также включала первые два выпуска совершенно секретных инструкций Центра стратегических ракетных войск, касающихся межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет промежуточного и среднего радиуса действия (ICBM, IRBM и MRBM). В этих инструкциях отражалось основное состояние сил советских межконтинентальных баллистических ракет (ICBM) и сообщались данные по развертыванию систем межконтинентальных баллистических ракет среднего радиуса действия (MRBM), оказавшиеся очень важными при анализе ракетной авантюры СССР на Кубе».
Знание нами советского секретного оружия и относящейся к нему документации имело впоследствии огромное значение; мы быстро забыли, насколько сложной была ситуация, с которой столкнулся президент Кеннеди в 1961 году. Уже сам размер огромной Советской армии обеспечивал ей большое разнообразие в масштабе и форме предполагаемого конфликта, в случае его возникновения. Вооруженные силы США, с другой стороны, готовились в основном к полномасштабной ядерной войне, исходя из того, что Соединенные Штаты не могут позволить себе оказаться вовлеченными в так называемые «ограниченные» войны. Таким образом, многие эксперты полагали, что если война случится, то она неизбежно должна стать крупномасштабной.
К сожалению, в 1959 году министр обороны США не был уверен в том, что мы способны выиграть даже в большой обычной (неядерной) войне, поскольку «к началу 60-х годов Советский Союз будет, по всей вероятности, иметь троекратное преимущество в межконтинентальных баллистических ракетах». Вплоть до лета и даже осени 1961 года продолжала существовать идея этого «ракетного отставания» между двумя странами. «Военно-воздушные силы США продолжают утверждать, что Советы имеют от 600 до 800 баллистических ракет, тогда как ЦРУ оценивает их количество в 450 единиц, а эксперты военно-морских сил — только 200»{8}.
Учитывая возможности, приписываемые различным структурам наших ударных сил, включая обычную авиацию, наиболее крайние оценки силы Советов предсказывали полное поражение западного мира от Советского Союза. Как часто бывает в подобных случаях, эти плохие новости не сходили с заголовков газет, тогда как истинная картина соотношения сил почти не освещалось. В погоне за сенсацией некоторые представители средств массовой информации всячески нагнетали настроение обреченности. По счастью, получив с помощью Пеньковского доступ к секретным материалам одного из самых квалифицированных экспертов Советского Союза, ЦРУ удалось сгладить впечатление от весьма жесткого заявления экспертов Военно-воздушных сил. Дружба Пеньковского с Варенцовым сослужила нам хорошую службу, поскольку, являясь Главным маршалом артиллерии, этот старый солдат не только командовал тактическими ракетными частями, но и был хорошо информирован о баллистическом оружии дальнего радиуса действия и советской ракетной технике в целом.
Варенцов являлся для Пеньковского не только источником информации, но и другом семьи. Не говоря уже о том, что они с женой часто бывали на прекрасной даче Варенцова (привилегия человека, занимающего высокий государственный пост), а маршал время от времени ночевал в скромной московской квартире Пеньковского. Однажды в дружеской беседе Варенцов сказал: «Знаешь, Олег, если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах, то у нас до сих пор нет ни черта!» Следовательно, недоразумение, касающееся сравнительной силы Соединенных Штатов и Советов, было разрешено в основном благодаря информации Пеньковского, полученной от Варенцова, а также на занятиях в Академии имени Дзержинского. В резюме, основанном на том, что сообщил нам Пеньковский, и переданном нами в середине 1961 года непосредственно президенту Кеннеди, в частности, сообщалось следующее:
«Основной идеей Хрущева является желание быть на шаг впереди лидеров западных держав, поразить их — представить как уже имеющееся в наличии то, чем он на самом деле не обладает или обладает лишь в ничтожно малых количествах. Были лишь испытания того или иного рода, во многих случаях довольно успешные, однако Хрущев выдает их за свершившийся факт. В соответствии с этим, наиболее желанной целью для Хрущева и его Президиума [для произведения впечатления на западных военных руководителей] является запуск спутника земли или даже человека в космос… Это должно вынудить глав правительств и военные круги Запада планировать свои действия на основе предположений, что Советский Союз уже обладает огромным военным потенциалом, тогда как в реальности он его только создает.
По поводу угроз Хрущева источник [Пеньковский] вспомнил, как высокопоставленный генерал артиллерии [Варенцов], ответственный за одно из направлений советской ракетной программы в начале 1961 года сказал ему: “Мы только это обдумываем, только планируем… Но для того чтобы достичь результата, необходимо значительно увеличить производство и обучить кадры”. Этот офицер заявлял впоследствии, что Советский Союз имеет в своем арсенале тактические [ближнего действия] ракеты, а также ракеты, способные достигать Южной Америки, Соединенных Штатов и Канады, но с малой точностью.
Имеются в наличии [также] опытные образцы ракет, находящиеся в стадии разработки и испытаний, но не стоящие на вооружении. [Однако] их количество не исчисляется сотнями [как намекает Хрущев], даже вместе с опытными образцами…
Вполне возможно [заключает Пеньковский], что даже сейчас где-то на Дальнем Востоке… могут базироваться ракеты с ядерными и термоядерными боеголовками, способные достичь других континентов, однако подобные пусковые установки вряд ли хорошо отлажены и контролируемы, к тому же, без сомнения, не слишком многочисленны. В этом я совершенно уверен, хотя года через два или три положение может измениться».
Донесения, подобные этому, дополненные множеством надежных документальных свидетельств, переснятых Пеньковским на фотопленку, значительно снизили престиж Советского Сооюза в глазах президента Кеннеди. Позднее один авторитетный источник отметил: «Когда президент созвал во время уик-энда после Дня благодарения экспертов по вопросам обороны на совещание в Хайаниспорт, все документы свидетельствовали, что мнение руководства Военно-воздушных сил США ошибочно, поэтому вопрос [отставания в ракетах] был наконец-то окончательно закрыт»{9}.
Друг познается в беде
Пеньковский не ждал пассивно, пока необходимые секретные материалы попадут к нему в руки; он активно искал возможности их приобретения. Хорошей идеей оказалась публикация Пеньковским статьи в одном из армейских изданий, посвященной какому-то аспекту военной науки. Это позволило оправдать его особый интерес к засекреченной информации. Статус артиллерийского офицера и выпускника Академии имени Дзержинского давал ему на это право. Когда Пеньковский упомянул о своем намерении написать статью, Варенцов тут же предложил Пеньковскому воспользоваться офисом в возглавляемом им ракетном центре.
Легализировавшись таким образом в одном из двух ведущих ракетных центров, Пеньковский, не теряя времени, стал активно пользоваться предоставленной возможностью. Дружелюбный и общительный, он вскоре завязал знакомство с некоторыми офицерами центра, среди которых оказался некий подполковник Долгих, начальник первого отдела, отвечающий за хранение секретной документации. Пеньковский тут же подружился с ним, и как нередко бывало ранее, с не слишком чистыми намерениями.
Во время беседы с одним из своих американских кураторов он объяснял свой метод так: «Я всегда делаю что-нибудь для других, устанавливая таким образом хорошие отношения. Нередко дарю подарки, отказываясь, разумеется, от любого рода компенсации за это; часто угощаю или через Варенцова оказываю кое-какие услуги, например, помогаю получить разрешение на установку телефона». Подполковник Долгих, представлявший собой идеальный объект для подобного внимания, не замедлил поделиться с Пеньковским своими неприятностями, зная, что тот является протеже влиятельного главного маршала. Бедняга-подполковник, как выяснилось, находился в сложной ситуации, типичной для советской бюрократии. Он был прописан в двухкомнатной квартире вместе с неким полковником Кузнецовым и с полуслепым сыном полковника. Чиновники военной администрации решили переселить Долгих, чтобы отдать обе комнаты Кузнецову и его сыну. Куда же было деваться подполковнику? Ему посоветовали обратиться к местным властям, однако, к несчастью, никто не учел, что в то же самое время горисполком понизил квоту на жилье, предоставляемое военным, и поэтому свободных площадей не было. Подполковник вскоре мог лишиться крыши над головой.
Эта ситуация предоставляла Пеньковскому прекрасную возможность завоевать доверие офицера, имеющего доступ к наиболее ценным военным секретам, и он с энтузиазмом взялся за дело. Заставив Долгих написать письмо в горисполком, он попросил Варенцова лично подписать ходатайство. Обращение маршала сделало свое дело, чиновники сразу сделались очень покладистыми. «Именно так, — сказал улыбаясь Пеньковский своему собеседнику, — я схожусь с людьми».
Любезность Пеньковского быстро окупила себя. «Долгих был здоровенным парнем, ему впору быть кузнецом, а не руководителем первого отдела. Я просто сказал, что хочу просмотреть кое-какие материалы, потому что должен подготовить лекцию, и он ответил: “Что за вопрос, смотри, что хочешь”». Эта новая возможность стала поворотным пунктом всей операции. Получив к тому времени в свое распоряжение миниатюрную фотокамеру, умещающуюся в кармане, и научившись ею пользоваться, Пеньковский мог теперь переснимать документы, вместо того, чтобы переписывать их от руки. Таким образом, каждое посещение подвала ракетного центра Варенцова позволяло получать сотни листов информации вместо нескольких страниц, как было ранее.
Берлинский вызов миру
К началу 1961 года в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом назрел новый кризис — вокруг Берлина. Именно донесения Пеньковского послужили первыми тревожными сигналами, привлекшими внимание президента Кеннеди и его советников к планам Хрущева по ослаблению влияния Запада в бывшей столице Германии, которая в то время была частично оккупирована союзными частями и полностью окружена размещенными в Восточной Германии советскими войсками. Для Кеннеди угроза вытеснения Запада из Берлина являлась первой стадией в длинной цепи попыток Советского Союза ослабить НАТО. Выражаясь словами американского президента, «в Западном Берлине на ставку поставлена вся Европа»{10}.
Самое первое документальное свидетельство истинных намерений Советского Союза было получено через Пеньковского в июне 1961 года на тайной московской встрече с представителем командования войск Североатлантического альянса. Подобные встречи продолжились и в июле, что позволило Вашингтону шаг за шагом отслеживать этапы нового плана СССР. Основные пункты этого плана, переданного Пеньковским в одном из первых секретных посланий, следующие:
«1. С целью подрыва позиции западных союзников в Германии было решено подписать мирный договор с Восточной Германией. Впредь она будет называться Германской Демократической Республикой (ГДР).
2. После подписания договора доступ западных союзников в Берлин будет ограничен. После объявления состояния боевой готовности войска ГДР заблокируют все дороги между Западной Германией и Берлином, патрулирование будет обеспечено с помощью танков и самолетов.
3. Войска ГДР и коммунистической Чехословакии будут переведены на военное положение, советские войска окажут этим армиям ограниченную поддержку. Вместе с тем в советском плане разъяснялось: “Если Запад решит двинуть танки и другое вооружение с целью захвата контроля над дорогами и обеспечения связи с Берлином, столкновение должно быть краткосрочным и ограниченным по масштабу”.
4. Вследствие ограничения доступа западных союзников в Берлин, “они должны будут вступить в переговоры с ГДР; и это особенно важно”».
В отдельном примечании к плану уточнялось: «Сознавая всю степень риска, мы полагаем, однако, что крупной войны не будет, хотя возможно локальное столкновение на территории одной лишь Германии, причем весьма ограниченное по масштабам».
Несмотря на уверенность советского правительства в своей непобедимости, совет Пеньковского был следующим: «На твердость надо ответить твердостью… Полезно было бы объявить о крупной передислокации западных войск… Необходимо, чтобы информация о передислокации была несколько преувеличенной и вместе с тем достаточно серьезной, чтобы сохранялась возможность для нанесения быстрого и решительного удара по СССР». Ответ США оказался почти таким же, каким сформулировал его Пеньковский. В конце июня 1961 года американская пресса объявила о планах Пентагона привести в боевую готовность соединения Национальной гвардии, усилить американские части, размещенные в Германии и возобновить ядерные испытания{11}.
Поэтому донесение, полученное от Пеньковского в середине июля, было более чем ободряющим: «Решительное заявление президента Кеннеди вызвало в Москве некоторую панику. Поскольку Советский Союз не ожидал от лидеров Запада столь твердой реакции, преимущество перешло теперь на сторону Запада». В какой-то степени отголоском этого донесения явилась программная речь, произнесенная американским президентом 25 июля 1961 года:
«Мы не можем позволить и не позволим коммунистам вытеснить нас из Берлина… Исполнение наших обязательств перед этим городом крайне важно для морального климата и безопасности Западной Германии, единства Западной Европы и доверия всего свободного мира. Советская стратегия долгое время была нацелена не только на Берлин, но и на раскол и нейтрализацию всей Европы, вытеснение нас за океан. Ради обеспечения спокойствия свободного мира мы должны выполнить свой долг перед свободными жителями Западного Берлина, даже если для этого придется применить силу».
Речь Кеннеди в значительной степени стала возможной благодаря предоставленным Пеньковским секретным сведениям об истинном состоянии обороноспособности Советского Союза, оказавшейся ниже того уровня, чем предполагали многие. Решительная политика США оправдала себя, и вскоре Пеньковский уже сообщил, что «тон Хрущева смягчился. Это означает, что наши правительства [стран НАТО] и лидеры предприняли верные шаги. С этими собаками только так и надо!». Его анализ ситуации оказался верным. Как ни пытался Хрущев продолжать оказывать давление, его пустые угрозы все больше теряли свою значимость. К началу 1962 года Берлинский кризис можно было считать разрешившимся.
Война одиночки
Временами казалось, что Пеньковский ведет свою личную войну одиночки — против СССР в целом, и Хрущева в частности. Времена были нелегкие, и тон задавал лидер Коммунистической партии Советского Союза, которого Кеннеди охарактеризовал как деятеля, наполненного «внутренней яростью». Однако сам Пеньковский, если не на деле, то, по крайней мере, психологически, был настроен не менее кровожадно. Неудовлетворенные личные амбиции в сочетании со стремлением к свободе, которую невозможно было получить, проживая в Советском Союзе, объясняли частые эмоциональные взрывы Пеньковского, какими бы излишне преувеличенными ни казались они людям, никогда непосредственно не сталкивавшимся с жестокостью сталинских и послесталинских времен. За время зарубежных командировок Пеньковского сотрудники ЦРУ и британской разведки неплохо его узнали, поэтому выслушивали весьма экстравагантные предложения своего агента с должным хладнокровием и невозмутимостью.
Пеньковский совершил три поездки на Запад: две в Лондон (в апреле — мае и июле — августе 1961 года) и вскоре после этого еще одну командировку в Париж, во время которых с ним было проведено несколько длительных секретных встреч. На них присутствовали одни и те же сотрудники спецслужб (двое американцев и двое англичан). Все беседы записывались на магнитную ленту и тщательно переводились. Поскольку создавалось впечатление, что он высказывал вслух почти каждую мысль, приходящую ему в голову, эти переводы предоставляют многочисленные свидетельства мотивации лихорадочной активности Пеньковского. Поэтому, если и можно говорить о каких-либо трудностях в определении его личности с помощью пространных записей этих бесед, то эти трудности вызваны не недостатком, а скорее, обилием материала.
На первых встречах с сотрудниками разведки все мысли Пеньковского крутились в основном вокруг тщательно спланированного упреждающего ядерного удара, направленного против советских руководителей, а также главных военных объектов Советского Союза. Этот кровожадный план должен был быть проведен в жизнь не ударами ракет с воздуха, а с помощью групп «саботажников» на земле. Возглавить эти группы хотел сам Пеньковский, поскольку мишенью главного удара должна стать Москва, а он знает столицу лучше, чем кто-либо другой. Подобные идеи фонтанировали из него, напоминая непредсказуемые извержения гейзера, поэтому в целях анализа следует привести их в некоторый, хотя бы произвольный порядок. Во время первой лондонской встречи в апреле 1961 года, на которую он пришел с планом Москвы, чтобы показать оперативникам местоположение ключевых военных объектов, предложения его звучали следующим образом:
«Генеральный штаб Министерства обороны сосредоточен в районе Арбата. Его можно взорвать с помощью маленькой двухкилотонной бомбы….[Кроме того], являясь офицером стратегической разведки, выпускником двух академий, некоторое время работавшим в штабе, я знаю самые уязвимые места. Я убежден в том, что моя точка зрения абсолютно верна, и заключается она в следующем. На случай будущей войны, за две минуты до времени начала операции [час «Ч»], все основные мишени, такие как Генеральный штаб, здания КГБ на площади Дзержинского, Центрального Комитета Коммунистической партии… должны быть уничтожены не бомбами с воздуха, а зарядами, ранее размещенными на поверхности. Подобное оружие не обязательно должно помещаться внутри самих зданий — оно может быть спрятано в многочисленных строениях, расположенных поблизости, таких как жилые дома и магазины. К примеру, возле здания КГБ находится большой гастроном. Небольшая группа диверсантов, имеющая бомбы, снабженные часовыми механизмами, должна установить их в местах, гарантирующих полное уничтожение запланированных ключевых точек… Должны быть также уничтожены все региональные военные штабы… Их легко обнаружить в каждом крупном городе. Для этого понадобится всего лишь по одной бомбе на каждый военный округ, что, в свою очередь, воспрепятствует работе мобилизационных и организационных структур, составляющих костяк армии. А это значительно понизит оборонительные возможности СССР».
Находясь в одном из таких демонических настроений, Пеньковский изрекал самые мрачные пророчества:
«Все мы знаем Советский Союз как опасного врага, стремящегося напасть на вас первым, и он сделает это… когда все будет готово… в одну ужасную ночь он это сделает!..
Когда наступит час «Ч», у вас будет всего две минуты. Все должно быть наготове, имея в виду мины мощностью две килотонны, которые могут быть размещены в небольшом чемодане (это моя собственная идея) либо сумке и оставлены поблизости от нужного здания… и пусть все взлетает на воздух. Затем, когда лидеры… верховное командование и центральные ведомства — танковые, авиационные, артиллерийские и ракетные… когда все это будет уничтожено, посмотрим, что они будут делать!..
Лучший момент для взрывов — время между 10 и 11 часами утра, поскольку весь командный состав будет на своих рабочих местах. Мы, простые смертные, начинаем работу в девять утра, однако начальство с их поздними завтраками, делами и тому подобным раньше десяти не появляется».
Здание, которое Пеньковскому особенно хотелось разрушить, это находящийся в центре Москвы Комитет государственной безопасности: «В нем семь подземных этажей, на седьмом, самом нижнем, есть камеры, в которых русских людей — выдающихся личностей, патриотов, мудрецов — отдают на съедение крысам… Там находится специальная комната со стеклянными стенами. Кого не могут сломать и кто не говорит того, что от него ждут, или не подписывает признание, помещают в эту комнату. Сквозь стену проведены гладкие пластиковые трубы, через которые пускают десятки крыс, бросающихся на человека. А они кричат ему в микрофон: “Ну что, теперь скажешь, на кого работаешь?”».
В процессе рассказа Пеньковского воображение его разыгрывалось все сильнее, описания творящихся в СССР ужасов становились все живописнее, голос звучал громче и громче. Ни на одной из записей встречавшиеся с ним сотрудники ни разу не подвергли сомнению заявления Пеньковского, возможно, потому, что у них не было на это никаких оснований. Все они являлись специалистами по Советскому Союзу и хорошо характеризовались по службе.
Двойная жизнь
В течение нескольких лет жизнь Пеньковского отличалась странной противоречивостью. Несмотря на ненависть к системе, в которой ему пришлось существовать, внешне он до самой смерти продолжал жить по ее правилам и, более того, гордился своей способностью делать это. Хорошим примером подобных взглядов является установление довольно близких отношений с человеком, бывшим некогда председателем КГБ, а позднее возглавлявшим ГРУ, — Иваном Александровичем Серовым и его семьей. Однажды, будучи в Англии, в разговоре со своими кураторами из ЦРУ Пеньковский отзывался об этом своем успехе следующим образом: «Хитроумный, блестящий ход». Основанием для подобного знакомства явился тот факт, что Главный маршал артиллерии «Варенцов был хорошим другом Серова. Некогда они служили в одном полку, потом его взял к себе Лаврентий Берия [глава госбезопасности до своего расстрела в 1953 году], где он сделал головокружительную карьеру».
Позднее, когда Серова назначили главой ГРУ, подобное знакомство оказалась весьма ценным. Не говоря уже о том, что он являлся начальником Пеньковского, а его старший сын был женат на дочери Хрущева, Екатерине. Хотя Серов был воплощением ненавистной Пеньковскому советской системы, один западный куратор записал, в частности, такой его отзыв о шефе ГРУ: «простоватый старый добряк Иван Александрович». Правда, в другом случае мнение Пеньковского о Серове оказалось гораздо менее лестным: «Он не очень умен и умеет только допрашивать, сажать в тюрьму и расстреливать».
Последнее замечание, однако, дает представление лишь об одной стороне характера Пеньковского. Посвятив немало времени на изучение его высказываний и поступков, я не мог не обратить внимания и на другую черту характера Пеньковского: он откровенно наслаждался обществом сильных мира сего и теми выгодами, которые приносила ему их дружба. Правда, если и так, то в этом не было никакого преступления, и даже находясь в самом скверном настроении, Пеньковский вынужден был признать, что Варенцов и Серов были на его стороне до последних дней. После неприятностей в Турции отношения его с Серовым ухудшились, и всё же именно шеф ГРУ был одним из тех людей, отношения с которыми культивировались Пеньковским особенно упорно — только потому (по крайней мере, как он представлял это кураторам), что находить подобное расположение людей у власти было в его интересах. Разумеется, это так и было: ценность Пеньковского как шпиона в том и заключалась, что он без труда добивался от своих высокопоставленных друзей всего, что ему было нужно. Внутренняя двойственность натуры играет в разведке главную роль.
Возьмем, к примеру, услуги, оказанные Пеньковским семье Серова. Можно ли назвать это все абсолютным притворством? По чистому совпадению жена и дочь Серова должны были посетить Лондон как раз в то время, когда там должен был находиться сам Пеньковский, поэтому Серов попросил позаботиться о них — сопровождать в магазины за покупками и предоставить в их распоряжение автомобиль. В должное время Серовы прилетели на специальном самолете, посланном за труппой ленинградского Кировского театра оперы и балета. Но, несмотря на то, что глава ГРУ лично предупредил о прибытии своей семьи телеграммой с требованием, чтобы их встретили, в советском посольстве его распоряжение почему-то проигнорировали. В аэропорту не оказалось ни машины, ни кого-либо из встречающих. Опять-таки по чистой случайности, почти в то же самое время на другом самолете в Лондон прибыл и сам Пеньковский, использовавший благоприятную ситуацию, когда он мог проявить себя во всем блеске.
Проявляя максимум любезности, он доставил дам в отель и предложил на следующий день показать город. Говорящий по-английски и к тому времени хорошо знающий Лондон Пеньковский завоевал их сердца, показал достопримечательности города, угостил за свой счет и даже пригласил в ночной клуб, где танцевал рок-н-ролл с двадцатидвухлетней Светланой. Серовы были преисполнены благодарностью еще и потому, что он вызвался доставить в Москву кое-что из их многочисленных покупок. Неудивительно, что едва Пеньковский успел вернуться, как Серов позвонил ему лично. «Вы совсем куда-то исчезли, — сказал он. — Мы хотим вас видеть».
— Когда мне явиться, товарищ генерал?
— Завтра к шести часам.
Далее Пеньковский перечислил фамилии тех, кто жил в одном доме с Серовым — многих известных советских деятелей того времени: «Все они жили в доме № 3 по улице Грановского, куда ваш покорный слуга пришел в гости! Так вот, я вошел, отдал [Серову] его рубашку и другие мелочи. Они накрыли стол. Я был единственным гостем, и все прошло очень хорошо». Тем не менее, хотя его положение вроде бы улучшилось, Пеньковский все же не слишком обольщался. Он сообщил своим кураторам: «Через два или три дня после визита к Серову меня вызвали к заместителю начальника третьего отдела ГРУ, который сказал: “Мы собираемся послать вас в Соединенные Штаты. Вы будете числиться в посольстве в ранге советника, но работать на ГРУ”. На этом разговор окончился. Что из этого выйдет, один бог знает».
Какая судьба постигла этот план, точно не известно, однако кажется вполне вероятным, что у КГБ возникли определенные подозрения, в очередной раз вызвавшие отсрочку командировки. Если так, то к тому времени положение Пеньковского, по всей видимости, уже становилось шатким. Как бы ни были обширны его связи, он не мог быть уверенным в своем будущем и никогда не чувствовал себя спокойно. Самого факта наличия дружеских отношений с Варенцовым, Серовым и другими генералами было недостаточно. Чувствуя, что иначе выжить невозможно, Пеньковский вынужден был вновь и вновь доказывать свою лояльность. В конце концов, являясь советским гражданином, он хорошо знал, какие неприятности несет в себе его происхождение. «В Москве, — рассказывал он своим кураторам, — в выездном отделе Центрального Комитета КПСС сидит настоящий ублюдок из КГБ, полковник Далуда… Именно он решает, кто поедет за границу, а кто нет. На этот раз он меня выпустил, поскольку визит был кратким и одобрен ГНТК и ГРУ. Однако они не доверяют мне долгосрочные командировки… Если бы не история с моим отцом, я мог бы надеяться на генеральское звание, но теперь этого никогда не случится».
Несмотря на все разочарования, Пеньковский никогда не падал духом и как-то, явно недооценивая ситуацию, заявил: «Я очень упрям». За время трех командировок за границу, которые предоставляли единственную возможность наблюдать за его поведением воочию, он демонстрировал такую работоспособность и концентрацию внимания, которые вызывали у его опекунов истинное изумление. Если бы начальство Пеньковского! имело возможность наблюдать за его работой, не зная при этом, что он работает против них, оно осталось бы довольным.
Задачей ГНТК — организации, подчиняющейся ГРУ, в которой служил Пеньковский, был сбор научно-технической шпионской информации о передовых технологиях Запада как легальными, так и нелегальными способами. Вне всякого сомнения, он идеально подходил для подобной работы. Не говоря уже о его настойчивости в установлении контактов, Пеньковский имел явную склонность к технике. Еще в 1938 году он запатентовал измерительный артиллерийский прибор, а также внес усовершенствование в весьма сложную систему установки заряда на противосамолетные воздушные шары, взрывающиеся при контакте с самолетом (существовавшие до этого были слишком дороги для широкого использования). Более того, учась в Военно-дипломатической академии, он написал диссертацию, посвященную некой новаторской идее в области секретных средств связи, за которую получил премию в тысячу рублей.
Технические наклонности Пеньковского наиболее явственно проявились в особенно интересующей нас области — в фотографии. После весьма краткого инструктажа, данного на конспиративной квартире, его негативы, отснятые в крайне тяжелых и опасных условиях, оказались почти идеальными. Для лучшего обеспечения прикрытия курирующие его оперативные работники оказывали Пеньковскому большую помощь, устраивая заранее запланированные знакомства с американскими и английскими бизнесменами, снабжая несекретной, но весьма ценной технической информацией, касающейся различных фирм, и даже однажды позволили ему сфотографировать некий британский аэропорт. «Я получил из Москвы благодарность за свои донесения, особенно за фотографии. На них оказалась новая противосамолетная система», — сообщил он позднее.
В отличие от Петра Попова, Пеньковский был человеком инициативным и не задумываясь назначал встречи. Однажды даже пришлось его несколько осадить, так как он не совсем понимал стоящие перед его кураторами проблемы безопасности. К примеру, ему было непонятно, почему они не могут действовать во Франции так же свободно, как в Англии. «Разве Франция не наша страна?» — с удивлением спрашивал он, забывая, что Западная Европа не являлась одним государством с единым законодательством.
Одна из идей Пеньковского, пришедшая ему в голову после посещения могилы Карла Маркса в Лондоне, оказалась весьма неординарной даже по его собственным стандартам.
Однажды он сообщил своим западным опекунам: «Этим утром мне пришла в голову одна идея; думаю, что это может сработать… Дня через два-три по прибытии в Москву я напишу письмо лично Хрущеву. Оно будет в форме рапорта с моей подписью… Во время посещения могилы Карла Маркса [находящейся в Хайгейте, в северной части Лондона] я заметил, что она находится в ужасном состоянии. Повсюду разбросаны увядшие букеты цветов, разбитые бутылки и цветочные горшки. Место погребения основателя коммунизма полностью заброшено. Имеющиеся у меня фотографии наглядно демонстрируют всю степень творящегося вокруг запустения… Я предложу меры, позволяющие исправить ситуацию. Это произведет благоприятное впечатление как на самого Хрущева, так; и на Серова, через которого должно быть передано письмо. Это будет выглядеть как порыв убежденного коммуниста, считающего своим долгом привлечь внимание к столь неприглядному факту».
Как и предсказывал Пеньковский, его инициатива была хорошо принята. «Отправленное мною письмо, — сообщал Пеньковский, — было передано в Центральный Комитет, который дал распоряжение посольству выделить средства на уход; за могилой и обязал представителей посольства более тщательно следить за ее состоянием. Теперь там [в Москве] увидели, что я проявляю бдительность не только в военном отношении, но и в политическом». (Можно было представить кривую усмешку, исказившую в этот момент его губы.)
Несмотря на долгие периоды разочарования и крушения надежд, в его жизни выдавались и светлые моменты. Намерения Пеньковского покинуть Советский Союз «через год или два» оставались неизменными, однако временами его будущее как] армейского офицера выглядело почти безоблачным. Оно всецело зависело, утверждал он, от воли Центрального Комитета Коммунистической партии. Пеньковский все еще верил, что вопрос о его назначении на важный пост в Вашингтоне до сих пор рассматривается всерьез; в последнее время от «соседей» насчет него не поступало никаких отрицательных отзывов. А самое главное, Серов хотел представить его к званию генерала.
Мало кто прилагал столько усилий для своего карьерного роста, как Пеньковский. Во время второго визита в Лондон он попросил своих кураторов достать ему бутылку хорошего коньяка ровно шестидесяти лет выдержки для подарка Главному маршалу Варенцову к его шестидесятилетнему юбилею. Соответствующий напиток был ему охотно предоставлен, но Пеньковский прекрасно понимал, что главное в этом случае не вкус или букет, а внешний вид подарка. К несчастью, этикетка на бутылке выглядела не слишком презентабельно, поэтому он потребовал, чтобы она была заменена на более впечатляющую. Ему это обещали, однако развитие этой истории в донесениях не отражено — можно предположить, что просьба была выполнена, хотя она и выходила за пределы даже весьма значительных возможностей кураторов Пеньковского. В конце концов, секретные службы весьма далеки от вопросов торгового дизайна.
Как бы то ни было, удалось заменить этикетку или нет, но по возвращении в Москву Пеньковский, к своей радости, обнаружил, что Главный маршал артиллерии лично прибыл встречать его на вокзал.
«Я привез ему коньяк, зажигалку в форме ракеты и портсигар, — вспоминал Пеньковский. — Он расцеловал меня в обе щеки, [а потом] пригласил приехать 16 сентября в 16 часов вместе со всей семьей на дачу, сообщив, что будет министр обороны Малиновский и Виктор Чураев, один из ближайших помощников Хрущева…
Малиновский привез с собой двухлитровую бутылку шампанского и торт в форме рога изобилия, а Чураев — большого орла, вырезанного из дерева. Когда Варенцов сказал, что «мой мальчик» постарался от всей души, у меня появилось искушение признаться ему, что на самом деле старались пятеро «мальчиков», я сам и четыре моих куратора.
…Когда мы уселись за стол, Варенцов приказал, мне командовать парадом, и я открыл коньяк, который смотрелся на этом столе весьма экзотично. Министр решил пить только коньяк. Я разлил всем по три раза… Они были уже слегка навеселе' после первого бокала, поскольку министр предложил тост за Баренцева, и все выпили до дна».
Между тем в самый разгар этой светской жизни Пеньковского раздирали глубокие внутренние противоречия. Рассказывая о своих успехах, он буквально сиял от счастья, при этом явно наслаждался своими словами, однако разочарование от несбывшихся надежд не могло не давать о себе знать и только усиливалось, поскольку ему казалось (и не без причины), что эти высокопоставленные люди, перед которыми приходилось держать себя столь подобострастно, в интеллектуальном плане были намного ниже его.
В полной мере презрение Пеньковского к системе проявлялось в беседах со своими кураторами. Он был настолько хорошо знаком с ходящими среди военных и политиков слухами, что никогда не испытывал недостатка в скандальных историях о представителях высшего руководства. Но это были не безобидные слухи; многие из его историй точно отражали степень коррупции, существующей на всех уровнях коммунистического «бесклассового» общества. Возьмем, к примеру, Анну Мартынову. Давняя любовница Пеньковского, она была директором специального магазина для генералитета. По его словам, Мартынова была буквально увешана бриллиантами, поскольку высокопоставленные покупатели, довольные ее пылкими услугами, оказываемыми ею в нерабочее время, были весьма щедры. «Настоящее паучье гнездо! — восклицал Пеньковский. — Высокие моральные требования предъявляются ко всем; за небольшие взятки людей подвергают гонениям, выкидывают из партии, но как ведут себя сами эти негодяи!»
За подобными обвинениями, некоторые из которых, вероятно, не стоило принимать всерьез, так как они были результатом излишней горячности и неудовлетворенных амбиций Пеньковского, скрывались гораздо более серьезные проблемы. Многие из них можно было отнести на счет Хрущева, самонадеянность которого выводила Пеньковского из себя. Власть этого тучного, неприятного, но гиперактивного человека бушевала над Россией с 1958 по 1964 год подобно разрушительному урагану, а его незримое, ощущаемое на интуитивном уровне влияние распространялось и на повседневную деятельность разведывательных служб.
Пеньковский против Хрущева
В начале Второй мировой войны Пеньковский служил на Украине, огромном регионе на юго-западе страны, бывшем в XIX веке чем-то вроде американского Дальнего Запада. Являясь армейским офицером, Пеньковский был в то же время политработником (что обычно переводится как «политический комиссар») и в этом качестве во время войны находился в подчинении у Хрущева, который как политический лидер всей Украины превосходил по рангу маршалов и генералов, даже на полях сражений.
Стоило Хрущеву прорваться на самую вершину власти, как этот самоуверенный коротышка в своей ханжеской и многословной речи осудил злодеяния Сталина, хотя, в конце концов, сам был немногим лучше, чем старый диктатор. Вот одна из историй, случившаяся в 1942 году с неким генералом Подласом, одним из многих тысяч офицеров, в свое время арестованных Сталиным и позднее освобожденных после начала войны. Подлас командовал войсками Красной армии, обороняющими город Харьков. Окруженный превосходящими силами противника, он собирался скомандовать своим частям организованно отступить, как вдруг неожиданно прибыл Хрущев. Узнав о решении Подласа, толстый низенький комиссар был вне себя от ярости. Напомнив генералу о его аресте в 1940 году, он закричал: «Вы тогда дешево отделались, товарищ генерал. Имейте в виду, на этот раз это Вам так просто не пройдет….Я расстреляю вас лично, вышибу ваши мозги! Застрелю как последнюю собаку! Приказываю — продолжайте сопротивление!»{12}. Разумеется, выбора у Подласа не было; выполняя приказ Хрущева, его войска были разбиты. Прекрасно понимая, что его ждет, Подлас застрелился.
Пеньковский хорошо знал о давних отношениях его друга Серова с Хрущевым. В период властвования Хрущева на Украине Серов руководил республиканским НКВД. Позднее в его обязанности входила депортация нежелательных народов… Гораздо позднее, когда Серов, по всей видимости, стал мягче характером и перестал устраивать Хрущева, он был убран с поста председателя КГБ и возглавил ГРУ. Находясь на этом посту, Серов сделал все возможное, чтобы защитить Пеньковского, но когда наступила развязка, оказалось, что он не способен противостоять силам госбезопасности, которую некогда сам возглавлял.
Разум и сердце
Возникает искушение объяснить экстраординарное поведение Пеньковского обыкновенной завистью к власти и богатству людей, более преуспевших в жизни, чем он сам. Однако факты говорят об обратном. Пеньковский любил деньги, хотя был при этом не жадным человеком и тратил их в основном на подарки, нужные ему прежде всего для обеспечения лучшего доступа к секретной информации. Постоянно рискуя, но работая с явным удовольствием, он проявлял определенную экстравагантность, лишь подвергаясь необычным искушениям.
Тайно получаемые из США деньги никак не изменили уровень жизни его самого и его семьи. В 1961 году ежемесячные выплаты Пеньковскому составляли тысячу долларов в месяц, примерно столько получает американский чиновник среднего уровня, работающий в полной безопасности в своем офисе в Вашингтоне. Однако эта сумма не шла непосредственно ему, а поступала на счет, находящийся в распоряжении третьей стороны в США. Согласно заключенному контракту, составленному адвокатом ЦРУ, Пеньковский мог воспользоваться счетом «после того, как его услуги потеряют свою ценность и он попросит американское или английское правительство предоставить ему и его семье политическое убежище и гражданство одной из этих стран».
Пеньковский признавался, что при определенных обстоятельствах «деньги текут у него сквозь пальцы». Но при более внимательном рассмотрении, это заявление не выдерживало критики. Будучи щедрым по натуре, он мало тратил на себя.Подобно любому человеку, никогда не имевшему' много денег, сумма, считавшаяся в Америке скромной, казалась ему значительной. Как мало знал Пеньковский о непомерных суммах, потраченных на разведывательную деятельность, имевшую гораздо меньшие результаты! По правде говоря, выросший в обществе, предлагающем своим гражданам столь малое материальное вознаграждение, он плохо знал цену деньгам. К примеру, в своих отношениях с лондонскими проститутками Пеньковский был одновременно сентиментален и скуповат. «Во время развлечений в городе с Винном и некоторыми его друзьями они подобрали мне двадцатитрехлетнюю девушку… хорошую девушку. у нее было красивое имя. Я провел в ее квартире два часа. Все было скромно, но очень мило», — вспоминал Пеньковский. На вопрос, сколько она с него взяла, он ответил: «Винн сказал пятнадцать фунтов, и я заплатил их через него». Два дня спустя наш Пеньковский все еще говорил о ней: «Знаете, я ей определенно понравился. Два часа пролетели совершенно незаметно. Девушка даже немного удивилась, что я ушел так рано. Она живет очень хорошо, у нее такая прекрасная квартира — лучше, чем моя! Я спросил ее, почему она не выйдет замуж»… Пеньковскому даже не приходило в голову, что жизненные стандарты английской проститутки настолько выше, чем его собственные, что вряд ли она даже поняла его вопрос.
Несмотря на осторожность, проявленную в общении с девушкой, когда он предпочел заплатить ей через своего английского друга, в других, более важных случаях Пеньковский был далеко не скуп. В конце его последнего визита в Лондон прощание со своими кураторами завершилось примечательно широким жестом. Он заявил: «Прошло почти два года, как я начал добывать для вас информацию, но лично общался с вами всего лишь три месяца. Наше знакомство было очень приятным и плодотворным, и мне также хочется поблагодарить главы американского и английского государств [он имел в виду королеву и президента Кеннеди] за помощь и поддержку». Затем, перечислив трудности работы кураторов, он продолжил: «Я хочу попросить моих руководителей отблагодарить вас за проделанную Нелегкую работу[5]. Пусть возьмут из моих личных средств с банковского счета, открытого для него ЦРУ сумму, достаточную для того, чтобы дать каждому из вас по 1000 фунтов, фотографу и paдисту по 250 фунтов и техническому персоналу, секретарям, переводчикам и т. д. — по сто фунтов каждому». Пеньковский почувствовал, что наконец-то принят этим «новым миром», частью которого ему так хотелось стать, и этот широкий жест означал подтверждение этого факта. Он также свидетельствовал о том, что отвергнутый матерью-Россией, не удовлетворившей его карьерных амбиций, Пеньковский нашел замену в другой освященной традицией фигуре, также символизирующей материнство.
На его удачу история распорядилась так, что в этот период в Англии правила женщина, которая помогла исполнить его желания. Первоначально Пеньковский не предлагал своих услуг Англии, но все понимали, что он не делал особого различия между одной англоговорящей страной и другой. Его рискованные попытки установить контакты с представителями Англии, Америки и даже Канады подтверждали, что он, подобно Попову, действовал так, будто они являлись гражданами одного и того же государства. Но американцы оказались не слишком расторопны, поэтому, когда англичанин Винн наконец согласился передать его послание, Пеньковский в последний момент дописал от руки еще один адресат, указав Королеву Великобритании Елизавету II. Интересно отметить, что он обращается к ней «Глубокоуважаемая Королева», а к президенту Кеннеди — «Глубокоуважаемый президент». Такая форма обращения, в отличие от Англии, в России не очень принята и используется лишь по отношению к людям, к которым автор действительно относится с глубочайшими искренним уважением.
Обратив свою верность на новые правительства, Пеньковский преодолел не менее серьезный психологический барьер, чем люди, покидающие страну физически. Более того, в данном случае это преодоление было даже тяжелее, поскольку Пеньковский принял на себя добавочный риск противостоять России изнутри, а не извне. Но не все его поступки следовали логике. Весьма сомнительно, что Пеньковский заранее взвешивал все за и против. В своих решениях он часто руководствовался неконтролируемыми импульсами, не поддающимися расчету. У Пеньковского не было никакого плана, никакой схемы действий или карты, могущей провести его по этому новому пути. Психологические границы, эмоциональные тонкости таких действий были ему абсолютно незнакомы. Однако, однажды начав, он действовал на манер древних мореплавателей, его глаза постоянно осматривали горизонт в поисках новых берегов, новых начинаний.
Уильям Брэдфорд, ранний историк Плимутской колонии, подводя итог положения отцов-пилигримов, спрашивала «На кого они теперь могли опереться, кроме как на Бога и его Благодать?»{13}, у Пеньковского не было Бога, в которого он бы верил и на которого бы мог надеяться, вместо этого он искал удовлетворения в том, чтобы оказаться принятым высокопоставленными членами американского и английского правительств. В обычном понимании нашей демократии стремление к подобным контактам может показаться немного абсурдным, но психологически Пеньковский был беглецом, живущим в состоянии постоянной неуверенности, причем, даже в собственной физической безопасности. В обществе, которое он внутренне отверг, он оставался в добрых отношениях с самыми высокопоставленными людьми страны (можно, например, назвать Серова, Варенцова и Малиновского), но теперь это уже не имело значения. Пеньковскому пришлось заменить их на других авторитетных деятелей, которых он мог бы уважать и обретать с ними уверенность. Не являясь, однако, мистиком, он желал встретиться с ними воочию.
Во время второго визита в Лондон Пеньковский затронул вопрос, по всей видимости, давно его беспокоящий. На очередной встрече со своими кураторами он заявил: «Мне бы хотелось встретиться на пять — десять минут с одним из высокопоставленных членов вашего правительства. Вы бы меня представили, а я бы рассказал [ему] о нашей с вами важной и трудной работе». Занимающиеся им оперативники, опытные профессионалы своего дела, как ни странно, не слишком спешили удовлетворить это его стремление к самоутверждению. Даже через пять дней они все еще просили Пеньковского объяснить им причину его желания «встретиться с важной персоной». Он ответил следующее: «Я ожидал этого вопроса и приготовился к ответу на него. Полагаю, что являюсь не совсем обычным агентом, а вашим гражданином, вашим воином. Я не предназначен для обыденных дел. Если бы не мои возможности доступа к секретной информации, даже я, высокообразованный офицер разведки, не рискнул бы обратиться к вам со столь необычной просьбой. Однако мои возможности как тайного агента столь неординарны и специфичны, что я в состоянии оказать помощь своей королеве и своему президенту как действующий солдат. Если правительства, которым я теперь служу, ценят мои услуги, совершаемые в обстановке крайней опасности и самопожертвования… если то, что я уже сделал, имеет определенную значимость… если вы считаете меня неординарным сотрудником, тогда наилучшей оценкой моей работы будет внимание высшего руководства. Вы уже по-своему любите меня… как друга и сотрудника. Вы в меня верите. Но лидеры этого не знают — те, кто принимает решения. Дай Бог, чтобы вы смогли довести до них мои возможности и пожелания».
Поскольку две из трех встреч за границей имели место в Англии, попытка удовлетворить желание Пеньковского получить признание на самом высоком уровне естественным образом предоставлялась именно англичанам. Соответствующий требованиям высокопоставленный англичанин, представленный просто как «сэр Ричард», непосредственный представитель лорда Монбаттена, главы Генерального штаба обороны Великобритании, и родственник королевы, наконец нашелся. Пеньковский чувствовал себя польщенным: «Глубокоуважаемый сэр [он говорил по-английски], я весьма признателен лорду [Монбаттену] и Вам лично за оказанное мне внимание. Для меня это означает признание заслуг. Могу заверить лорда и Вас, что совсем скоро вы узнаете меня лучше и, может быть, даже почувствуете ко мне привязанность… Хочу выразить самое заветное свое желание… я думал об этом еще в Москве… принести присягу моей королеве Елизавете II и президенту Соединенных Штатов господину Кеннеди». Однако, как оказалось, «сэра Ричарда» Пеньковскому было недостаточно. «Хотя сейчас обстоятельства этого не позволяют, — заявил он в конце встречи, — я все же надеюсь, что в будущем меня представят самой королеве».
Даже к двадцать девятой встрече из этой серии измученные кураторы все еще пытались объяснить Пеньковскому, что «организовать встречу с членом королевской семьи невозможно по соображениям сохранения надлежащей секретности. Королева постоянно находится в сопровождении своей свиты». Таким образом, покидая Лондон после целой серии консультаций с американскими и британскими кураторами, Пеньковский все еще лелеял мечту, что когда-нибудь сможет «поцеловать руку королеве», однако вынужден был пока что удовлетвориться меньшим. «Я возьму с собой банкноту в один фунт, — заявил он совершенно серьезно, — потому что на ней есть портрет Ее величества».
Работая в ЦРУ, я слышал, как некоторые сотрудники (хотя и не те, кто работал с ним лично) отзывались о Пеньковском, как о человеке самоуверенном. Но это было совсем не так. Возьмем, к примеру, его замечание, сделанное после встречи с «сэром Ричардом».
Пеньковский: Я не потерял присутствия духа, не так ли? Объяснил все, что было необходимо, но скажите мне по-дружески, все ли я сделал правильно?
Куратор: Да, честное слово.
Пеньковский: А что касается формы — то как это прозвучало — все было нормально?
Куратор: Отлично, все прозвучало прекрасно.
Эта беседа подтверждает внутреннюю неуверенность Пеньковского, которая могла лишь усилиться, так как он все больше и больше разрывался между двумя антагонистическими мирами: один он прекрасно знал и ненавидел, другой, не совсем ему понятный мир, любил всем сердцем. По мере того как секретная деятельность Пеньковского все больше и больше удовлетворяла его стремление жить по таким понятиям, как любовь и лояльность (в его понимании), его связи со знакомыми в России становились все менее естественными. В Москве, разумеется, у него было великое множество друзей и приятелей, не только заполняющих его свободное время, но и снабжающих его информацией помимо их воли. Джордж Кисевалтер сделал следующее интересное наблюдение: «Я обратил внимание на черту характера Олега, бросившуюся мне в глаза, как человеку, выросшему в России, отсутствие у него действительно прочных человеческих привязанностей. За исключением маршала Баренцева, который относился к Олегу как отец, Пеньковский никогда не отзывался ни об одном человеке как о Друге… У него не было близких приятелей. Это Резко контрастирует со всеми другими перебежчиками, с которыми мне пришлось иметь Дело»[6]. Пеньковский был крайним индивидуалистом. Он знал, как использовать в своих целях людей, как делать им услуги, которые принесут ему впоследствии нужные плоды, но никогда не дружил ради дружбы как таковой.
Неудивительно, что попадая на Запад, Пеньковский частенько оказывался в одиночестве. За пределами России он знал лишь Винна и своих кураторов, встречи с которыми были строго регламентированы. «Солдатом он, вероятно, был хорошим, однако никак не мог понять, почему мы не можем поужинать с ним в одном из пригородов Парижа», — отмечал один из оперативников. Другой вспоминал следующий инцидент: «Однажды Пеньковский был замечен поздно вечером гуляющим по Елисейским полям. Проходя мимо уличного кафе и, видимо, заметив нас, он было остановился, но затем неохотно продолжил путь. Ему страстно хотелось чувствовать себя своим. Пеньковский оживал лишь в редкие периоды, когда появлялся на оперативных встречах и занимал центральное место среди восхищенных друзей». Друзей? Да, это было именно так: он ни разу их не разочаровал.
По счастью, одну из его просьб кураторы смогли выполнить без особых хлопот. Пеньковскому понадобилась военная форма высшего офицерского состава английской и американской армий. Ему сообщили, что не являясь генералом, он может примерить на себя лишь форму полковника любой из этих армий, но он не слишком этим разочаровался. Во время второго визита в Лондон оба комплекта были доставлены на конспиративную квартиру, и Пеньковский смог наконец облачиться в форму, сначала британскую. Затем его сфотографировали, в фуражке и без нее. Настала очередь американской формы — и вновь фотографии. «Он был явно доволен, — говорилось в донесении, — и по собственной инициативе повторил клятвы верности обеим странам».
Последние дни на «передовой»
Визит в Париж в октябре 1961 года оказался последним появлением Пеньковского на Западе. Однако он и не подозревал о близости конца и за десять дней до отъезда в Москву писал директору ЦРУ Аллену Даллесу, объясняя мотивы своего возвращения: «Несмотря на большое желание быть с вами уже сейчас, я думаю, что должен продолжить работу в СССР еще год или два, дабы разоблачить злобные планы и намерения нашего общего врага. Другими словами, являясь вашим солдатом, я решил, что в теперешнее тревожное время мое место на передовой».
Встретившись с Пеньковским через несколько дней после написания письма, его кураторы отметили состояние крайней самонадеянности, в котором он находился. Они цитировали его слова: «Пусть я одинок, но все еще силен!»: В конце этой последней встречи Пеньковский, по русскому обычаю, обнял и поцеловал каждого по очереди, а потом все присутствующие должны были сесть и минуту помолчать. Больше за границей он так и не появился. Признаки того, что КГБ его подозревает, появились гораздо раньше. Самым значительным из них явился факт отказа всесильному Серову в направлении своего друга на работу за границу. Учитывая эти обстоятельства, приходилось удвоить меры предосторожности. Наиболее важной из этих мер было назначение на работу в Москву очаровательной англичанки по имени Джанет, которая навечно останется в истории разведки.
Являясь женой офицера, недавно назначенного в английское посольство, Джанет была стойким бойцом того, что действительно называют «передовым фронтом». Специально отобранная и подготовленная для выполнения своего воистину необычного задания, она даже обсуждала с Пеньковским детали их взаимодействия в Москве во время одного из его визитов за границу. Как женщина Джанет должна была вызывать меньше подозрений у КГБ, у нее был ясный ум и, что не менее важно, очаровательный младенец. По донесениям тех, кто организовывал эти 1 встречи, Джанет регулярно появлялась с ребенком в коляске в парке, где они с Пеньковским могли встречаться как будто случайно. Их разговор всегда длился недолго и заключался всего лишь в передаче кассеты с микропленкой, что легко было сделать, наклонившись, чтобы выразить свое восхищение младенцем и уронить пленку в коляску.
Московская стадия операции фактически являлась главной, поскольку основная часть передаваемой Пеньковским информации добывалась именно там. После последней встречи в Париже опасность того, что его упорное желание сфотографировать каждый попадавший в его руки документ приведет к катастрофе, росла с каждым днем. Сами кураторы чувствовали в данной ситуации полную беспомощность, поскольку он просто не желал прислушиваться к их доводам. С другой стороны, им приходилось мириться с самоуверенностью Пеньковского, особенно когда он действовал на своей территории. Дальнейшее повествование, основанное на отчете ЦРУ от мая 1961 года, дает некоторое понятие об образе действий Пеньковского в этот период.
Винн прилетел в Москву днем в субботу 27 мая. С собой у него была сумка с зонтами и три чемодана, в одном из которых лежали подарки Пеньковскому. Там было все, что тот заказывал, за исключением большого канделябра, который никуда не поместился. Оказавшись в аэропорту и не обнаружив встречающего Пеньковского, Винн поначалу несколько растерялся, однако вскоре с облегчением вздохнул, увидев его, спешащего навстречу. На пропускном пункте Пеньковский предъявил пропуск, позволивший Винну пройти таможенный и паспортный контроль без всяких формальностей и в короткий срок. У здания аэропорта их поджидал старый, потрепанный черный автомобиль с таким же старым водителем, по всей видимости знакомым Пеньковского. Машина уже была набита пакетами, которые, как подозревал Винн, имели какое-то отношение к черному рынку.
Вместо того чтобы ехать прямо в Москву, они направились куда-то за город. По дороге Пеньковский, не сказав ни слова, передал Винну три пакета, который принял их так же молча. Наконец они остановились возле деревянного домика. Появившаяся жена водителя помогла Пеньковскому сгрузить его сумки, в то время как Винн, по всей видимости, продолжал крепко сжимать в Руках переданные ему пакеты.
В отчете не дается никакого объяснения всей последовательности событий того дня. Привожу их в этой книге в качестве иллюстрации того, как Пеньковский вел себя иногда, вместо того, чтобы пытаться, как это полагается, соблюдать максимальную осторожность. По завершении всех этих таинственных манипуляций он направил обшарпанное такси в противоположном направлении и, вернувшись в город, наконец остановил его возле расположенного в центре Москвы отеля «Метрополь». По дороге Пеньковский показывал Винну достопримечательности Москвы, а тот передал Пеньковскому упаковки сигарет и какой-то особый лосьон для волос. (Будучи в Лондоне, Пеньковский смочил лосьоном после бритья голову, после чего его волосы приобрели фиолетовый оттенок. Надеялись, что привезенный лосьон поможет исправить эту ситуацию.)
Войдя в «Метрополь», Пеньковский вновь показал свое удостоверение, предоставив к тому же письмо от ГНТК, уведомляющее, что к Винну следует проявлять особую предупредительность, включая предоставление автомобиля на все время пребывания в Москве. Едва устроившись на новом месте, Винн организовал заранее предусмотренную встречу с базирующимся в Москве агентом, которому передал три пакета с только что полученной от Пеньковского информацией. Подобные встречи происходят в полном молчании, средствами общения является язык жестов либо записки от руки, впоследствии уничтожаемые.
Эти три пакета, как оказалось, содержали фотокопии более полутора тысяч страниц совершенно секретной документации. Откуда именно взялись эти страницы, в отчете не указано, однако Пеньковский, по всей видимости, всюду носил с собой камеру и все фотографировал при первой возможности. В письме, переданном Джанет в конце декабря 1961 года, к примеру, он сообщал, что, находясь в кабинете полковника Владимира Михайловича Бузинова, помощника Варенцова, «увидел на его столе документы [составленные Главным маршалом], касающиеся ракет. Предложив мне прочитать их, Бузинов вышел на несколько минут из кабинета, оставив меня наедине с секретными бумагами. Я быстро сфотографировал все. (Для верности два раза.) Этот материал крайне важен; позднее документы доложили на Верховном совете обороны в присутствии Хрущева и других членов правительства». В том же самом письме Пеньковский обещал сфотографировать 420-страничную инструкцию и спрашивал, будет ли представлять интерес другая инструкция — 216-страничный курс по вопросам использования ядерного оружия.
Имевшие с ним дело профессионалы относились к подобному образу действия весьма неодобрительно, но ничего не могли с этим поделать. Во время одного из своих визитов в Лондон в ответ на критику в свой адрес за чрезмерный риск Пеньковский возразил: «Находясь в Англии, я прислушиваюсь к вашим советам, но в Москве тон задаю я». Один из вашингтонских аналитиков ЦРУ отмечал, что инцидент в кабинете Бузинова «последняя и наиболее яркая иллюстрация проблем, тревожащих каждого, имеющего отношение к этому делу….[Однако] наши постоянные предупреждения ради его же безопасности быть осторожнее и думать, прежде чем действовать, встречаться с Джанет не так часто и т.д. и т.п., но в сочетании с нашими же постоянными требованиями переснять такие-то документы, и это и то — все эти слова производят впечатление обыкновенного лицемерия и истолковываются Пеньковским именно в этом смысле».
Поскольку встречи с Джанет проводились по инициативе Пеньковского, то регулярно она просто посещала парк как обычная мать, гуляющая с ребенком, и у кураторов было мало возможности регулировать частоту этих контактов. «Джанет находится в парке со своим сыном, которому сейчас два с половиной года, — сообщалось в одном из донесений из Москвы. — Показавшись на месте действия, Пеньковский направляется по одной из ведущих от этого места улиц, выбирая каждый раз разное направление. Джанет следует за ним, иногда с трудом отрывая сына от снежных сугробов парка.
Джанет одета таким образом, чтобы в ней нельзя было заподозрить иностранку. Пеньковский заходит в один из подъездов и становится так, чтобы видеть как спускающихся вниз по лестнице, так и входящих в дверь. Джанет заходит следом и остается внутри секунд десять. Она передает ему то, что нужно в пачке русских сигарет, он ей — в пачке английских. Они всегда обмениваются парой фраз о здоровье семьи и тому подобном».
Гиперактивный как всегда, Пеньковский за период в 11 недель появлялся на этих встречах десять раз. «То, что он делал, доставляло ему удовольствие, — писал один из кураторов, — он хотел стать одним из лучших в своем деле (не понимая, что, возможно, уже является таковым) и рассматривал отношения с Джанет как символ отношений с союзниками». Кураторы все сильнее чувствовали, что теряют контроль над поведением Пеньковского, все связи с ним осуществлялись теперь в основном через Джанет, то есть через посредника. Перешагнул ли он грань возможного? Находился ли под подозрением? Возможности КГБ в Москве были столь велики, что даже при самой тщательной попытке обнаружить слежку заметить ее было бы трудно.
В январе 1962 года СССР посетила смешанная американо-английская деловая делегация. Пеньковский отвечал за ее прием и сопровождение. В первом донесении о встречах с ним сообщалось, что он явно владел ситуацией, был разговорчив, хорошо одет, находился в хорошей физической форме и не показывал никаких признаков беспокойства. Затем картина резко изменилась. Согласно более позднему донесению, Пеньковский обратился к одному из членов делегации с просьбой передать сообщение кому-то в Англии (кому именно, в источнике не указано). В доставленном куда следует сообщении говорилось, что Джанет находится под наблюдением КГБ; И все же, хотя петля уже быстро затягивалась, Пеньковский не изменил своего образа действий.
Другой член той же делегации — американец, говорящий по-русски, наблюдал за ним с большим интересом и позже отметил «явно двойственное поведение» Пеньковского. В присутствии других советских граждан его поведение было типичным для преданного члена партии. Во время банкета в Ленинграде, к примеру, он поднялся и произнес зажигательную речь в коммунистическом стиле, ничем не хуже любого советского оратора. С другой стороны, оставаясь с членами делегации наедине, Пеньковский допускал откровенные высказывания, не согласующиеся с официальной политикой.
Контакты с ним, в последнее время достаточно эпизодические, стали еще более редкими и затруднительными. В марте 1962 года Джанет случайно повстречалась с Пеньковским на дипломатическом приеме. Некоторое время он покрутился рядом, пока наконец не оказался достаточно близко, чтобы спросить вполголоса: «Должно быть, Вы немного устали, почему бы Вам не отдохнуть в хозяйской спальне?» Через две или три минуты после того, как Джанет последовала его совету, она услышала, как Пеньковский говорил хозяйке: «Какая замечательная квартира! Вы мне ее покажете?» Потом, пройдя в спальню, он извинился, что побеспокоил леди, подмигнул Джанет и, повернувшись к двери, как будто случайно показал ей пачку сигарет, зажатую в руке, которую держал за спиной. Пачка была видна одной лишь Джанет, и, проявив большое присутствие духа, та взяла ее. В ней оказалось несколько писем и одиннадцать кассет микропленки. Одно из писем предупреждало Джанет, что за ней следят, где бы она ни появилась, другие касались его собственных проблем. «Дела обстояли плохо, — писал он. — КГБ продолжает интересоваться моим отцом… Мое командование [ГРУ] считает эти подозрения безосновательными и защищает меня от нападок “соседей”».
Командировка в США, в которую его собиралось послать руководство ГРУ, была отменена по прямому указанию КГБ, направленному непосредственно Серову. По иронии судьбы, теперь, когда было уже слишком поздно, Пеньковский захотел уехать. В письме, находящемся в вашингтонских архивах и неизвестно какими путями попавшем в США, говорится: «Я тоскую и так устал от всего этого, что чувствую себя обессиленным… Мне очень хочется перейти к вам, хоть сейчас бросить все и уехать вместе с семьей из этого паразитического мира. Можно ли что-нибудь для этого сделать? Прошу дать мне совет». Письмо, датированное несколькими днями позднее, гласит: «Моя жена родила вторую дочь. Постарайтесь прислать пальто, платье, комбинезон и детские ботинки на годовалую девочку». Заканчивается письмо следующим образом: «Крепко жму Вашу руку. Всегда ваш друг».
В июле Гревил Винн посетил Москву для организации последнего достаточно длительного контакта кого-либо из наших представителей с Пеньковским. Тот не поприветствовал его прямо на борту самолета, как это бывало раньше, однако встретил в здании аэровокзала и помог пройти через таможенный контроль. Когда они оказались в номере гостиницы Винна, Пеньковский совсем расклеился, даже расплакался. Он выглядел усталым, нервным и в первый раз за все время их знакомства признался, что ему страшно. В тот же День, несколько позднее, Пеньковский попросил Винна достать ему пистолет небольшого калибра, сообщив, что очень плохо спит и берет с собой в постель нож, чтобы покончить с собой в случае ареста.
Договорившись поужинать с Винном на следующий вечер, он опоздал на встречу, затратив слишком много времени на попытку обнаружить за собой наблюдение. В это свое последнее свидание они прошли через парк к маленькому ресторану. За ужином Пеньковский попросил Винна сообщить его друзьям, что в любом случае собирается продолжать работу до сентября. После этого он, хотя и предпочел бы взять с собой семью, но готов также покинуть Россию и в одиночку.
Следующий день оказался трудным для обоих. «Примерно в 8:45 вечера, — сообщил впоследствии Винн, — я взял такси возле американского клуба и минут через пять оказался у ресторана “Пекин”». Обойдя вокруг квартала, чтобы проверить наличие за собой слежки, и не заметив таковой, он вновь направился к «Пекину». Путь лежал мимо подъезда дома, в котором стояли двое мужчин. Сделав вид, что не заметил их, он продолжил движение. Остановившись по пути у витрины магазина, Винн увидел, что один из мужчин последовал за ним. В это время показался направляющийся к ресторану Пеньковский, и англичанин направился туда же, рассчитывая свое движение таким образом, чтобы оказаться у толпящейся возле входа группы людей одновременно с ним. Когда они сблизились, Пеньковский сделал незаметный жест рукой, говорящий о том, что от контакта следует воздержаться. Пеньковский попытался было пройти в ресторан, но обнаружив, что тот полон (обычное дело в Москве в то время), вышел и зашагал прочь, быстро скрывшись за углом.
Винн сделал вид, что пытается отыскать свободное место, но вскоре оставил эти попытки. Выйдя наружу, он заметил тех же самых мужчин, стоящих в сторонке на другой стороне улицы, но не стал оглядываться, решив, что лучше всего будет вернуться в отель в надежде на инициативу Пеньковского. Окружающий его мир внезапно стал враждебным. Остановив такси, Винн понял, что водитель не хочет его везти. Однако в самый разгар препираний он заметил Пеньковского, идущего по дорожке, ведущей к небольшому жилому комплексу. Как только такси отъехало, Винн последовал за ним. Когда они поравнялись, Пеньковский быстро прошептал: «За вами следят… Увидимся завтра утром». И скрылся между домами.
Винн повернулся назад, но преследователи тоже куда-то делись, вероятно зашли в один из домов. Набравшись храбрости, он двинулся в их направлении, однако, по всей видимости, пораженные его действиями, соглядатаи тут же удалились.
В этом моя сила
В конце августа 1962 года ЦРУ получило от Пеньковского очередные фотокопии и последнее письменное сообщение. Для человека, знающего, что ему самому, а возможно, и всей его семье грозит неизбежный арест, это послание поражает своим спокойным принятием действительности. Не оставляя окончательно надежд на будущее, он рассматривает возможные пытки, судебный процесс и смертный приговор как суровую реальность. Даже стоя перед лицом мученической смерти, Пеньковский пишет своим кураторам длинное, на удивление сдержанное письмо (выдержки из которого приведены ниже).
«Дорогие друзья,
скоро будет уже год со времени нашей последней встречи. Мне очень вас не хватает, в настоящий момент я все еще не уверен, суждено ли нам вновь когда-либо увидеться.
Я сам и члены моей семьи находимся в добром здравии. Настроение у меня нормальное, есть желание работать.
Я уже привык к тому, что время от времени замечаю за собой слежку и что нахожусь под контролем. «Соседи» продолжают мною заниматься. По какой-то причине они не оставляют своих попыток… Я в недоумении и теряюсь в догадках и предположениях.
Тем не менее хочу подчеркнуть, что нисколько не разочарован своей жизнью или работой, я полон сил и желания продолжать начатое важное дело. Это является целью моей жизни и, если мне удалось добавить несколько кирпичиков в здание нашего общего Дела, я могу быть полностью удовлетворен.
Вряд ли теперь стоит прекращать фотографирование, необходимо продолжать работу до тех пор, пока у меня не отберут удостоверение.
Если они уберут меня из ГНТК, я сделаю последнюю попытку остаться в армии, обратившись к [министру обороны] Малиновскому, Серову и Варенцову… Если не поможет и это, я в Москве не останусь. Прошу Вас понять это и санкционировать вышеупомянутые решения и действия».
В том, что произошло в следующие два месяца, есть что-то призрачное, потому что никто в Вашингтоне или в Лондоне не хотел признавать, что эта уникальная успешная тайная операция близится к завершению. Сам Пеньковский был не более реалистичен. Как хорошо информированный русский, осведомленный гораздо лучше, чем любой иностранец, о жестоком упорстве следователей КГБ, он тем не менее продолжал думать о своей миссии. «Я отыскал два очень хороших почтовых ящика, — сообщалось в его последнем письме. — Не хочу появляться там для детального осмотра местности, пока за мной следят. Пришлю описание позднее».
Заботясь о своем будущем и будущем своей семьи, Пеньковский пытался также получить положительный ответ на некоторые вопросы. Он просил более объективно пересмотреть цену предоставленной им информации, компенсация за которую, что было вполне справедливо, казалась ему неадекватной. (К августу 1962 года, после двух лет смертельно опасной работы, на его счету в Америке лежало сорок тысяч долларов — сумма хотя и немаленькая, однако весьма скромная по сравнению с важностью полученной информации.) Никогда не теряя надежды, Пеньковский просил ЦРУ рассмотреть возможность выплаты ему крупного вознаграждения сразу после бегства из России, «поскольку мне хочется сразу завести свое собственное дело… я задаюсь вопросом, что оставлю после себя близким и дорогим для меня людям». Далее он продолжает: «Однако заверяю Вас в том, что если эта моя просьба не будет удовлетворена, качество моей работы и мой энтузиазм нисколько не пострадают… Поверьте мне, в этом моя сила».
По иронии судьбы, как раз в то время, когда возможность контактов с Пеньковским снизилась до минимума, нужда в его помощи внезапно возросла. Американо-советские отношения переживали новый кризис, на этот раз в районе Карибского моря. 23 октября 1962 года главе английской разведки поступила секретная телеграмма из Вашингтона с просьбой помочь связаться с Пеньковским. «Днем раньше, — говорилось в этом сообщении, — президент Кеннеди заявил о наличии у нас надежных свидетельств того, что Советский Союз снабжает Кубу наступательным оружием, включая ракеты класса «земля — земля». Поскольку ситуация стремительно меняется, нам не хотелось бы задавать Вам конкретные вопросы, могущие потерять всякое значение уже ко времени их поступления. Мы только сообщаем, что любая конкретная информация о военных и дипломатических шагах, предпринимаемых или планируемых Советским Союзом, представляет собой особую важность». К несчастью, это сообщение поступило слишком поздно, — Пеньковский был уже арестован.
Суд
Мы не в состоянии с уверенностью сказать, каким образом Пеньковский был окончательно раскрыт КГБ. Поскольку настоящее исследование посвящено главным образом личностным характеристикам и мотивациям людей, которые шпионят против собственной страны, в нем нет места для анализа и бесконечных спекуляций по поводу возможных причин провала{14}. Основные факты таковы. Первым подтверждением того, что Пеньковский может быть арестован, было задержание сотрудника американской разведки во время изъятия шпионских материалов из почтового ящика 2 ноября 1962 года. За этим неприятным инцидентом последовал арест неутомимого Винна венгерской полицией в Будапеште 4 ноября и передача его (очевидно по достигнутой ранее договоренности) Советскому Союзу. Пеньковского и Винна судили в Москве одновременно на заседании Военной коллегии Верховного суда СССР. Процесс длился с 7 по 11 мая 1963 года.
Присутствующий на суде британский дипломат позднее вспоминал:
«В зале суда было очень душно… советские фото- и кинооператоры (их западным коллегам снимать запретили) присутствовали в большом количестве. Каждый драматичный момент сопровождался всплеском фотовспышек и жужжанием кинокамер, почти заглушавшим слова участников процесса.
Председатель суда не производил впечатление сильной личности… Его редкие вопросы, адресованные свидетелям и обвиняемым, казались неуместными и неумными. За все время процесса он не делал никаких заметок, зато имел что-то вроде сценария и отмечал галочками вопросы обвинителя…
Зато обвинитель задавал вопрос за вопросом усталым и монотонным голосом. Он редко повышал его, не выказывал никаких эмоций и не пытался вызвать их у других. Его целью являлся просто изматывающий допрос обвиняемых, не слишком, впрочем, удавшийся. В тех редких случаях, когда Пеньковский ошибался с ожидаемым нужным ответом и не отвечал быстро, обвинитель явно терялся…
Защитником Пеньковского был неприметный человек с невыразительным голосом и наружностью, явно удрученный бесполезностью и безнадежностью своей роли… [Его заключительная речь] прозвучала крайне бледно, создавалось впечатление, что, понимая всю бесперспективность дела, он начал в какой-то мере жалеть о том, что вообще взялся за эту защиту.
Пеньковский же, напротив, давал показания уверенно, почти что охотно, без всяких видимых эмоций и боязни неизбежного конца. Он был уверен в себе, многоречив и казался довольным компетентностью своих действий. Впечатления того, что он подвергся психологической обработке или воздействию лекарственных препаратов, не было, однако в его ответах ощущался некий автоматизм.
В то же время его психическое состояние казалось не совсем нормальным, чувствовалось влияние какого-то стимула, возможно естественного возбуждения и облегчения от возможности публично высказать все накопленное за долгие месяцы одиночества».
В отчете английского посольства об этом процессе отмечалось, что хотя Пеньковский «объяснял свои преступные действия моральными недостатками — пьянством, тщеславием, стремлением к легкой жизни», он все-таки возражал против некоторых суждений по поводу его характера. «В намерения обвинителя, — говорилось в отчете, — входило желание всячески принизить значение Пеньковского, для чего были выставлены в качестве свидетелей лишь двое мало что значащих советских граждан». Один из них, шофер такси, услугами которого Пеньковский пользовался, чтобы подвозить Винна от аэропорта, обвинил его в многочисленных связях с женщинами и сказал, что тот «интересовался в основном едой, выпивками и женщинами».
Другой свидетель, некий Финкельштейн, о котором больше ничего не известно, был несколько более значим, если; конечно, верить тому, что он рассказал о себе со свидетельской трибуны. Он заявил, что познакомился с Пеньковским примерно в 1952 году, и хотя они никогда не были близкими друзьями, заметил в подсудимом некоторые «негативные черты — тщеславие, высокомерие, себялюбие». Один раз обвинитель прервал его следующим требованием: «Свидетель, расскажите нам о том вечере, когда вместо бокала вино было выпито из женской туфли».
«Это произошло в ресторане “Поплавок”, — ответил Финкельштейн. — Одну из присутствующих женщин звали Галя; Пеньковский был ею увлечен… Кто-то сказал, что для демонстрации уважения к женщине нужно выпить из ее туфли. Все со смехом это одобрили, а Пеньковский действительно выпил вино из туфли Гали».
Председательствующий судья спросил: «Туфля была снята с ее ноги?» Финкельштейн ответил: «Да, с ее ноги». Позднее он заявил, что Пеньковский «зарабатывал больше, чем все остальные из нас», хотя не считал этот факт в качестве повода для зависти. Затем последовали более серьезные показания. Эксперт-почерковед заявил, что некоторые выписки (взятые, очевидно, из секретных документов) сделаны рукой Пеньковского, а другие официальные документы скопированы на его печатной машинке. Затем выступила эксперт-химик Кузнецова, ответившая на вопросы по поводу двух чистых листов бумаги, изъятых из потайного места в квартире Пеньковского. «Эти два листка, — сказала она, — обработаны специальным химическим веществом, позволяющим использовать их… для нанесения невидимого текста». Далее человек, представленный как эксперт Наумов, засвидетельствовал, что радио и шифры, найденные у Пеньковского, пригодны для получения инструкций от «американского шпионского центра во Франкфурте-на-Майне, передающего' шифрованные радиотелеграммы азбукой Морзе». Кульминацией дачи свидетельских показаний, если судить по советскому официальному отчету, было признание Пеньковского, что он не один раз пренебрегал своими служебными обязанностями в ГНТК, поскольку «я присутствовал на встрече с офицерами разведки… мне было дано задание установить и активизировать контакты с людьми, имеющими доступ к военной, экономической и политической информации». Было также упомянуто о том, что он «установил близкое знакомство с офицером английской разведки Джанет-Энн Кисхолм, женой второго секретаря английского посольства в Москве Родрика Кисхолма». «Можно сказать, — не без юмора отмечается в отчете, — что шпионаж являлся для них семейной профессией».
Некоторые другие высказывания из этого официального советского отчета также были не лишены юмора (хотя, вероятно, невольного). Взять, к примеру, следующую трактовку англо-американских отношений: «Сотрудники американских разведывательных служб, очевидно, решили “наставить рога” своим британским партнерам, организовав встречу с Пеньковским без ведома последних. [На этой встрече американцы] выразили сожаление в связи с его работой на англичан, они предлагали ему золотые горы за то, чтобы он переехал в Америку». (Совершенно очевидно, что человек, подвергавшийся соответствующему давлению, признается во всем что угодно, особенно, если в руках мучителей находятся его жена и дети.) Ограниченный весьма жесткими рамками Пеньковский вел себя достойно. Английский поверенный, прибывший в Москву для оказания помощи Винну, но так и не получивший разрешения участвовать в защите, соглашался с тем, что на Пеньковеком «не проявлялись какие-либо следы психологической обработки. Все его поведение, присутствие духа в сочетании с ясностью разума произвели на меня огромное впечатление. Тем не менее все это было похоже на прекрасно отрепетированную пьесу».
«В заключительный день, — говорилось в отчете английского посольства, — зал суда напоминал битком набитый римской цирк, зрители которого держали большие пальцы направленными вниз. Приговор Винну — восемь лет лишения свободы — был встречен аплодисментами, однако настойчивые возгласы “мало” чуть было не заглушили обвинительную речь».
Пеньковский был приговорен к расстрелу. После того как приговор прозвучал, раздались «бурные аплодисменты, скамьи зала заседания трещали от веса взобравшихся на них упитанных матрон, пытавшихся уловить реакцию Пеньковского».
Заключение
Деятели СССР, бывшие во времена Пеньковского крупными фигурами, давно сошли с политической сцены. Хрущев, вынужденный в 1964 году уйти в отставку со всех своих постов, стал «персоной нон грата» в своей стране. Генерал армии Серов, глава ГРУ, который, согласно свидетельству другого политического перебежчика, «поддерживал Пеньковского до самого конца», был понижен в звании на три ступени и назначен помощником командующего Приволжским военным округом. После падения Хрущева Серова исключили из партии и отправили в отставку. Главный маршал артиллерии Варенцов был выведен из состава Верховного совета обороны и вскоре умер.
А что с полковником Чарльзом Пиком, американцем, которого Пеньковский называл своим «самым лучшим другом» и которому мог бы предложить свои услуги еще в 1958 году, окажись он тогда в Турции? В мае 1963 года, когда возникло опасение, что имя Пика может всплыть на поверхность во время процесса, Вашингтон решил, что он должен быть проинструктирован, как отвечать на возможные вопросы прессы. Одно из зарубежных отделений ЦРУ вошло с ним в контакт и сообщило следующее: «Он ничего не знал об аресте Пеньковского и о суде над ним и вообще с трудом его вспомнил». «Sic transit gloria mundi». — Какой бы славой не пользовался шпион, она, скорее всего, будет короткой.
Глава 3. ЮРИЙ НОСЕНКО. БЕГЛЕЦ В АДУ
Встреча в Женеве
Женева, прекрасная Женева, расположенная на берегу озера, сверкающего в лучах восходящего солнца. Был июнь 1962 года, и капитан КГБ Юрий Носенко находился на задании, которому суждено было стать поворотным пунктом всей его жизни. Он был направлен в Женеву в качестве наблюдателя за советской делегацией, прикомандированной к одной из многочисленных международных организаций, регулярно собирающихся в Швейцарии. Никогда ранее не бывавший за пределами СССР, Носенко был очарован великолепием этого приозерного города.
По советским понятиям, Носенко был человеком неординарным, семью его отнюдь нельзя было назвать заурядной. Даже наоборот. Родившийся в 1927 году, Юрий принадлежал к так называемой «золотой молодежи» выходцев с самой вершины советской социальной пирамиды. Его отец был министром кораблестроения и членом верховного правящего органа страны — Центрального Комитета Коммунистической партии. Этот министр занимал столь высокое положение, что после его смерти на кремлевской стене появилась бронзовая мемориальная доска [с замурованной урной с его прахом]. Принимая во внимание происхождение Юрия Носенко, не удивительно, что он в конце концов стал офицером КГБ, — положение, само по себе достаточное для того, чтобы занять соответствующее место среди советской элиты. Более того, первым его местом службы был сектор КГБ, занимающийся американским посольством, — престижное назначение, верное свидетельство наличия хороших связей. Носенко продолжал продвигаться по службе, с каждым новым назначением улучшая свое положение. Попав наконец в сектор, контролирующий иностранных туристов, он вскоре сделался собутыльником своего начальника-генерала. Разница в положении сглаживалась высоким статусом отца Юрия Носенко. Благодаря подобному покровительству он вскоре достиг должности заместителя начальника сектора, позиция, дающее право на вожделенную привилегию заграничных командировок. Первой такой возможностью стало назначение в Женеву, где и начинается его история. Носенко не отличался особым умом или чувством ответственности, а единственным крупным его недостатком была свойственная многим согражданам тяга к спиртному.
Посетивший в первый же вечер несколько баров Носенко, проснувшись утром в номере женевского отеля, чувствовал себя не слишком хорошо. Противиться соблазнам идиллического города было просто невозможно, по счастью его обязанности в качестве сопровождающего офицера КГБ были не слишком обременительны. Воспользовавшись преимуществом того, что члены делегации, за которых он нес ответственность, не имели возможности следить за своим надзирателем, Носенко отделился от них вскоре после ужина. В городе было множество ночных питейных заведений и соблазнительных женщин, выпивка следовала за выпивкой, внезапно он вновь оказался в своей постели, ощущая рядом с собой чье-то улыбающееся присутствие, — это было последнее, что всплыло в его памяти после того, как он вновь пришел в сознание на следующее утро.
Очнувшись окончательно, Носенко мог вспомнить лишь то, что привел с собой в гостиницу проститутку. Внезапно встревожившись, он быстро проверил свои карманы, выяснив, по крайней мере, один непреложный факт — эта улыбчивая девушка исчезла вместе с большей частью его наличных денег, эквивалентных двумстам пятидесяти долларам в швейцарских франках. Не говоря уже о том, что ему не на что было жить в период командировки, перед отъездом он должен был представить документированный подробный отчет обо всех своих расходах. Наказание за растрату казенных денег было в КГБ весьма суровым, так что восполнить недостающую сумму, просто обратившись к одному из своих постоянно работающих в Швейцарии коллег, не представлялось возможным. Подобное признание, говорящее о том, что надзиратель сам нуждается в надзоре, поставило бы крест на его карьере. Что же оставалось делать?
Подобно Петру Попову и многим другим ему подобным, Юрий нашел лишь один выход — предложить свои услуги американскому крезу. Являя собой типичный пример того, что было так верно названо золотой молодежью, Носенко привык наслаждаться возможностью тратить деньги, Не особенно задумываясь, откуда они берутся, поэтому моральные проблемы его не беспокоили. Более того, будучи офицером КГБ, он знал, что русских перебежчиков принимают в Америке хорошо и они получают там убежище, особенно если эти русские обладают ценной информацией.
К своему счастью, Юрий запомнил находящийся в самом центре Женевы притягательный центр искушения, большое, заметное издалека здание консульства США. Вот куда ему надо было идти! Принимая это решение, он, однако, вряд ли представлял себе, что после установления контактов с американцами жизнь его изменится самым кардинальным образом, не говоря уже о том, чтобы предвидеть, насколько трагически сложатся для него обстоятельства.
Обращение Носенко за помощью поначалу протекало с такой легкостью и простотой, как это бывает лишь в детских мечтах. Простодушно представившийся чиновнику консульства, он, ответив всего на несколько вопросов, получил заверения в том, что необходимая помощь ему будет оказана. Все, что надо было сделать, так это явиться вечером следующего дня в расположенную неподалеку квартиру, адрес которой ему сообщили. Носенко тут же согласился, не подозревая о том, что несколько часов предстоящей встречи окажутся в его жизни судьбоносными.
Однако с приближением назначенного времени беспокойство его все возрастало, особенно усилившись на следующий вечер, на пути по незнакомым улицам к назначенному месту. Являясь сотрудником КГБ, он прекрасно понимал, что подобное приглашение на частную квартиру является признаком нелегальности встречи и разговаривать придется отнюдь не с официальными сотрудниками консульства, а с агентами секретной службы. Не имея представления о количестве постоянно проживающих в Женеве агентов КГБ, людей, чьим основным занятием являлось наблюдение за большим количеством русских» работавших в многочисленных международных организациях города, Носенко не мог знать, насколько пристально ведется это наблюдение, и по мере приближения к пункту назначения, все более и более ощущал опасность предстоящего свидания.
Тревожило его и другое, менее конкретное соображение. Не считая краткой вчерашней беседы с представителем американского консульства, он никогда ранее не встречался ни с одним представителем Соединенных Штатов. Что они из себя представляют, эти американцы? Будучи столь богаты, поймут ли они его проблемы? Как всегда в непростые периоды своей жизни Носенко решил пропустить рюмку, за которой вскоре последовали еще несколько. При выходе из каждого бара, боясь возможного преследования, он тревожно оглядывался, ища подозрительные лица. Это процедура была повторена несколько раз: бар, рюмка, оглядывание окрестностей, затем очередной обход квартала. Однако, как Носенко ни пытался, ему не удавалось избавиться от страха перед возможной слежкой своих коллег, поэтому он ре-.«шил, что наилучшим решением будет встретиться с американцами как можно скорее. Но прежде всего, еще одну рюмочку!
Прибыв наконец к назначенному месту с некоторым опозданием, он был встречен группой сотрудников ЦРУ, возглавляемой молодым энергичным офицером разведки по имени Тенант Бэгли, который не говорил по-русски. Сопровождал его старый друг Попова и Пеньковского, говорящий на обоих языках Джордж Кисевалтер, присутствующий в качестве переводчика. Оба были вызваны с различных концов света специально ради этой встречи.
Эти американские кураторы встретили посетителя с подчеркнутой вежливостью и, не зная, сколько к тому времени пришлось выпить Носенко, предложили ему еще. Приняв предложение, он не отказывался и от дальнейших. Носенко признался мне много лет спустя: «Должен сказать честно, Джон, я был тогда навеселе».
«Вы хотите сказать, что были пьяны?» — спросил я.
— «Да, я был пьян, очень пьян».
Проблемы доверия
Июнь 1962 года был не лучшим временем для Русских перебежчиков. Внутри самого ЦРУ вопросами контрразведки в тот период занимался не совсем адекватный человек по имени Джеймс Джизус Энглтон. Сочетание недисциплинированного ума Энглтона, его пылкого воображения и готовность видеть оплачиваемые коммунистами подрывную деятельность и шпионаж почти всюду вылились в параноидальные идеи о масштабе угроз Соединенным Штатам — и не только в голове самого начальника, но и в головах его помощников и подчиненных.
Бэгли сильно недооценил возможную реакцию начальника контрразведки на предложение Носенко передать информацию отделению ЦРУ в Женеве в обмен на денежную сумму, эквивалентную украденной у него швейцарской проституткой. Со стороны молодого и зеленого русского это заявление являлось не более чем обыкновенным ребячеством, однако для Энглтона и его помощников оно несло в себе все признаки злонамеренной попытки установления рабочих контактов с ЦРУ, имеющих целью «проникновение» в разведывательное агентство. Подобные тонкие подрывные действия КГБ иногда действительно доставляли немало проблем, однако в данном случае сотрудники ЦРУ должны были иметь достаточно здравого смысла, чтобы увидеть в инициативе Носенко то, что она представляла собой на самом деле — мольбу о помощи неопытного молодого человека. Если бы они явились на встречу, имея при себе легко доставляемый портативный детектор лжи, управляемый опытным оператором, то кое-какие сомнения быстро отпали бы сами собой. Пришлось, однако, руководствоваться лишь коллективной интуицией Бэгли и Кисевалтера.
Много лет спустя в беседе со мной Носенко признался, что сильно напортил себе хвастовством и преувеличением собственных достоинств — не слишком, может быть, непомерными, если судить о них по стандартам обычной пьяной болтовни, однако в данных обстоятельствах этого было вполне достаточно для того, чтобы позднее использовать подобную гиперболизацию против него самого. Ситуация усугублялась еще и тем, что все встречи записывались на магнитофон, который периодически ломался. Однако неисправное состояние этого механизма имело даже меньшее значение, чем тот факт, что позднее, когда делались переводы, он просто не всегда использовался. Большая часть того, что считалось «переводами», оказалась взятой вовсе не с магнитных записей, а записанной на основе воспоминаний Кисевалтера о беседах с Носенко. (Участвовать в составлении этих «переводов» приходилось, естественно, Кисевалтеру. Бэгли, хотя и изучал русский язык, вести на нем беседы не мог.) Тем не менее эти весьма неточные «переводы» оказались в архивах ЦРУ в качестве официальных документов и позднее были использованы как «доказательства» того, что Носенко лгал во время этой и последующих встреч. В результате Носенко был скинут со счетов как возможный источник ценной информации и в конце концов стал жертвой все более усиливающихся подозрений Энглтона. Вот пример одного из таких неточных переводов. Сообщая свою биографию, Носенко упомянул о том, что посещал военно-морскую школу (по всей видимости, нахимовское училище. — Пер.), носящую имя советского военного героя генерала Фрунзе. Этот правдивый факт его жизни, к сожалению, попал в досье ЦРУ в искаженной форме, как утверждение об окончании советского аналога Вест-Пойнта — Военной академии им. Фрунзе. Ничтожная деталь, не более, однако пригодившаяся Бэгли и иже с ним, Упорно впоследствии искавшим доказательства того, что они считали двурушничеством этого наивного молодого человека.
Внешне, однако, первая встреча завершилась, вполне сердечно, что не удивительно. Носенко раскрыл нескольких агентов КГБ, поставлявших информацию с американских военных объектов за рубежом. Наиболее потенциально важным сигналом с его стороны явилось уведомление об угрозе безопасности американского посольства в Москве, заключавшейся в установке в здании специалистами КГБ скрытых микрофонов. К несчастью, он не мог точно указать, в каких именно помещениях находились эти подслушивающие устройства, а также не знал, где они были спрятаны: в стенах, на полу или потолке. Поскольку эти сведения оказались не только неточными, но и не слишком приятными, Государственный департамент США воспользовался отсутствием конкретики в сообщении Носенко для иллюстрации неписаного, но широко тем не менее применяемого бюрократического правила: не обращать внимания на плохие новости, насколько это только возможно. В результате подтверждение факта широкомасштабного прослушивания американского посольства и дальнейшее расследование произошло лишь восемнадцать месяцев спустя, в январе 1964 года, после возвращения Носенко в Женеву с детальной информацией о пятидесяти двух устройствах, установленных в самых важных точках здания, включая кабинет посла.
В любом случае, после встречи, состоявшейся в июне 1962 года, еще до получения подтверждения факта прослушивания, Бэгли имел все основания полагать, что его женевская миссия протекает вполне успешно. 11 июня 1962 года он отправил в Вашингтон телеграмму, в которой заявлял следующее. «Предоставив важную информацию и показав готовность к дальнейшему сотрудничеству, Носенко окончательно доказал свою лояльность».
Подозрения
Прежде чем идти дальше, мы должны предупредить читателя: дело Юрия Носенко сложное и скандальное, поэтому может вызвать не только недоумение, но и возмущение, но может многое сообщить о реалиях и проблемах профессии разведчика. К несчастью для Носенко, против него сработало сочетание трех неблагоприятных обстоятельств: напряженное состояние советско-американских отношений, все усиливающееся параноидальное настроение Джеймса Энглтона и, наконец, убийство Джона Ф. Кеннеди, способствующее возникновению подозрения, что этот человек, в июне 1962 года вошедший в контакт с ЦРУ вроде бы по доброй воле и позднее, в 1964 году, перебежавший в США, на самом деле являлся двойным агентом, имевшим цель ввести Соединенные Штаты в заблуждение.
История с Носенко принципиально отличается от двух других, приведенных выше, — Петра Попова и Олега Пеньковского, поскольку этих двоих считали искренними и никогда не подозревали в работе против Соединенных Штатов. Кроме того, Носенко был совершенно иным человеком. В частности, в его натуре почти не было двойственности, присущей двум другим и позволявшей им довольно длительное время вести секретную подрывную деятельность против Советского Союза, оставаясь внешне лояльными и к нему. Носенко был человеком заурядным, и, когда мы с ним наконец ветретились, я заметил, что, несмотря на довольно хорошее знание английского языка, он редко пользовали ся в своей речи абстрактными понятиями, даже такими простыми, как «добро» и «зло». Годы одиночного заключения, казалось, настолько сузили его умственный и психический горизонты, что от жизни он желал только одного — минимально пристойного к себе отношения.
От других случаев предательства Носенко отличался и тем, что у него никогда не было явного желания стать шпионом. Скорее, совсем наоборот. Ценная информация, предоставленная им в период первого пребывания в Западной Европе, должна была всего лишь послужить гарантией его полезности нам, американцам, и склонить нас к выплате ему денег за эту информацию. Оказавшись на крючке, он поставил перед собой единственную долгосрочную задачу — окончательно порвать с Советским Союзом и как можно скорее обосноваться в свободном мире. Таким образом, попав в Женеву во второй раз в январе 1964 года, Носенко был уже готов остаться на Западе, поэтому и перебежал открыто, попросив политическое убежище в Соединенных Штатах.
Несогласие Вашингтона
Далее в книге следует уделить некоторое внимание настроениям, господствующим в штаб-квартире ЦРУ в момент первого появления Носенко в июне 1962 года. Оценивая важное значение этого факта и целесообразность продолжения его контактов с ЦРУ, Бэгли и Кисевалтер не приняли во внимание следующие два существенных обстоятельства: подозрительности Джеймса Энглтона (грозной тучей нависающей над всем, что хоть в какой-то мере касалось Советского Союза) и безыскусности большинства сотрудников из его ближайшего окружения. В частности, один весьма высокопоставленный сотрудник отзывался о заключениях Бэгли по поводу Носенко с крайним презрением. Остановимся на мгновение на доминирующем влиянии Энглтона как начальника контрразведки ЦРУ.
Именно Джеймс Энглтон по неосторожности доверил секреты советскому агенту Киму Филби, и о Джеймсе необходимо рассказать более подробно. В 1948 году, когда я впервые встретился с ним в Риме, он казался обаятельнейшим человеком. Его юность частично прошла в Италии, после чего Энглтон окончил престижную частную школу в Англии. Во время и после Второй мировой войны он служил в Управлении стратегических служб, в появившейся вместо этого управления Центральной разведывательной группе, а позднее — в ЦРУ Возглавив после окончания военных действий разведывательную деятельность США в Риме, Энглтон впервые столкнулся с энергичными попытками коммунистов захватить власть в Италии. Понятно, что глубокая подозрительность Джеймса к любой их активности где бы то ни было в мире происходила именно из этого опыта.
Когда его перевели из Европы на службу в Вашингтон, Энглтон быстро приобрел репутацию интеллектуала, детально знакомого с коммунистической активностью. Его рассказы о кознях советских служб, сопровождаемые ссылками на русских, чьи фамилии ничего не означали для большинства из его высокопоставленных коллег,, принимались за чистую монету, поскольку ни у кого из них не было основания оспаривать авторитет Энглтона. С другой стороны, по всеобщему признанию, он был весьма неорганизован; ящик его стола являлся своего рода бездонным колодцем, извлечь из которого что-либо можно было лишь с большим трудом.
Наибольшее влияние Энглтона пришлось на те двадцать лет, которые он возглавлял контрразведку ЦРУ — укутанную завесой глубокой тайны организацию, с переменным успехом выполняющую сложную задачу выявления шпионов из Советского Союза и стран восточного блока, подозреваемых в деятельности против Соединенных Штатов. Работа в качестве главы этой организации была настолько сложной и напряженной, что требовала самого лучшего руководителя, который только мог найтись в ЦРУ. Даже если Энглтон в свое время и соответствовал вышеупомянутым критериям, то к концу 1950-х годов это было уже далеко не так. Тщательно культивируемый имидж, разумеется, сохранился, но сам человек — нет. Возможно, из-за своего вошедшего в легенду пьянства беспорядочная память Энглтона превратилась к тому времени в бессистемную свалку малозначащих фактов, в большинстве случаев не имеющих никакого отношения к обсуждаемым в ряде случаев вопросам.
В 1976 году, когда мы оба были уже в отставке, меня вновь пригласили на службу в ЦРУ специально для расследования дела Носенко. В период активной стадии этого процесса Энглтон сыграл весьма важную роль, убедив большинство своих коллег и начальство, что Носенко является «агентам дезинформации», посланным КГБ для дискредитации правительства Соединенных Штатов. Утверждение было весьма ответственным и спорным, и Энглтон знал, что я не был с этим согласен. Когда я пригласил его в мой временный офис в штаб-квартире ЦРУ, он, однако, охотно согласился обсуждать этот вопрос.
Наша беседа с Энглтоном, начавшаяся в час дня, отняла более четырех часов и была полностью записана на магнитную ленту. На следующий день, получив более сорока страниц распечатки беседы, я пришел в ужас, впервые ясно осознав, насколько дезорганизованными были его мысли и сама речь. Должен честно признаться, что обсуждал эту тему с Энглтоном гораздо раньше и даже тогда его тезис о «дезинформации» в отношении Носенко казался мне неубедительным. Объясняю, почему я уделяю Энглтону столько внимания в этой книге. Он, более чем кто-либо другой, повлиял на атмосферу, в которой выносились суждения о Носенко в период установления с ним контакта в июне 1962 года и его окончательного перехода на нашу сторону в январе 1964 года.
Мыслительные способности Энглтона, не слишком развитые от природы, были заблокированы еще сильнее в 1961 году под влиянием бывшего майора КГБ Анатолия Михайловича Голицына. После перехода Голицына на нашу сторону Энглтон сразу принял его в качестве источника информации и советника своего ведомства, несмотря на отзыв психоаналитика ЦРУ о советском перебежчике как о «параноике». Этот вывод о серьезном психическом отклонении Голицына было сразу оспорен, так как психоаналитиков в ЦРУ никогда не воспринимали всерьез. Как бы то ни, было, Голицын был принят Энглтоном с распростертыми объятиями и имел значительное влияние на многих сотрудников управления.
Остановимся более подробно на интеллектуальных и эмоциональных особенностях этого странного русского. Начнем с того, что отношение Голицына к перебежавшему Носенко было отнюдь небеспристрастным. Голицын был твердо уверен, что Носенко был послан КГБ со специальной миссией дискредитировать либо даже убить его самого. Опираясь на свои знания КГБ, Голицын был убежден в вездесущей и злобной силе советских спецслужб, направленной на уничтожение Соединенных Штатов и их западных союзников. Основой этой угрозы являлась, по его мнению, демонстрация мнимого раскола между Советским Союзом и коммунистическим Китаем, в котором Голицын видел простую уловку, разработанную в КГБ с целью сбить Запад с толку. Я до сих пор с удивлением и сожалением вспоминаю, что сам Энглтон безоговорочно принимал эту фантастическую идею. Другой любимый тезис Голицына: чтобы защититься от его разоблачений, КГБ предпримет ответные действия, прислав в Соединенные Штаты своих двойных агентов, которые по прибытии в США предоставят американцам «дезинформацию», призванную скомпрометировать самого Голицына. Если бы подобные мысли были приняты другими столь же безоговорочно, как Энглтоном, тогда главным советником правительства Соединенных Штатов по всем советским вопросам стал бы только один человек — сам Голицын.
Несмотря на все возрастающее скептическое отношение к этому сотрудников ЦРУ, Энглтон безоговорочно принял для себя идею советского заговора по дискредитации Голицына. Поэтому неудивительно, что Энглтон сразу подверг сомнению положительную оценку, сделанную Бэгли по поводу предложения Носенко в Женеве. Позднее Энглтон мне сказал: «После получения первого известия [от Бэгли]… мы созвали большое совещание воскресным утром. Бэгли казалось, что он поймал самую большую рыбу в своей жизни. Думаю, что это было действительно так. Однако все, что я от него слышал, находилось в разительном противоречии с услышанным ранее [от Голицына]».
После встречи с Носенко в июле 1962 года и ознакомлением с отчетом Бэгли в штаб-квартире ЦРУ, Энглтон решил заставить своего более молодого коллегу изменить мнение, воспользовавшись для этой цели выписками и цитатами из записок Голицына, ставших к тому времени для сотрудников ЦРУ своего рода «заповедями Моисея». Авторитет Энглтона заставил Бэгли изменить свои предложения по работе с перебежчиком Носенко. Более того, по настоянию Энглтона в течение нескольких последующих лет все сообщения Носенко подвергались окончательной оценке у Голицына (несмотря на его профессиональный диагноз параноика). Результатом принятия Энглтоном на вооружение «доктрины Голицына» было заражение «слабомыслием» до того времени здорового интеллектуального коллектива многих подразделений ЦРУ. Приведу один из примеров подобного искаженного мышления, который я позднее использовал, давая показания комиссии конгресса в сентябре 1978 года: «Из этого следует, что когда [Советы] утверждают, что Носенко говорит правду, это накладывает отпечаток фальшивости [на источник подобного заявления]. Это можно считать явным доказательством нахождения [Носенко] под контролем КГБ. В противном случае, подтверждать правдивость информации Носенко [Советы] не стали бы».
Таким образом, Носенко оказался на Западе в самый разгар параноидальных настроений среди сотрудников контрразведки и отдела СССР в ЦРУ и неизбежно столкнулся с отношением к нему руководства ЦРУ, которое основывалось на принципе презумпции виновности. До конца своей жизни Джеймс Энглтон постоянно настаивал на том, что Носенко был «внедрен» КГБ, чтобы ввести нас в заблуждение. Самолично состряпав эту легенду, он не собирался от нее отрекаться. Не собирались доказывать ее несостоятельность и остальные сотрудники ЦРУ, поскольку все, связанное с деятельностью контрразведки, покрыто завесой глубокой тайны.
Что касается самого аппарата контрразведки, то его кадровый состав представлял собой сплоченную группу, объединенную сложной системой мифов, настолько преданную своему руководителю, что любые проявления объективной самокритики становились невозможными. Более того, материалы расследования и их анализ были столь объемны и сложны для понимания, что мало кто
из официальных лиц выше Энглтона по рангу в бюрократической иерархии обладал подготовкой и временем, чтобы изучить их в достаточной степени для определения собственного мнения о двуличности Носенко.
Убийство Кеннеди
Неблагоприятные для Носенко обстоятельства складывались в то время не только внутри ЦРУ. С подобными проблемами столкнулась и вся американская нация в целом — 1962 год был годом кубинского ракетного кризиса, и особое недоверие к СССР являлось, по вполне понятным причинам, модой дня. В самом Вашингтоне атмосфера подозрительности среди сотрудников контрразведки и подразделения ЦРУ, отвечающего за антисоветскую подрывную деятельность, более чем соответствовала этим популярным настроениям, которые еще более усугублялись не слишком далекими теоретическими изысканиями Джеймса Энглтона.
Позднее, в ноябре 1963 года, случилась национальная трагедия глобального масштаба — убийство президента Кеннеди. Сам Носенко находился тогда в России, он был в свое время замешан в деле Ли Харви Освальда (в период пребывания Освальда в Советском Союзе) и быстро оказался втянутым в расследование смерти президента. «Мы вас похороним!» — заявил Никита Хрущев в одном из своих грубых заявлений, и многие американцы и европейцы восприняли его угрозу буквально[7]. Неприятные воспоминания об этом выпаде заставляли легко поверить, что лидер Америки пал жертвой демонического заговора СССР, и этому чувству поддались даже здравомыслящие люди. Неплохо, конечно, что государственный секретарь Дин Раек, член комиссии Уорена (ведшей расследование обстоятельств смерти президента), вынес в июне 1964 года четкий, достаточно здравый вердикт: «У меня нет никаких свидетельств, указывающих на то, что Советский Союз видел для себя какой-либо интерес в устранении президента Кеннеди». Тем не менее многие американцы не приняли этот довод и сохраняли убеждение, что любое зло на земле должно происходить из Кремля. Среди них, разумеется, был и Джеймс Энглтон.
Нелепая аргументация, на которой строились подозрения Энглтона, что Носенко был каким-то образом связан с убийством президента (мнение, не подтвержденное ни одной достоверной уликой), основывалось на трех положениях, абсолютно абсурдных, но принятых в качестве фактов многими людьми высокого ранга и положения. Согласно первому утверждению, в период своего пребывания в Советском Союзе (в 1959–1963 годах) Освальд прошел подготовку в КГБ в качестве убийцы. Из второго следовало, что этот молодой американец был возвращен в Соединенные Штаты с единственной целью — застрелить президента. Последний аргумент приписывал СССР намерение оправдать себя, направив в США своего эмиссара, призванного удостоверить невиновность русских.
Злодеем из последней части этой фантастической истории оказался Юрий Иванович Носенко. Но почему выбрали его? Сколько-нибудь разумной и логичной причины не существовало. По сути, он попал под подозрение совершенно случайно, только потому, что во время его повторного появления в Женеве в январе 1964 года, когда Носенко принял решение остаться на Западе, Энглтон и руководство контрразведки искали виновного. В чем была эта вина и каковы были у Энглтона доказательства — ответы на эти вопросы лежали в богатом воображении Энглтона, его немногочисленных помощников и некоторых высокопоставленных сотрудников советского отдела ЦРУ, «коллективная интуиция» которых (поскольку ничем другим, более существенным они не располагали) подсказывала им, что КГБ направит замаскированного под перебежчика эмиссара, чтобы отвести от себя подозрение в непосредственном участии в убийстве президента. Не имея никаких других причин, кроме той, что Носенко был русским, капитаном КГБ и знал о пребывании Ли Харви Освальда в СССР, сотрудники контрразведки сосредоточили свое внимание на молодом офицере как на человеке, наиболее вписывающемся в выдуманный ими сценарий. Они утверждали, что этот человек, выдающий себя за перебежчика, ищущего убежища на Западе, был послан с целью отмести любые обвинения в организации убийства Кеннеди. С самого начала это заключение представляло собой не продукт логического мышления, а было удобным для бюрократии трюком.
То, что действия Носенко должны были интерпретироваться именно так, становится понятным из самого факта отношения сотрудников контр-Разведки к этому случаю как к важному Делу (именно делу с большой буквы). Многие из расследований, призванных подтвердить справедливость подобного предположения, были проведены тщательно и добросовестно, но в других случаях они напоминали не основанные на доказательствах исследования, а скорее, действия средневековой инквизиции. В данном случае отправной точкой расследования было предположение о его виновности, несмотря на полное отсутствие доказательств. Плохо или хорошо, но разведывательная деятельность всегда основывается на базе изрядной дозы подозрительности, являющейся важной составляющей этой профессии. Однако подозрительность должна сочетаться со здравым смыслом, а в деле Носенко этот баланс не был сохранен. Что касается меня, то почти за четверть века службы в ЦРУ я никогда больше не был свидетелем такого оголтелого фанатизма, как во время расследования дела Освальда и последовавшего после него заключения Носенко в тюрьму.
Возвращение Носенко в Женеву
Сам Носенко, не имея, разумеется, никакого понятия о нездоровой обстановке, сложившейся в ЦРУ ко времени его второй командировки по линии КГБ в Женеву в январе 1964 года, уже решил не возвращаться обратно. Для обоснования своей просьбы получить статус политического беженца из Советского Союза он привез с собой схему расположения прослушивающих устройств, установленных в американском посольстве в Москве. Кроме этого, с ним были и другие документы, представляющие значительный интерес для властей Соединенных Штатов, включая сведения о нескольких сотнях офицеров КГБ и нелегальных агентах, работающих за рубежом (как русских, так и других национальностей). Это, по его мнению, должно было обеспечить ему радушный прием в США. И Носенко действительно получил его, ясно дав понять, что опасается репрессий КГБ, если ему придется остаться еще на несколько дней в Западной Европе.
Оказавшись в Вашингтоне, Носенко поначалу был принят довольно хорошо, но вся сердечность хозяев оказалась лишь тщательно приукрашенным фасадом. К тому времени Энглтон уже убедил руководство советской секции ЦРУ в том, что Носенко является «субъектом дезинформации», засланным КГБ с целью ввести Соединенные Штаты в заблуждение. Как бы внешне дружелюбно не вели себя сотрудники ЦРУ по отношению к перебежчику, они обязаны были видеть в нем врага. Хотя поначалу ему и позволялись кое-какие экскурсии по Вашингтону и его окрестностям, но большую часть времени у него отнимали допросы.
Группу, ведущую допросы, возглавлял Бэгли, а вместо Кисевалтера ему помогал другой русскоговорящий сотрудник. По настоянию Энглтона Голицын, независимый обвинитель, также был включен в группу Бэгли, и, хотя сам непосредственно не участвовал в допросах, имел доступ ко всем их расшифровкам, включая магнитные ленты, и помогал формулировать вопросы, которые задавали другие члены группы. Большинство советских агентов-перебежчиков не любят своих собратьев и стремятся всячески опорочить друг друга, но Голицын был в этом деле настоящим асом. Поэтому Носенко так сильно пострадал.
По иронии судьбы, вопрос взаимоотношений Ли Харви Освальда с КГБ, который должен был интересовать сотрудников ЦРУ, допрашивающих] Носенко, в первую очередь, вскоре был забыт.; Акцент в допросах сместился в сторону попытки представить его как тайного агента СССР. При-1 няв априори, что это так и есть, обвинители Носенко не принимали в расчет не только его показания, касающиеся Освальда (имеющие лишь косвенное отношение к убийству президента), но вообще все, сказанное им. Были даже недели, к примеру, когда следователи ЦРУ провели немало часов пытаясь заставить допрашиваемого признаться, что его фамилия вовсе не Носенко.
Таким образом, в период первых четырех лет, проведенных в попытках выяснить, является ли Носенко реальным перебежчиком или советским агентом, посланным для введения американцев в 1 заблуждение, о вопросах по поводу Ли Харви Освальда благополучно забыли. К убийству президента ЦРУ вернулось лишь в 1978 году, когда расследование Конгресса вынудило управление серьезно заняться расследованием, действительно ли за трагедией в Далласе стоит Советский Союз[8]. При этом следует отметить, что если даже подвергнуть правдивость Носенко сомнению, все, что он мог бы рассказать об Освальде, вряд ли могло вызвать большой интерес.
В то время, когда Носенко впервые услышал об этом странном американце, он являлся офицером КГБ, занимавшимся наблюдением за иностранными туристами, приезжающими в Советский Союз. В один прекрасный день он с удивлением услышал о гражданине США по фамилии Освальд, желающем сменить гражданство и обосноваться в Советском Союзе. Для советских официальных лиц подобное желание молодого американца, не имеющего культурных или этнических связей с их страной, казалось просто нелепым, поэтому непосредственный начальник Носенко сразу отказал в просьбе, и все решили, что на этом история закончилась; об Освальде на какое-то время забыли.
Однако все еще только начиналось. Освальд, будучи личностью весьма эксцентричной, спустя некоторое время вновь привлек к себе внимание КГБ, когда перерезал себе вены. Реальная попытка самоубийства или намеренная имитация? Два советских психиатра, обследовав его, вынесли заключение: американец «психически нестабилен». Уже находясь в госпитале, Освальд пригрозил повторить попытку самоубийства, если ему не позволят остаться в Советском Союзе. На этот раз он преуспел в своем намерении. Власти решили, что он может остаться, хотя и без предоставления ему советского гражданства. Направленный в Минск и получивший работу на радиозаводе Освальд подвергался периодическим проверкам, телефонные разговоры его прослушивались, письма проверялись, но никаких других беспокойств ему не доставляли. Более того, в 1963 году он женился на русской женщине и через некоторое время вместе с женой беспрепятственно выехал из Советского Союза. По словам Носенко, советские власти были только рады избавиться от Освальда.
Несмотря на то, что практически любое заявление Носенко в следующие четыре года активно подвергалось сомнению, его показания, опровергающие возможное участие КГБ в убийстве президента, проверялись не слишком энергично. Собственно говоря, он знал о деле Освальда так мало, что даже при тщательном допросе, проведенном Федеральным бюро расследования (ФБР), выяснилось немногое из того, что было приведено выше. Слабый интерес следователей ЦРУ к Освальду частично объяснялся тем, что они находились в плену теории Голицына и добивались совсем другого. По некоторым причинам (которые будут приведены ниже) опрашивающие полагали, что Носенко обладает ключом к некоему «зловещему плану», разработанному в КГБ, который каким-то неясным им самим образом должен навредить Соединенным Штатам.
Паранойя? В отношении дела Носенко — без всякого сомнения. При этом необходимо помнить, что особенно в тот период Советский Союз, являясь одной из мировых держав, не задумываясь прибегал к любым доступным методам, казавшимся ему безопасными. Политический психоз, получавший все большее распространение среди высокопоставленных лиц Америки, был в гораздо большей степени присущ их советским коллегам, причем в крайней форме. Возьмем, к примеру, излюбленный метод советской пропаганды, называемый «дезинформация». В своей наиболее изощренной форме дезинформация подразумевает поставку ложной информации через посредство лиц, маскирующихся под сторонников Соединенных Штатов или их союзников, но на самом деле эти лица являлись советскими агентами, задача которых — ввести в заблуждение наше правительство либо наших граждан. Дезинформация, например, может распространяться с помощью журналистов, значительно преуменьшающих советский военный потенциал, успокаивая таким образом общественное мнение. Либо наоборот, она может заключаться в преувеличении военной мощи СССР, дабы вызвать у нас беспокойство. В области политики подобная технология может также использоваться для подрыва репутации важных правительственных фигур как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах.
Мы — демократы Запада, разумеется, не приемлем такую технологию, но время от времени становимся ее жертвами. Попросту говоря, дезинформация предполагает искажение фактов в политических целях, и Голицын, руководствуясь отнюдь не враждебными намерениями, поспособствовал подобному извращению. С другой стороны, урок, который можно вынести из дела сравнительно малозначимого молодого русского по фамилии Носенко, заключается в том, что Советский Союз является не единственным местом в мире, где возможно такое грубое искажение правды.
Обращение с перебежчиками
В связи с делом Носенко необходимо сказать несколько слов о системе обращения с перебежчиками в США в целом. Многие из них опасаются, что со временем будут ликвидированы теми людьми, к помощи которых они прибегли. Мои коллеги и я понимали, насколько глубокими могут быть такие переживания для этих ищущих помощи людей, учитывая это в ЦРУ традиционно относились к перебежчикам не только корректно, но и бережно. Но обращение с Носенко было совсем другим, поэтому полезно понять причины такого контраста.
В феврале 1964 года, появившись в Вашингтоне и столкнувшись лицом к лицу с американскими скептиками, Носенко пострадал от своей же собственной честности. Не в пример Голицыну и прочим перебежчикам, он не пытался приукрашивать или искажать известные ему факты, чтобы возбудить интерес следователей к своей особе и таким образом поднять ценность передаваемой информации. Стоило Носенко предоставить хоть какие-либо сведения, указывающие на возможность участия Советского Союза в убийстве президента Кеннеди, он почти наверняка избежал бы той печальной участи, уготованной ему на целых четыре года жизни. Как важный свидетель, дающий ценную информацию о преступлении, глубоко взволновавшем всю нацию, Носенко был бы передан из рук ЦРУ в распоряжение гораздо более компетентных и здравомыслящих сотрудников ФБР. Но подобная судьба была уготована не для него, поскольку стало ясно, что его признания по поводу подозрений в причастности КГБ к убийству Кеннеди носили в основном не тот характер, который требовался. Информация Носенко об Освальде не давала достаточных оснований для передачи дела Носенко в ФБР.
В 1964 году, выезжая из Советского Союза в Женеву, как обычно, в качестве надзирающего лица, Носенко не собирался возвращаться на родину и, разумеется, не имел ни малейшего понятия о том, что Энглтон и Бэгли уже выстроили против него целое дело. При этом руководящие сотрудники контрразведки во главе с Энглтоном решили, что входящие с Носенко в контакт люди не должны показывать, что он находится под подозрением. Поэтому в течение почти двух месяцев после прибытия на Запад отношение к Носенко было притворно сердечным. Примером такой двуличности может послужить следующая выдержка из записи его допроса:
Носенко: Мне бы хотелось знать, что я должен ожидать в будущем?
Бэгли: Посмотрим. Согласно моему докладу [вышестоящему начальству], Вы пожелали перебраться в Соединенные Штаты, чтобы получить какую-либо работу — шанс для будущей жизни, дающий вам определенную безопасность и возможность трудиться на знакомом вам поприще. Это верно?
Носенко: Абсолютно.
Бэгли: Наш директор не против. Остается обсудить средства, которые могли бы способствовать обеспечению вашей карьеры и приобретению личной независимости. Оказанная Вами большая помощь и наше желание предоставить эту независимость позволяют нам открыть для Вас банковский счет, а впоследствии предложить годичный рабочий контракт. Кроме того, учитывая последнее дело [здесь Бэгли упоминает о разоблачении Носенко важного советского шпиона, назвать которого я не имею права], мы собираемся добавить к начальной сумме некую дополнительную.
Все эти обещания, в дальнейшем оказавшиеся ложными, были, разумеется, сделаны Носенко исходя из предположения, что он является советским агентом, хотя сам Дж. Эдгар Гувер, отнюдь не имеющий репутации человека легковерного, считал его обыкновенным перебежчиком. Собственно говоря, согласно документам Гувер полагал, что Голицын, ставший для Носенко Немезидой (Богиней возмездия), сам являлся провокатором КГБ. Это свидетельствовало о доверии Гувера к подозреваемому.
Подобное различие точек зрения дополнялось тем, что ФБР желало иметь больше времени для получения надежной информации, которой, как там полагали, мог обладать Носенко. Позиция ЦРУ, напротив, заключалась в том, что их узник Носенко (хоть и неофициально) должен содержаться в изоляции, дабы предотвратить возможность руководства его действиями со стороны мифических «контролеров КГБ». В то же время в ЦРУ выступили с предложением, чтобы с Носенко некоторое время обращались достаточно хорошо, чтобы обеспечить его содействие следствию. К сожалению, ЦРУ выиграло это «сражение мнений», и с этого момента ФБР не играло в этой истории сколько-нибудь заметной роли.
По мере обсуждения вопроса в штаб-квартире ЦРУ все более преобладало намерение «расколоть» Носенко, то есть использовать любые возможные приемы, чтобы заставить его признаться в соучастии в «заговоре» КГБ. Таким образом, в апреле 1964 года ЦРУ решило, что единственной мерой пресечения для столь опасного (но вместе с тем весьма полезного) «гостя» будет помещение его в охраняемое день и ночь «защищенное от побега помещение».
Уведомленный о подобном намерении Носенко, конечно, встревожился. Позднее он объяснил, что боялся как бы ЦРУ, с максимальной скоростью вытянув из него всю нужную им информацию, не выставило бы его на улицу без всякой защиты и средств к существованию. В таком случае Носенко оказывался не только предоставленным самому себе в незнакомой стране, но без поддержки ЦРУ подвергался, по его мнению, опасности быть ликвидированным или похищенным КГБ. Однако Юрий даже не подозревал, что его опасения просто меркнут по сравнению с истинными намерениями управления.
План, рожденный совместными усилиями сотрудников контрразведки и советской секции ЦРУ, явно строился на принципе «нос увяз — всей птичке пропасть». Предполагалось, что со временем Носенко непременно сознается в существовании разветвленного шпионского плана против Соединенных Штатов, в котором сам он, разумеется, играет главную роль. После получения полного признания Носенко собирались передать в руки КГБ. С другой стороны, на случай, если он все-таки не «расколется», планирующие уготовили ему печальную судьбу. В любом случае все Должно было окончиться неизбежной смертью Носенко. Черный юмор этой ситуации заключался в том, что следователи ЦРУ могли бы поверить в правдивость показаний Носенко при том условии, если бы он им солгал, подтвердив, что по-прежнему продолжает работать на КГБ. Но даже и в этом случае Носенко скорее всего был бы «ликвидирован» (если воспользоваться любимым выражением его тюремщиков). Итак, что бы он им ни сказал, последствия должны были оказаться трагическими. Он просто не мог выиграть!
Несмотря на испытываемые тревогу и неуверенность, Носенко некоторое время охотно сотрудничал со следствием. К сожалению, по мере того как его страхи усиливались, он начал пить почти беспробудно.
Заговор должен существовать
Теперь следует затронуть один из тех внешне неприметных исторических инцидентов, обычно игнорируемых, который, однако, оказался в конце концов ключевым в общем потоке событий.
Некий давно живущий на Западе перебежчик, долгое время использовавшийся ЦРУ в качестве переводчика, взял на себя нелегкий труд сравнить два варианта записей бесед Бэгли и Кисевалтера с Носенко, состоявшихся в 1962 году, — оригинальных магнитных лент с одной стороны и сделанных с них «переводов» — с другой. При самом беглом взгляде на эти так называемые переводы им было обнаружено около 150 несоответствий, причем он предположил, что их должно быть еще больше. (Как уже было указано, эти переводы представляли собой не дословную передачу того, что обсуждалось, а вольные англоязычные варианты воспоминаний Кисевалтера о пьяных разговорах с Носенко на конспиративной квартире.)
К сожалению, хотя к 12 марта 1964 года в распоряжении следовательской группы уже находились исправленные версии этих бесед, лишенные вышеупомянутых многочисленных ошибок, нет никаких сведений о том, что кто-либо из ответственных лиц воспользовался ими для выявления истинного положения вещей. В данном случае правда никому не была нужна. Основной целью команды Бэгли было доказать существование того, что они называли «дезинформационным заговором» КГБ. Если бы их спросили, в чем же заключается заговор, то ответа бы не последовало, поскольку его просто не существовало. Все эти ошибочные теории, выдвигаемые Энглтоном, Бэгли и иже с ними, являлись продуктом недисциплинированных умов, пытавшихся хоть как-то осмыслить реальность, выходящую за пределы их понимания. Единственным даром вовлеченных в это дело людей оказалось умение заполнять концептуальную пустоту заумно звучащими словами, искусно скомпонованными в ничего не означающие фразы. К несчастью, в то время рядом с ними не оказалось мальчика, способного заметить, что эти современные короли являются на самом деле голыми.
Несмотря на оказываемое следствием давление, Носенко проявил удивительную твердость и отрицал обвинения в действиях, которые не совершал. Подобная стойкость, однако, не соответствовала положению дел, которое представлялось следователям, поэтому очевидным для них решением явилась необходимость еще более усилить давление. Последовал запрет любого рода отдыха и развлечений, при этом возможность того, что Носенко говорит правду, даже не рассматривалась. Следователи полагали, что этот человек их просто дурачил, поэтому первой реакцией было создание для него условий содержания, называемых «спартанскими». За этим последовали так называемые «недружелюбные допросы».
Случилось так, что СССР сам предоставил пример подобного обращения. В конце 1963 года профессор Йельского университета Фредерик Багурн, проводивший свои исследования в Советском Союзе, был обвинен в шпионаже и арестован КГБ. Условия, в которых он содержался вплоть до его освобождения, проведенного по личной просьбе президента Кеннеди, были аналогичными в случае с Носенко. По первоначальному плану в предназначенной для него камере, как и у Багурна, даже отсутствовало отопление, но отдел безопасности ЦРУ, хотя и играл в этом деле второстепенную роль, настоял на соблюдении определенных этических и гуманитарных норм и отказался поддержать идею неотапливаемой камеры. Условиями тюремного содержания Багурна было также лишение его свежего воздуха и естественного освещения, поэтому было предложено таким же образом затемнить окно камеры Носенко. Единственным источником освещения должна была стать 60-ваттная лампочка под потолком, непрерывно горящая день и ночь.
Когда настало время отправки Носенко в тюрьму, ему сказали, что он не прошел только что проведенной проверки на детекторе лжи. Утверждение было явно ложным, поскольку условия, в которых проводился тест, не способствовали получению надежного результата. (Проверка на детекторе лжи теряет смысл, если испытуемый намеренно подвергается угрозам или другим эмоциональным воздействиям.) Тем не менее после прохождения теста Носенко поставили перед фактом, что он арестован по причине лживости его показаний. В условиях нового спартанского содержания, его заставили снять свою одежду и переодеться в тюремную. С этого момента, как это было в случае с профессором Багурном, он вынужден был вставать в шесть часов утра и ложиться в десять вечера, при этом лампочка в его камере не выключалась ни на минуту. Ему не позволяли лежать на кровати в дневное время, хотя и было дано милостивое разрешение сидеть на ней или на единственном имеющемся в камере стуле.
В начальный период заключения рацион его питания был очень скуден.
Завтрак: Слабый чай без сахара, овсяная каша.
Обед: Водянистый суп, макароны или овсяная каша, хлеб.
Ужин: Слабый чай и овсяная каша.
К счастью для Носенко, вмешавшийся врач управления заявил, что такая диета обрекает узника на голод, и его питание было немного улучшено.
Ясно выраженное намерение Бэгли и его коллег заключалось в желании привести Носенко в состояние «эмоциональной неустойчивости», как они говорили, чтобы «запугать его и лишить уверенности в себе». Находящаяся за решетчатой дверью охрана вела круглосуточное наблюдение за узником. Какое-либо физическое воздействие исключалось (вновь по настоянию отдела безопасности), но охранники не имели права разговаривать с Носенко и получили инструкции обращаться с ним совершенно безлично. Они даже никогда не улыбались в его присутствии.
Поначалу туалетом ему служила помойная лохань, которую он вынужден был самостоятельно выносить раз в сутки. Отдел безопасности вновь возразил против таких мер, равно как и других, не менее жестоких форм обращения. Особое внимание тюремное начальство обращало на абсолютный запрет каких-либо «развлечений». Мало того, что Носенко не разрешали читать, ему не позволялось что-либо слышать. Ведущие наблюдение охранники не должны были разговаривать не только с ним, но и между собой. Им разрешалось смотреть телевизор, но так, чтобы Носенко не мог видеть экран и не слышал звук — они пользовались наушниками. Первоначально было решено снабжать Носенко материалами для чтения, но впоследствии это решение отменили. Он настолько страдал от недостатка какой-либо мыслительной деятельности, что, случайно заполучив в руки листок с инструкцией по пользованию зубной пастой, спрятал его под одеяло и пытался время от времени незаметно читать его. Листок быстро обнаружили и конфисковали.
Прояви Юрий большую находчивость, он мог бы попросить себе библию на русском или английском языке или хоть как-то украсить стену своей камеры, потребовав повесить распятие. Подобные просьбы наверняка поставили бы его тюремщиков в тупик, а отдел безопасности почти наверняка вмешался бы, настояв на их исполнении. Но воспитанный в духе советского общества, в котором любое проявление религиозности рассматривалось как подрыв политической системы, он ни разу не поставил этот вопрос своим тюремщикам. Находясь в подобном психологическом вакууме, Носенко все же пытался следить за проходящими днями, сделав себе календарь из ниток, выдернутых из одежды, но все было напрасно — бдительная охрана конфисковала нитки, оставив его пребывать вне времени.
Долгое время (всего три года и два месяца) Носенко подвергался такому воздействию, известному среди психологов как сенсорное голодание, то есть состояние лишения визуальной, звуковой и умственной стимуляции. В Соединенных Штатах и Канаде исследования этого явления начались, чтобы разобраться в психологических процессах, лежащих в основе так называемого промывания мозгов, применяемого китайцами и северными корейцами к взятым в плен представителям союзных войск во время корейской войны. Один видный специалист в этой области сказал о людях, подвергнутых пребыванию в условиях сенсорного голодания, буквально следующее:
«Результаты этих экспериментов были просто поразительны. Пленные, обреченные на лежание в течение нескольких дней в звуконепроницаемой кабине, в полупрозрачных очках и под воздействием непрерывного Шума низкой частоты после выхода из изоляции сообщали о ряде необычных иллюзорных ощущений, таких как яркие и сложные галлюцинации, навязчивые состояния, заметные перемены в чувственном восприятии окружающего мира. Дополнительно к этим субъективным ощущениям проведенное объективное тестирование выявило повышенную чувствительность к воздействию специальных пропагандистских материалов, ухудшение мыслительных способностей и сенсорного восприятия, а также замедление альфа-ритма мозга, прогрессирующего с увеличением периода изоляции»{15}.
Заметим, что вышеприведенные научные эксперименты длились всего несколько дней. Носенко годами подвергался более жестокому сенсорному голоданию, к тому же в условиях постоянной угрозы его жизни. Тем более поразительным кажется тот факт, что, хотя и подверженный периодическим бредовым состояниям, Носенко смог сохранить здравый рассудок и мыслительные способности. Это само по себе указывает на то, что он обладал гораздо более сильным характером, чем можно было судить внешне, с учетом его юношеской беспечности. И чтобы выдержать выпавшие на него испытания, ему понадобилось проявить эту силу характера до конца.
Закручивание гаек
Уже в наши дни, глядя на события со стороны, крайне нелегко понять причины, которые привели к столь жестокому обращению с Носенко. Тем не менее попробуем рассмотреть организационные проблемы и скрытые процессы, сделавшие это возможным, а также роль некоторых действующих лиц.
В июле 1966 года директором ЦРУ стал Ричард Хелмс, в период появления Носенко отвечавший за секретные операции управления. При всех многочисленных проблемах у Хелмса было достаточно забот и без Носенко, в том числе и Вьетнам. Если его и можно в чем-то винить касательно этого дела, так это в излишнем доверии к мнению Джеймса Энглтона, появившегося в ЦРУ задолго до середины 60-х годов. Фактически Энглтон из оперативного работника постепенно превращался в своего рода серого кардинала, затаившегося в полумраке своего скудно, освещенного кабинета. Секрет столь длительного выживания Энглтона при Хелмсе заключался, очевидно, в том, что он наводил на руководителя ЦРУ (как и на других предшествовавших ему директоров) смертельную тоску своими пространными и нудными рассуждениями, но, может быть, его секрет в том, что, попадая время от времени в затруднительное положение, неизменно прибегал к тактике, которую я бы назвал «уловка Прфловски». Исполнение этого технического приема начиналось обычно с оскорбленного, непонимающего взгляда и завершалось типичной репликой: «Но, дело Прфловски доказывает совсем обратное!» Поскольку никто, кроме самого Энглтона, да, может быть, одного или двух полностью зависящих от него подчиненных, не имел об этом деле никакого понятия., подобная тактика обычно гасила на корню любые дальнейшие обсуждения.
В дополнение ко всем прочим бюрократическим осложнениям, имелось еще одно — повседневное ведение дела Носенко было поручено сотрудникам Энглтона, а ответственность за его выполнение была возложена на отдел безопасности ЦРУ. Подобное решение, возможно, объяснялось тем, что, несмотря на почти исключительную специализацию подчиненных Энглтона на советском направлении, в рассматриваемый период времени в их составе не было, насколько я помню, ни одного специалиста русского языка. Было очевидно (хотя этого правила придерживались не всегда), что с Носенко, не объяснявшемся по-английски достаточно свободно, должны были работать именно русскоговорящие сотрудники.
С другой стороны, у Хелмса не было причин не доверять сотрудникам отдела безопасности, ведущим дело. Кроме того, он не общался с рядовыми исполнителями — сотрудниками управления, выказывающими свои сомнения по поводу текущего положения вещей. Если бы Хелмс узнал об экстремизме действий ответственных за это дело лиц, он непременно принял бы соответствующие меры. Например, директор ЦРУ был, без сомнения, в курсе длительного срока заключения Носенко, однако тот факт, что почти все это время Бэгли и другие оперативники не только не допрашивали русского пленника, но даже не разговаривали с ним, стал известен ему с большим опозданием. Фактически из документов следует, что из 1277 дней (около 42 месяцев), проведенных Носенко за решеткой, допросам, полностью или частично, было уделено лишь 292 дня (9,7 месяца).
Более того, когда Хелмс был наконец информирован о том, что большую часть времени заключенный Носенко не только не подвергался допросам, но оказался полностью лишенным возможности общения с кем-либо, в адресованной Хелмсу справке это объяснялось следующим образом: «Столь длительная изоляция может оказаться очень полезной, так как давала возможность объекту осознать полную тщетность всех его уловок». (Что имелось в виду под «уловками», не совсем ясно, должно быть, под этим подразумевалось нежелание Носенко признаться в преступлениях, которых он не совершал.)
Как бы то ни было, но даже в периоды, когда Носенко не подвергался допросам, Бэгли не забывал о его существовании. Впоследствии выяснилось, что этот оперативный работник имел обыкновение поверять свои мысли бумаге, благодаря чему оказалось возможным проследить за их развитием. Одно из таких размышлений было посвящено как предыдущим, так и предстоящим допросам, «имеющим целью тщательное уточнение деталей, которые могут быть впоследствии использованы для оформления правдоподобного признания. Если нам удастся добиться убедительности такого признания даже для властей Советского Союза, оно поможет окончательно решить вопрос с Носенко». Далее Бэгли развивает свою мысль по поводу причин такого тщательного оформления допросов — «дабы исключить, насколько возможно, любую возможность обвинения ЦРУ в незаконном удержании Носенко в заключении». После этого следует перечисление некоторых «альтернативных действий», в том числе «физическая ликвидация самого человека, приведение в состояние, лишающего его возможности давать логически связные показания (специфические лекарственные препараты и тому подобное.) Желаемая цель — помещение в психиатрическую лечебницу… без разрушения психики». Сам факт подобных размышлений подтверждает, что все попытки «расколоть» Носенко закончились полным крахом, остался вопрос: кто сдастся первым, узник или тюремщики?
Директор теряет терпение
В результате терпение лопнуло у самого Дика Хелмса. Носенко арестовали 6 апреля 1964 года, а 23 августа 1966 года директор ЦРУ выдвинул ультиматум, предоставив следователям шестьдесят дней, чтобы завершить это дело. (Фактически этот процесс длился значительно дольше.) За этим последовал период лихорадочной, хотя и безрезультативной активности со стороны команды Бэгли. Но каким же образом они собирались достичь желаемой цели, если оказались не в состоянии сломить узника в течение двух с половиной лет?
Первым делом они предложили вновь подвергнуть Носенко допросу, на этот раз под воздействием амитала натрия, одного из препаратов, известных широкой публике как «сыворотка правды». Но, к их разочарованию, Хелмс решительно запретил использование каких-либо лекарств. И следователям оставалось лишь в очередной раз прибегнуть к помощи детектора лжи. Хотя этот прибор однажды их уже подвел, в арсенале команды Бэгли он оказался единственным орудием, способным предоставить столь упорно ускользаюшие доказательства злого умысла в действиях Носенко. Собственно говоря, приборов, определяющих ложь, не существует, полиграф всего лишь регистрирует физиологические реакции организма допрашиваемого человека на вопросы следователя. В искусных и добросовестных руках ценность его очень велика, но при непрофессиональном использовании (как это было с командой Бэгли, не обладающей опытом сотрудников особого отдела ЦРУ) детектор лжи может оказаться, в лучшем случае, бесполезным, а иногда и вредным.
Полиграф регистрирует изменение четырех характеристик жизнедеятельности организма — кровяного давления, частоты пульса и дыхания, а также электрической проводимости кожи. Эти четыре характеристики меняются в зависимости от эмоционального состояния испытуемого, и у внешне спокойного человека, испытывающего чувство вины за свою ложь, отклоняются от фонового уровня. (Если на детекторе проверяется субъект, не склонный испытывать чувство вины, как это бывает с закоренелыми преступниками, использование полиграфа является напрасной тратой времени.) Фоновый уровень показаний определяется в начале испытания с помощью ответов на самые тривиальные вопросы, вроде — «Который сейчас час?» или «Как ваше имя?». Подобные вопросы дают допрашивающему возможность установить нормальный уровень или частоту изменения какой-либо физиологической характеристики испытуемого, а затем реакция на нужные вопросы измеряется относительно установленного подобным образом фонового значения. Но допрашивающий ни при каких обстоятельствах не должен совершать действия, которые могли бы привести испытуемого в состояние нервного стресса; искусственно вызванный стресс способен вызывать непредсказуемые реакции, и испытание потеряет всякий смысл.
Тем не менее команда сотрудников ЦРУ, работающая под началом Бэгли практиковала именно этот подход (как в 1964 году, сразу после ареста Носенко, так и в 1966-м, после ультиматума Хелмса). Фактически они даже не пытались соблюдать общепринятую процедуру, с самого начала задавшись целью подавить физическое и психическое состояние Носенко, позволяющее ему отрицать все их обвинения. И действовали они посредством систематического и постоянно нагнетающегося запугивания.
В одну из недель, когда время двухмесячного ультиматума Хелмса уже подходило к концу, команда Бэгли подвергла Носенко непрерывному допросу на полиграфе, длившемуся двадцать восемь с половиной часов. Это было явным перебором по всем профессиональным стандартам, не говоря уже об упоминаемом ранее искусственно спровоцированном стрессе. Более того, во время четырехчасового перерыва в допросе на «отдых» Носенко был оставлен следователями привязанным к своему креслу, в полной неуверенности за свою дальнейшую судьбу, что отнюдь не уменьшило уровень его стресса.
В другой раз, дополнительно к четырем стандартным датчикам, на голову Носенко было прикреплено пятое приспособление. Ему сказали, что это энцефалограф — устройство, регистрирующее биотоки мозга. Единственной целью подсоединения подобного приспособления (которое, разумеется, не имела к полиграфу никакого отношения) являлось желание вызвать в организме испытуемого реакцию, которую можно было бы интерпретировать как признание вины. Другими словами, сфальсифицировать улики. Одновременно с этим Носенко подвергался словесным оскорблениям. Не говоря уже о том, что его называли «фанатиком», один из следователей сообщил молодому мужчине, что «у него больше нет будущего». Следует подчеркнуть, что ни об одном из этих отклонений от стандартной процедуры допросов с помощью полиграфа вышестоящему руководству управления сообщено не было. Напротив, в докладной записке руководителя особого подразделения ЦРУ говорилось лишь о «значимых отклонениях в показаниях» прибора при испытании Носенко, что являлось по мнению проверяющих, «признаком вины» испытуемого.
Долгожданное освобождение
К счастью, суровое испытание, которому подвергся Носенко, не привело к трагическому концу. В основном благодаря силе своего характера он наконец обрел свободу и счастье, которые ожидал найти в нашей стране. Что более важно, к чести Соединенных Штатов и самого ЦРУ, трагический абсурд сфабрикованного против Носенко дела получил в конце концов свое освещение, что привело, в свою очередь, к оздоровлению общей ситуации.
Долгожданные и необходимые меры к разрешению дела Носенко были приняты Хелмсом в середине 1967 года. Первым его шагом явилась передача этого дела своему помощнику, вице-адмиралу Руфусу Тэйлору, весьма квалифицированному офицеру разведки, чрезвычайно порядочному и культурному человеку. Руф, как называли его друзья, привлек к сотрудничеству профессионала из отдела безопасности, который немедленно перевел Носенко из его тесной тюремной камеры в другое помещение. Оставаясь некоторое время под стражей, он, по крайней мере, содержался теперь в более удобных и гуманных условиях, в окружении людей, которым не было запрещено улыбаться. Последовали долгие месяцы новых допросов, проводимых, однако, в дружественной обстановке чело-, веком непредвзятым, отлично знающим свое дело.
Заключительный отчет, представленный в октябре 1968 года, подтвердил очевидное: начиная с 1962 года, времени первого его контакта с американцами, Носенко говорил только правду. Директор ЦРУ Стансфилд Тернер в 1978 году, почти десять лет спустя, заявил: «В конце концов выяснилось, что Носенко перебежал [в США] по своей собственной воле, не имея никакого намерения вводить нас в заблуждение, и передал весьма ценную для американского правительства информацию. Предположение, которое привело к выводам о его двуличном поведении, основывалось, как было доказано, на ложных предпосылках». Юрий Носенко, живущий сейчас под другим именем, женился на очаровательной американке и работает на ЦРУ. В каком качестве? Специализируясь, разумеется, на вопросах, касающихся действий российской разведки.
Самым ярким воспоминанием из этих шести месяцев, посвященных мною изучению материалов по делу Носенко, явилось событие, о котором я предпочел умолчать во время дачи показаний на слушаниях дела в Конгрессе. Оно казалось слишком незначительным, чтобы сообщить его важной аудитории, собравшейся в большом зале Капитолия. Тем не менее воспоминание об этом до сих пор не дает мне покоя и вряд ли когда-нибудь меня покинет. Время действия — 1978 год, место — мой временный кабинет в ЦРУ, в котором Кэрол, симпатичная американка русского происхождения, помогает мне разобраться в магнитофонных записях допросов Носенко, проводимых Бэгли. Я слышу глубокий, низкий голос Носенко, время от времени прерывающийся как будто от сдерживаемых рыданий. «В чем там дело?» — спрашиваю я. «Он говорит, — отвечает Кэрол, — «честное слово… клянусь вам… поверьте мне…» А потом слышится голос Бэгли, высокий, особенно по сравнению с басом Носенко, постоянно восклицающий по-английски: «Что за чушь! Чепуха! Что за ерунда!».
Надеюсь, что эта маленькая история послужит уроком на будущее мужчинам и женщинам, подумывающим посвятить себя карьере разведчика. Урок заключается в том, что иногда важнее всего не то, что вы делаете, а то, что не делаете. Наплети Носенко самых фантастических небылиц, ему бы могли поверить, но по иронии судьбы, вся его беда заключалась в том, что он говорил правду. Позвольте привести слова, которыми я завершил свои показания на слушаниях в Конгрессе: «Я отдал правительственной службе (военной, и гражданской) тридцать один год, но никогда не испытывал более неприятных чувств, чем при расследовании этого дела. Это было просто омерзительно».
Глава 4. МИХАИЛ. СОЧИНИТЕЛЬ
Попытка контакта в Париже
Любителей сюрпризов в ремесле разведчика привлекает свойственная ему частая непредсказуемость. Обычные люди, предпочитающие вести размеренную жизнь с возможно более редкими отклонениями от нормального течения, из-за этого не воспринимают шпионаж как нормальную работу. Именно так рассуждал достойный джентльмен, занимающий пост американского военного атташе в Париже, после получения им в начале января 1958 года анонимной записки. Сообщение гласило: «Встретимся в баре “У Франсуа”. Будьте в гражданской одежде и держите в руке газету “Спортивная жизнь”». Далее читать он не стал — записка явно была делом рук какого-нибудь психа. Особенно возмутила атташе попытка автора указывать ему, что на себя надеть. Вряд ли он вспомнил бы об этом случае, если бы не приглашение на встречу по этому вопросу, состоявшуюся несколько дней спустя в кабинете помощника главы миссии, второго человека в американском посольстве. В число приглашенных входил и Билл (назовем его так) — представитель ЦРУ.
Как выяснилось на совещании, автор письма еще раз дал о себе знать, попросив о встрече, на этот раз позвонив в офис атташе по телефону. Говоря по-испански с акцентом, какой-то человек представился полковником армии неназванной латиноамериканской страны и сообщил, что имеет при себе фотографии военной техники, представляющие интерес для Соединенных Штатов. Помощник главы миссии, хорошо знающий свое дело чиновник, ставший впоследствии помощником государственного секретаря, прекрасно понимал значение перебежчиков для спецслужб своей страны и не одобрял их огульного отрицания. Освободив атташе от участия в этом деле, он поручил представителю ЦРУ организовать встречу со звонившим ему человеком.
Свободно говоривший по-испански, Билл решил лично пойти на встречу, но не одобрил бар «У Франсуа» в качестве места контакта, поэтому она состоялась в парке, расположенном неподалеку от посольства. Оказавшись наедине с представителем американских властей, незнакомец сообщил, что он не латиноамериканский офицер, а полковник советской разведки. При этом он свободно, хотя и с ужасным акцентом, говорил по-испански. Вместо настоящего имени, в данном случае не имеющем значения, будем называть его просто Михаилом.
Михаил оказался, несомненно, самой странной личностью из всех, с кем пришлось встречаться представителям ЦРУ в Париже. Показав мексиканский паспорт с испаноязычным именем, он сразу же признал, что документы у него фальшивые. Как сам паспорт, так и проставленные в нем многочисленные визы, якобы выданные для въезда во Францию и Италию французским и итальянским посольствами в Мехико, на самом деле были сфабрикованы в Москве, в ГРУ. Более того, хотя по паспорту Михаил якобы являлся жителем Мехико, он никогда там не был, даже в качестве туриста.
Но с чем он пришел? Не теряя времени, Михаил сообщил, что является советским «нелегалом» (в данном случае — сотрудником военной разведки, ГРУ, работающим во Франции без официального прикрытия), незаконно проживающим по фальшивым документам. По его утверждению, выдавая себя за бизнесмена, он в действительности занимался сбором информации об американских войсках, дислоцированных во Франции, Италии и Испании. На первый взгляд, базирование Михаила именно в Париже было не лишено смысла, поскольку с 1958 года верховное командование американских войск в Европе располагалось неподалеку от столицы Франции, а его деятельность представляла для Советского Союза большой интерес.
Все бы хорошо, но Билл был высокопоставленным и опытным офицером разведки и засомневался, зачем советским разведслужбам понадобилось выдавать за гражданина Мексики человека, говорящего по-испански с сильным русским акцентом. В ЦРУ имели весьма высокое мнение о профессионализме ГРУ (и вполне оправданно), а заявление этого человека выглядело, по крайней мере, сомнительным. С другой стороны, иногда действия специальных служб кажутся довольно странными, особенно если они осуществляются в регионах, о которых эти службы имеют лишь приблизительное представление.
Оперативные работники ЦРУ в Париже колебались, не в силах найти какое-либо однозначное решение. Работая в разведке, приходится иметь дело с таким количеством чудаков и мошенников, что нетрудно усомниться в порядочности всего рода человеческого. В случае с Михаилом подозрения напрашивались сами собой, и ЦРУ решило отнестись к его словам с осторожностью. Ведь признался же он в том, что его паспорт фальшивый. А разве это не могло относиться ко всей истории в целом?
В конце концов, было дано распоряжение установить за этой загадочной фигурой круглосуточное наблюдение — предосторожность, быстро давшая результаты, которые сделали его заявления еще более сомнительными. К примеру, Михаил сообщил Биллу, что от него требуют проведения регулярных сеансов радиосвязи с Москвой (приведя при этом частоты и расписание выхода в эфир), но в одном из случаев, как раз когда он должен был получать директивы из ГРУ, Михаил был замечен наблюдателями беспечно прогуливающимся в компании симпатичной девушки.
Дел в Париже у ЦРУ хватало, поэтому было почти что решено считать Михаила обыкновенным мошенником. Но настораживал один примечательный факт: Главное разведуправление ГРУ действительно посылало ему регулярные кодированные сообщения как раз по полученному от него расписанию. Более того, он имел в наличии специальное оборудование, позволяющее ему обеспечивать постоянную связь с Москвой. Не было никаких сомнений, что, какими бы эксцентричными не казались его поступки, ГРУ действительно считало Михаила своим агентом. Соответствовал ли он предъявляемым к нему требованиям — дело абсолютно другое.
Биография Михаила
Ответы Михаила на вопросы о его прошлом — где он родился, в какой семье — сильно зависели от текущего настроения. Тем не менее после некоторых уточнений, удалось нарисовать достаточно цельную картину. По его словам, он родился в 1922 году в Москве. «В тот период, рассказывал Михаил, — мой отец находился в рядах последних остатков войск, сражавшихся за старую Россию. Затем он оказался на Дальнем Востоке, так что я его совсем не знал. Позднее до меня дошли слухи, что он перебрался в Америку. Больше я о нем ничего не слышал». По словам Михаила, незадолго до начала Второй мировой войны он, подобно Пеньковскому, окончил военно-политическое училище (выпускающее так называемых политических комиссаров и не дающее никакого специального военного образования). За всю войну Михаил не участвовал ни в одном сражении и заявлял с явной гордостью в голосе: «Я не имел ни единого служебного или партийного взыскания, не был судим и не состоял под следствием». Это заявление стало даже предметом шуток со стороны занимающихся его делом сотрудников. Можно было представить, как они восклицают с издевкой: «К тому же он никогда не бил свою жену!».
С гораздо большим основанием Михаил гордился тем, что, продолжив после войны военно-политическое образование, достиг руководства военным «университетом», дослужившись до звания подполковника. Но в 1953 году он узнал о своем предполагаемом понижении (не в звании, а в служебном положении) до простого армейского дивизионного политработника. Михаил попытался протестовать и вскоре был направлен в ГРУ, где, как и Попов, прошел четырехгодичную подготовку в области военной разведки, после чего его откомандировали на восемь месяцев в Западный Берлин.
Берлинские обязанности Михаила, судя по его рассказам, оказались столь же странными и необычными, как и все в его судьбе. В этой древней, немецкоговорящей столице Пруссии он должен был совершенствовать свой испанский — история, на первый взгляд, совершенно невероятная. По отзывам Билла, Михаил действительно говорил на этом языке свободно, хотя и с множеством ошибок. «В самом деле, — уверял он, — мне было приказано совершенствовать язык, познакомившись для этого с какой-нибудь особой испанского происхождения, с которой я мог бы встречаться в свободное от работы время». Выбрал ли он эту даму сам? Нет, центр подобрал для этого женщину, которую Михаил описывал в самых восторженных выражениях: «Она была испанкой и очень красива! К чему скрывать, у нас установились близкие отношения… Мы с ней все время разговаривали по-испански!» Если поверить этой истории, то его успехи в изучении испанского языка были столь высоко оценены руководством, что Михаил оказался произведен в полковники «благодаря также незапятнанному послужному списку и социальному происхождению».
Карьера нелегала
В качестве разведчика-нелегала Михаил начал действовать с июня 1956 года. Хотя его перемещения кажутся, на первый взгляд, довольно странными, подобное поведение в целом соответствовало шаблону, которого придерживались советские агенты, желающие обеспечить себе прикрытие под видом коммерсантов, так что этой части истории вполне можно было поверить. Из Берлина он перебрался в Швейцарию, где, имея мексиканский паспорт, без особого труда зарегистрировался в качестве бизнесмена. Очевидно, ГРУ к тому времени уже обеспечило его солидной суммой, происхождение которой Михаил объяснил наследством, полученным от отца. Обосновавшись сначала в Швейцарии, заметая следы, он перебирается во Францию (вновь вполне стандартный ход для нелегала), где наконец смог осесть в качестве представителя швейцарской фирмы (поблизости от цели своей разведывательной деятельности — расположенной в пригороде Парижа гигантской штаб-квартиры американских войск, дислоцированных в Европе).
У расспрашивавших его сотрудников ЦРУ эта глава жизни Михаила не вызвала никаких вопросов, поскольку соответствовала стандартной процедуре, используемой ГРУ для внедрения нелегалов. Их прикрытие обычно выстраивалось шаг за шагом, путем придумывания несуществующих личностей, подделки документов и создания липовых организаций, на проверку которых (при отсутствии явных признаков криминальной активности) у иммиграционных и полицейских чиновников обычно не бывает ни времени, ни желания. С криминалом к Михаилу не могло быть претензий, его подвела беспечность..
Причиной его попытки связаться с американским военным атташе была нужда в деньгах, которая, в свою очередь, частично явилась следствием автомобильной аварии. К несчастью, масштабы ошибок Михаила имели тенденцию к многократному увеличению, что также произошло и с этой аварией, которая случилась на площади Звезды, окружающей Триумфальную арку, где сходятся несколько парижских авеню. При этом он не только вдребезги разбил свой автомобиль (взятый напрокат в Швейцарии), но и сильно повредил такси, в которое врезался. Французская полиция, которой в этом месте всегда достаточно, определила, что вина полностью лежит на нем. В результате Михаил оказался должен несколько тысяч долларов, не только швейцарской фирме по прокату автомобилей, но и французскому таксомоторному парку. Но к несчастью, из-за слишком вольного расходования отпущенных на оперативную разведывательную деятельность средств, они сильно истощились, что и объясняет его решение пойти на контакт с американским атташе.
Отставим в сторону экстравагантный образ жизни Михаила и его лихачество за рулем. Насколько же успешной была его миссия по сбору разведывательной информации после окончательного обустройства под прикрытием (самой легкой части задания) к тому моменту, когда он вызвался сотрудничать с Соединенными Штатами? Именно тут у проверяющих сотрудников ЦРУ и возникли первые трудности, поскольку его намерения оказались скрыты мраком неизвестности. Михаил тщательно расписывал даты, время и длительность встреч с оперативными работниками ЦРУ, но уклончиво заявлял, что не имеет времени для подробного ответа на их вопросы. На случай, если за ним наблюдает ГРУ, он просил соблюдать строгие меры предосторожности. Официальное донесение, написанное в этот период, не слишком обнадеживает: «Получить надежную информацию от Михаила трудно, мы до сих пор не имеем документального подтверждения подлинности данного ему при рождении имени».
Наверняка американцев беспокоил один простой вопрос — каковы истинные намерения ГРУ? Какую роль может играть испаноговорящий русский, выдававший себя за бизнесмена (и мало что понимающий в бизнесе), в деле проникновения в тайны одной из наиболее надежно охраняемых военных организаций Европы? На первый взгляд, ответ напрашивается сам по себе: никакой. Однако можно ли было с уверенностью сказать, что действительная цель назначения Михаила соответствовала данным ему в ГРУ инструкциям? Не являлся ли Париж всего лишь очередной промежуточной остановкой на долгом пути к этой истинной цели, и Михаила просто проверяли, желая удостовериться в том, можно ли доверить ему другую, более важную миссию? Кто может поручиться за то, что ГРУ в любой момент не сменит задание и не направит его в ту страну, где может пригодиться знание испанского языка?
Должно быть, в ГРУ разделяли подобные мысли, поскольку менее чем через три месяца после первого контакта Михаила с американскими спецслужбами ему передали по радио приказ вернуться в Москву «для консультации». По своему обыкновению, он не явился в свою парижскую квартиру в назначенное для сеанса связи время и ничего не знал об этом срочном послании, пока получившие и расшифровавшие сообщение сотрудники парижского отделения ЦРУ не поставили его об этом в известность. Столь срочный вызов в центр мог означать для Михаила серьезные неприятности, но предположение, что ГРУ могло отменить его так называемую «операцию» и найти ему применение в Союзе, принесло имеющим отношение к этому делу американским оперативникам большое облегчение. Но не тут-то было. К их великому изумлению, в апреле 1958 года Михаил вернулся в Париж. Подвергнутый интенсивному допросу сотрудников ЦРУ, он оставался столь же уклончив, как и прежде. Единственным для них утешением явился некоторый прогресс в систематизации ложных заявлений Михаила.
По большей части эти заявления, возможно, были вызваны естественным стремлением Михаила сохранить чувство собственного достоинства. К примеру, он, по всей видимости, полагал, что его многочисленные романы с молодыми девушками были несовместимы со статусом семейного человека — главы семьи, как иногда важно называл себя Михаил. Поэтому на вопрос об этом, он объяснил, что, находясь на военной службе с восемнадцати лет, редко имел возможность вести нормальную совместную семейную жизнь, поэтому у них с женой не было детей. Однако со временем выяснилось, что перемещения Михаила были вовсе не такими частыми, не говоря уже о наличии у него маленького сына. Более того, жена время от времени передавала ему нежные послания через радиоканал ГРУ.
Некоторые его выдумки явились следствием стремления поднять уровень своей значимости. К примеру, так и не удалось выяснить, соответствовало ли истине утверждение Михаила о присвоении ему звания полковника. Его весьма вольное обращение с фактами и пребывание в своем собственном иллюзорном мире, казалось, приводило к тому, что однажды уверив в реальность собственных фантазий, он уже не мог разобраться, где ложь, а где правда. Стараясь выдавать себя за бизнесмена, Михаил, однако, заводил знакомства в основном среди женщин, причем не деловых женщин, что могло бы хоть как-то соответствовать его образу, а выбранных исключительно для собственного удовольствия. В основном эти дамы были простого происхождения и не слишком образованными для того, чтобы заподозрить в жизни Михаила что-то неладное.
Среди них, к примеру, можно упомянуть некую Терезу, девятнадцатилетнюю дочь чиновника бразильского консульства, цыганку русского происхождения. «Черноволосая красавица», — восторгался Михаил. Она танцевала в цыганском ночном клубе, и их телефонные разговоры сводились в основном к игривой болтовне и стыдливому хихиканию. Была также иранка Зара, перед которой он сорил долларами, рассказывая фантастические истории о несуществующей сестре в Испании, вышедшей замуж за столь же фиктивного князя. Самой постоянной пассией Михаила являлась француженка Дэниэль, живущая вместе с ним и родившая ему ребенка. Тем не менее их отношения не были слишком близкими, и ей приходилось лишь удивляться, что в более или менее определенные часы ее сожитель надевал наушники и слушал радиоприемник. Домашнюю идиллию нарушали и другие непредвиденные обстоятельства. Так, однажды, когда к нему пришел какой-то мужчина, Михаил без всяких церемоний выставил Дэниэль из дома, заставив ее дожидаться окончания этого визита на улице. По всей видимости, посещение, о котором идет речь, имело отношение к его разведывательной деятельности, но вряд ли он посвятил в это свою подругу. Бедная Дэниэль. Подобно всем женщинам Михаила, она делила с ним постель и почти ничего больше.
Финансовая поддержка Москвы являлась весьма щедрой, но была ли деятельность Михаила действительно полезной для ГРУ. По мнению оперативников ЦРУ, — не слишком. Подобно Попову, он оказался не в состоянии применить на деле знания, полученные во время обучения, но, в отличие от своего коллеги, к помощи американцев не прибегал. Результаты его попыток осуществить какие-либо действия, направленные на сбор информации, оказались плачевными и бесполезными как для России, так и для Соединенных Штатов, каковыми и оставались до самого последнего дня общения с ним сотрудников ЦРУ.
Само собой разумеется, все его так называемые операции были в основном связаны с женщинами. «Я хочу доказать Москве, что имею агентов, способных снабжать меня информацией, — с важностью заявлял Михаил. — После своего обустройства в Париже я начал подыскивать кандидатуры, о которых можно было бы сообщить в Москву… и наконец нашел нужного человека, работающего в штаб-квартире одной из интересующих меня армий». Разумеется, имелась в виду американская армия, но, желая показать свою значимость, он предпочитал употреблять множественное число. «Это была Зоя, — с гордостью продолжал он, — русская по происхождению. Как я с ней познакомился? В Париже есть один русский ресторанчик, там я ее и встретил. Из разговоров с ней стало ясно, что она работает в военной организации, так что мне даже удалось подслушать ее разговоры по телефону».
Все было бы прекрасно, но, как оказалось, Зоя служила всего-навсего клерком на американской армейской автостоянке, расположенной в парижском пригороде Фонтенбло, недалеко от штаба американских войск.
Единственная причина, которая заставила Михаил поведать о существовании этого «сверхсекретного источника», — его драгоценной агентке надоело жить в пригороде и она собиралась перебраться в Париж. Он попросил американских кураторов воспрепятствовать этому перемещению, возможно даже через военную организацию, которая пользовалась услугами автостоянки, где она работала.
Столь преувеличенная оценка значимости Зои могла бы показаться смешной, но объяснения Михаила были вполне резонными: «Я уже доложил о ней в Москву и получил приказ удерживать ее на этом месте. Ее там ценят, завербовать такого агента очень нелегко». Несмотря на четырехгодичное обучение, этот старший офицер ГРУ оказался абсолютно не способен реалистично оценивать важность предполагаемого «агента», которая, как бы хороша она ни была в постели, в смысле пользы для разведки не имела абсолютно никакого значения. Кстати, что интересно, сам Михаил произвел на Зою далеко не столь благоприятное впечатление, как она на него. Со временем ЦРУ стало известно из независимых источников: угостив ее несколько раз ужином, может быть даже переспав с ней, он так и не предложил Зое собирать для него информацию. С ее точки зрения, это была всего лишь очередная случайная связь. Опрошенная позднее, Зоя лишь припомнила, что Михаил предлагал подыскать ей работу получше, но она совершенно забыла его адрес, телефонный номер и даже имя.
Операция непродуктивная во всех отношениях
Может возникнуть вопрос, зачем ЦРУ потратило на Михаила столько времени? На этот вопрос можно ответить только другим: зачем на него тратило время его прагматичное начальство из ГРУ? Сколько усилий ушло на обучение Михаила, на поддержание с ним постоянной радиосвязи, какие суммы потрачены на обеспечение его «операций». Ведь не было никаких сомнений, что этот безнадежный дилетант пустил отпущенные Москвой значительные суммы на ветер.
Исходя из моего опыта, могу утверждать, что проведение разведывательных операций, контролируемых на большом расстоянии с помощью коротких кодированных сообщений, реально только в том случае, если и с одной, и с другой стороны находятся люди с глубоким убеждением. Чтобы брать на себя немалый риск, связанный с вербовкой агентов на вражеской территории, от агента-одиночки, если он не находится под непосредственным контролем более высокого начальства, требуется немалая преданность делу. К несчастью для ГРУ, их правила запрещают личный контакт с нелегалом, предосторожность, предоставившая Михаилу на некоторое время преимущество перед его начальством, не сразу осознавшим всю тяжесть его преступления. Несмотря на вполне представительный и солидный внешний вид, он отличался удивительной незрелостью, ставя себя и свои собственные желания превыше всего и действуя в отношении к другим согласно этому принципу. Подыгрывая нужным людям до тех пор, пока их интересы совпадали с его собственными, Михаил немедленно менял свое поведение, если подворачивалось более выгодное предложение. Не способный устанавливать эмоциональный контакт с людьми, он никогда не испытывал сомнений в себе или угрызений совести, доходя в этом почти до полного бесстыдства. Разумеется, если это входило в его намерения, Михаил мог предстать и в обличий честного и соблюдающего приличия человека, но на самом деле он был лишен каких-либо моральных принципов и преданности чему или кому-либо. Если бы в ГРУ имели возможность составлять психологические портреты своих агентов, они никогда не послали бы за границу подобного незадачливого растяпу.
Подобно Попову, Михаил оказался не в состоянии предвидеть свой печальный конец. От Пеньковского агенты ЦРУ узнали, что его в конце концов отозвали домой, судили и расстреляли.
Глава 5. МОТИВАЦИЯ. ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЛЮДИ?
Новый советский человек
«Неуверенность, медлительность и леность — вот мои враги», — как-то сказал о себе Лев Толстой. Он умер в 1910 году, говоря с сожалением не только о своем, но и о давно ушедшем поколении, однако вряд ли Толстой был более оптимистичен насчет будущего поколения. Каково же могло быть его мнение по поводу «нового человека», появившегося после революции, сказать трудно.
Те советские люди, которых я довольно пристально изучал во время создания этой книги, несомненно, являлись представителями нового поколения; они усердно старались соответствовать официально предписанному образу советского человека, по крайней мере внешне. Как таковые, они должны были разительно отличаться от людей дореволюционной формации, принадлежавших как к среднему, так и к высшему классу общества. Для коммунистов, пришедших к власти вместе с Лениным, русский народ являлся лишь малопригодным материалом для построения нового, лучшего общества — излишне эмоциональным, весьма склонным к резким переменам настроения, слишком легко и открыто впадающим в депрессию и отчаяние. Типичный русский способен разумом понять необходимость контроля над своими импульсами, но тем не менее имеет большую склонность потворствовать своим желаниям и капризам. Временами он способен на упорный труд, однако лишь урывками и часто ищет вдохновения в крепких напитках.
Для исправления этих дефектов советская власть решила принять за основу западноевропейскую модель общества. Вожделенный новый человек должен был походить ни много ни мало на шотландца или немца: строго одетого, сдержанного в поведении, основательного в беседе и высоконравственного в интимных отношениях. В сфере действия он предполагался работящим, с высокой степенью самодисциплины, эмоционально сдержанным и абсолютно лояльным к вышестоящему начальству, партии и государству, но вместе с тем должен быть полон энергии и стремиться к успеху. Главным тем не менее было безоговорочное подчинение приказам.
Желаемая планка, надо признать, была поднята слишком высоко, поэтому понятно, что советская власть так и не смогла достичь своей основной цели и полностью нейтрализовать у трудящихся «асоциальные» импульсы. Несмотря на это, до самого падения режима, советские лидеры продолжали усиливать строгость критериев поведения, внешне уважаемых всеми (если не считать редких индивидуалистов вроде Хрущева). Действуя подобным образом, они значительно ускорили процесс европеизации страны, начатый еще Петром Великим, сделав возможным для человека из крестьян, вроде Попова, чувствовать себя достаточно комфортно в некоммунистической Центральной Европе.
Навязывание этой модели всем без исключения гражданам страны с самого начала являлось первоочередной задачей Коммунистической партии. В связи с этим интересно отметить, что многие работавшие на ЦРУ русские шпионы в различные периоды своей жизни сами в какой-то степени выступали в качестве проводников этого курса. Исходя из всего, что нам известно об этих людях, подобная деятельность давалась им без особого труда, как и любая другая роль, связанная с ореолом власти и престижа. Однако иногда эта социальная роль игралась ими автоматически, без осознания ее истинного смысла. Подобное отсутствие понимания может быть прокомментировано следующей историей, рассказанной человеком, названным мною Николаем, который, в свою очередь, приписывает ее известному советскому авиаконструктору Олегу Константиновичу Антонову. Со слов Николая, Антонов вспоминал: «Прибыв в Москву, я вышел прогуляться и, увидев строящееся здание, из любопытства подошел поближе. В это время подъехал грузовик с кирпичом, и две девушки начали разгрузку, сбрасывая кирпичи в кучу. Разумеется, они при этом бились, но девушки объяснили, что не отвечают за их сохранность, главным было количество разгруженных машин. Я обратился к водителю, который ответил, что рабочим платят сдельно… а все остальное его не касается!»
«Кирпичи, — иронически воскликнул Николай, — они никого не интересовали. И так по всему Советскому Союзу!»
Однако, если судить по прогрессу СССР в некоторых других областях, особенно в исследовании космоса и оборонной промышленности, этот:случай, рассказанный Антоновым, нельзя распространять на положение дел во всей стране. С другой стороны, по мере того как жизнь в СССР ухудшалась, это высказывание становилось все более пророческим. Но какова бы ни была ситуация в Советском Союзе на самом деле, русские агенты, работавшие на ЦРУ, редко испытывали желание отдать своим согражданам должное за их успехи. В этом и почти во многих других отношениях их чувства к своей стране в целом всегда были антагонистическими.
Вместе с тем, хотя психологическое давление, оказываемое в СССР на личность с самого раннего детства (направленное на достижение соответствия идеалам подчинения долгу и дисциплине), не достигает желаемого результата в смысле гражданских добродетелей, оно, несомненно, оказывает свое действие, выражаясь в массовых неврозах, вызванных эмоциональными стрессами. Как мне кажется, одним из следствий подобного конфликта является наличие в Советском Союзе повального алкоголизма, но не пьянство является единственным результатом всего этого. Существует множество других путей разрешения психологических конфликтов кроме пьянства. Для советских граждан, описанных в этой книге, альтернативой явилось предательство. Подтверждением этому выводу является тот факт, что, в отличие от многих своих сограждан, почти все советские шпионы, попавшие в сферу моего исследования (за исключением Юрия), были очень умеренны в употреблении алкоголя. Таким образом, в данном случае предательство выступило в качестве альтернативного способа разрешения внутренних конфликтов и противоречий, принося в то же самое время определенную финансовую выгоду, позволяющую вести двойную (и более приятную) жизнь.
Предшествующее описание деятельности некоторых советских офицеров касалось в основном фактов из их жизни. Для того чтобы выжить, шпионы обязаны быть скрытными; подобно некоторым птицам, имеющим оперение, делающее их незаметными, шпионы просто вынуждены вводить окружающих в заблуждение. Разумеется, нашему пониманию отнюдь не способствуют мифотворцы из средств массовой информации, зарабатывающие себе на жизнь прославлением этих индивидуумов как сильных, склонных к насилию, гиперсексуальных людей, часто физически привлекательных и начисто лишенных каких-либо сомнений.
Давайте попытаемся развенчать это искаженное представление и получше понять, что именно определяло поведение некоторых советских шпионов-перебежчиков.
Петр Попов
Чтобы пролить свет на дело Попова, воспользуемся проведенными ЦРУ психологическими тестами, а также выводами, сделанными мною на основании истории его жизни, рассказанной им самим. Последняя, однако, была изложена Поповым весьма бессистемно, его рассказ следует воспринимать как повествование человека простого и не склонного к рефлексии. Теперь, по прошествии времени, мы, вероятно, способны понимать его лучше, чем он понимал сам себя.
В поисках причин нелояльности Попова к советскому режиму мы можем пользоваться и его рассказами, и фактами советской истории. Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие авторитетных фигур, с которых Попов мог бы брать пример в детстве. Подобно многим другим перебежчикам из СССР, потеряв отца в раннем возрасте, он не очень прислушивался к мнению матери. Единственным авторитетом в семье являлся его энергичный брат Александр. В рассказах Попова Александр выступает как человек суровый и не слишком склонный к проявлению чувств, но, безусловно, желающий младшему брату добра и сыгравший в какой-то период решающую роль в становлении его будущего.
Можно предположить, что немалый авторитет у мальчика имел также его школьный учитель, пользовавшийся большим уважением во всей округе, поскольку в школу ходили дети из других деревень, и влияние на них учителя было, по всей видимости, очень сильным. До революции, разумеется, существовала другая, общеизвестная и недоступная личность, — царь, считавшийся почти что Богом. Многие простые люди при виде этого благообразного, бородатого человека испытывали желание опуститься на колени и помолиться. Но к тому времени, когда Попов достиг разумного возраста, этого светского правителя уже смела стихия войн и революций. Что касается веры в Бога, то коммунисты это не одобряли. Разумеется, все верующие, в том числе и семейство Поповых, и после революции продолжали держать в избах иконы и потихоньку молиться, поскольку это вносило хоть какой-то порядок и смысл в их незамысловатую жизнь. Хотя, с другой стороны, за что им было благодарить Бога? В исследовании, посвященном постреволюционному периоду в СССР, спонсированном Гарвардским, университетом, отмечается: «В советскую эпоху крестьянин оказался наиболее угнетенным, эксплуатируемым и потерпевшим членом общества»{16}. Крестьяне делали все, что им говорили власти, имевшие возможность при необходимости подкрепить свои слова вооруженной силой, но часто это повиновение обуславливалось не уважением к начальникам, отдающим приказы, а простым желанием выжить. Последнее замечание особенно важно, поскольку именно общераспространенная, несущая в себе внутреннее противоречие психологическая раздвоенность — покорность в сочетании с неуважением к власти — помогает понять причину того безразличия, с которым позднее Попов, работая на ЦРУ, одновременно стремился подняться по ступеням служебной лестницы. Можно поставить себя на его место и попытаться понять, почему Попову пришлось научиться скрывать свои мысли, выдавать себя за того, кем он не являлся. Ясно одно — только такое поведение гарантировало ему выживание при советском режиме. Несмотря на офицерскую форму, Попов всегда ощущал себя крестьянином, даже несмотря на то, что советской системе со временем удалось внешне привить ему манеры офицера, принципы поведения которого были заложены еще при царском режиме и пережили революцию без особых изменений.
Что касается недостаточной приверженности Попова базовым установкам коммунистической системы при внешнем следовании ее правилам, то легко поддаться искушению и объяснить эту нелояльность к советскому государству влиянием брата-бунтовщика Александра. С другой стороны, подобное отношение Петра к властям, скорее всего, являлось типичным для человека из крестьян. «Отношение крестьянства к руководителям Советского Союза заслуживает особого объяснения, — утверждается в исследовании Гарвардского университета. — Около 75 процентов представителей этой группы выступают за насильственное уничтожение руководства [Советского Союза] и почти 80 процентов желали бы сбросить на Москву атомную бомбу»{17}. С другой стороны, приверженность Попова главным принципам породившего его общества не вызывает сомнения. Его личность была сформирована жизнью среди таких же крестьян, ведущих суровый образ жизни, и другого он не знал. Но каким бы тяжелым ни казалось существование семьи Попова, в жизни были и светлые стороны, о которых он любил вспоминать, в том числе те ясность и порядок, которые вносило посещение школы. Именно поэтому в дальнейшем превыше всего Петр ценил простоту и спокойствие.
Таким образом, связь Попова со своей страной основывалась не на религии, которую он не исповедовал, а всего лишь на обыкновенных традициях благопристойности, чистоты и гармонии, плюс язык, на котором выражались эти простые понятия. Таковым языком являлся для него, разумеется, русский. Хотя позднее Попов научился говорить еще на двух языках, ни одним из них он не владел настолько хорошо, чтобы воспринимать через него традиции иностранной культуры. Одной из притягательных черт Мили было то, что она могла говорить с Петром по-сербски, на языке, родственном русскому. Стоит также отметить, что вряд ли сотрудник ЦРУ Кисевалтер стал бы столь хорошим другом Петра, если бы американец свободно не говорил по-русски.
Идиллия жизни сельской общины никак не могла подготовить Попова ко всему, что предстояло ему в будущем. Как уже отмечалось, коммунистическая доктрина подразумевала воспитание нового человека, и он прекрасно понимал, что может приблизиться к некоторому соответствию этой идеальной модели лишь внешне. Петр решил, что самое разумное в этой ситуации — выглядеть вежливым, выдержанным, бдительным и интеллигентным (по крайней мере, на вид). Именно такое впечатление и произвел Попов на встретившихся с ним сотрудников ЦРУ. С другой стороны, они отметили, что он грызет ногти, страдает от повышенного давления, а также систематически изменяет жене и постоянно лжет своему начальству. К тому же во время приступов страха возможного разоблачения ему не удавалось сдерживать слез. Другими словами, Попов так и не смог прийти в согласие с тем образом, которому пытался соответствовать, чтобы замаскировать свое незавидное происхождение и слабость характера.
Оба аспекта этой раздвоенной психики были вполне естественными и реальными. Этот вежливый, сдержанный, дисциплинированный и внешне сильный духом офицер являлся продуктом идеологической обработки. Невозможно отрицать тот факт, что некоторые уроки Петр освоил весьма неплохо, иначе простой деревенский парень не мог бы достичь ранга старшего офицера. Более того, он неоднократно назначался секретарем парторганизации в нескольких подразделениях, в которых служил. В разговорах с Джорджем, своим американским куратором, Попов, часто критикуя несправедливость коммунистической системы (в особенности по отношению к крестьянству), в то же время, занимал вполне ортодоксальную позицию по отношению к властям. «Порядок, дисциплина и достоинство, — однажды заявил он, — должны быть превыше всего». С другой стороны, в его характере явно проявлялась и другая черта. Психолог ЦРУ определил Петра как «вечного юношу», имея в виду, что даже достигнув зрелого возраста, он так и не смог преодолеть многие внутренние психологические конфликты, почти детскую наивность и эгоизм.
Можно предположить, что столь надолго затянувшаяся незрелость объясняется отсутствием в раннем детстве авторитетной фигуры отца. Отец Попова умер, а брат-бунтарь Александр переехал в другое место, оставив Петра с матерью, пережившей мужа всего на несколько лет, но нет никаких оснований полагать, что она имела на сына большое влияние. Во времена юности Попова нормой поведения советской замужней женщины в семье было полное потакание желаниям и интересам мужчины, поэтому в смысле дисциплины он остался все равно что сиротой. С отъездом Александра Петр как бы во второй раз потерял отца, осиротел вдвойне, и это сиротство было почти в порядке вещей, поскольку со времени Первой мировой войны, за которой последовала революция, Россия потеряла огромное число граждан. Сталинские репрессии и Вторая мировая война отняли жизнь еще, по меньшей мере, у сорока миллионов.
Многие молодые люди вроде Попова, потерявшие семьи по разным причинам, быстро осознали, что в столь гибельную эпоху ждать от советской системы помощи не приходится: у власти не было ни времени, ни ресурсов для ее оказания. Дарвинский принцип выживания самых приспособленных к жизни действовал в полную силу, и люди подобные Петру понимали, что спасения можно достичь лишь одним способом: успешным восхождением по ступеням социальной лестницы — путем получения образования, вступления в комсомол и в партию, пройдя при этом строжайший отбор. Членство в партии было редкой честью, почти равнозначной попаданию в райские кущи, но Попов добился и этого. С другой стороны, это характеризует способности Петра к мимикрии, поскольку у него не было никакой веры в доктрины.
Хотя для многих советских людей получение заветного партбилета было делом престижа, не меньшее их число полагало, что важны сами по себе формальные преимущества, связанные с членством в КПСС. В стране, охваченной кардинальным переделом общественного строя, граница между жизнью и смертью была весьма слабой, поэтому у большинства населения имелись все основания для конформизма. Подобно Петру Попову, многие из-за них поступали так отнюдь не из-за убеждений или соображений патриотизма, а исходя из личных практических интересов.
Таковым было положение в России до самого вторжения немцев, события, сплотившего русскую нацию в не меньшей степени, чем нашествие Наполеона. На несколько трудных для страны лет мир стал совсем иным — даже для людей подобных Попову. Если исключить его службу в период войны, о которой мы мало что знаем, Попова можно причислить к немногочисленной категории людей, называемых карьеристами. Это слово имеет по-русски совсем не то значение, чем по-английски. Население России слишком велико, чтобы эффективно проводить отбор управленческих кадров. Неэффективность кадровой политики косвенным образом подтверждалась частыми публичными разоблачительными кампаниями против чиновников, демонстрировавших и подтверждавших лишь внешнее соответствие требованиям советской власти, но скрытно саботировавших ее решения. Само слово «карьерист» употреблялось в СССР по отношению к людям, активно поднимающимся по служебной лестнице, однако, по сути, лишенным чувства подлинной преданности своей стране. Сам Попов, несомненно, принадлежал к этой категории.
К несчастью для Петра, очутившись за границей, он был вынужден применять на практике все, чему его так долго и усердно учили, но оказался к этому совершенно не пригоден, что, естественно, не способствовало его дальнейшему продвижению по службе. Мало что понимая в незнакомом немецкоговорящем мире, в котором очутился по воле Советской армии, разбившей Германию, Попов был настолько беспомощен, что его американским кураторам пришлось руководить всеми его действиями, за исключением самых обыденных дел. Их помощь помогала ему оставаться на плаву в качестве офицера советской разведки[9].
Он производил впечатление вечного примерного студента, прилежно готовящего все задания, хотя и не слишком интересующегося их содержанием. Это качество, возможно, способствовало его позднейшему назначению секретарем партийной организации одного из подразделений посольства в Вене, в котором Петр служил. В числе важных задач этой привилегированной должности — было следить за чистотой идеологических настроений своих коллег. Вряд ли Попов исполнял свои партийные обязанности слишком уж рьяно, это, вероятно, вполне устраивало его сослуживцев, многие из которых были не более политически активны, чем он сам. Конформизм настолько укоренился в нем, что, должно быть, даже партийные собрания, на которых председательствовал Попов, проходили бесцветно и формально.
Недостаток уверенности в себе и неизменная вежливость накладывали отпечаток даже на отношения Петра с американскими кураторами. Никогда не заискивая перед ними, он тем не менее был предупредителен почти до угодливости, спрашивая позволения даже перед тем, как причесать волосы. Несмотря на это, внешний вид, речь и манеры поведения Попова производили настолько обманчивое впечатление, что по прибытии его в Вену, начальство, должно быть, увидело перед собой образцового советского офицера. Послужной список Петра выглядел внушительно. Он имел боевое ранение, окончил две престижных военных академии, дослужился до звания майора, к тому же являлся не просто членом партии, но и был секретарем партийной организации. Всегда аккуратный, с военной выправкой, Попов обладал прекрасным почерком, был отличным стрелком и никогда не был замечен в пьянстве. Поскольку в описываемый период в ГРУ имелся большой дефицит высшего командного состава, его перспективы на продвижение по службе казались весьма высокими. И действительно, вскоре Петр был произведен в звание подполковника. Что же случилось с ним потом?
Одним из возможных ключей к решению этой загадки являются результаты проведенного ЦРУ стандартного психологического теста, выявившего его ярко выраженный эгоцентризм. Выражаясь более простыми словами, даже те немногие люди, которых он любил, являлись в его жизни чем-то вторичным. Главная же проблема заключалась в том, что, очутившись в Вене, Попов вышел за рамки ограничений, определявших всю его жизнь в Советском Союзе. Более того, его новые обязанности как офицера разведки, подразумевающие определенную степень неподконтрольности, предоставляли ему свободу действий, доступную очень немногим советским людям — гражданским или военным. Воспользовавшись в полной мере этими неожиданно открывшимися перед ним возможностями, он пустился во все тяжкие.
Петр быстро и легко принял это освобождение — общих интересов со своими сослуживцами у него было мало. Почти все они были ранее городскими жителями, следовательно, гораздо образованней и культурней него. В компании людей, находящихся по уровню развития выше него, Попов чувствовал себя весьма неловко и, как позднее признавался своим кураторам, любил общаться с теми, кто смотрит на него снизу вверх, например, с жителями родной деревни во время периодических выездов на родину. От сослуживцев Петра ждать подобного восторженного уважения, разумеется, не приходилось. Скорее, наоборот.
С началом Второй мировой войны в Красной армии почти полностью вернулись к кастовым порядкам царского времени, вплоть до погон в качестве знаков различия, многочисленных орденов и медалей и тщательно продуманной военной униформы. Вместе с тем требования, предъявляемые к военнослужащим как идеалу нового человека, стали едва ли не более строгими, чем в самой партии. «Требования к дисциплине в офицерском корпусе весьма суровы, — отмечал один источник. — Не одернувший подчиненного за неверно отданное приветствие может быть подвергнут наказанию. Однако на отдание чести [младшим по званию] можно ответить пренебрежительным взглядом, а то и вообще не ответить. Приказы отдаются подчеркнуто грубо. Во время совещаний без разрешения может говорить лишь старший по званию»{18}.
В этом строго отобранном и соответствующим образом обработанном элитарном обществе совершенно отсутствовала доброжелательная фамильярность в свободное от службы время, принятая в офицерских кругах некоторых других армий. Крестьянскому парню вроде Попова найти для себя приятное для общения место становилось все труднее. В качестве компенсации за недостаток внимания со стороны сослуживцев он завел себе Мили.
Милица Коханек была ни на что не претендующей беженкой из югославской республики Сербия. С ней Попов проводил большую часть своего свободного времени, может быть и часть служебного. Как оказалось, обретение подруги явилось поворотным пунктом в его жизни, хотя Мили так никогда не узнала (и пришла бы в ужас, если бы узнала), что стала причиной обращения Попова за помощью к ЦРУ.
Еще до своей связи с Мили Петр жил далеко не по средствам, а их неоформленное, официально блаженство лишь усугубило его финансовые трудности. Согласно информации одного из его кураторов, в конце концов Попову пришлось воспользоваться резервными фондами ГРУ. Однако возлагать вину за все его затруднения на любовницу было бы неверно. Основная проблема заключалась в том, что, столкнувшись впервые в жизни со всеми искушениями столь космополитичного города как Вена, он не смог перед ними устоять.
Приходилось срочно искать какой-то выход, а что могло быть для Попова более естественным, чем обращение к американцам, символизирующим в послевоенной Австрии богатство? Почему же тогда не обратиться к первому попавшемуся на улице американскому офицеру? Правда, работающие в Вене сотрудники советской военной разведки были предупреждены своим начальством о необходимости опасаться американцев, использовавших свои дьявольские доллары для подкупа иностранцев. Однако для Попова эта возможность не несла в себе никакой угрозы, напротив, именно ее он и искал.
Хорошая работа Попова в качестве агента ЦРУ объясняется тем, что наше обращение с ним и методы руководства коренным образом отличались от того, к чему он привык, ежедневно имея дело со своими советскими начальниками. Последние заранее предполагали, что после окончания Военно-дипломатической академии Петр просто обязан хорошо знать свое дело. Им даже не приходило в голову, что, обладая хорошей памятью и способностью членораздельно повторять фразы, заученные за время учебы в академии, он имел весьма смутное представление о том, как применять эти знания на практике. Таким образом, какие бы приказы ему ни отдавали, эффекта не было.
С другой стороны, подход к делу агентов ЦРУ более соответствовал способностям Попова. Кураторы, оценив его неопытность и неумение, подробно и в простых выражениях обсуждали с ним каждую проблему. Более того, в их отношениях были теплота и дружелюбие, которых ему так недоставало. Говорящий по-русски американец Кисевалтер стал для Попова кем-то вроде второго отца; Петр был готов для Джорджа на все, что угодно. Собственно говоря, Попов и погиб, пытаясь исполнить то, что сверх его возможностей.
Олег Пеньковский
Подобно Попову, Олег Владимирович Пеньковский вырос без отца, однако на этом их сходство и ограничивается. Тем не менее в одном очень важном отношении они были похожи друг на друга, оба являлись мастерами мимикрии — иначе говоря, создания о себе впечатления, часто весьма далекого от того, что они представляли собой на самом деле. Такое сходство является ключевым моментом в понимании того, почему оба, несмотря на разницу в происхождении, стали весьма успешными шпионами.
Пеньковский считал себя представителем той группы людей, которую можно назвать «верхушкой среднего класса», но он предпочитал называть себя аристократом. Его можно понять, особенно если признать, что в рассматриваемый период классовая структура городского населения Советского Союза, несмотря на массированную советскую пропаганду, являлась в значительной степени продолжением того, что существовало еще в царское время. Даже до революции развитие общества в России неуклонно продвигалось в том же направлении, что и в Западной Европе{19}. С ростом индустриализации и развитием образования «к концу тридцатых годов в Советском Союзе сложилась социальная классовая структура, очень похожая на уже существующие в индустриально развитых странах Европы и Америки. Несмотря на отсутствие в СССР института землевладения, высшего класса предпринимателей и аристократии, существовали их аналоги [состоящие в основном из партийной иерархии и бюрократии], живущие в относительной роскоши… Установившаяся таким образом система… еще более окрепла в период 40–50-х годов»{20}. Эти строки, написанные еще в 1959 году, не потеряли свое значение и до сих пор.
В подтверждение истории Пеньковского мы имеем лишь его рассказ о дворянском происхождении матери и отца и две фотографии хорошо одетых и утонченно выглядевших родителей. Тем не менее мы знаем, что первоначально подозрение КГБ пало на Пеньковского в результате выявления его дворянского происхождения и факта службы его отца в Белой гвардии (монархически настроенной армии, действовавшей на территории России после революции в период Гражданской войны)[10].
С психологической стороны важно отметить, что Пеньковский всегда упоминал об исчезновении отца в контексте, явно намекающем на потерю перешедшего ему по наследству права принадлежности к правящему классу.
Эта потеря еще более усугубилась впоследствии, когда в КГБ узнали о его происхождении, что привело к отстранению Пеньковского от активной службы в армии и назначению на гражданскую должность в ГНТК. Таким образом, если Попов еще в детстве потерял одного за другим двух авторитетных для него людей, Олег Пеньковский дважды пережил болезненное понижение в статусе. Нетрудно предположить, что его дальнейшие поступки в значительной степени обуславливались злобой, вызванной этими потерями. Окончательный ответ на вопрос о причинах, по которым некоторые люди гораздо активней, чем другие, добиваются и, более того, требуют для себя превосходства в чинах и социальном статусе, до сих пор психологами не получен. В случае с Пеньковским это стремление могло быть результатом твердого мнения, внушенного с детства матерью, что это коммунисты лишили его привилегий, положенных ему по праву рождения[11]. Примером подобной неуверенности в своем статусе может служить интерес, который Олег проявлял к мнению о нем среди представителей американского дипломатического корпуса в Турции, а также более позднее желание узнать, какое впечатление он произвел на «сэра Ричарда». Постоянное стремление Пеньковского к самоутверждению является, по всей видимости, следствием глубоко запрятанного внутреннего сомнения в ценности собственной личности. Вдобавок к этой неуверенности, сам факт того, что ему приходилось с самого раннего детства скрывать правду о своем происхождении, по всей видимости, способствовал формированию невроза. Чем дольше приходилось Пеньковскому держать в тайне правду о его «врожденном аристократизме», тем сильнее развивалось в нем стремление к достижению первенства в других областях. В этом отношении Вторая мировая война явилась для него, как и для многих советских людей, своего рода даром судьбы, поскольку прошлое было на время забыто. В тот период он сам и ему подобные ценились не по своему социальному происхождению, а по тому вкладу, которой они могли внести в дело защиты своей страны. Во время войны были реабилитированы даже некоторые ранее пострадавшие от сталинских репрессий высокопоставленные военачальники, такие как дядя Пеньковского, дослужившийся до звания, равного генерал-лейтенанту американской армии. Многие экспроприированные кулаки, отправленные на поселения, также пригодились для дела. Во время войны Пеньковский, ставший внешне верным членом коммунистической партии, никогда не упускал возможности снискать расположение представителей высшего командования — к примеру, оказывая услуги Варенцову или женившись на дочери другого важного лица, генерал-лейтенанта Гапановича. Таким образом, способный, усердный и умевший при необходимости польстить нужному человеку Пеньковский к концу войны имел все основания рассчитывать на дальнейшее повышение.
К несчастью, он не был способен смириться даже с временным крушением своих непомерных амбиций. Например, понижение его в должности в связи с прибытием в Анкару постоянного резидента подразумевалось само собой и было вполне рутинной процедурой, тем не менее оказалось для него жестоким ударом. В первый момент возобладала присущая Пеньковскому привычка к осторожности, поэтому он сделал анонимный звонок в турецкую контрразведку. Но затем его злость достигла такой силы, что сдерживать ее больше не представлялось возможным. Именно донос, переданный через каналы КГБ и обвиняющий нового резидента в должностных преступлениях, и послужил началом его конца, инициировав цепную реакцию: донос вызвал интерес к нему КГБ, который, в свою очередь, привел к раскрытию тайны дворянского происхождения Пеньковского.
Лишенный преимуществ, которые, по его мнению, задолжала ему советская система, он решил выбиться в люди где-нибудь в другом месте. Вопросы верности долгу перед родиной волновали Пеньковского не больше, чем Попова. Советское правительство, партия, армия, ГРУ — все это имело смысл лишь до тех пор, пока они ценили Олега Пеньковского. В противном случае они становились достойны лишь его презрения и подлежали уничтожению. Оставался лишь небольшой шаг к тому, чтобы открыть в себе предназначение быть спасителем мира — и перед нами возник новый мессия.
Неизбежность самоуничтожения Пеньковского сама собой вытекала из его гипертрофированных амбиций. Встреча с «сэром Ричардом» удовлетворила его ненадолго, он захотел получить официальное признание от лорда Монбаттена, а затем королевы Великобритании и президента Соединенных Штатов. Даже трагикомичный эпизод с американской формой не принес ему полного удовлетворения, напротив, Пеньковского по-прежнему тянуло на подвиги, вторые роли были не для него. Перестав ощущать себя звездой, он потерпел бы полный психологический крах.
Все более рискованные авантюры Пеньковского доставляли немало беспокойств Вашингтону и Лондону, но его кураторы ничего не могли с этим поделать — попав под серьезные подозрения властей, он оказался вне всякой досягаемости. После того как это стало окончательно ясно, КГБ сделал все возможное, чтобы предотвратить его бегство за границу, и кураторам оставалось лишь беспомощно наблюдать за этим со стороны. Они попытались было умерить его активность, однако сам Пеньковский, на манер Наполеона или Цезаря, по-прежнему маниакально стремился к подвигам. В документах ЦРУ нет сведений о каких-либо попытках спецслужб Англии или США остановить это его безумие. Из моих бесед с людьми, занимавшимися делом Пеньковского (как англичан, так и американцев), создалось впечатление, что это было невозможно.
Михаил
История Михаила прекрасно иллюстрирует известный любому опытному разведчику факт: мотивы большинства из тех, кто пытается заработать на жизнь шпионажем, обычно мелочны и эгоистичны. Окутывающий ремесло разведчика ореол тайны естественным образом привлекает к себе авантюристов, мошенников и просто сумасшедших. Несмотря на разницу между ними, эти ни на что не пригодные люди имеют достаточно общего, чтобы охарактеризовать стиль их поведения термином «шпионский синдром» (сокращенно ШС)[12].
Почти карикатурные масштабы безответственности Михаила в какой-то степени объясняются тем, что, являясь нелегалом, он не имел над собой непосредственного начальника и оказался вообще вне какой-либо социальной группы с ее нормами и ценностями. Основные черты характера, по всей видимости, были заложены в нем в самом раннем детстве, но проявились во всей полноте лишь после того, как агент-нелегал Михаил получил полную свободу действий.
Изучив его случай более детально, можно увидеть, что, как и другие люди подобного толка, он был крайне чувствителен к внешним атрибутам и символам, утверждающим его в собственной ценности. До отъезда из Советского Союза эти атрибуты и символы обеспечивались принадлежностью к определенной социальной системе. Будучи кадровым офицером Советской армии, Михаил существовал в строгих рамках армейской дисциплины, с ее формой и знаками отличия, орденами и медалями и ежемесячным денежным содержанием. Не менее значима для него была занимаемая в течение нескольких лет позиция руководителя университета марксизма-ленинизма. Став нелегалом, он должен был отказаться от всех приобретенных за долгие годы привилегий, забыть о милых сердцу форме и наградах и даже отречься от родного языка, если не считать обмена сообщениями с Центром. Поступающие время от времени по радио из Москвы ободрения вряд ли могли компенсировать эти потери.
Личности с проявлениями ШС в ненормальной степени сконцентрированы на своих личных делах и заботах, они эгоцентричны или, другими словами, заняты исключительно собой. Частично по этой причине они не способны испытывать привязанность к кому или чему-либо, за исключением, может быть, людей, безоговорочно их поддерживающих и одобряющих. В самых крайних случаях — к которым, без сомнения, можно отнести и случай Михаила — эти люди вообще лишены способности любить; патриотизм и честь являются для них понятиями чуждыми. В моем понимании, как личные, так и официальные взаимоотношения таких личностей регулируются неким «пусковым механизмом», включающим и отключающим эмоции. К примеру, болезненного для самолюбия конфликта с начальством становится достаточно, чтобы подтолкнуть такого человека к предательству.
Как тут не вспомнить о ярости, овладевшей Пеньковским после замены его в Турции на генерала, хотя о неизбежности подобной кадровой операции ему было известно с самого начала. Но означает ли это, что он был личностью с симптомами ШС? Нет, не совсем, поскольку привязанность Пеньковского к Англии и Соединенным Штатам была вполне искренней. С другой стороны, определенные черты этого характера в сложной натуре Пеньковского определенно просматривались, впрочем в разной степени они проявлялись и у всех других советских агентов-перебежчиков, дела которых я изучил. Однако мотивация Михаила существенно отличалась от случаев с Поповым и Пеньковским, которые пользовались помощью и советами симпатичных им людей, достойных доверия. Более того, перед ними ставились разумные и достижимые задачи. С Михаилом все было иначе.
После долгой жизни в СССР в условиях строгой советской дисциплины он вдруг оказался в Париже, его ближайший непосредственный начальник находился за несколько тысяч километров, в московском центре ГРУ. Его контролер, наверняка знакомый ему полковник, целиком зависел от того, что захочет (или не захочет) сообщить ему Михаил. В этом заключался очередной подвох: поскольку подверженные ШС люди сильно зависят от мнения других, они могут талантливо войти в требуемую от них роль — подобно аферистам, приспосабливающим свой внешний образ сообразно обстоятельствам. В подобных случаях оценить степень искренности их чувств и поступков становится очень трудно. Уж если такие столпы советского общества как Серов и Варенцов оказались хорошими и верными друзьями Пеньковского, можно себе представить, насколько беспомощен был контролирующий Михаила полковник.
Другой особенностью заграничной жизни Михаила был тот факт, что поначалу он не испытывал никаких финансовых проблем: ГРУ снабдило его большой суммой денег на насущные нужды, а он, не задумываясь, тратил их на такие «операции», как развлечения своих любовниц. Причиной дальнейшего обращения Михаила к американцам была необходимость дополнительного заработка, поскольку сексуальные приключения и бытовые неурядицы обходились дорого. Следует к тому же отметить, что мысль об экономии денег вообще не приходила ему в голову, ведь мир существовал для него, а не он для мира.
Но, оказавшись без какого-либо контроля из Центра и совершенно забыв о чувстве долга, был ли Михаил столь же небрежен во внешнем облике и в делах? На первый взгляд, нет. Всегда тщательно одетый, он поддерживал в порядке свою физическую форму, по всей видимости, это помогало ему сохранять привлекательность для представительниц прекрасного пола. Вместе с тем обычному среднестатистическому французу Михаил предложить ничего не мог, что делало его бесполезным в роли агента разведки. Несмотря на то, что в прошлом Михаил руководил университетом марксизма-ленинизма, он отнюдь не был интеллектуалом. В его досье нет никаких упоминаний даже о том, что он читал когда-либо газеты; знания его были недостаточны для беседы с французским бизнесменом о финансах или с правительственным чиновником о политике. Подобные серьезные вопросы, по всей видимости, не интересовали его вовсе.
Если бы Михаил находился под непосредственным наблюдением опытного резидента ГРУ, базирующегося в Париже, он наверняка получил бы инструкции попытаться завести знакомство среди военнослужащих различных национальностей, особенно американцев. И хотя необходимость подобной инициативы очевидна для каждого мало-мальски понимающего в разведке человека, ему это даже не приходило в голову. Казалось, что действиями Михаила руководила не голова, а соответствующие железы: все его потенциальные «агенты» являлись молодыми эротичными на вид женщинами, абсолютно бесполезными с точки зрения порученной Михаилу миссии.
Отсутствие каких-либо практических результатов отнюдь не являлось следствием сложности его задания. В подобных обстоятельствах нетрудно представить себе Пеньковского, ставшего миллионером. Но тесный мирок Михаила всегда состоял из пустых слов, абстрактных политических концепций и пустой идеологии. Абсолютное отсутствие привязанности или преданности какой-либо отдельной личности или стране в целом, оторванность от культурных корней, дефицит сопереживания и понимания чувств других людей — все эти недостатки в нем присутствовали (плюс еще алчность и похоть). Но, несмотря на обилие перечисленных недостатков, Михаил отнюдь не является лишним в этом исследовании о шпионаже. На самом деле он попадает в категорию людей, для которой у психологов имеется много названий, например асоциальная личность, психопатическая личность или кратко — социопат. К сожалению, подобное состояние может быть генетически предопределенным недугом, единственным средством от которого является строгая дисциплина, которой Михаил лишился после перевода из действующей армии на положение нелегала.
Из всех противоречивых определений причины неадекватного поведения Михаила можно остановиться на термине «асоциальная личность», введенном в обиход Американским психологическим обществом в 1952 году: «Этот термин относится к индивидуумам с хронически антиобщественным поведением, постоянно находящимся в тревожном состоянии, не способным извлечь уроки из собственного опыта, не поддающимся исправлению наказанием и не испытывающим истинной привязанности к каким-либо личностям, сообществам или правилам. Они часто бессердечны и гедонистичны, отличаются эмоциональной незрелостью, отсутствием рассудительности и чувства ответственности; эти люди не способны корректировать свое поведение, чтобы оно казалось обоснованным, разумным и оправданным»{21}.
Объяснение понятия асоциальной личности весьма полезно, поскольку сопутствующие ему признаки в той или иной степени можно найти у многих настоящих и будущих шпионов. Многие из нас, причастных к разведывательной деятельности за границей вскоре после Второй мировой войны, могут вспомнить «торговцев секретами», предлагавших «товар» в угоду желаниям нетерпеливых сотрудников разведслужб. К. примеру, все наши так называемые «разведывательные» материалы по Северной Корее были сфабрикованы подобными мошенниками либо разведывательной службой самой Северной Кореи. В наше время, разумеется, значительно обогатившийся опыт разведывательных служб многих стран почти исключает подобные ситуации, однако, имея дело со сбором секретной информации, следует все же остерегаться подделок, предоставляемых мошенниками, или дезинформации, подбрасываемой вражескими службами.
Юрий Носенко
Теперь, когда все его мучения остались позади, Юрий Носенко является американским гражданином (я уверен, хорошим) и работает на правительство Соединенных Штатов. Поэтому говорить о его деле более подробно означало бы вторгаться в его частную жизнь, так что остается лишь пожелать ему всего наилучшего. Несправедливо пострадав от действий некоторых слишком ретивых работников ЦРУ, он заслужил свое счастье.
Портрет нелегала
Кроме Попова, Пеньковского, Носенко и Михаила, я тщательно изучил ряд других дел, однако соображения безопасности не позволяют мне использовать закрытую до сих пор информацию. У меня нет права раскрывать настоящие имена прочих членов этой группы, поэтому назову их просто Сергей, Владимир, Николай, Георгий, Алексей и Дмитрий. В большинстве этих и других подобных случаев имеющейся в наличии скудной личной информации явно недостаточно для проведения обстоятельного анализа в интересующем меня аспекте. Все эти люди родились примерно во время, близкое к дате окончания Первой мировой войны. В списке нет ни одной женщины, поскольку в этом поколении принцип равноправия женщин не распространялся на область советского шпионажа.
Лишь один из этих агентов, Георгий, был гражданским лицом, четверо — полковники ГРУ, а один — полковник КГБ. Все пятеро провели некоторое время за границей и, за единственным исключением, работали под прикрытием какой-либо официальной должности, обычно военного атташе посольства. В двух случаях данные о детских годах субъектов исследования оказались столь скудны, что оценить степень влияния на них родителей или других старших родственников не оказалось возможным. Из остальной четверки, чьи биографии оказались более пригодными для этой цели, трое были сиротами (круглыми или наполовину), а один признавался, что ощущал себя нелюбимым ребенком. Таким образом, Попов явился редким исключением — его старший брат был примером заботливого отношения к младшему.
Интеллект
Судя по их деятельности до и после установления контактов с ЦРУ, пятеро из рассматриваемых агентов обладали интеллектом выше среднего уровня. Только один из них, Дмитрий, возможно имел более низкий коэффициент умственного развития, но мои суждения о нем могут оказаться не слишком объективными из-за его тяжелого характера.
Самовыражение
Все субъекты исследования умеют четко формулировать свои мысли и любят порассуждать на темы международной политики. Дмитрий, к примеру, чувствовал «твердую уверенность в том, что красный Китай представляет политическую и демографическую опасность для мира белого человека, поэтому СССР и США должны достичь согласия, чтобы совместно противостоять этой опасности». Хотя, «будучи вызванным на спор по этому поводу, он не проявил особого желания до конца отстаивать свою точку зрения». С другой стороны, когда дело касалось деталей по поводу их происхождения и воспитания, они часто были весьма лаконичны, а иногда просто выказывали нежелание говорить на эти темы. Приходилось соблюдать крайнюю осторожность и подходить к этому делу с большой деликатностью. Очевидно то, что считалось в ЦРУ вполне обычной и нисколько не оскорбительной процедурой, воспринималось этими людьми совсем по-другому, интерес к личным делам напоминал им грубый допрос в КГБ.
Внешность
Внешне все эти мужчины держались с несомненным достоинством. Хорошо зная, как они должны выглядеть, агенты одевались тщательно и консервативно. Они не упускали также из вида и другие аспекты внешности, в частности состояние прически и ногтей. Для каждого из них внешний вид был, очевидно, тесно связан с социальным статусом.
Самоконтроль
По большей части эти агенты демонстрировали хорошее самообладание, вполне соответствуя установленным советским режимом нормам поведения. Один из них, Дмитрий, поначалу вел себя внешне совершенно непринужденно, но позднее проявлял признаки сильного внутреннего напряжения: со временем в его поведении обнаружились отклонения от нормы и импульсивность.
Самоуверенность
С внешним самообладанием тесно связано еще одно качество — уверенность в себе. По большей части степень их уверенности в себе оказывалась весьма высокой — обычно не совсем оправданно. Обманчивое ощущение своей неуязвимости толкало этих людей на поступки, которые во многих случаях дорого им обходились. А затем все заканчивалось стрессом, депрессиями и обращениями за помощью к американским кураторам.
У всех агентов, кроме одного, степень уверенности в себе оказывалась подверженной взлетам и падениям, обычно вызванным случаями действительного или мнимого неуважительного отношения к ним — задержка в получении очередного звания, неполучение наград и тому подобное. Казавшийся единственным исключением Николай, полковник КГБ и резидент, внешне настолько владел собой, что догадаться о его внутренних переживаниях не представлялось возможным. Только позднее мы узнали, что именно он испытал самый большой стресс из всех шести.
Амбиции
За исключением Михаила, все остальные оказались людьми в той или иной степени амбициозными, однако эффективность в реализации этих амбиций у каждого сильно отличалась. Самый способный из всех, Пеньковский, потерпел неудачу вследствие своего дворянского происхождения и последовавшего неадекватного поведения в Турции. Другой одаренный индивид, Георгий, один из горожан в группе, остановился в Карьерном росте из-за недостатка вакансий в своей довольно статичной правительственной организации. Следует отметить, что к моменту, когда они попали в поле зрения ЦРУ, все эти люди уже достигли значительного успеха по сравнению с большинством своих сограждан. Однако это удовлетворило их ненадолго — возобладало маниакальное стремление к достижению все более высоких чинов и знаков признательности высшего начальства.
Отношение к другим советским официальным лицам
Все эти агенты были крайне чувствительны к уровню занимаемого общественного положения. За исключением Попова и Дмитрия, они являлись выходцами из образованных городских семей, которых, согласно американской терминологии, можно отнести к среднему классу. Эти люди свысока смотрели на сограждан, которые, независимо от положения, вели себя «некультурно». Это слово на русском языке, кроме своего основного понятия, означает также любую ненормальность в поведении, например грубость речи или поступков. Хрущев, к примеру, был предан анафеме пятью военными в рассматриваемой нами группе не столько за его отношение к армии, сколько за «простонародное поведение».
Несмотря на кажущуюся схожесть, каждый из этих агентов считал себя в каком-то отношении выше других — более умным, более идейным, или даже более честным. Кроме того, все они презирали высшее начальство и регулярно обливали его грязью.
Лояльность
Несмотря на то что все агенты-перебежчики считали себя «хорошими русскими», только один из них проявил хоть какую-то преданность советскому государству. Для других вопрос политической лояльности просто не существовал, как в сознании, так и в подсознании. Собственно говоря, они не были никому преданы, а в беседах с американцами даже не пытались казаться таковыми. Возможно, именно в этом заключалась одна из причин непринужденности в их разговорах с посторонними людьми.
Главное исключение — Николай. Он был человеком упорным, обладающим исключительным самообладанием, сумевшим достичь очень высокого военного чина, однако его успешная карьера омрачалась терзавшим его внутренним противоречием. К своей родине, России, он был лоялен, хотя и понимал это несколько абстрактно, но к коммунистическому государству — нет. Дилемма была очевидной. В результате этого конфликта чувств Николай никак не мог выбрать между полным сотрудничеством с ЦРУ и решительным от него отказом. Когда он был в настроении, то работал просто прекрасно, но, сколько мог продлиться этот период, сказать было невозможно.
С другой стороны, все агенты говорили о привязанности к своим семьям, хотя в довольно невразумительной и отвлеченной манере. Однако у Дмитрия карьера имела преимущество перед семейной жизнью; в его планах жена упоминалась нечасто, более того, то же самое было и с сыном. Можно сказать, что заботясь об их материальном благополучии, он не чувствовал к ним эмоциональной привязанности и не очень интересовался, счастливы ли они или нет. Четверо из шести агентов регулярно изменяли своим женам, насчет остальных у меня нет никаких сведений. С другой стороны, Попов, один из постоянно изменявших жене, был верен своей любовнице.
Испытывали ли они вообще чувство, похожее на привязанность? Очевидно, что испытывали. Ведь нет никаких сведений, подтверждающих, что кто-нибудь из них подверг опасности любого куратора-иностранца, с которыми они работали, даже если на кон ставилась карьера и даже сама жизнь этого русского агента. Таким образом, на самом деле они демонстрировали по отношению к своим американским связным даже большую заботу, чем к собственным семьям, некоторые из которых жестоко пострадали после того, как их мужья были разоблачены КГБ. Эта опасность существовала всегда, но на нее агенты-перебежчики почти не обращали внимания.
Потворство своим слабостям. Отношение к деньгам и имуществу
По моему мнению, все субъекты исследования подвержены различным слабостям, но каждый из них по-разному контролирует свои порывы. Георгий, к примеру, способен долгое время оставаться дисциплинированным, трудолюбивым и практичным работником, но может внезапно сорваться и удариться в пьяный кутеж со случайной женщиной, при этом тратя значительные суммы денег. С другой стороны, Николай, самый собранный из всей группы, не проявляя интереса к чувственным удовольствиям, просил в подарок вещи, которые были ему не по карману. Правда, стоимость передаваемых ему вещей вполне соответствовала ценности оказываемых им услуг.
Кроме Николая, все агенты не умели разумно обращаться с деньгами, ни один из них не избежал искушения жить не по средствам. И все же, при всей склонности к денежным тратам (часто на самые пустяковые вещи), они не стремились к обогащению. Суммы, получаемые ими от ЦРУ, были незначительны по сравнению с риском, которому эти агенты подвергались.
Отношение к спиртному
Вопреки общепринятому стереотипу русского человека, ни один из рассматриваемых офицеров не был алкоголиком; по современным американским понятиям их можно отнести к категории умеренно пьющих. Один из агентов в период подготовки бегства на Запад пил весьма сильно, но у меня нет сведений, сколько алкоголя он потреблял в обычной обстановке. Георгий, единственный гражданский сотрудник среди агентов, временами пил очень сильно, но бывали долгие периоды, когда он вообще не прикасался к спиртному.
Во время судебного процесса над Пеньковским его вынудили признаться в «моральном разложении, вызванном почти ежедневным потреблением спиртных напитков». Описывая одну из встреч в гостинице «Москва», он отмечал: «Помню, что я выпил тогда пол-литра коньяка». Вся эта чепуха была сфабрикована обвинителями, не желающими обнародовать правду об идеологических причинах его антисоветской деятельности.
Как я полагаю, во многих случаях курирующие русских сотрудники ЦРУ пили больше самих агентов, поощряя их делать то, чего они, может быть, и не хотели.
Физическое состояние
Ни один из агентов самостоятельно не занимался спортом, если не считать времени, когда они были вынуждены делать это по долгу службы. У всех отмечалась склонность к полноте, за исключением Михаила, гордившегося своими атлетическими достижениями в юности.
Как бабочка на свет
Каждый из рассмотренных мною людей провел довольно значительное время за границей, но никто, кроме Носенко, до самого последнего момента, не делал попытки уйти на Запад. Даже Михаил, превратившийся в безобидного обожателя женского пола, вернулся домой, когда его отозвали. В чем причина?
Бросается в глаза одна, общая для всех черта: ни один из них не был научно, религиозно или политически ориентированной личностью, поэтому причиной их возвращения домой, несмотря на опасность ареста, явились вовсе не культура, вера или преданность идеалам. При всем желании найти какую-либо рациональную причину этого решения вернуться в СССР очень сложно. (Даже искушенный Пеньковский, имевший, по крайней мере, три возможности навсегда покинуть свою страну, каждый раз решал вернуться обратно.) Я все же постарался отыскать индивидуальные различия в мотивации их возвращения в СССР, хотя угроза разоблачения КГБ была для них совершенно реальной.
По моему мнению, ответ в случае с Пеньковским довольно прост — смыслом его жизни была месть, осуществлять которую издалека было невозможно. Проект ядерного нападения на свою родную страну демонстрирует глубину его ненависти: к тому же он слишком серьезно воспринимал принятую на себя миссию солдата «своих» королевы Великобритании и президента США.
Николай, военный человек до мозга костей, был довольно успешен во всех своих начинаниях, несмотря на все метания между верностью долгу и предательством. Совершив несколько длительных поездок за границу, он никогда не пытался перейти на другую сторону — частично из гордости, частично из недостатка гибкости, сделавших затруднительным столь кардинальную перемену в жизни, как бегство из родной страны.
Что касается Попова, то у него взяло верх присущее ему отсутствие воображения. Во время пребывания в Берлине, получив настоятельный совет уходить, он ответил решительным отказом. Несмотря на высокое звание, Попов до конца жизни оставался русским крестьянином и не мог представить себя живущим на Западе до конца жизни. «Все будет хорошо», — часто утверждал он, поскольку оптимизм являлся единственной возможной для него реакцией на столь сложную дилемму.
Дмитрий постоянно жил в таком напряжении, что ему было не до анализа обстановки, рациональная составляющая его натуры была столь скудна, что поступки не поддавались никакому разумению. Можно было лишь предположить, что, подобно Михаилу, вернувшись домой, он просто следовал установившемуся жизненному порядку. Что касается дальнейшей судьбы Дмитрия, то мне о ней известно очень мало.
И наконец, что с Михаилом? Старавшийся произвести впечатление интеллигентного человека, он вел себя подобно собаке Павлова. Стоит хозяину свистнуть, как она возвращается домой. Когда я столкнулся с его делом впервые, Михаил не показался мне личностью, интересной для исследования, однако его поведение хорошо иллюстрировало некоторые аспекты шпионского синдрома.
Хотя мнение профессиональных психологов могло бы оказаться весьма полезным для нашего исследования, работ, посвященных изучению деятельности и психологии шпионов, существует не так много. Можно предположить, что специалисты, занимающиеся психическими отклонениями, относят людей, склонных к шпионажу, к категории так называемых социопатов или психопатических личностей. Позвольте привести мнение одного из таких специалистов: «[Социопат или асоциальная личность] не в состоянии принимать вещи такими, какие они есть на самом деле, не способен вписаться в окружающее его общество, проявляет склонность к независимому, индивидуалистическому существованию при отсутствии каких-либо чувств к своей семье, друзьям или стране. Несмотря на все эти недостатки, он может казаться очень милым человеком, но [почувствовав, что его притягательность уменьшается] испытывает недоумение, сожаление и тревогу»{22}. Социопаты отличаются неспособностью предугадать результаты своих действий и во многих случаях даже не испытывают страха. Некоторые люди, награжденные во время Второй мировой войны орденами за проявленную отчаянную храбрость, по окончании боевых действий имели неприятности из-за неадекватного и буйного поведения. Причины отклонений в поведении лиц, причисляемых к социопатам, не совсем ясны и могут обуславливаться наследственными факторами. Поскольку этот термин является по определению уничижительным, я предпочитаю употреблять его как можно осторожнее. Поведение лиц, фигурирующих в моей работе, можно объяснить сочетанием многих редких социальных факторов, в том числе, возможно, и наследственных. Поэтому сочетание слов «шпионский синдром» кажется мне более щадящим, чем термины, принятые в психиатрии.
В заключение замечу, что, несмотря на многие недостатки, характерные для описанных выше людей, они могли бы стать неплохими гражданами любой западной страны, как это случилось с Юрием, если бы в свое время они были освобождены от советского давления.
Эпилог. МОИ СОВЕТСКИЕ ДРУЗЬЯ
Самой приятной неожиданностью за весь период моей карьеры в ЦРУ оказалась та легкость, с которой за границей я мог заводить друзей среди советских дипломатов. Мои коллеги из западных стран, служившие в разное время в Москве, постоянно подчеркивали трудности, с которыми они сталкивались при установлении даже неформальных отношений с советскими чиновниками, в том числе с теми, в обязанности которых входило общение с представителями некоммунистического Запада. «Это относится прежде всего к столице, — предупреждали меня, — в Москве они особенно остерегаются любых контактов, не являющихся официальными».
По своей тогдашней наивности я считал естественным, что подобные осложнения должны быть и за пределами Советского Союза, тем более в явно антикоммунистически настроенных странах, где мне привелось работать сразу после окончания Второй мировой войны. Поэтому мой собственный опыт подобного общения, имевший место в начале 60-х годов в Марокко, стране, балансировавшей в экономическом и в политическом отношении между Западом и Востоком, явился для меня откровением. К моей радости, установление добросердечных отношений с представителями СССР, работающими в столице Марокко Рабате, оказалось сравнительно легким делом.
Нужно заметить, что служащие советской миссии с самого начала точно знали, что я являюсь главой местного отделения ЦРУ и, следовательно, представляю для них не совсем обычный интерес. С другой стороны, я был вооружен надежной информацией о тех, кто в советском посольстве представлял КГБ, и концентрировал свое внимание именно на них. (Сотрудниками ГРУ, которые интересовались по большей части военным персоналом, я не занимался.) Очень помогало мне то, что все происходило именно в Рабате. Это был красивый, современный город, достаточно большой, чтобы предоставлять своим обитателям все блага цивилизации, но и вполне компактный, чтобы все мы чувствовали себя добрыми соседями. Вдоль широких, обсаженных пальмами улиц, простирающихся по атлантическому побережью Рабата, располагались красивые частные дома. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в тот период, когда страны всего мира считали своим долгом обозначить свое присутствие в быстро деколонизирующейся Африке, Рабат стал удобным центром для многих правительств, подыскивающих подходящее место для дипломатического представительства на этом континенте.
Официальный штаб советских сотрудников в Рабате был довольно большой, одна из задач представительства — контроль за деятельностью американских баз военно-морской авиации, дислоцированных в Марокко и являющихся частью инфраструктуры НАТО.
Но в этой спокойной и весьма цивилизованной стране с ее пляжами, омываемыми ласковыми волнами Средиземного моря и Атлантического океана, никто себя особо не утруждал. Возможность всемирного конфликта казалась в этом райском уголке столь, же далекой, как Северный или Южный полюса, и в непринужденных беседах с русскими мы быстро нашли общие интересы и научились избегать разделяющие нас щекотливые вопросы. Один из моих добрых собеседников, офицер КГБ, которого я буду называть Лео, почти год состоял в посольстве в качестве временного поверенного и исполняющего обязанности руководителя советской миссии. Он любил вместо официальных мероприятий участвовать в семейных ужинах с женами в нашем представительстве. А эти встречи случались довольно часто. Очень популярными среди дипломатов были национальные праздники, проходившие в более чем пятидесяти посольствах Рабата. Лео не скрывал, что эти церемонии приводят его в уныние, наш дом нравился ему гораздо больше. Он и его жена свободно говорили по-французски, и в наших частых беседах Лео был весьма откровенен — гораздо больше, чем я мог ожидать от высокопоставленного дипломата. К примеру, до назначения в Марокко он служил в Египте, и когда я, между прочим, спросил его, как он относится к арабам, Лео только отмахнулся. «Совершенно нецивилизованный народ!» — пробормотал он, а его жена, всегда приветливая женщина, в ответ на слова мужа согласно кивнула головой и нахмурилась. Мы о многом разговаривали вчетвером, и Лео был готов обсуждать почти все, за исключением критики советской политической системы. Больше всего ему нравилось сидеть со мной по-турецки на полу со стаканом виски в руках, слушая мои записи русских песен и хоровой музыки. Временами он покачивался, мурлыкал мелодию и даже подпевал в некоторых местах — я же ограничивался лишь мурлыканьем.
— Вы должны выучить слова! — как-то сказал Лео.
— Но я не знаю русского языка, — возразил я.
— Неважно. Вы можете выучить наизусть. Я подарю вам кое-какие пластинки!
И действительно, когда они с женой вернулись из Москвы, он преподнес мне несколько замечательных пластинок, прекрасно пополнивших мою коллекцию. Вопреки моим страхам, музыка оказалась инструментальной — времени для изучения русского языка у меня не было.
Мне удалось также довольно близко познакомиться с тремя другими дипломатическими семьями, подобно Лео связанными с КГБ. Они приходили к нам на ужин, на котором иногда присутствовали и другие американцы, иногда мы даже выезжали вместе на пикники. Это были приятные в общении, хорошо образованные люди. Помню, как один из них рассказывал, что ему пришлось выбирать между карьерой дипломата и музыканта-скрипача. Оправдывая свой окончательный выбор, он сказал: «Я решил посмотреть мир!».
Несколько удивляло, что, нанося нам визиты, они никогда не приглашали нас к себе. Мы с женой объясняли это тем, что им просто неудобно из-за невозможности принять нас с таким же гостеприимством; щедрое правительство Соединенных Штатов оплатило нам провоз многих личных вещей, чего советские граждане позволить себе не могли.
Как бы то ни было, они были моими верными друзьями, что подтверждается одним несколько необычным жестом. Отправленный домой из Рабата, я оказался в Бостоне на лечении. Однажды меня разбудил раздавшийся рядом с больничной койкой телефонный звонок. В трубке послышался взволнованный голос сотрудника штаб-квартиры ЦРУ в Вашингтоне. «Джон! — воскликнул звонивший. — Мы получили телеграмму из нашего посольства в Алжире. С ними связался твой русский приятель-скрипач [к тому времени переведенный на работу в Алжир] и попросил передать тебе пожелание скорейшего выздоровления. Его беспокойство твоим здоровьем показалось нам вполне искренним». Тут мой коллега перешел на многозначительный профессиональный тон: «Ты, конечно, знаешь, что он из КГБ?»
Пытался ли я вербовать кого-либо из офицеров, с которыми познакомился в Марокко? Но разве не для этого я там находился? Не спорю — это являлось основной целью моей работы. И все же, опытным офицером разведки можно считать лишь того, кто чувствует разницу между возможным и невозможным — тонкое различие, понимание которого приходит лишь с опытом, а часто, к сожалению, не приходит никогда. Но в любом случае, никто из моих советских друзей не обладал качествами, характерными для несчастных, готовых к сотрудничеству людей, с которыми читатели уже познакомились. Ни одного из этих рабатских дипломатов нельзя сравнить с плохо приспособленным к жизни крестьянином вроде Попова или с двуличным Пеньковским — разочарованным аристократом, чувствовавшим себя обделенным, лишенным причитающегося ему наследства и эксплуатировавшим советскую систему, пытаясь в то же время развалить ее. Никто из моих друзей даже близко не напоминал социопата Михаила, поведение которого любой разумный человек (особенно, далекие руководители ГРУ в Москве) признал бы неадекватным. Не имели они ничего общего и с Юрием — выскочкой, лишенным национальных традиций и какой-либо жизненной основы, выросшем в атмосфере пренебрежения всем советским, была ли это его семья, друзья или даже родина. Напротив, было совершенно ясно, что все мои знакомые прекрасно вписались в свое общество и не испытывали никакого желания куда-либо бежать из него.
Возможно, среди советского персонала, работающего в Марокко, и существовали свои Поповы и Пеньковские, однако встретить их мне не довелось. Итак, я покинул эту страну весьма довольный своей длительной командировкой, но мне так и не удалось осуществить сокровенную мечту любого профессионального разведчика — завербовать высокопоставленного советского агента. Более того, по мере ослабления напряженности и прекращения противостояния в холодной войне многие мои коллеги начали испытывать такое же разочарование. Советские граждане, с которыми им удавалось познакомиться, были столь же дружелюбны и приятны в общении, но на вербовку не шли.
Опасности несбалансированного мира
Рассмотрение описанных выше событий в контексте распада Советского Союза и появления новой России в качестве потенциального союзника Запада неизбежно приводит к необходимости ответить на простой вопрос. Будет ли шпионаж, направленный против бывшей советской империи, необходим и в будущем? То, что в прежней коммунистической «монолитной» стране считалось тайной, теперь обсуждается открыто; выезд за границу России стал свободным, а темы дискуссий почти ничем не ограничены. Президент России избирается всенародно, русские войска выведены из Западной Европы, а ядерное оружие, некогда размещенное в Белоруссии, Казахстане и на Украине, возвращено в Россию. Напрашивается вывод, что угрозы, которую представляла Россия Соединенным Штатам и Объединенной Европе, уже не существует, обстановка изменилась настолько принципиально, что шпионаж стал анахронизмом.
Однако горькие уроки XX столетия заставили Америку умерить свой традиционный оптимизм по отношению к будущему. В конце концов, завершившаяся Первая мировая война оказалась лишь прелюдией ко второй. Социальный и экономический хаос в Германии и Италии, скорее, подстегнул, чем успокоил националистические амбиции и стремление к территориальной экспансии. Надежды на Лигу Наций, что она способна обеспечить мирное сосуществование великих держав, оказались иллюзорными. Более того, несмотря на то что Организация Объединенных Наций была построена на реалистичном принципе сплачивания основных мировых сил, для предотвращения глобального холокоста потребовались не просто добрые намерения и пакт Бриана — Келлога, а вся огромная военная мощь НАТО, усиленная дамокловым мечом ядерного потенциала и интенсивной широкомасштабной разведывательной деятельностью.
Каждой из своих последних военных акций — операция в Ираке «Буря в пустыне», миротворческие действия на Балканах и война в Афганистане — Америка все более решительно демонстрировала миру, что осталась единственной мировой супердержавой. Но будущая угроза для США заключается именно в этом нарушении сложившегося баланса сил. Наша мнимая монополия на власть вызывает зависть, неуверенность и страх во всем мире, а в самом Вашингтоне — самодовольство и пренебрежение интересами других наций. Террористическая атака, случившаяся в сентябре 2001 года, явилась горьким напоминанием, что более слабый противник использует любое оружие, которое имеется в его распоряжении.
Ослабленная Россия, может быть, действительно лишена возможности противостоять Америке в военном отношении, но та же Россия в союзе с другими государствами по-прежнему способна угрожать американским интересам в будущем. А ведь мы могли бы найти взаимодействие с Россией для совместного противостояния гораздо более серьезным угрозам нашим национальным интересам, возникающим со стороны Китая, Индии или скрытой глобальной террористической сети. Огромный размер территории России и ее экономический потенциал (дружеской нам России или находящейся в союзе с нашими врагами) неизбежно делает ее объектом пристального внимания со стороны любых служб разведки. Даже в условиях объединения наших действий, началом которому послужила террористическая атака сентября 2001 года, никому не дают покоя глубоко укоренившиеся опасения по поводу истинных намерений противоположной стороны.
Тот факт, что Россия остается хотя не единственной, но тем не менее основной ядерной угрозой, является весомым основанием для опасений Запада. Насколько безопасен российский ядерный комплекс? Исключена ли возможность возникновения еще одного Чернобыля — несанкционированного запуска на США ракеты с ядерной боеголовкой, утечки ядерных материалов или заброски специалистов по оружию массового уничтожения с территории враждебно настроенных государств?
Перед террористической атакой в сентябре 2001 года президент Владимир Путин демонстративно попытался установить более близкие отношения с Китаем, Индией и другими государствами (включая некоторые западноевропейские страны, осуждающие «односторонние действия» Соединенных Штатов). Стараясь хоть чем-то компенсировать слабость России, он намеревался убедить Вашингтон, что Москва в союзе с другими недовольными странами, может стать силой, с которой придется считаться. Однако вскоре выяснилось, что гораздо выгодней объявить себя союзником Америки, чем продолжать оставаться придирчивым, но бессильным критиком ее политики. Приостановив нападки на американскую одностороннюю политику, Путин постарался смягчить некоторые серьезные противоречия с помощью дипломатических переговоров между двумя странами.
Такие изменения в политике привели в недоумение даже сторонников президента в силовых структурах, заговоривших об односторонних уступках Вашингтону. Все опросы показывают, что многие русские относятся к истинным намерениям США с большим подозрением. И если Вашингтон собирается по-прежнему игнорировать национальные интересы России, а экономический разрыв между Востоком и Западом будет продолжать расширяться, то подобные настроения могут привести к значительному ухудшению отношений. Следует всегда помнить, что Путин, решившийся на столь внезапный и рискованный союз с бывшим врагом, многое поставил на карту и должен иметь возможность показать на конкретных примерах, каким образом его новая политика может послужить национальным интересам России. В противном случае, требования возврата к обструкционистской политике, заключающейся в сплочении сил, противостоящих американской «гегемонии», способны спровоцировать смену стратегии России; и если политический курс не сменит сам Путин, то ситуацией воспользуются его враги.
Среди насущных проблем разведывательных служб одной из самых тревожных является выяснение позиции окружающих Путина людей и самого Путина. Никому не захочется оказаться в ситуации, когда в будущем придется отвечать на вопросы: «Кто упустил Путина?» или «В чем причина его падения?». Но определение позиции человека и мотивация его поступков являются гораздо более трудными задачами, чем оценка боевой обстановки. Известно, что фотографии со спутников часто дают лучшее понимание боевой готовности вражеских сил, чем Наблюдение на самой Земле, но для квалифицированного суждения о политических позициях и стабильности руководства необходимы шпионы, внедренные в самое сердце враждебной (или даже претендующей на дружбу) страны.
В эру информационных технологий в разведке наблюдается тенденция к замене труда аналитиков и полевых агентов на неумышленные или намеренные действия по распространению сведений, могущих нанести вред противнику. При этом выбор приоритетов разведслужбами при рассмотрении наиболее значимых объектов сбора информации между Китаем, Индией и Россией, между борьбой с террористической сетью и наркоторговлей, экономическими и финансовыми тенденциями или взрывоопасными точками Третьего мира становится гораздо более сложной задачей, чем это было в более упорядоченном мире биполярной конфронтации. Поставленные перед необходимостью иметь дело с большим числом возможностей, разработчики шпионской стратегии и аналитики показывают себя отнюдь не с лучшей стороны. К тому же в рекомендациях правительству по поводу будущих политических решений они вынуждены учитывать мнение населения, которое стало гораздо более подвижным и информированным, чем раньше. И действительно, среди героев последних войн все чаще” фигурируют репортеры и операторы, комментарии и снимки которых приносят все ужасы войны прямо в наши дома. Невозможно показать на телевизионном экране все сложности принятия решений политиками и военным командованием, но все, что публика видит по американскому телевидению, имеет сильное и непосредственное воздействие на позицию правительства.
Поэтому одной из жизненно важных задач разведки является правильное понимание того, что именно лидеры и народ данной страны извлекут из предоставленной им информации. Навязчивой заботой администрации Буша была необходимость заставить забыть о слабости, проявленной Америкой во Вьетнаме и Сомали, позволяющей нашим противникам наивно полагать, что американцы могут уступить другой силе. Главной задачей разведывательных служб после столкновения авиалайнеров со зданиями Всемирного центра торговли и Пентагона является выявление и нейтрализация рассеянных по всему миру организаций и их лидеров, видящих в террористических актах секретное оружие против политического и экономического доминирования США в мире.
Хочется думать, что сотрудники КГБ, с которыми я познакомился за границей, мои «советские друзья», если они еще живы, понимают, что наша борьба против мирового терроризма является и их борьбой. В чисто личном плане эти специалисты мало чем отличаются по культуре, образованию и устремлениям от своих «коллег» в ЦРУ. Поэтому я не удивился, увидев среди сторонников более демократичной, ориентированной на рыночные отношения России выходцев из бывших работников КГБ — сторонников всемирного гражданства. Мы не должны удивляться приходу к власти рационально мыслящих и ясно выражающих свои мысли лидеров вроде Горбачева, Ельцина и Путина. Каждый из них сформировался в условиях краха коммунизма и понимания необходимости радикальных реформ в России, чтобы она могла выжить в современном мире.
Но русская история часто напоминает нам о горестных периодах в жизни России, которая много раз становилась жертвой реакции. Была ли это просвещенная Екатерина Великая, либеральный реформатор Александр II или Николай II — всем им пришлось отступиться от политики серьезных реформ, когда они начинали угрожать авторитету самодержавия. Ленин, а затем и Сталин пришли к власти после неудачных попыток установить в середине XIX века сильно централизованное, но псевдодемократическое правление. Попытка совместить фразеологию коммунизма с военной дисциплиной, замаскированной под демократию, со временем привела к диктатуре с полной и всеобщей регламентацией жизни и к бюрократическому склерозу. С другой стороны, советская система, возможно, была наилучшим выходом из того хаоса, в котором оказалась Россия в период Первой мировой войны. Как бы то ни было, эта система устояла, во всяком случае до наступления новой революции, вызванной не какой-либо идеологией, а слабостью коммунизма и информированностью народа об окружающем мире. Именно противоречие между стремлением превратиться в современную цивилизованную страну и внутриполитической и экономической слабостью России стало источником ее внутренней нестабильности.
Лидеры как царской, так и коммунистической России придавали большое значение профессиональной разведке для информирования правителей о состоянии государства и защиты от внешних и внутренних врагов. История показала, что они ошибались. Бунт любимого царем Семеновского гвардейского полка застал Александра I врасплох, а опереточное восстание либеральных офицеров-декабристов — Николая I. Полиция также оказалась не в состоянии предотвратить убийство фанатичными последователями панславизма царя-освободителя Александра II. Позднее поверженный параноей Сталин приказал своим секретным службам уничтожить весь цвет Красной армии как раз накануне Второй мировой войны. И наконец, неудавшийся путч в августе 1991 года против горбачевских реформ в России возглавил именно глава КГБ. Теперь Путин говорит об установлении «диктатуры закона», но, опираясь на так называемые силовые министерства, он следует все той же традиции. Подозреваю, что независимо от успеха или неудачи программы модернизации России, воплощаемой Кремлем в данный момент, любые русские лидеры в смысле предупреждения об опасностях (реальных или мнимых) будут опираться прежде всего на разведку.
С теперешним более открытым российским обществом прежние приемы шпионажа становятся несовместимы. Более того, разведывательные органы страны кардинально перестраиваются, их усилия перенацеливаются на совершенно другие мишени. Дополнительно к традиционным военным и политическим направлениям перед дипломатическими и разведывательными службами поставлена цель агрессивного сбора информации об экономических и промышленных технологиях, обеспечивших процветание западному миру и Японии. В результате таких попыток русские по-прежнему будут находить американцев, готовых передать секреты (промышленные или военные) за деньги или из-за своего рода психологической мести разочаровавшему их обществу.
Подобным образом, учитывая повсеместное недовольство русских экономическими и политическими неурядицами, а также византийские распри, так характерные для российской бюрократии, ЦРУ должно иметь большое преимущество в вербовке агентов среди разнообразных слоев российского общества, в том числе и в самом Кремле. Однако даже самые лучшие агенты могут преследовать свои собственные интересы, поэтому нам не следует слишком доверять их анализу российской действительности.
Тем из нас, кому удалось прожить достаточно долго, посчастливилось стать свидетелями продвижения, хотя и не гладкого, к более гуманному и единообразному глобальному обществу. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что мы будем всерьез говорить о помощи нашему старому врагу России через Всемирную торговую организацию и НАТО. Не означает ли это, что мы можем уже предвкушать мир без шпионов, по крайней мере в отношениях России с Западом? Ответ, скорее всего, отрицателен. Глубоко укоренившийся в среде наших государственных и военных деятелей скептицизм настолько силен, что они быстрее поверят плохому, чем хорошему. К тому же полученная тайным образом информация традиционно является основой дипломатической и военной силы, при ее отсутствии политические деятели чувствуют себя безоружными. Собственно говоря, ни одна великая держава не поверит, что другие страны за ней не шпионят. Более того, каждая нация считает, что ей нужна не только разведка, но и контрразведка (вроде нашей ФБР) или, как в России — Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая бы шпионила за шпионами. Из-за того что подозрения плодят взаимное недоверие, большинство великих держав будет в обозримом будущем продолжать свою разведывательную деятельность. Даже в самом преуспевающем обществе всегда найдутся шпионы и предатели. Кроме того, после событий сентября 2001 года у мировых разведывательных служб, без сомнения, найдутся совместные новые дела.
Библиография
Andrew С and Gordievsky O. KGB: The inside story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. London: Hodder & Stoughton, 1991.
Bauer R. A., A. Inkeles and Kluckhohn С How the Soviet System Works. Cambridge: Harvard University Press, 1956.
Beiet R. A. and Bauer P. A. «Oleg: A Member of the Soviet Golden Youth». Journal of Abnormal and Social Psychology 55 (July 1955).
Blake G. No Other Choice. An Autobiography. London: Jonathan Cape, 1990.
Conquest R. The Great Terror. London: Macmillan, 1968.
Ely L. B. «The Officer Corps». In The Med Army, ed. B. H. L. Hart. New York: Harcout, 1956.
Erickson, J. The Soviet High Command. New YorkiWestview, 1984.
Fainsodm. Smolensk under Soviet Rule. Cambridge: Harvard University Press, 1958.
Feis H. Between War and Peace. Princeton: Princeton University Press, 1960.
Feldmesser R. A. «The Persistence of Status Advantages in Soviet Russia» American Journal of Sociology 59 (July 1953). P. 19–27.
Goldenson, R. M. «Antisocial Reaction» The Encyclopedia of Human Behavior. Vol. 1 New York: Doubleddy, 1939.
Hendeson D. K. Psychopathic States. New York: Norton, 1939.
Hood W. Mole. New York: Norton, 1982.
Inkeles A. and Bauer R. A. The Soviet Citizen. Cambridge: Harvard University Press, 1959.
Mangold T. Cold Warrior. New York: Simon & Schuster, 1991.
Martin. D. Wilderness of Mirrors. New York: Harper Row, 1980.
McSherry J. E. Khrushchev and Kennedy in Retrospect. Palo Alto: Open-Door Press, 1971.
Murphy D. E., Kondrashev S. A. and Bailey G. Battleground Berlin. New Haven: Yale University Press, 1997.
Pisttrak L. The Grand Tactician. New York: Praeger, 1961.
Rossi A. Generational Differences in the Soviet Union. New York: Arno, 1980.
Samarin V. D. «The Soviet School, 1936–1942» in Soviet Education, ed. G. L. Kline. London: Routledge & Paul, 1957. P. 25–37.
Schecter J. L. and Deriabin P. S. The Spy Who Saved the World. New York: Scribner's, 1992.
Schlesinger A. M. A Thousand Days. Boston: Houghton Mifflin, 1965.
Smith P. A New Age Now Begins. New York: McGraw-Hill, 1976.
Volin L. Century of Russian Agriculture. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
Zubek J. P. «Behavioral and Physiological Effects of Prolonged Sensory and Perceptual Deprivation: A Review» In Man in Isolation and Confinement, ed. J. E. Rasmussen. Chicago: Aldine, 1973. P. 9–10.
Сведения об авторе
Джон Лаймонд Харт родился в 1920 году в городе Миннеаполис. Сын журналиста, аккредитованного при Белом доме и ставшего потом дипломатом, он вырос в Албании и Иране. Владея французским языком, во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году служил переводчиком во 2-й бронетанковой дивизии французской армии и завершил военную карьеру офицером связи французских оккупационных сил в Германии. После войны, закончив факультет международных отношений Чикагского университета, поступил на службу в оперативный отдел ЦРУ, где занимал ответственные посты на родине и за границей. В качестве специального помощника министра финансов Джорджа Шульца Харт участвовал в создании нынешнего Управления делами национальной безопасности и являлся представителем Министерства финансов в Государственном совете США по разведке. Дважды награждался медалью почетного работника разведки.
После выхода в отставку Харт получил степень магистра психологии в университете Джорджа Вашингтона. Позднее жил в Лондоне и Париже, работая над материалами к книге об Александре I и много читая. Джон Харт умер в 2002 году.
Примечания
1
Фейс, возможно прав в том, что приказы, отданные штаб-квартирой Эйзенхауэра, были именно таковыми, но до 385-го пехотного полка 76- й дивизии американской армии они определенно не дошли. Я лично видел, как мимо нашего штаба гордо прошагали остатки немецкой дивизии; многие были на костылях, а некоторых даже поддерживали медицинские сестры. Наш полк принял, по крайней мере, десять тысяч пленных, может быть даже гораздо больше. После тщательного отсева нежелательных лиц (таких, как члены СС) мы не стали препятствовать остальным в продвижении на запад, на территорию будущей Западной Германии. Но перед своим уходом некоторые освобожденные немецкие солдаты и офицеры, переправившись через Цвикау к командному пункту нашего полка, захотели поступить на службу в американскую армию. Переговорив с несколькими из них, я обнаружил, что все они полагали, будто американцы собираются дальше воевать с русскими, поэтому согласны были нам помочь. Пришлось повесить над входом в командный пункт большой плакат, на котором было по-немецки написано, что мы не принимаем добровольцев для войны с Японией.
(обратно)2
До революции это слово «кулак», имеющее неодобрительный оттенок, означало богатого, но прижимистого ростовщика. В сталинский период оно стало означать также любого крестьянина, имеющего возможность нанимать работников или покупать сельскохозяйственные машины. В обоих случаях слово было бранным, имело уничижительное значение.
(обратно)3
Попов никогда не проявлял интереса к политике. Надо отметить, что проведенный в послевоенный период опрос политических эмигрантов показал, что 83 процента опрошенных назвали в качестве главной причины своего выезда из СССР — «желание жить на Западе». Однако по прошествии некоторого времени свобода, которую Попов почувствовал в Австрии и Германии, все-таки произвела на него должное впечатление. См.: Rossi A. Generational Differences in Soviet Union. New York: Arno, 1980. P. 435.
(обратно)4
Выделено самим Поповым, хотя он, разумеется, понятия не имел о том, насколько красноречивыми были некоторые его замечания.
(обратно)5
В этом месте Пеньковский вновь обращается к главам Великобритании и Соединенных Штатов, которых считал негласными руководителями лондонских и парижских встреч.
(обратно)6
Это наблюдение не совсем верно. Кисевалтер, по всей видимости, забыл Попова, который был не единственным его знакомым среди русских.
(обратно)7
Другой возможный перевод: «Мы придем на ваши похороны», однако я привожу общепринятую версию.
(обратно)8
15 сентября 1978 года я в течение трех часов выступал в качестве главного свидетеля от ЦРУ, дав показания по поводу Носенко перед специальной комиссией по терроризму Палаты представителей США.
(обратно)9
В разведывательных службах США и союзнических стран он был бы признан абсолютно несостоятельным.
(обратно)10
Таких армий было несколько, к ним присоединялись воинские соединения Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Японии и некоторых других стран. Эти союзнические соединения оказались неэффективными и через некоторое время были отозваны. Войскам Белой гвардии повезло меньше, оставшихся в живых арестовали, так никогда и не выпустив на волю.
(обратно)11
Из своего детства, будучи за границей, американский автор помнит русских эмигрантов, которых продолжали поглощать страны Европы и Ближнего Востока даже в конце 20-х и начале 30-х годов, через много лет после революции, разумеется, с огромными потерями в социальном положении. Мать Пеньковского, должно быть, часто говорила с сыном о революции и о том, что он из-за нее потерял.
(обратно)12
Определение понятия синдром следующее: «Сочетание симптомов, характерных для определенного психического расстройства или заболевания». Термин «шпионский синдром» введен лично мною, и его нельзя отыскать ни в одном словаре по психологии. Во время моей деятельности в органах разведслужб мне и моим коллегам много раз приходилось иметь дело с подобными людьми.
(обратно)Ссылки
1
Feis H. Between War and Pease. Princeton: Princeton University Press, 1960. P. 18.
(обратно)2
Там же. С. 276–277.
(обратно)3
Samarin V. D. «The Soviet School, 1936–1942» in Soviet Education, ed. G. L. Kline. London: Routledge & Paul, 1957. P. 25–37.
(обратно)4
Erickson J. The Soviet High Command. New York: Westview, 1984. P. 639–642.
(обратно)5
Murphy D. Е., Kondrashev S. A., Bailey G. Battleground Berlin. New Haven: Yale University Press, 1997. P. 267–281.
(обратно)6
Там же. См. также: Andrew С. and Gordievsky O. KGB: The inside story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. London: Hodder & Stoughton, 1991. P. 362; Blake G. No Other Choice, An Autobiography. London: Jonathan Cape, 1990. P. 210–211; Hood W. Mole. New York: Norton, 1982. P. 265–266; and Martin. D. Wilderness of Mirrors. New York: Harper Row, 1980. P. 102–203, 112–113.
(обратно)7
Conquest R. The Great Terror. London: Macmillan, 1968. P. 228.
(обратно)8
Schlesinger A. M. A Thousand Days. Boston: Houghton Mifflin, 1965. P. 317.
(обратно)9
Там же. Р. 499.
(обратно)10
Там же. Р. 380.
(обратно)11
McSherry J. E. Khrushchev and Kennedy in Retrospect (Palo Alto: Open-Door Press, 1971)). P. 73.
(обратно)12
Pistrak L. The Grand Tactician. New York: Praeger, 1961. P. 218–219.
(обратно)13
Цитата приведена из книги Smith P. A New Age Now Begins. New York: McGraw-Hill, 1976. P.(17.
(обратно)14
Интересный анализ можно найти в книге Schecter J. L. and Deriabin P. S. The Spy Who Saved the World. New York: Scribner's, 1992. P. 402–421.
(обратно)15
Zubek J. P. «Behavioral and Physiological Effects of Prolonged Sensory and Perceptual Deprivation: A Review» in Man in Isolation and Confinement, ed. J. E. Rasmussen. Chicago: Aldine, 1973. P. 9–10.
(обратно)16
Bauer R. A., Inkeles A. and Kluckhohn С How the Soviet System Works. Cambridge: Harvard University Press, 1956. P. 181.
(обратно)17
Там же. Р. 182–183.
(обратно)18
Ely L. В. «The Officer Corps» in The Red Army, ed. B. H. L. Hart. New York: Harcout, 1956. P. 397–398.
(обратно)19
Feldmesser R. A. «The Persistence of Status Advantages in Soviet Russia» American Journal of Sociology 59 (July 1953). P. 19–27.
(обратно)20
Inkeles A. and Bauer R. A. The Soviet Citizen. Cambridge: Harvard University Press, 1959. P. 75–76.
(обратно)21
Goldenson R. M. «Antisocial Reaction» in The Encyclopedia of Human Behavior. Vol. 1. New York: Norton, 1939. P. 86.
(обратно)22
Henderson D.K. Psychopathic States. New York: Norton, 1939. P. 128–129.
(обратно)
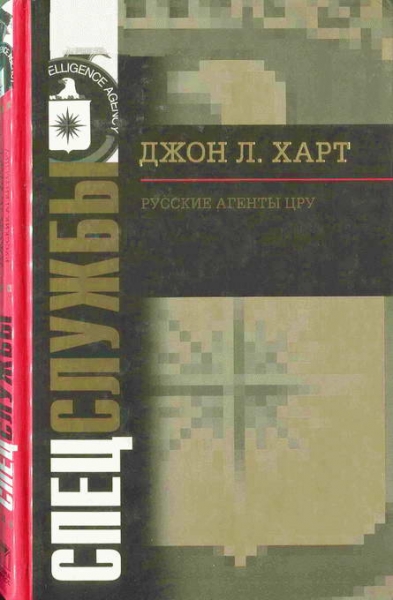
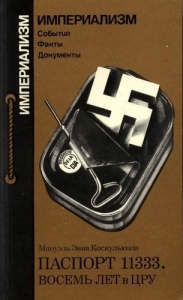

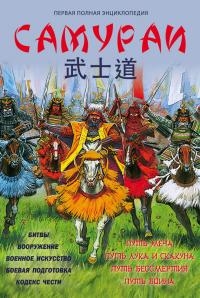
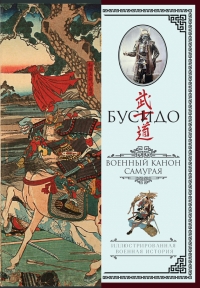






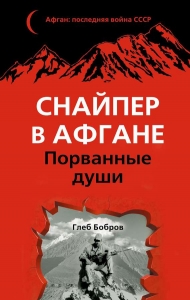
Комментарии к книге «Русские агенты ЦРУ», Джон Лаймонд Харт
Всего 0 комментариев