Макс Хейстингс Вторая мировая война. Ад на земле
Переводчик Любовь Сумм
Редактор Артур Кляницкий
Руководитель проекта Ирина Серёгина
Корректоры Елена Аксёнова, Маргарита Савина, Мария Миловидова
Сверка цитат Александр Кляницкий
Компьютерная верстка Андрей Фоминов
Дизайнер обложки Ольга Сидоренко
Фото на обложке East News, ИТАР-ТАСС
© Max Hastings, 2011
This edition is published by arrangement with The Peters Fraser and Dunlop Group Ltd and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
* * *
Майклу Сиссонсу, великолепному агенту на протяжении тридцати лет, советчику и другу
Предисловие
Эта книга пытается рассказать о войне с точки зрения не государства, а человека. Мужчины и женщины множества стран мучительно искали слова, чтобы описать случившееся с ними в пору Второй мировой войны, ибо это не укладывалось ни в какой их прежний опыт. Многие прибегали к клише «ад разверзся». Поскольку эта фраза постоянно встречается в рассказах очевидцев о сражениях, воздушных налетах, резне, гибели на тонущем корабле, следующие поколения порой пожимают плечами: мол, банальность. Но эти слова точно передают суть случившегося с сотнями миллионов людей, вырванных из привычного, упорядоченного существования. Их тревоги и мучения длились годами, по меньшей мере для 60 млн человек тяжкие испытания закончились смертью. Ежедневно с сентября 1939 г. по август 1945 г. в охватившем всю планету сражении погибало в среднем 27 000 человек. Многие уцелевшие обнаружили, что позиция, которую они заняли в этом конфликте, определила их положение в обществе до конца жизни – кому-то во благо, кому-то во вред. Воины-победители были окружены ореолом славы и смогли сделать карьеру в правительстве или бизнесе. Но и через 30 лет после победы у стойки бара в лондонском клубе ветеран гвардии мог отпустить замечание насчет известного политика-консерватора: «Смит парень неплохой, да жаль, с передовой дезертировал». Голландская девочка в 1950-е гг. подмечала, как ее родители сортируют соседей в зависимости от их поведения в пору немецкой оккупации.
Английские и американские солдаты были потрясены тяготами и потерями 1944/45 г. на северо-западе Европы: кампания затянулась на 11 месяцев. Но русские воевали с немцами без малого четыре года в гораздо более страшных условиях и несли значительно более тяжелые потери[1]. Некоторые народы, практически не принимавшие участия в боевых действиях, тем не менее понесли бо́льшие потери, чем западные союзники: оккупированный японцами Китай с 1937 по 1945 г. недосчитался по меньшей мере 15 млн человек; Югославия, где к оккупации присоединилась гражданская война, похоронила более миллиона. Многие люди стали свидетелями сцен, которые прежде являлись художникам Возрождения картинами ада, где терзаются грешники: разорванные на части тела, клочья плоти и осколки костей; разрушенные в щебень и прах города; государства, распавшиеся в анархии на отдельные человеческие частицы. Почти все, что цивилизованные люди в мирную пору принимают как должное, было сметено этим ураганом, и прежде всего уверенность, что современному человеку, законопослушному гражданину, не грозит насилие.
Невозможно вместить в один том все события этой войны, крупнейшего потрясения в нашей истории. Поскольку я уже посвятил восемь книг отдельным событиям Второй мировой, на этот раз я старался не повторять ни те примеры, ни анализ крупных операций. Например, поскольку в «Немезиде» (Nemesis) отдельная глава посвящена атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, казалось лишним возвращаться к своим же прежним рассуждениям. Эта книга выстроена в хронологическом порядке, я старался нарисовать «общую картину», контекст событий, чтобы читатель мог себе представить в целом, что происходило с 1939 по 1945 г. Основной же своей задачей я считаю показать, как отразился этот конфликт на жизни обычных людей из разных стран – и активных, и пассивных участников событий. Впрочем, грань между активным и пассивным участием быстро стиралась. К примеру, на какой счет занести женщину из Гамбурга, пламенно поддерживавшую Гитлера и погибшую в июле 1943 г. под бомбами союзников: была ли она соучастницей преступлений наци или невинной жертвой войны?
Поскольку меня в первую очередь интересовали судьбы людей, я опускал, где это было возможно без нарушения связности повествования, названия и номера подразделений и описания маневров. Даже карты в этой книге скорее «импрессионистские», чем научные, и на фотографиях представлены обычные люди, а не полководцы. Я хотел создать некий обобщенный портрет войны, а в «стратегических» разделах описать те события, которым мало внимания уделил в других книгах и о которых следовало бы сказать больше: например, я подробно останавливаюсь на политических поисках Индии, сократив разговор о других вопросах, которые давно уже исследованы и исчерпаны, – таких как Пёрл-Харбор и битва за Нормандию.
Геноцид евреев представляет собой наиболее последовательное воплощение нацистской идеологии. Я писал в «Армагеддоне» (Armageddon) о мучениях заключенных концлагерей, поэтому сейчас постарался разобрать историю холокоста с точки зрения проводимой Гитлером политики. Слишком часто приходится слышать на Западе мнение, будто вся война была ради евреев или даже из-за евреев, и необходимо опровергнуть это заблуждение. Хотя Гитлер и его приспешники валили на евреев вину за все европейские неурядицы и несчастия Третьего рейха, на самом деле Германия боролась с союзниками за безраздельное господство в Северном полушарии. Страдания еврейского народа под властью нацистов оставались почти незаметными для Черчилля и Рузвельта, не говоря уж о Сталине. В итоге оказалось, что каждый седьмой погибший от рук нацистов, каждая десятая жертва войны – еврей. Но в ту пору преследования евреев казались союзникам лишь сопутствующими потерями, и русские до сих пор относятся к холокосту именно так. Уже в пору войны те евреи, которые понимали весь ужас происходящего, были возмущены таким равнодушием Запада к судьбе их единоверцев, и это неугасимое негодование мощно проявилось в послевоенной политике. Однако нужно понимать, что в период с 1939 по 1945 г. союзников гораздо больше беспокоила угроза, которую действия оси представляли для их собственных государств, хотя Черчилль и умел облагородить эти политические задачи и вдохновить своих людей.
Нужно понимать: и войну, и любые другие глобальные события люди способны воспринимать лишь с точки зрения собственных обстоятельств. И если объективно, на основании статистики, мы могли бы доказать, что такие-то личности страдали отнюдь не так ужасно, как их современники в иной части мира, для самих пострадавших эти цифры – ничто. Кто бы посмел утешать английского или американского солдата под минометным обстрелом, среди трупов товарищей, примерами гораздо более тяжких испытаний русских воинов? Изголодавшийся француз или даже английская домохозяйка, не знающая, как разнообразить скудный и скучный рацион, приняла бы за обиду назидательный рассказ о том, как в осажденном Ленинграде люди поедают друг друга или как в не дождавшейся урожая Западной Бенгалии продают в рабство дочерей. И мало кого из перенесших блиц в Лондоне 1940/41 г. утешила бы мысль, что японцам предстоят гораздо большие потери в результате американских бомбежек, беспрецедентные разрушения городов. Право и обязанность историка – выстроить те справедливые пропорции, которые скрыты от непосредственного участника событий. Почти все, кто жил в те времена, так или иначе пострадали от войны, и основным сюжетом книги как раз и стали различные виды и масштабы этого страшного опыта. Но мысль, что другим людям приходится хуже, чем тебе, не так уж укрепляет стоицизм. Иные аспекты военной жизни затрагивали всех или почти всех: страх, горе, призыв на военную службу и принудительные работы. Множество молодых людей отправлялись навстречу новому существованию, бесконечно далекому от того, какое они сами бы для себя выбрали: кто служить с оружием в руках, кто надрываться от непосильного физического труда, многих попросту превращали в рабов. Еще одно трагическое и повсеместно распространенное явление: проституция. Ему можно было бы посвятить отдельную книгу.
Война спровоцировала массовые миграции, отчасти упорядоченные – так, половина населения Великобритании эвакуировалась или переехала в поисках работы; американцы также отправлялись на военные заводы и в доки в далекие от их дома штаты. Но миллионы и миллионы людей были насильственно вырваны из привычной обстановки и прошли через чудовищные мучения, которые многим стоили жизни. «Странные времена, – записывала 22 апреля 1945 г. оставшаяся безымянной жительница Берлина, автор одного из самых впечатляющих дневников войны. – Мы непосредственно соприкасаемся с историей, с тем, что должно стать сюжетом еще не написанных книг и неспетых песен. Но с такого близкого расстояния история пугает. Сплошные тяготы и страхи. Завтра пойду рвать крапиву и собирать уголь».
Боевой опыт – тоже разный в зависимости от страны и даже от рода войск. В армии наибольшему риску и тяжелым испытаниям подвергались пехотинцы, а миллионы, служившие в тыловых частях, оставались в сравнительной безопасности. В американской армии процент невозвратных потерь составил ровно пять человек на тысячу мобилизованных; для подавляющего большинства служба в армии оказалась не опаснее «гражданки». За годы войны 17 000 американских раненых лишились конечностей, но за этот же период без ног или без рук в результате несчастных случаев осталось 100 000 американских рабочих. Конечно, в пору поражений сражаться было и тягостнее, и опаснее, чем в пору побед; у тех солдат союзников, которые вступили в строй лишь в 1944-м или даже в 1945 г., по статистике, шансы на выживание оказались гораздо выше, чем у летчиков или экипажей подводных лодок, защищавших западные страны в первые грозные годы.
В своей книге я старался воссоздать историю войны «снизу», усилить голоса «маленьких людей», а не знаменитостей. О полководцах Второй мировой я достаточно написал в других трудах. Дневники и письма раскрывают нам, что люди делали или что делали с ними, однако редко передают их мысли и чувства – это материя ускользающая, но тем более интересная. Очевидное объяснение: авторы писем, солдаты, были молоды, незрелы, они переживали крайнюю степень возбуждения, ужаса, опасности, однако очень немногим хватало душевных сил на размышление: непосредственное окружение, сиюминутные желания и потребности поглощали все внимание.
И лишь горстка людей – руководители государств, верховные военачальники – видела что-то за пределами своей линии обзора. Гражданские лица существовали в плотном тумане пропаганды и общей неопределенности, и едва ли этот туман так уж качественно отличался в Британии или США от Германии или России. Сражавшиеся на передовой могли судить об успехах своей стороны и противника, главным образом подсчитывая убыль товарищей и проверяя, вперед движется их часть или назад. Но и эти показатели порой подводили: батальон, в котором служил Эрик Диллер, во время Филиппинской кампании был отрезан от основных сил и 17 дней сражался в окружении, однако солдат так и не понял, что за катастрофа грозила ему и его товарищам, и лишь после войны это объяснил ему бывший командир.
Даже те, кто имел доступ к военным тайнам, обладали только фрагментами огромной мозаики. Например, Рой Дженкинс, впоследствии член британского правительства, тогда занимался расшифровкой немецких сигналов. Он и его коллеги понимали важность и срочность своей работы, однако, что бы нам ни показывали задним числом в шпионских кинофильмах, сотрудникам Блетчли-парка никто не докладывал о результатах и последствиях их трудов. На другой стороне ограничения доступа к информации действовали, что неудивительно, еще более жестко. В январе 1942 г. Гитлер пришел к выводу, что в Берлине слишком много людей слишком много знают, и постановил, что даже офицеры абвера должны получать информацию, только необходимую для их работы. Им запрещалось слушать вражеские радиопередачи – серьезное неудобство для разведслужбы.
Огромный интерес лично для меня представляет сложный комплекс лояльностей и симпатий, складывавшийся в разных частях мира. В англичанах и американцах прочно укоренена вера в то, что наши родители и деды сражались «за справедливость», и мы забываем, что многие другие народы воспринимали противостояние отнюдь не столь однозначно. Жители колоний, в особенности 400 млн индийцев, не видели особого смысла бороться против оси, если и после победы над этим врагом они останутся в подчинении у Великобритании. Многие французы доблестно сражались против западных союзников. В Югославии враждующие партии были поглощены задачей истреблять друг друга и гораздо меньше служили интересам союзников или оси. Многие подданные Сталина воспользовались немецким нашествием для того, чтобы выступить с оружием в руках против ненавистного кремлевского режима. Все эти оговорки никак не умаляют права союзников на заслуженную и выстраданную победу, но нужно понимать, что даже Черчилль и Рузвельт не всюду задавали тон.
Имеет, вероятно, смысл сказать несколько слов о том, как складывалась эта книга. Сначала я перечитал Герхарда Вайнберга «Мир на войне» (A World at Arms) и «Тотальную войну» (Total War) Питера Калвокоресси, Гая Уинта и Джона Причарда – две лучшие, на мой взгляд, монографии, посвященные Второй мировой. Затем я набросал план повествования, выстроив в хронологической последовательности основные события, и нарастил на скелет плоть – рассказы очевидцев и собственные размышления. Написав черновик, я обратился к другим известным историкам, перечитал Ричарда Овери «Почему союзники победили» (Why the Allies Won), Аллана Миллета и Уильямсона Мюррея «В этой войне нужна победа» (There’s a War to be Won) и Майкла Берли «Моральное противостояние» (Moral Combat) и пересмотрел некоторые мои комментарии и выводы в свете этих новейших работ.
По возможности я предпочитал малоизвестные свидетельства тем, которые давно и заслуженно обрели популярность – так, я не включил в текст воспоминания Ричарда Хиллари «Последний враг» (The Last Enemy) и Джорджа Макдональда Фрейзера «На безопасных квартирах» (Quartered Safe out Here). Исследователь и переводчик Люба Виноградова, помогавшая мне с русскими материалами на протяжении более десяти лет, подобрала новые личные свидетельства, письма и дневники для этой книги. Серена Сиссонс перевела сотни страниц из итальянских мемуаров и дневников: мне казалось, что в англоязычной литературе недостаточно представлена судьба страны при Муссолини. Я рылся в неопубликованных польских рукописях в архивах Военного музея войны и лондонского Института Сикорского. В очередной раз меня выручила доктор Тами Биддл из Военного колледжа армии США в Карлайле (Пенсильвания), щедро поделившись со мной своими документальными находками и мыслями. Многие друзья, в том числе профессор Майкл Ховард, доктор Уильямсон Мюррей и Дон Берри, прочли черновой вариант книги и внесли множество ценных поправок, предложений и советов. Старейшина историков британского флота, оксфордский профессор Николас Роджер, прочел и прокомментировал главу о морских сражениях, в которых участвовали англичане, и это пошло моему тексту весьма на пользу. Ричард Фрэнк, известный американский историк, специализирующийся на Тихоокеанском регионе, обнаружил в моем черновике изрядное количество серьезных ошибок, за что я ему глубоко благодарен. Разумеется, никто из этих консультантов и первых читателей не несет ответственность ни за мои недочеты, ни за мои мнения.
Когда историк берется писать о войне спустя без малого семь десятилетий после ее окончания, он может надеяться в лучшем случае передать свой личный взгляд, но никак не воссоздать точную и всеохватывающую картину величайшего и ужаснейшего события, которое и поныне внушает исследователям страх и трепет и смиренное чувство благодарности за то, что мы от подобного избавлены. В 1920 г., когда полковник Чарльз Репингтон, военный корреспондент Daily Telegraph, опубликовал ставшую бестселлером повесть о только что завершившемся конфликте, многие сочли зловещим и бестактным название «Первая мировая война», ведь оно предполагало дальнейшую нумерацию. Назвать эту книгу «Последняя мировая война» значило бы искушать судьбу, хотя по крайней мере есть безусловная уверенность в том, что никогда более миллионы вооруженных людей не сойдутся в сражениях на полях Европы, как это было в 1939–1945 гг. Конфликты грядущего будут проходить в ином формате, и я позволю себе, не будучи оптимистом, все же предположить, что они будут не столь ужасны.
Макс ХейстингсЧилтон Фолиат (Беркшир) и Камоги (Кения), июнь 2011 г.1. Преданная Польша
Хотя Адольф Гитлер был решительно настроен на войну, вторжение в Польшу в 1939 г. не предвещало с неизбежностью глобальный конфликт – не более чем убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда в 1914 г. У Британии и Франции недоставало и воли, и ресурсов, чтобы на деле добиться выполнения гарантий безопасности, предоставленных в свое время полякам. Эти страны объявили Германии войну, однако то была пустая жестикуляция, и даже среди противников нацизма многие считали эту декларацию глупой, ибо ее невозможно было осуществить на деле. Для всех, кто вступил в эту войну на стороне поляков, за исключением самих поляков, события разворачивались чрезвычайно медленно, и лишь на третьем году тотальная смерть и разрушение достигли пика и бушевали вплоть до 1945 г. Даже Третий рейх поначалу не был готов к борьбе не на жизнь, а на смерть между самыми могущественными государствами мира.
Летом 1939 г. огромный интерес в Польше вызвал роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» – повесть о Гражданской войне и гибели старого уклада на американском Юге. «Мне эта книга показалась пророческой»1, – писала одна из польских читательниц Рула Лангер. Ее соотечественники ощущали неотвратимо надвигавшееся столкновение с Германией: Гитлер откровенно заявлял о своем намерении захватить Польшу. Поляки, неистовые патриоты, реагировали на эту угрозу так же, как обреченные на гибель юные конфедераты образца 1861 г. «Как все мы, я верил в хеппи-энд, – вспоминал бывший летчик-истребитель. – Мы хотели сражаться, нас возбуждала мысль о борьбе, чем раньше, тем лучше. Мы не верили, что с нами может случиться настоящая беда»2. Когда лейтенант запаса Ян Карский (ему предстояло служить в артиллерии) получил 24 августа мобилизационное предписание, сестра отсоветовала ему брать с собой теплую одежду. «Ты же не в Сибирь отправляешься, – заметила она. – Месяца не пройдет, как ты снова явишься к нам»3.
Поляки дали волю своей безудержной склонности к фантазии и хвастовству. Они весело болтали в кафе и барах Варшавы – города, чья барочная красота и два десятка театров позволили полякам провозгласить свою столицу Парижем Восточной Европы. Репортер The New York Times писал: «Послушать, о чем тут люди болтают, вообразишь, что великая индустриальная держава не Германия, а Польша»4. Министр иностранных дел Италии и по совместительству зять Муссолини граф Галеаццо Чиано предупреждал польского посла в Риме, что, воспротивившись территориальным претензиям Гитлера, его страна обречет себя на борьбу в одиночестве и «вскоре превратится в груду развалин»5. Посол напрямую не спорил, но выразил расплывчатую надежду на «какой-нибудь счастливый случай», который добавит его стране сил. В Британии принадлежавшие лорду Бивербруку газеты осуждали польский гонор перед лицом гитлеровской угрозы как «провокационный».
Тридцатимиллионный народ, в составе которого насчитывалось без малого миллион этнических немцев, 5 млн украинцев и 3 млн евреев, прожил в границах, установленных Версальским договором, всего 20 лет. В 1919–1921 гг. Польше пришлось отражать большевистский поход, чтобы утвердить свою независимость после полуторавекового владычества России. К 1939 г. в стране установилось правление военной хунты. В оправдание режима историк Норман Дэвис пишет: «Трудности и несправедливость в Польше, конечно, отмечались, но не было массового голода и массовых убийств, как в России, не применялись бесчеловечные методы фашизма или сталинизма»6. Наиболее уродливым проявлением польского национализма стал антисемитизм, выразившийся в том числе в процентной норме для поступавших в университет евреев. С точки зрения как Берлина, так и Москвы Польша возникла в результате навязанного Антантой передела мира и не имела ни малейшего права на существование. В секретном протоколе к Пакту Молотова – Риббентропа, подписанному 23 августа 1939 г., Гитлер и Сталин договорились разделить Польшу и уничтожить ее суверенитет. Поляки же, хотя и считали Россию своим историческим врагом, понятия не имели об этих планах Советского Союза и беспокоились только о германской угрозе. Они понимали, что плохо экипированная польская армия не сможет противостоять вермахту, и возлагали все надежды на поддержку англичан и французов: второй фронт на Западе расколол бы силы немцев. «Учитывая безнадежное военное положение Польши, – писал посол этой страны в Лондоне граф Эдвард Рачинский, – я прежде всего хотел убедиться, что мы не окажемся вовлечены в войну с Германией, не обеспечив себе неотложную помощь союзников»7.
В марте 1939 г. Британия и Франция предоставили гарантии, которые затем были оформлены как союзнический договор: если Германия нападет на Польшу, они вступят в войну. Если эта беда случится, сулила военному руководству Варшавы Франция, французская армия будет мобилизована и не позднее чем через тринадцать дней атакует гитлеровскую линию Зигфрида. Британия, со своей стороны, обещала сразу же начать бомбардировку Германии. С удивительным цинизмом давались подобные обещания, ведь ни та, ни другая страна не собиралась выполнять свои обязательства: им хотелось лишь отпугнуть Гитлера, а не помогать на деле Польше. То были телодвижения безо всякой реальной сути, но поляки хотели им верить.
Пусть Сталин и не участвовал в военных акциях Гитлера, подписанная в Москве сделка с Берлином позволила и Советскому Союзу извлечь выгоду из нацистской агрессии. С 23 августа мир наблюдал, как Третий рейх и СССР действуют заодно – два близнеца, два лика тоталитаризма. Поскольку, когда глобальное противостояние в 1945 г. завершилось, Россия находилась в лагере союзников, некоторые историки приняли послевоенную советскую концепцию, согласно которой до 1941 г. СССР оставался нейтральной державой. Это неверно. Сталин боялся Гитлера и понимал, что рано или поздно столкновения с ним не избежать, но в 1939 г. он принял историческое решение поддержать германскую агрессию в обмен на предложенное нацистами расширение территории Советского Союза. Какие бы извинения ни изобретал впоследствии советский руководитель, пусть его войска никогда не сражались бок о бок с вермахтом, советско-германский договор положил начало сотрудничеству, которое продолжалось, пока Гитлер не обнаружил своих истинных намерений, приступив к операции Barbarossa.
Подписанное в Москве соглашение о ненападении и последовавший за ним 28 сентября Договор о дружбе и границах обязывали двух тиранов поддерживать амбиции друг друга и отказаться от взаимной вражды, чтобы направить свою агрессию в иное русло. Сталин поощрял экспансию Гитлера на Запад и снабжал Германию необходимыми ресурсами: нефтью, зерном, рудой. Нацисты (тая обман) предоставили Советскому Союзу свободу действий на Востоке: гитлеровский союзник рассчитывал заполучить восточную часть Финляндии, государства Прибалтики и свою долю в расчлененном трупе Польши.
Гитлер планировал начало Второй мировой войны на 26 августа, выждав лишь три дня после подписания пакта, но 25 августа, распорядившись продолжать мобилизацию, он все же отложил вторжение в Польшу, поскольку, во-первых, к своему огорчению, убедился, что Муссолини не готов сразу же поддержать его, а во-вторых, по дипломатическим каналам пришло предостережение: Британия и Франция готовы выполнить свои обещания и заступиться за Польшу. Три миллиона человек, 400 000 лошадей, 200 000 машин и 5000 поездов уже направлялись к польской границе, пока Берлин, Лондон и Париж еще вели последние, бесполезные переговоры. Наконец, 30 августа Гитлер отдал приказ атаковать. На следующий день в 20:00 занавес взвился над первым, достаточно грубым актом пьесы. Штурмбаннфюрер Альфред Науйокс из немецкой службы безопасности возглавил постановочное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице (Верхняя Силезия). В составе группы были одетые в польскую форму немцы и с дюжину приговоренных к казни уголовников, пренебрежительно именуемых «консервами». Прозвучали выстрелы, по радио были провозглашены лозунги «польских патриотов», а затем нападавшие отступили, оставив «консервы» – их, одетых в польскую форму, расстреляли эсэсовские автоматчики и продемонстрировали окровавленные трупы иностранным корреспондентам в доказательство польской агрессии.
1 сентября в 02:00 Первый конный полк вермахта в числе многих других был разбужен на бивуаке зовом трубы (некоторые германские соединения и многие польские в ту пору еще сражались верхом). Взнуздали коней, всадники вскочили в седло и двинулись к передовой посреди грохочущих колонн танков, грузовиков и пушек. Прозвучал приказ: «Расчехлить ружья! Заряжай! Взвести курки!» В 04:40 пушки старого германского боевого корабля Schleswig-Holstein, стоявшего на якоре в порту Данцига (то был «визит доброй воли»), открыли огонь по польской крепости Вестерплатте. Часом позже немецкие солдаты свалили пограничные шлагбаумы на западной границе Польши, открыв передовым частям армии вторжения путь в Польшу. Один из военачальников, генерал Хайнц Гудериан, вскоре проехал мимо родового поместья своей семьи в Хелмно (Кульм), где вырос и он сам (до Версальского договора эта территория принадлежала Германии). Вильгельм Пруллер выразил обуявший германскую армию восторг: «Какое дивное чувство – быть теперь немцем! Мы перешли границу. Германия, Германия превыше всего! Немецкий вермахт на марше. Куда ни глянь – вперед, назад, вправо или влево – повсюду моторизованный вермахт!»8
Западные союзники тешили себя мыслью, что Польша обладает четвертой по величине армией в Европе, и рассчитывали на затяжные сражения. Поляки могли выставить 1,3 млн бойцов против 1,5 млн немцев, на каждой стороне сражалось по 37 дивизий. Однако вермахт был намного лучше укомплектован: только бронемашин у него имелось 3600 против 750 польских, 1929 современных самолетов, а у поляков 900 морально устаревших. С марта в Польше начался призыв резервистов, но от полномасштабной мобилизации правительство воздерживалось по просьбе англичан и французов: мол, не следует провоцировать Гитлера. Нападение 1 сентября застало страну врасплох. Польский дипломат так описывал настроения в Польше: «Всех объединяло желание сопротивляться, но не прозвучало ясной идеи, какого рода может быть это сопротивление, разве что болтали о надобности в добровольцах – “живых торпедах”»9.
Эфраим Блейхман, шестнадцатилетний еврей из Каменки, в числе тысяч других местных жителей слушал на городской площади речь мэра: «Мы спели гимн, провозглашавший, что Польша еще не погибла, и другую песню – о том, что немцы не плюнут нам в лицо»10. Петр Тарчинский, двадцатишестилетний заводской служащий, перед мобилизацией тяжело заболел. Он еще не вполне оправился, но, когда сообщил об этом командующему артиллерийской батареей, к которой был приписан, полковник ответил пламенной патриотической речью «и сказал мне, что, как только я сяду в седло, я непременно почувствую себя намного лучше»11. Оружия не хватало, Тарчинский винтовки не получил, зато ему выдали строевого коня – здоровенного жеребца по кличке Вояк.
Инструктор ВВС Витольд Урбанович проводил учебный полет в небе над Демблином, как вдруг, к его ужасу, в крыльях самолета появились дыры. Он поспешно приземлился. Товарищ подбежал к нему, восклицая: «Витольд, ты жив? Тебя не задели?» «Что за чертовщина творится?» – спросил Урбанович, и приятель посоветовал ему: «Сходи в церковь и поставь свечку. Тебя только что атаковал “Мессер”!»12 Беззащитность польских воздушных границ была совершенно очевидна. Пилот-истребитель Францишек Корницкий участвовал в боях дважды – 1 и 2 сентября. В первый раз он погнался за немецким самолетом, но тот легко ушел от преследования, во второй раз заклинило пулеметы, Корницкий отвернул, поправил пулеметную ленту и хотел снова вступить в бой, но на крутом вираже удерживавший пилота в открытом кокпите ремень безопасности отстегнулся, летчик вывалился и поневоле вынужден был спуститься с парашютом13.
В 17:00 у деревни Кроянты польский отряд уланов получил приказ атаковать противника, чтобы прикрыть отступление пехоты. Уланы построились и обнажили сабли. Адъютант, капитан Годлевский, посоветовал хотя бы идти в бой пешими, но командир, полковник Масталеж, отвечал сквозь стиснутые зубы: «Молодой человек, я сумею исполнить неисполнимый приказ!» Пригнувшись к шеям своих коней, 250 всадников помчались через открытое поле. Немецкая пехота поспешно отступила с их пути, но за рядами пехоты стояли бронемашины, откуда по уланам открыли пулеметный огонь. Лошади десятками валились наземь, другие кинулись в сторону, лишившись всадников. Через несколько минут половина кавалеристов погибла, в том числе и полковник Масталеж. Уцелевшие улепетывали во весь дух – беспомощный пережиток ушедшей эпохи.
Генеральный штаб Франции советовал полякам сконцентрировать все силы позади трех крупных рек в глубине страны, но польское правительство непременно желало оборонять всю 1400-километровую границу с Германией, отчасти и потому, что на западе находились почти все заводы. Таким образом, на дивизию средней численностью около 15 000 человек возлагалась обязанность держать фронт длиной 30 км, в то время как сил у них хватало едва на 5–6 км. Немецкие войска хлынули в страну одновременно с севера, юга и запада, сметая неэффективную оборону, разрывая связи между отдельными частями поляков. Немецкий воздушный флот поддерживал с неба продвижение танков, успевая обрушить сокрушительные бомбовые удары на Варшаву, Лодзь, Демблин и Сандомир.
Поляки, военные и гражданские погибали под не различающими чина и звания бомбами. Поначалу мало кто вполне сознавал опасность. После первого налета Виргилия, американская супруга польского аристократа князя Павла Сапеги, подбадривала домочадцев: «Вы же видите, ничего страшного: эти бомбы больше лают, чем кусают». Когда в парк усадьбы семейства Сморчевских под Тарногорой в ночь на 1 сентября упали две бомбы, мать вытащила из постели двух мальчишек, Ральфа и Марка, и повела их прятаться в лес вместе с другими детьми. «Оправившись от первоначального шока, – писал впоследствии Ральф, – мы глянули друг на друга и не смогли удержаться от смеха. То-то видок у нас был: куча малолеток, кто в пижаме, кто в пальто, накинутом поверх подштанников. Торчали, сами не зная зачем, под деревьями, кое-кто пытался натянуть противогаз. Мы развернулись и пошли домой»14.
Но вскоре им стало не до смеха: польский народ вполне ощутил на себе убийственную мощь немецких ВВС. «Меня разбудили вой сирен и грохот взрывов, – писал находившийся в тот момент в Варшаве дипломат Адам Кручкевич. – Я увидел за окном немецкие самолеты, планировавшие на невероятно низкой высоте и бросавшие бомбы, куда им вздумается. С крыш нескольких домов без толку палили из пулеметов, но ни один польский истребитель не поднялся в воздух. Горожане были потрясены: у них нет никакой защиты с воздуха. Какое горькое разочарование!»15 Рано утром на город Лук упала дюжина немецких бомб, погибли десятки людей, в том числе спешившие в школу дети. Беспомощные жертвы прозвали безоблачное сентябрьское небо проклятием Польши. Пилот Б. Солак писал: «Воздух над нашим городом наполнился вонью пожаров и темно-коричневым дымом». Он спрятал свой безоружный самолет за деревьями и поехал домой. На дороге ему встретился крестьянин, тот «вел лошадь, чье бедро запеклось густой кровью. Лошадь на каждом шагу тыкалась мордой в землю, содрогаясь от боли». Молодой авиатор спросил крестьянина, куда тот ведет животное (лошадь была ранена осколком снаряда с пикирующего бомбардировщика Stuka). «В город, в ветеринарную клинику». – «Но до города еще шесть с лишним километров!» Крестьянин только плечами пожал: «У меня всего одна лошадь»16.
Происходили тысячи таких больших и малых трагедий. Артиллерийская батарея, где служил лейтенант Петр Тарчинский, продвигалась к полю боя. Налетели Stuka; всадники соскочили с коней, попадали ничком. Самолеты сбросили несколько бомб, поразили сколько-то людей и лошадей. Они улетели, всадники вновь сели в седло и двинулись дальше. «Мы увидели двух женщин средних лет и совсем девочку, они несли короткую стремянку. На этих носилках распростерся мужчина, раненный осколком, но еще живой, он хватался обеими руками за низ живота. Когда они проходили мимо нас, я увидел, как его кишки волочатся по земле»17. Владислав Андерс в Первую мировую войну сражался в российской армии под командованием царского генерала с экзотическим титулом хан Нахичеванский. Теперь он возглавлял польскую кавалерийскую бригаду. На глазах Андерса учительница вела группку учеников к лесу, надеясь укрыться с ними под деревьями. «Послышался рев самолета. Пилот кружил, спускаясь до высоты пятьдесят метров. Он сбросил бомбы, застрочил из пулемета, дети воробушками прыснули во все стороны. Самолет скрылся так же быстро, как появился, а на поле остались лежать смятые, безжизненные кучки пестрой одежды. Стало ясно, чем эта война отличается от всех прежних»18.
Тринадцатилетний Георг Шлонзак ехал в поезде вместе с друзьями, возвращавшимися в Лодзь из летнего лагеря. Внезапно раздался взрыв, вопли, поезд резко остановился. Вожатый прикрикнул на ребят: «Всем немедленно выйти из поезда и бежать в лес!» Там, в лесу, они пролежали с полчаса, напуганные до смерти, дожидаясь, пока прекратится бомбардировка. Выбравшись из укрытия, они увидели в нескольких сотнях метров от своего поезда полыхающий поезд с солдатами – по нему-то и ударили германские бомбардировщики. При виде убитых и изувеченных соотечественников многие мальчики расплакались. В поезд им сразу вернуться не удалось – вновь налетели немецкие самолеты, поливая всех пулеметным огнем. Когда все же удалось тронуться в путь, ехали они в изрешеченных пулями вагонах. Вернувшись домой, Георг застал мать в слезах возле радио: передавали, что немцы наступают.
Пилот Францишек Корницкий навестил раненого товарища в госпитале города Лодзь: «Жуткое место, раненые и умирающие лежали повсюду, кто на койках, кто на кроватях, и в палатах, и в коридорах, одни стонали в агонии, другие лежали молча, закрыв глаза или широко их открыв, еще на что-то надеясь»19. Генерал Адриан Картон де Виарт, глава британской миссии в Польше, с горечью писал: «Я видел, как изменился сам характер войны, честь и слава отошли от нее, уже не солдат рискует жизнью в бою, но гибнут женщины и дети»20.
* * *
В воскресенье, 3 сентября Британия и Франция объявили Германии войну во исполнение данных Польше обещаний. Альянс Сталина с Гитлером побудил многих европейских коммунистов, прислушивавшихся к приказам из Москвы, выступить против решения собственных правительств. Профсоюзы объявили войну с нацизмом «империалистической», и это настроение сказалось на многих французских и британских заводах, верфях, угольных рудниках. Появлялись уличные граффити: «Остановите войну! За нее расплачивается рабочий», «Нет капиталистической войне». Независимый депутат-лейборист Эньюрин Бивен, знаменосец левых, подстраховался, призвав бороться разом на обоих фронтах: и против Гитлера, и против британского капитализма.
Секретные протоколы советско-германского пакта с предполагаемым разделом территорий оставались неизвестны Западу вплоть до того момента, когда в 1945 г. были захвачены немецкие архивы. И все же в сентябре 1939 г. для многих европейцев Россия и Германия были двумя ликами одного врага. Писатель Ивлин Во устами своего двойника Гая Краучбека выразил мнение большинства европейских консерваторов: «Сделка Сталина с Гитлером, эта весть, которая потрясла политиков и юных поэтов в дюжине столиц, принесла мир и покой сердцу англичанина: враг обнажил свое лицо, сбросил все маски и предстал уродливой громадой. Восстал Современный век»21. Некоторые политики пытались все же внести раскол между Россией и Германией, привлечь Сталина на свою сторону и с его помощью одолеть большее зло – Гитлера, однако вплоть до июня 1941 г. такая надежда казалась несбыточной: две диктатуры выступали заодно против всех демократических стран.
Гитлер не ожидал, что Британия и Франция объявят ему войну. Годом ранее они спокойно позволили ему аннексировать Чехословакию; ресурсами для прямой военной помощи Польше французы и англичане не располагали – стало быть, не имели ни сил, ни желания противодействовать агрессору. Сам Гитлер не слишком испугался демарша Британии и Франции, но некоторые из его ближайших сподвижников струхнули не на шутку. Шеф авиации Геринг, не владея собой, орал по телефону на министра иностранных дел Риббентропа: «Доигрались, на хрен, до войны! Это вы во всем виноваты!» Гитлер старался привить германской армии страсть к воинской славе, и молодежь откликалась на этот призыв, но старшее поколение в 1939 г. проявляло куда меньший энтузиазм, чем в 1914 г.: слишком памятны были и ужасы войны, и позор поражения. «Эта война надвинулась ниоткуда, словно призрак, – писал граф Гельмут фон Мольтке, офицер абвера и решительный противник гитлеровского режима. – Народ ее не поддерживает. Люди в апатии. Этот danse macabre исполняют перед нами какие-то неведомые люди»22.
Корреспондент американского канала CBS Уильям Ширер 3 сентября сообщал из столицы Германии: «Здесь не ощущается возбуждения, не слышно криков “ура!”, не швыряют под ноги солдатам цветы. Немецкий народ глядит сегодня гораздо угрюмее, чем день-два назад»23. Александр Штальберг, проезжавший со своим армейским подразделением через Штеттин по направлению к польской границе, увидел то же, что и Ширер: «Ничего общего с бодрым духом 1914 г., ни приветственных криков, ни цветов»24. Австрийский писатель Стефан Цвейг имел тому и объяснение: «Все было иначе, потому что мир 1939 г. уже не был детски наивен, как в 1914 г. По всей Европе исчезла без следа набожная вера в честность или по крайней мере в компетентность национального правительства»25.
И все же многие немцы разделяли мнение Фрица Мюльбаха, функционера нацистской партии: «Я воспринял декларацию войны как пустую формальноcть со стороны Англии и Франции. Как только они осознают полную обреченность польского сопротивления и несравненное превосходство германского оружия, они поймут, что мы с самого начала были правы и им не следовало вмешиваться. Война их никак не затрагивала, и оставайся Польша в одиночестве, она бы тихо и покорно сдалась»26.
Союзники же рассчитывали, что достаточно будет объявить войну, чтобы сорвать блеф Гитлера, спровоцировать его ниспровержение и все уладить, избежав катастрофического вооруженного конфликта в сердце Европы. На трагедию Польши Франция и Англия реагировали эгоистически, блюдя в первую очередь собственный интерес. Французский главнокомандующий Морис Гамелен еще в июле делился мнением с британским коллегой: «Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы конфликт начался на Востоке и распространялся лишь весьма постепенно. Таким образом мы выиграем достаточно времени для мобилизации французской и британской армии». Член парламента от консерваторов Катберт Хедлэм желчно записывает в свой дневник под датой 2 сентября: поляки «сами виноваты в том, что обрушится на них теперь»27. Смешанные чувства вызвал в Британии и прозвучавший сразу после выступления по радио премьер-министра Невилла Чемберлена, объявившего о вступлении в войну, сигнал воздушной тревоги. «Мама очень встревожилась, – писал девятнадцатилетний лондонский студент Дж. Фрайер. – Кое-кто из соседок прямо возле радио грохнулся в обморок, другие выбежали на дорогу. Разговоры: “Не бегите в убежище, пока не услышите выстрелы”. “Аэростаты противовоздушной обороны еще даже не приведены в действие”. “Сволочь, он выслал против нас самолеты еще до того, как истек срок ультиматума”». После отбоя тревоги «все тут же вернулись к дому, нервозно переговариваясь. Надеются на революцию в Германии… Самое странное чувство сегодня было – желание, чтобы что-то наконец произошло. Увидеть, как налетят самолеты и сработает оборона. На самом деле я не хочу видеть, как падают бомбы и гибнут люди, но раз уж мы вступили в войну, хочется, чтобы мы что-то делали по-настоящему. А так это затянется бог знает насколько»28. Нетерпение, нежелание затягивать борьбу надолго было, по-видимому, общим чувством.
В дальних африканских колониях молодые люди при известии о войне спешили укрыться в буше: они опасались, что британское правительство, как и в Первую мировую, мобилизует их на принудительные работы – и так оно и произошло. Кениец Джозайя Маруки запомнил «страшные слухи: Гитлер идет нас всех перебить. Люди в ужасе бежали к реке, копали на берегу землянки, чтобы спрятаться от солдат»29. Британские генералы сознавали неготовность армии к большому сражению, но молодежь все еще была настолько наивна, что радовалась возможности принять участие в боевых действиях и выдвинуться. «Мы все взволновались и развеселились, – писал Джон Льюис из Камеронского полка. – Гитлер был карикатурной фигурой, новостные ролики с марширующими гусиным шагом немцами вызывали дружный смех… Они только и способны, что бомбить беззащитные города Испании. Танки у них – пугала, сделанные из фанеры. Двадцать лет назад мы побили немцев, когда те были намного сильнее. А теперь мы стали величайшей в мире империей»30.
Мало кто мыслил столь трезво, как лейтенант Дэвид Фрэзер из гвардейского гренадерского полка. Тот резко замечал: «Отношение британцев к началу конфликта определялось основными изъянами их психики – слабостью интеллекта и склонностью принимать желаемое за действительное… Жители демократических стран убеждали себя, что в этой войне добро противостоит злу, снаряжались в крестовый поход. Это настроение и раздуваемые правительством этические и идеологические страсти мешали воспринимать войну хладнокровно, как “продолжение политики” – так ее назвал Клаузевиц: действие, направленное на четкую и достижимую цель»31.
Британские пилоты предчувствовали свою злую участь. Офицер Дональд Дэвис писал: «Был чудесный осенний день, я проезжал мимо до боли знакомых мест – Уиттенхэм Клампс, Чилтерн Хиллз – и думал, что недели через три вполне могу быть мертв. Я остановился полюбоваться пейзажем и поразмыслить. Я понял, что, если бы имел возможность вновь сделать тот же выбор, я бы все равно постарался попасть в авиацию»32. Ровесников Дэвиса по всему миру возможность служить в воздушных войсках очаровывала настолько, что они готовы были ежедневно рисковать жизнью ради такой привилегии.
В Вестминстере один из британских министров со снисходительностью гиппопотама приветствовал польского посла: «Повезло же вам! Полгода назад вы бы и не надеялись на помощь Британии!»33 В Польше известие о том, что Британия и Франция вступили в войну, вызвало прилив надежды, тем более что союзники не жалели громких слов. Варшавяне обнимались на улице, пускались в пляс, плакали, гудели автомобили. Перед зданием британского посольства на Уяздовской аллее собралась толпа, люди кричали, пели, попытались исполнить британский гимн «Боже, храни короля». Посол, сэр Говард Кеннард, прокричал с балкона: «Да здравствует Польша! Мы будем бок о бок сражаться против агрессии и несправедливости!»
Такие же бурные сцены происходили возле французского посольства с той разницей, что там поляки пели «Марсельезу». В тот вечер в Варшаве правительственный бюллетень с торжеством возвещал: «Польские кавалерийские соединения прорвали линию немецкой бронепехоты и вторглись в Восточную Пруссию». По всей Европе многие противники нацизма на миг поддались счастливой иллюзии. Михаилу Себастиану, румынскому писателю, еврею, был тогда 31 год. 4 сентября, узнав, что Британия и Франция объявили о вступлении в войну, он удивлялся лишь тому, что они сразу же не начали наступление с Запада. «Чего они ждут? Возможно ли (как некоторые думают), что Гитлер сразу же падет, его сменит правительство военных, которое поспешит заключить мир? Не произойдут ли радикальные перемены и в Италии? Как поведет себя Россия? Что станется с осью – и Рим, и Берлин помалкивают насчет взаимных обязательств. Тысячи вопросов не дают перевести дух»34. Чтобы хоть немного успокоиться, Себастиан решил почитать Достоевского, а затем Томаса де Квинси в подлиннике.
7 сентября десять французских дивизий осторожно пересекли границу с немецким Саарским регионом. Они углубились на вражескую территорию всего на 8 км и остановились: на том и исчерпалась демонстрация сил в защиту Польши. Гамелен полагал, что поляки сумеют сдержать немецкое наступление, пока французы осуществляют свою программу перевооружения. Постепенно народ Польши начал понимать: его бросили погибать в одиночку. Стефан Стажинский, некогда солдат Легиона Пилсудского, а с 1934 г. – любимый варшавянами мэр, славился в том числе и тем, что засадил свой город цветами. Теперь он ежедневно выступал по радио перед горожанами, страстно обличая варварство нацистов. Он формировал спасательные батальоны, призывал тысячи добровольцев рыть окопы, подбадривал жертв бомбежек – вскоре они уже исчислялись тысячами. Многие варшавяне бежали на восток, зажиточные люди променяли автомобили, которые нигде не удавалось заправить бензином, на повозки и велосипеды. Шестнадцатилетний еврей Эфраим Блейхман смотрел вслед колонне беженцев – своих соплеменников, растянувшейся по шоссе, уводившему прочь из Варшавы. Он еще не понимал, какой гибельной опасности подвергаются именно евреи: хотя антисемитизм и свирепствовал в Польше, «худшее, что я испытал до тех пор на себе, – дразнилки»35.
Единственное, что препятствовало неуклонному продвижению немцев, – и люди, и лошади падали от усталости. Младший капрал кавалерии Хорнс заметил, как то и дело спотыкается под ним боевой жеребец Герцог. «Я обратился к командующему отделением: “Герцог выбился из сил!” И едва я произнес эти слова, несчастное животное рухнуло на колени. Мы прошли 70 км в первый день, 60 км во второй, немалый путь по горам, и передовой патруль порой ударялся в галоп… Иными словами, за три дня без передышки проскакали без малого 200 км. Уже давно настала ночь, а мы все ехали»36.
С каждым днем умножались кошмары блицкрига. Варшавское радио все еще играло «Военный полонез» Шопена, а немецкие бомбардировщики и тысяча артиллерийских орудий обрушивали на польскую столицу по 30 000 снарядов в день, повергая прекрасные здания в прах. «Наступила дивная польская осень, – записал в своем дневнике пилот истребителя Мирослав Фериц, ужасаясь этой зловещей иронии. – Черт бы побрал ее красоту»37. Над столицей поднимались серый дым и облако пыли. В руины обратились королевский замок, опера, государственный театр, десятки общественных зданий, тысячи жилых домов. Повсюду – на аллеях, в парках – виднелись еще не погребенные тела и самодельные могилы. Подвоз пищи прекратился, были отключены вода и электричество. Чуть ли не каждое окно зияло провалом, тротуары были усыпаны осколками стекла. К 7 сентября окружение сомкнулось вокруг столицы и ее 120 000 защитников, а польская армия отступила на восток. Главнокомандующий маршал Эдвард Рыдз-Смиглы вместе со всем правительством бежал из Варшавы уже на второй день войны. Мгновенно рухнули коммуникации и система обеспечения армии. 6 сентября почти без боя сдался Краков, 13 сентября пала Гдыня, хотя ее морская база продержалась еще неделю.
Контратака восьми польских дивизий, перешедших 10 сентября реку Бзура западнее Варшавы, ненадолго остановила немецкое наступление. 1500 немцев попали в плен. Курт Мейер из полка SS Leibstandart с невольным уважением и вместе с тем не без снисходительности признавал: «Поляки бьются с невероятным упорством, вновь и вновь доказывая, как они умеют умирать». Вопреки распространенной легенде, польская кавалерия лишь дважды за всю кампанию бросалась на немецкие танки. Один эпизод пришелся в ночь на 11 сентября, когда эскадрон на всем скаку влетел в захваченную немцами деревню Калушин. Из восьмидесяти вступивших в бой всадников уцелело только тридцать три. Немцы же использовали свои конные войска для разведки и быстрого продвижения, а не для боя. Отделение, в котором служил младший капрал Хорнс, продвигалось колонной, выслав вперед двоих всадников – дозорные галопом неслись с холма на холм и оттуда подавали основным частям сигнал, что путь свободен. «Предосторожности ради по гребням холмов рассылались также одиночные всадники. И вдруг мы увидели, как из пыльного облака вырастают незнакомые нам фигуры: приземистые, проворные лошадки с качающимися головами, а на них польские уланы в униформе цвета хаки, длинные пики одним концом упираются в стремя, а другой конец задран к плечу всадника. Блестящие наконечники пик покачивались в такт грохоту копыт. Тут заработали наши пулеметы»38.
Вермахт был по сравнению с противником намного лучше оснащен и вооружен. Небогатая Польша успела обзавестись всего несколькими тысячами грузовиков, военных и гражданских. Государственный бюджет всей страны был меньше, чем одного только города Берлина. Принимая в расчет, как мало было у поляков самолетов и насколько они были хуже немецких, удивительно, что этот поход обошелся Германии в 560 самолетов. Лейтенант Петр Тарчинский попал со своей батареей под интенсивный обстрел в полутора километрах от реки Варта. Он был передовым наблюдателем, но телефон у него отключился, солдаты, высланные на рекогносцировку, возвратились ни с чем. Он не успел сделать ни единого залпа, как его уже окружили и взяли в плен немецкие пехотинцы. Как большинство людей, оказавшихся в подобном положении, Петр старался не пробуждать в своих стражах гнев. «Могу лишь сравнить свое положение с ситуацией человека, который внезапно оказался в окружении могущественных чужаков и полностью от них зависит. Конечно, мне бы следовало стыдиться своего поведения, понимаю». Его повели в плен, по пути Петр прошел мимо нескольких погибших соотечественников и инстинктивно поднял руку, приветствуя их военным салютом39.
На фоне естественного народного гнева против захватчиков вспыхивали и сцены массового насилия, отнюдь не делавшие полякам чести. С первых дней сентября происходили массовые аресты этнических немцев и других предполагаемых или потенциальных «предателей». В Быдгоще в «кровавое воскресенье» 3 сентября перебили тысячу гражданских немцев, обвинив их в том, что они-де стреляли по польским войскам. Кое-кто из современных немецких историков полагает, что во время Польской кампании погибло до 13 000 этнических немцев, почти все – невинные жертвы. Эта цифра, скорее всего, завышена, однако убийства послужили предлогом для чудовищного систематического избиения поляков и в особенности польских евреев, которое началось сразу же после вторжения. В Оберзальцберге Гитлер заявил своим генералам: «Чингисхан по своему произволу и без малейшего сожаления убивал миллионы женщин и детей, а история запомнила его как основателя великого государства. Я послал на восток свои отряды “Мертвая голова” с приказом убивать без пощады мужчин, женщин и детей польского происхождения или говорящих по-польски. Только так мы сумеем отвоевать необходимое нам жизненное пространство».
Когда немецкие войска вошли в Лодзь, тринадцатилетний Георг Шлонзак был ошеломлен при виде того, как женщины бросали солдатам цветы, угощали их сладостями и сигаретами. Дети кричали «Хайль Гитлер». Шлонзак с изумлением писал: «Мальчики из нашей школы размахивали флагами со свастикой»40. Эти люди, приветствовавшие германские войска, были польскими гражданами немецкого происхождения, и теперь они смогли воспользоваться своей родословной. Геббельсовская пропаганда надрывалась, стараясь убедить народ в правоте германского дела. 2 сентября нацистская газета Völkischer Beobachter возвестила о вторжении под двухъярусным заголовком: «Фюрер призывает к борьбе за безопасность и права немцев». 6 сентября выступила Lokal-Anzeiger: «Зверская жестокость поляков – Убиты немецкие летчики – Нападение на колонну Красного Креста – Убиты медсестры». Несколько дней спустя Deutsche Allgemeine Zeitung опубликовала статью под сенсационным заголовком: «Поляки бомбят Варшаву». Сюжет излагался такой: «Польская артиллерия открыла огонь из всех орудий из восточной части Варшавы по нашим войскам, занявшим западную часть города». Немецкие новостные агентства клеймили польское сопротивление как «безумное и бессмысленное». Большинство молодых немцев, продукт нацистской образовательной системы, верило той версии событий, которую предлагало им руководство. «Наша армия непрерывным маршем продвигается к победе, – писал двадцатилетний выпускник летной школы. – При освобождении запуганных немецких жителей Польского коридора происходят душераздирающие сцены. С приходом наших войск вышли на свет чудовищные жестокости, преступления против всех законов человечности. Под Бромбергом[2] и Торном обнаружены массовые захоронения: тысячи немцев, убитых польскими коммунистами»41.
17 сентября, в тот самый день, когда поляки ожидали обещанного французами продвижения на Западном фронте, Советский Союз начал собственное вторжение, спеша обеспечить себе ту долю добычи, которую Гитлер выделил Сталину. Стефан Куриляк, тринадцатилетний поляк, живший в тихой украинской деревне возле русской границы, видел, как 17 сентября по пыльной главной улице пешком и верхом отступали разбитые польские части. Кто-то из солдат отчаянно кричал жителям: «Бегите, добрые люди, бегите, спасайтесь! Прячьтесь, куда сможете, они никого не щадят. Скорее! Русские идут!»42 И вскоре мальчик увидел, как через деревню мчится советский танковый отряд. Маленького ребенка, оказавшегося на пути армии и в испуге не сообразившего, куда деваться, преспокойно застрелили. Куриляк спрятался в яме для картофеля.
Советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил польскому послу в Москве, что Польское государство прекратило свое существование, а потому Красная армия вынуждена вмешаться и прийти на защиту соотечественникам, проживающим на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Немцы несколько растерялись от такой оперативности Советского Союза, хотя Гитлер и согласился заранее на аннексию восточной части страны Сталиным. Еще более растерялись поляки. «Красная армия ударила нам в тыл», – с горечью писал маршал Рыдз-Смиглы‚ и с этого момента оборона «превратилась не более чем в вооруженную демонстрацию против нового раздела Польши». Верховное командование вермахта, избегая даже случайного столкновения с русскими, поспешило провести демаркационную линию по рекам Сан, Висла и Нарев, а где немецкие войска успели продвинуться дальше этой границы, им было велено отойти.
Гитлер надеялся, что действия Сталина побудят союзников объявить войну русским, и в Лондоне в самом деле поднялись дискуссии, требуют ли обязательства Британии перед Польшей вступить в конфликт также и с этим врагом. В Кабинете военного времени учитывать такую возможность и хотя бы подготовиться к ней призывали только двое: Черчилль и военный министр Лесли Хор-Белиша. Британский посол сэр Уильям Сидс отозвался из Москвы: «Не вижу, какие преимущества могла бы принести нам война с Советским Союзом, хотя лично я с удовольствием явился бы с декларацией войны к Молотову». К немалому облегчению премьер-министра Невилла Чемберлена, Министерство иностранных дел сочло, что обязательства перед Польшей касаются только германской агрессии. Британские СМИ яростно нападали на Сталина, но о вооруженной схватке с ним больше не заговаривали. Французы также ограничились лишь выражением своего неудовольствия. За несколько дней, потеряв всего 4000 человек, советские войска захватили около 200 000 км² территории, в том числе города Львов и Вильнюс. Под власть Сталина попали 5 млн поляков, 4,5 млн этнических украинцев, миллион белорусов и миллион евреев.
В Варшаве жители голодали, но все еще цеплялись за надежду, что с Запада придет помощь. Уполномоченный по гражданской обороне говорил знакомому: «Вы же знаете англичан: они долго раскачиваются, но они уже идут»43. Пассивность так называемых союзников сначала сбила миллионы поляков с толку, потом привела в ярость. Офицер, служивший в кавалерии, писал: «Мы гадали, что же происходит на Западе и когда перейдут к активным действиям французы и британцы. Мы не понимали, отчего наши союзники не спешат нам на помощь»44. 20 сентября польский посол в Лондоне обратился по радио к соотечественникам: «Сограждане! Знайте, что ваши жертвы не напрасны, их смысл, их красноречивый язык явственно слышат здесь. Войска наших союзников уже готовятся к бою. Наступит день, когда победоносные штандарты возвратятся с чужбины в Польшу»45. Но, даже произнося эти слова, граф Рачинский, как он признавался позднее, понимал, что это – лишь поэтическое преувеличение. Какие уж там союзнические войска!
В Париже польский посланник Юлиуш Лукасевич горько упрекал французского министра иностранных дел Жоржа Бонне. «Так нечестно! Вы сами знаете, что это нечестно! – твердил он. – Договор есть договор, вы обязаны его уважать! Понимаете ли вы, что, пока вы медлите с нападением на Германию, каждый час отсрочки несет смерть тысячам польских мужчин, женщин и детей?» Бонне пожал плечами: «Вы бы предпочли, чтобы погибали женщины и дети в Париже?»46 Американский корреспондент Дженет Флэннер писала из Парижа: «Складывается впечатление, будто войны все еще пытаются избежать, не допустить, чтобы она разгорелась всерьез. Возможно, члены правительства не хотят войти в историю как первые отдавшие приказ атаковать, или же эти усилия по предотвращению войны отражают настрой населения – люди хотя и исполнены отваги, но сбиты с толку и не знают, что думать. Ведь это первый в истории случай, когда уже после объявления войны миллионы людей на обеих сторонах продолжают надеяться, что столкновения удастся избежать»47.
Французы вовсе не хотели переходить в наступление на линии Зигфрида, на чем настаивал Черчилль, и тем более не собирались бомбить Германию из опасения навлечь на себя месть немцев. Британское правительство также не отдавало ВВС приказа атаковать наземные цели на территории Германии. Член парламента от консерваторов Лео Эмери пренебрежительно писал о премьер-министре Невилле Чемберлене: «Он всей душой ненавидел войну и старался вести ее как можно меньше»48. Передовицу The Times поляки вряд ли могли воспринять иначе, как насмешку над их несчастьем: «При виде агонии своей измученной страны жители Польши могут отчасти утешаться мыслью, что им принадлежит сочувствие и даже глубокое почтение не только союзников в Западной Европе, но и всех цивилизованных народов мира». Нередко высказывалось мнение, что в середине сентября 1939 г., когда большая часть немецкой армии была связана действиями в Польше, союзникам представлялась идеальная возможность для наступления с запада. Однако Франция была к подобному шагу не готова – скорее психологически, чем со стратегической точки зрения, – а Британский экспедиционный корпус, не слишком многочисленный и все еще не полностью переправленный на Континент[3], мало что мог сделать. Немцы с легкостью отбили бы его атаку, даже не прерывая продвижение на восток. Бездеятельность британского и французского правительства соответствовала воле их народов. Секретарша из Глазго Пэм Эшфорд записывала в дневнике 7 сентября: «Практически все считают, что через три месяца война закончится… Многие думают, что, когда Польша будет разбита, не останется смысла продолжать войну»49.
Поляки могли бы заранее предугадать пассивность союзников, но подобный цинизм ошеломлял. Современный историк Анджей Сухцич писал: «Польское правительство и польское командование стали жертвой обмана и предательства со стороны западных союзников. Никто и не пытался оказать Польше эффективную военную помощь». Варшава уже предвидела скорую гибель, и Стефан Стажинский обратился к горожанам по радио: «Судьбой нам назначен долг отстоять честь Польши». Спустя годы польский поэт превознес эту речь мэра, переведя ее на звучный эмоциональный язык стихов:
В кровавой и чадной столице он говорил: «Я не сдамся и пусть полыхают дома!» Дело рук моих рушится в прах, и мечта Похоронена будет. Но дети, вернувшись, Признают: есть в мире такое, что стоит Дороже прекраснейших стен городских50.Через три недели польское сопротивление было сломлено. Столица все еще не пала только потому, что немцы предпочитали сначала уничтожить ее, а затем овладеть руинами. Час за часом, день изо дня продолжались беспощадные воздушные налеты. Медсестра Ядвига Соснковская описывала сцены, происходившие в ее госпитале под Варшавой 25 сентября:
«Процессия раненых из города – бесконечный марш смерти. Свет отключился, врачи и сестры перемещались со свечами в руках. Операционная и перевязочная уничтожены бомбами, мы все делали в лекционных залах на обычных дощатых столах. Поскольку не хватало воды, мы не могли прокипятить инструменты и только протирали их спиртом. Человеческие обломки клали на этот импровизированный операционный стол, и хирург тщетно пытался спасти жизни, ускользавшие под его руками. Трагедия за трагедией. Привезли девушку шестнадцати лет – копна золотых волос, лицо нежное, как цветок, дивные сапфирово-синие глаза полны слез. Обе ее ноги до колен представляли собой кровавую кашу, где осколки костей не отличить от плоти, – пришлось ампутировать ей обе ноги выше колена. Пока хирург не начал, я склонилась над этим невинным ребенком, поцеловала ее в бледный лоб, погладила ее золотые волосы – а что еще я могла сделать? К утру она тихо скончалась – цветок, сорванный безжалостной рукой»51.
Понятно, что профессиональные военные не могут позволить себе сантименты по поводу ужасов войны, и все же потомство не оставит без осуждения тот оппортунизм, с каким германские генералы мирились с личностью своего фюрера и с тем чудовищным преступлением, в которое он их втянул. Генерал Эрих фон Манштейн считался одним из лучших немецких военачальников той эпохи, и впоследствии он с гордостью заявлял, что вел себя как офицер и джентльмен. Тем не менее его записи времен Польской кампании и позднее свидетельствуют о типичной для его касты бесчувственности. Сама по себе война вызвала у него восторг: «Решение фюрера оказалось гениальным, мы видим, как реагируют западные державы. Его предложение решить польский вопрос было настолько уместным, что Англия и Франция, если бы они в самом деле хотели мира, должны были бы подтолкнуть Польшу к согласию». Вскоре после начала кампании Манштейн наведался в отделение, которым недавно командовал: «Трогательно было видеть, как офицеры обрадовались при моем внезапном появлении. Кранц [его преемник] сказал мне, что командовать в боевой обстановке столь прекрасно вымуштрованной дивизией – одно удовольствие».
В письме жене Манштейн описывал свое житье-бытье во время кампании (он служил начальником штаба при фон Рундштедте, в группе армий Юг): «Я просыпаюсь в 6:30, бросаюсь в воду [поплавать], затем к 7:00 на службу. Утренние доклады, кофе, затем работа или поездки с Р [ундештедтом]. К середине дня прибывает полевая кухня, затем получасовой отдых. Вечером, после ужина, который мы, как и обед, едим вместе с офицерами генерального штаба, настает черед вечерних докладов, и так до 11:30»52.
Поразительный контраст между безмятежной жизнью генерального штаба и той страшной человеческой трагедией, которую порождали операции этого самого штаба. Манштейн подписал приказ окружить Варшаву и стрелять по каждому, кто попытается выйти из погибающего города: немцы сочли, что им легче будет принудить столицу к капитуляции и обойтись без уличных боев, если жители города не будут иметь возможности бежать от бомбежек. И при этом Манштейн отличался такой брезгливостью, что порой уходил с выступлений фон Рундштедта: начальник штаба позволял себе сквернословить. 25 сентября Манштейн, осчастливленный визитом и поздравлениями Гитлера, писал жене: «Приятно было смотреть на ликование солдат, когда мимо них проезжал фюрер»53. Офицеры вермахта уже в 1939 г. сделались моральными банкротами, и этим будет определяться их поведение вплоть до 1945 г.
Польский кавалерист Клеменс Рудницкий описывал состояние своего полка и коней, еще недавно бывших украшением этой воинской части, на 27 сентября в Варшаве, в последнюю ночь перед капитуляцией: «Красные языки пламени освещали наших коней, которые неподвижно и тихо стояли под стенами парка Лазенки, более похожие на оседланные скелеты. Часть лошадей уже погибла, другие истекали кровью из огромных разверстых ран. Цензор Ковальского был еще жив, но валялся на земле со вспоротым животом. Давно ли он выиграл кубок армии в Тарнополе – наша радость и гордость! Выстрел в ухо положил конец его мучениям. На следующий день какой-нибудь изголодавшийся бедолага, должно быть, срежет кусок мяса с его бедра»54.
28 сентября Варшава капитулировала. Коротышка капитан Крыск, командовавший Третьим эскадроном, где служил Рудницкий, в первом порыве воскликнул, что не признает этот приказ: «Завтра утром мы атакуем немцев. Отстоим традицию нашего полка: Девятый уланский никогда не сдается»55. От этой затеи Рудницкий его отговорил, зато офицеры полка спрятали знамена в церкви Св. Антония на Сенаторской улице, в единственном уцелевшем здании среди множества превратившихся в груды каменных осколков. Рудницкий с сожалением заметил, что польской армии следовало перейти к затяжной обороне, а не удерживать растянутую передовую линию, для которой не хватало людей. «Но это пришло бы в противоречие с нашим природным честолюбием, военными традициями и мечтой сделаться когда-нибудь великой державой»56.
29 сентября армия Модлина сдалась к северу от Варшавы немцам, 30 000 поляков попали в плен. Организованное сопротивление шло на убыль, 1 октября пал полуостров Хель, последнее сражение произошло у Кока, к северу от Люблина, 5 октября. Сотни тысяч солдат оказались в руках у противника, гораздо большее их число пыталось спастись бегством. Молодой пилот Солак растрогался, увидев сидевшего под деревом полковника ВВС – слезы катились у старого офицера по щекам. Феликс Лахман, как и многие другие поляки, вспоминал недавно прочитанный роман «Унесенные ветром». Он бежал прочь от своего дома и говорил себе: «Имение Тара было разорено, однако Скарлетт О’Хара прошла сквозь огонь и воду, лишь бы вернуться в родные места, а мы навеки покидаем людей и предметы, составлявшие общественную, интеллектуальную и эмоциональную ткань нашей жизни. Мы уходим в пустоту, без цели»57. После воздушного налета на город Кременец Адам Кручкевич видел, как бесновался на улице старый еврей: «Стоя над телом убитой супруги, он выкрикивал поток проклятий и богохульств: “Бога нет! Гитлер и его бомбы – вот боги! Нет в мире ни жалости, ни милосердия!”»58
Небольшому кавалерийскому соединению поляков удалось ускользнуть в Венгрию, и там они сложили оружие. В казарме Третьего гусарского полка изнемогших беглецов приветствовали венгерские офицеры во главе с пожилым полковником фон Понграцем – все они были облачены в парадные мундиры. Через несколько дней, когда поляки отправлялись в лагерь военнопленных, ветеран со старомодными бакенбардами каждого обнял на прощание. Любезности уходящей эпохи: в том не знающем жалости мире, где очутились поляки, этому места уже не будет.
Генерал Владислав Андерс уводил свое потрепанное и измученное войско на восток, подальше от немцев. Всадники, пробиваясь на истощенных лошадях сквозь поток беженцев и дезертиров, все еще пели. Они встретили передовой отряд Красной армии, и Андерс послал в ближайший советский штаб парламентера с просьбой пропустить их к венгерской границе. Парламентера тут же ограбили и грозились расстрелять. Советские пушки начали обстреливать позиции поляков. Андерс велел своим людям рассыпаться и небольшими группами пробираться в Венгрию. Сам он, тяжело раненный, попал в плен в числе многих других. Советский офицер снисходительно пояснил ему: «Мы теперь с немцами добрые друзья. Вместе будем бороться против международного капитализма. Польша служила орудием в руках Англии и поплатилась за это»59.
Регина Лемпицкая, как и сотни тысяч других поляков, в первые послевоенные месяцы была арестована русскими и сослана в Казахстан. В изгнании ее бабушка и маленькая племянница умерли от голода, брат – рядовой – был расстрелян. То, что пережила ее семья под властью Советов, было «чудовищным сном», писала она впоследствии. Когда красноармейцы вели группу польских солдат через пограничный мост, кто-то из пленников печально промолвил: «Мы уходим в Россию. Нам не суждено возвратиться». Тадеуш Жуковский писал: «С этой минуты все изменилось – другое небо, другая земля, другие люди. Странное чувство, как будто внутри тебя раскрылась темная щель, как будто ты расстался с жизнью, тебя низвергли в темную пещеру, в непроглядный сумрак подземных тоннелей»60. Какая-то женщина сказала презрительно поляку, отправленному в ГУЛАГ: «Вы, поляки, паны-фашисты! В России вас научат работать. У вас тут будет достаточно сил, чтобы трудиться, но слишком мало, чтобы угнетать бедных!»61
Около 1,5 млн поляков, по большей части гражданских лиц, остававшиеся на захваченных восточных землях, были в последующие месяцы угнаны в Советский Союз, отправлены в заключение, обречены на муки голода; около 350 000 из них погибли. Угоняли целые семейства, но без мужчин – мужчин уничтожали на месте. 5 марта 1940 г. глава советской службы безопасности Лаврентий Берия направил Сталину меморандум на четырех страницах с предложением истребить польских штаб-офицеров и других лиц, занимавших заметное положение в обществе. Тех из них, что попали в советские лагеря, следует подвергнуть высшей мере наказания, настаивал Берия, то есть расстрелять. Сталин и другие члены Политбюро официально одобрили этот план обезглавить Польшу. За несколько недель по меньшей мере 25 000 поляков были убиты палачами НКВД в различных советских тюрьмах, каждого прикончили одной-единственной пулей в затылок. Тела свалили в братские могилы в лесах возле Катыни, к западу от Смоленска, под Минском и в других местах. Крупнейшее захоронение, к своему удовольствию, обнаружили в 1943 г. нацисты.
Прозвучавшие после войны упреки, что, мол, суд над военными преступниками осуществлялся в интересах победителей, существенно подкреплялись тем фактом, что никто из русских не был призван к ответу за Катынь. В октябре 1939 г. один из поляков на допросе в НКВД с горечью спросил: «Как мог СССР, прогрессивное, демократическое государство, вступить в союз с реакционной нацистской Германией?» Допрашивавший его офицер холодно возразил: «Вы ошибаетесь. Наша политика в настоящий момент сводится к тому, чтобы занять нейтральную позицию в борьбе между Англией и Германией. Пусть обе истекут кровью, и тогда мы со свежими силами вступим в войну и решим исход последнего ее этапа»62. Кажется, его слова достаточно верно отражали замысел Сталина.
Гитлер, прибыв 5 октября в Варшаву, указал рукой на руины и заявил сопровождавшим его иностранным корреспондентам: «Господа, вы сами видите, что упорная оборона этого города была преступным безумием. Хотел бы я, чтобы те политики в иных странах, кто готов всю Европу превратить во вторую Варшаву, воочию, как вы, увидели реальные последствия войны»63. Мэра Варшавы Стажинского отправили в Дахау и там четыре года спустя умертвили. Польская армия потеряла 70 000 убитыми и 140 000 ранеными, погибли и тысячи гражданских. Потери германской армии сводились к 16 000 убитых и 30 000 раненых. 700 000 польских солдат оказались в плену у Гитлера. В Лондоне сформировалось никем не избранное польское правительство в изгнании.
Глава британского генерального штаба сэр Эдмунд Айронсайд, встретившись с Адрианом Картоном де Виартом, когда тот вернулся из Варшавы, бросил пренебрежительно: «Не больно-то ваши поляки преуспели». Так он выразил разочарование – общее и у англичан, и у французов – тем, что польская армия не сумела нанести вермахту достаточный ущерб и упростить задачу союзникам. Де Виарт ответил: «Посмотрим, сэр, что сделают другие»64. Поразительно большое число поляков предпочли изгнание, разлуку со всем, что знали и любили, только бы продолжать борьбу против Гитлера. 150 000 выбрались на Запад, многие – после тяжелейших злоключений. Ни одно из захваченных немцами впоследствии государств не знало такого добровольного исхода. В нем выразилось страстное нежелание поляков сдаваться. Те, кто бежал на Запад, встретили на удивление теплый прием в фашистской Италии. Толпы приветствовали их возгласами: «Браво, Полония!»
Уходя из дома, инструктор ВВС Витольд Урбанович отдал радио и свои шелковые рубашки уборщице, нарядный костюм – швейцару и на автобусе пересек со своими кадетами границу с Румынией. Год спустя он за штурвалом Hurricane проявил себя одним из лучших асов британских ВВС. Около 30 000 поляков (треть их составляли пилоты и авиационные техники) добрались до Британии в 1940 г., другие подоспели позднее. Один из пилотов упорно тащил все 5000 км пути деревянный пропеллер, символ своей миссии. Другие поляки, когда их выпустили наконец из сталинских лагерей, присоединились к британской армии на Ближнем Востоке. Эти люди внесли гораздо больший вклад в дело союзников, нежели Британия внесла в борьбу Польши.
Польша стала единственным оккупированным нацистами государством, где между победителями и побежденными не сложилось никакой формы коллаборационизма. Нацисты рассматривали поляков как своих рабов, и те отвечали им неумолимой ненавистью. Жена князя Павла Сапеги перешла границу – в относительно безопасное место – в потоке таких же беженцев, как она сама. Маленькая дочка спросила ее: «Падают ли бомбы и в Румынии?» Княгиня ответила: «Бомб не будет больше. Мы отправляемся туда, где светит солнце и дети могут играть, сколько захотят». Девочка настаивала: «А когда же мы вернемся домой к папе?» На этот вопрос мать ей ответить не могла. Вскоре в Европе не останется угла, где взрослые или дети могли бы чувствовать себя в безопасности.
Поначалу намерение Гитлера сводилось к тому, чтобы нанести Польше поражение: как это с ним часто бывало, о дальнейших шагах он поначалу не думал. Лишь когда стало ясно, что Сталина устраивает раздел страны, немецкий фюрер решил аннексировать западную часть Польши. Перед войной нацисты презрительно именовали Польшу Saisonstaat – временным государством. Теперь она вовсе перестала быть государством: Гитлер завладел территорией, на которой проживало 15 млн поляков, 2 млн евреев, миллион этнических немцев и 2 млн представителей прочих национальных меньшинств. Гитлеру в высшей степени была присуща ненависть ко всем, кто противился его воле, и в скором времени его месть обрушилась на поляков, в особенности же, конечно, на польских евреев. Вскоре после установления оккупационного режима Шмулек Голдберг возвращался с работы в Лодзи, и «на улицах я увидел хаос. Люди слепо бежали во все стороны. Кто-то остановился и ухватил меня за рукав: “Прячься! Прячься! – прокричал этот человек. – Немцы под дулом пистолета сгоняют евреев и увозят их на грузовиках”»65. Шмулек видел, как мимо проезжали набитые пленниками грузовики – первый шаг к осуществлению плана Гитлера по уничтожению всего народа. Через несколько недель после завоевания Польши убитые евреи уже исчислялись тысячами.
В Британии женщина по имени Тилли Райс, эвакуировавшаяся вместе с детьми из Лондона в рыбацкий порт северного Корнуолла, 7 октября, по окончании Польской кампании, записала в дневнике: «В доме, где я живу, все это восприняли с молчаливым изумлением. Война все еще идет, но словно вдалеке и лишь изредка сказывается на жизни простых людей. Я сама чувствую, как во мне с каждым днем растет равнодушие»66. Британия и Франция вступили в войну ради спасения Польши. Польша пала, ее представителей исключили из военного совета союзников – нечего им больше там делать. Политики и рядовые граждане Британии и Франции задавались вопросом: с какой стати продолжать эту войну? Разве есть надежда чего-то этим добиться? Посол США в Лондоне, Джозеф Кеннеди в ответ на призыв польского коллеги только пожал плечами: «Где союзникам сражаться с немцами?»67 Кеннеди, конечно, был англофобом, пораженцем и любой ценой стремился к миру, однако в его вопросе был здравый смысл, и готового ответа у правительств стран-союзников на этот вопрос не было. Польша пала, и мир замер в недоумении, гадая, что же будет дальше. Британия и Франция не отважились перехватить инициативу, и дальнейший ход войны зависел от воли или своеволия Адольфа Гитлера.
2. Ни мира, ни войны
В ноябре 1939 г. Нобелевский комитет объявил, что в этом году не будет присуждать Премию мира, поскольку в Европе идет война. Однако, с точки зрения многих англичан и французов, капитуляция Польши делала бессмысленной ту борьбу, в которую их правительства вовлекли свои народы. Французская армия с небольшим британским контингентом – традиционно на левом фланге – противостояла германским силам на восточной границе Франции. Но союзники не отваживались на решительные действия, тем более что они еще не перевооружились. Польская кампания продемонстрировала превосходство вермахта и немецких ВВС, хотя еще и не в полную силу. Генерал лорд Горт, командовавший Британским экспедиционным корпусом, пришел в ужас от состояния некоторых территориальных соединений, прибывших в октябре в качестве подкрепления к его пяти плохо экипированным дивизиям. Генерал говорил, что не верит своим глазам: возможно ли такое в английской армии! «У людей не было при себе ножей, вилок и кружек!»
Положение союзников катастрофически осложнялось нейтралитетом Бельгии. Считалось, что, если Гитлер надумает атаковать на Западном фронте, он повторит германскую стратегию 1914 г. и двинется через Бельгию. Тем не менее король Леопольд, чтобы не давать Германии предлога для вторжения, отказался впускать на свою территорию союзнические войска. В результате левое крыло армии союзников провело холодную зиму 1939 г., строя оборонительные сооружения на французской границе, хотя все заведомо знали, что покинут эти позиции и двинутся в Бельгию, как только немцы подойдут с той стороны. Поскольку англичане промедлили с введением обязательной воинской службы, теперь им не хватало подготовленных резервов и они не могли мобилизовать миллионы обученных солдат, как то делали континентальные нации. Британцы гордились своими антимилитаристскими традициями, но в итоге страна вступила в конфликт с сильнейшей в военном отношении державой Европы, а смогла предоставить лишь незначительное подкрепление – на земле и в воздухе – французской армии, развернутой для сражения с немцами. На суше никакие маневры не осуществлялись без одобрения из Парижа. Франция начала перевооружаться раньше Британии, но все еще ожидались большие поставки танков и самолетов. Союзники оказались чересчур слабы и для решительной схватки с вермахтом, и для эффективной бомбардировки Германии с воздуха, даже если бы на это решились. Зимой 1939 г. ВВС Британии могли атаковать только германские боевые корабли – они делали это средь бела дня, несли огромные потери и ничего не добились.
Здравый смысл мог бы подсказать союзникам, что Гитлер не станет откладывать сражение на Западе до тех пор, пока они как следует подготовятся к битве, но нет, они уверили себя, что отсрочка им на руку. Пока что союзники проверяли возможности своего флота: не удастся ли организовать блокаду рейха. Гамелен подумывал о крупных наземных операциях в 1941-м или 1942 г. Оба правительства цеплялись за надежду, что немецкий народ и немецкие солдаты «образумятся» и сами поймут, что затяжной войны им не выиграть. В Польше, с наивным оптимизмом твердили союзники, безрассудная агрессия Гитлера достигла кульминации, и теперь нормальные немцы свергнут нацистов, установят у себя иной режим, с которым можно будет договориться.
Для совместного принятия решений союзники организовали Верховный военный совет (в предыдущую войну нечто подобное учредили на последнем году боевых действий). Было решено, что Британия и Франция распределят расходы в пропорции 60 к 40 в соответствии с возможностями своей экономики. Французские политики жили в постоянном страхе перед левыми, которые могли стать орудиями Сталина. В октябре 1939 г. в интересах национальной безопасности были арестованы 35 членов парламента от коммунистической партии. В марте 27 арестованных предстали перед судом, большинство были признаны виновными и приговорены к заключению на сроки до пяти лет. Также подверглись аресту 3400 активистов компартии, более 3000 иностранных коммунистов-беженцев были интернированы.
Одна из самых печальных ошибок союзников: вся их стратегия (если у них была таковая) сосредотачивалась на материальном укреплении войска безо всякого внимания к настроениям в обществе. Господа министры не предвидели губительного влияния затяжного бездействия на боевой дух народа. Многим французам и англичанам происходящее казалось бессмыслицей: народы втянули в войну, а никакой войны и нет. Франция остро ощущала экономические последствия мобилизации 2,7 млн человек и уговаривала британцев вести военные действия где угодно, только не на Западном фронте. Слишком хорошо французы помнили итоги Первой мировой войны – 1,3 млн погибших – и содрогались при мысли о новом кровопролитии на своей земле. Однако их предложения провести какие-то факультативные операции – например, открыть Балканский фронт в Салониках, чтобы предотвратить немецкую агрессию на этом направлении, – не встретили понимания в Лондоне. Англичане опасались, что подобные меры лишь способствуют большему сближению Италии с Германией. Министры воздерживались даже от публичного обсуждения «антифашистского фронта» – как бы не огорчить Бенито Муссолини.
За отсутствием внятных целей вооруженного конфликта многие британские и французские политики мечтали уже заключить какой-никакой мир, лишь бы Гитлер для спасения их престижа согласился поумерить свои территориальные претензии. Народы Британии и Франции разгадали эту тенденцию и заклеймили вялотекущую кампанию именем «Странной», или «Скучной», войны. Организация по исследованию общественного мнения Mass Observation сообщала о растущем в Британии убеждении: нет смысла продолжать эту злосчастную кампанию. «В первом раунде пропагандистской борьбы победил Гитлер: он преподнес своему народу польский поход как великолепную историю успеха».
Месяцы пассивного ожидания не могли не сказаться на боевом духе французских войск. В ноябре 1939 г. командующий Британским корпусом Алан Брук описывал свои впечатления от парада французской Девятой армии: «Никогда я еще не видел столь неопрятный личный состав: люди небриты, лошади не чищены, ни следа гордости собой и своим соединением. Но более всего меня поразило выражение лиц рядовых: недовольные, непочтительные взгляды… Я поневоле задумался, сохранили ли французы достаточно национального чувства, чтобы продержаться в этой войне»1. Польские изгнанники, которые тысячами вступали во французскую армию, с тревогой отмечали двусмысленное отношение к себе союзников: пилот Францишек Корницкий писал, что «и французские коммунисты, и фашисты действуют против нас, а в Лионе первых предостаточно. Иной раз кто-нибудь махнет дружески рукой, но кто-нибудь другой тут же тебя и обругает»2.
Французский солдат и писатель Жан-Поль Сартр записывал в дневнике 26 ноября: «Поначалу все рвались в бой, но теперь умирают от скуки». Другой солдат, Жорж Садуль, 13 декабря писал: «Прошел еще один день, пустой, бесконечный, без какого-либо дела». Настроение офицеров, по большей части призванных из резерва, мало чем отличалось от настроения рядовых. «Чувствуется, что они устали от войны, только и твердят, как им хочется вернуться домой». 20 февраля 1940 г. Сартр отмечал: «Военная машина крутится вхолостую. Вчера сержант с безумным блеском в глазах говорил мне: “Думаю, скоро все устроится, Британия пойдет на уступки”».
Британцы тоже пребывали в растерянности. Джек Классон, молодой продавец из Эвертона (Ланкашир), писал другу в армию: «Похоже, война никуда не продвигается. В утренних газетах что-нибудь напишут, а на следующий день уже опровергают. Для дела это плохо. Мое мрачное настроение можешь списать на черные шторы, которыми велено занавесить витрины, на заклеенные синей бумагой окна второго этажа… В кинотеатре Curzon с неделю выступал гастролирующий органист Генри Крудсон, и некоторым зрителям музыка нравится пуще фильмов, особенно популярная песенка “Повешу сушиться белье на линии Зигфрида”. Когда он играл эту мелодию, публика только что не разносила зал»3.
Полтора миллиона английских женщин и детей, эвакуированных из городов под угрозой немецких бомбардировок, страдали от ностальгии в непривычном деревенском окружении. Дерек Ламберт, бывший в ту пору девятилетним мальчишкой, вывезенным из лондонского района Масвелл Хилл, впоследствии вспоминал: «Мы укладывались в чужие постели и лежали, сжимая кулаки. Пальцы ног нащупывали еле теплую грелку с водой, порывшись в подушках, мы находили внутри забытые шелковые мешочки с лавандой. Ухала сова, крылом задевая окно. Я вспоминал звуки Лондона: далекий гул поезда, рев мотоциклов, рябина скрипела ветками, у соседей лаяла собака, тарахтело радио, на пятом этаже стонали ступеньки лестницы, ровно в 10:30 кто-то откашливался. Я вспоминал родные обои: я проводил каноэ между зеленых водопадов их узора, вел поезд по росчисти. Мы вспоминали и всхлипывали в неутолимой тоске»4.
В основном эвакуировались беднейшие слои, и принимавшие у себя беженцев сельчане были шокированы их лохмотьями и отсутствием каких-либо манер: городские ребятишки, жертвы Депрессии, не привыкли к регулярной еде за столом, иные не умели даже пользоваться ножом и вилкой – они питались в основном хлебом с маргарином, рыбой и чипсами, которые ели на ходу, консервами да сладостями. Суп, пудинг и все овощи, кроме картофеля, не лезли им в глотку. Местные правила для них ничего не значили, мелкое воровство считалось вполне допустимым. Шокировали консервативное сельское общество и привычки эвакуированных женщин. «Деревенские жители не хотели их принимать главным образом из-за их дурной одежды и дурных привычек, – вспоминала Мюриел Грин, работавшая в гараже в Снеттисхэме, графство Норфолк. – А также потому, что они пили и сквернословили. В деревне не бывало такого, чтобы женщина бранилась или заходила в кабак, и местные жители с ужасом смотрели на то, как зачастили в пивнушку приезжие. Руководитель лагеря отдыха сказал: “Вы бы видели, как они хлещут пиво!”»5 К Рождеству, благо Британию так и не начали бомбить, эвакуированные возвратились в свои города, к собственной радости и немалому облегчению принимавших их сельчан.
Военных действий Британия не вела, но признаки войны были видны повсюду: мешки с песком под стенами зданий, дирижабли, охраняющие воздушное пространство Лондона, обязательное затемнение с наступлением ночи. Несчастные случаи в темноте стали причиной гибели большего числа людей, чем воздушные налеты: за последние четыре месяца 1939 г. аварии на дорогах унесли 4133 жизни, из числа этих жертв 2657 приходились на долю пешеходов – вдвое больше, чем за тот же период 1938 г. Еще больше людей погибло и изувечилось даже не на шоссе, а где-нибудь в переулках: в декабре 1940 г. Принстон проводил опрос, и 18 % среди отвечавших сообщили, что поранились, нащупывая дорогу в темноте6. Три четверти респондентов требовали смягчить профилактические меры против воздушных налетов. Правила обороны и самозащиты внедрялись столь сурово, что двое солдат, выходивших из «Олд Бейли» со смертным приговором за убийство, получили еще и выговор за то, что не взяли с собой противогазы. В гражданскую оборону записалось 2,5 млн человек7.
Большие участки пустошей, а в городах вся свободная территория, засаживались зерновыми и овощами. Фермер из Уилтшира Артур Стрит по приказу правительства распахал пастбище, а любимого гунтера отдал переучиваться – лошади предстояло ходить в упряжке. Многие верховые лошади противились унизительному труду, но принадлежавший Стриту Джоррокс принял новое положение «молодцом», по словам хозяина, и стал развозить молоко, в посевную пору таскать борону и без огреха выполнял все прочие повинности. «Не знаю, что он думает об этом. Он ведь не понимает, что там гремит и дребезжит у него за крупом, и, судя по тому, как он прядает ушами, его это беспокоит. Но мы никогда прежде не причиняли ему зла, и он уверен, что мы и сейчас ничего дурного не сделаем, так что он работает на войну, как и подобает такому молодцу»8. В 1930-х гг. фермеры стояли на грани разорения, но сейчас для них началась эпоха процветания.
В Британии были интернированы 700 фашистов, однако флиртовавших с Гитлером аристократов сия участь миновала. «Поразительно, как этим господам сошло с рук предвоенное заигрывание с нацистским режимом»9, – сокрушалась в письме мужу-солдату коммунистка Элизабет Белси. Если бы британцы вздумали подражать французской политике по отношению к левым, за решетку угодили бы и тысячи профсоюзных активистов, а также значительная часть интеллектуалов, но они оставались на свободе. Баловались иными глупостями: например, отель Royal Victoria в Сент-Леонард-он-Си, рекламируя в The Times свои удобства, сообщал: «Бальная зала и прилегающие к ней туалеты непроницаемы для газа и осколков». В объявлениях о поиске домашней прислуги не слишком-то ощущаются последствия мобилизации: «Требуется: вторая горничная из трех, жалованье 42 фунта в год; в семье две леди и девять слуг». Архиепископ Кентерберийский разрешил христианам молиться о победе, но архиепископ Йоркский придерживался иного мнения. «Хотя эта война и справедлива, – рассуждал он, – ее нельзя назвать священной. Мы не должны молиться друг против друга». Некоторые священники учили паству просить у Всевышнего духа милосердия: «Спаси меня от злобы и ненависти к врагу». Тем не менее, когда в ноябре папа римский поздравил Гитлера со спасением после неудавшегося покушения, британские христиане почувствовали себя задетыми10.
Сотни тысяч новобранцев проходили в Англии военную подготовку – оружия не хватало, перспективы смутные; они уже догадывались, что кому-то предстоит погибнуть. Лейтенант Артур Келлас из Пограничного полка себя заведомо относил к числу выживших, но задумывался над участью братьев по оружию: «Я гадал порой, кто из них обречен на смерть. Неужели Огилви, милейший человечек невысокого роста, тревожившийся об оставшейся в Данди матери? Или Дональд, красавец, самонадеянный, довольный собой? Или Хант, только что женившийся, с хорошей карьерой в Сити? Джермен? Данбар? Перкинс, над которым мы безжалостно издевались? Белл, которому мы завидовали, потому что он уже отправился навстречу славе с первым батальоном, снаряженным во Францию, и у него в Уайтхевене оставалась красавица-сестрица? Так уже было с нашими отцами, и вряд ли с нами на войне выйдет по-другому»11.
Они были так молоды! Рядовой Территориальной армии Дуг Артур вместе со своим отделением проходил парадным шагом перед Ливерпульским собором – их отправляли на службу за море. К величайшему смущению Дуга, женщина, наблюдавшая за солдатиками в толпе таких же сентиментальных домохозяек, выбрала именно его. «Гляньте, девоньки, – жалостно воскликнула она. – Ему бы дома сидеть, с мамочкой! Ничего, сынок, не боись – все обойдется! Благослови тебя Боже, малыш! Господь за тобой присмотрит, вот увидишь. А этот ублюдок Гитлер за все ответит! Дали бы мне его в руки хоть на пять минуток, эту свинью!»12
Президент США Франклин Рузвельт писал своему послу в Лондоне Джозефу Кеннеди 30 октября 1939 г.: «Хотя [Первая] мировая война не выявила в Великобритании сильного руководства, но на этот раз такое может произойти, ибо я склонен думать, что теперь британская общественность исполнилась большего смирения, чем прежде, и медленно, но верно избавляется от неразберихи, поверяя свое прошлое»13. Оптимизм президента со временем оправдался, но «неразбериха» царила еще довольно долго.
Следующий акт драмы окончательно запутал вопрос о враждебности и лояльности, потому что на этот раз инициативу проявил не Гитлер, а Сталин. Как и другие европейские тираны, владыка СССР расценивал конфликт исключительно с точки зрения потенциальных территориальных приобретений. Осенью 1939 г., закрепив за собой восточную половину Польши, он решил усилить стратегические позиции Советского Союза, оккупировав Финляндию. Значительную часть этой страны составляли малонаселенные леса и берега озер; ее границы, да и сам суверенитет, были недавнего происхождения, а потому особенно уязвимы. До наполеоновских войн Финляндия составляла часть Швеции, затем до 1918 г. входила в состав России, а потом в Гражданской войне здесь верх взяли силы, враждебные большевикам.
В октябре 1939 г. Сталин вздумал обеспечить безопасность Ленинграда, от которого до рубежа оставалось всего 50 км, сдвинув границу с Финляндией дальше по Карельскому перешейку и присвоив себе финские острова Балтийского моря. Он бы не отказался и от никелевых рудников на северном побережье Финляндии. Финская делегация, вызванная в Москву и выслушавшая ультиматум, к изумлению всего мира, ответила отказом. Подумать только: народ численностью 3,6 млн собирается противостоять Красной армии! Финны и вооружены-то были плохо, но патриотизм в них доходил до степени ослепления. Арво Туоминен, один из лидеров финской коммунистической партии, отклонил предложение Сталина возглавить марионеточное правительство и предпочел уйти в подполье. Он сказал: «Это было бы дурно, было бы преступно, это никак не соответствует форме свободного правления народа»14.
30 ноября в 09:20 советские самолеты предприняли первую из множества воздушных атак на Хельсинки. Ущерб они причинили главным образом советскому же посольству да нервам британского посланника – тот попросил освободить его от опасной должности. Советские войска в нескольких местах перешли границу. Финны посмеивались: «Сколько их, а страна у нас маленькая, где же мы их всех похороним?» Национальную оборону возглавил семидесятидвухлетний маршал Карл Густав Маннергейм, герой многих войн, последней из которых стала гражданская внутри самой Финляндии. На царской службе он был отряжен послом в Лхасу и там научил далай-ламу стрелять из пистолета. Маннергейм говорил на семи языках, хуже всего – на финском. Высокомерием не уступал де Голлю, свою беспощадность с лихвой продемонстрировал в 1919–1920 гг. при чистках побежденных коммунистов.
В 1930-е гг. Маннергейм руководил строительством укрепленной линии поперек Карельского перешейка – эта линия была названа его именем. Он не питал особых иллюзий по поводу обороноспособности страны и настаивал на переговорах со Сталиным. Однако его соотечественники предпочли бороться, и Маннергейм с хладнокровием профессионала стал готовиться к обороне. Не дожидаясь вторжения, финны прибегли к тактике выжженной земли и эвакуировали с приграничной территории 100 000 гражданских. Иные расставались со своими домами на удивление стоически: пограничники, заранее предупредившие пожилую женщину о том, что ей придется уехать, когда вернулись поджигать дом, с удивлением увидели, что она напоследок подмела и вымыла полы. Хозяйка оставила на столе спички, лучину для растопки и записку: «Когда приносишь Финляндии дар, хочется, чтобы он выглядел как новенький»15. И все же печальное это было дело – уничтожать жилые дома и оборудование никелевого рудника в Петсамо[4] с таким трудом, ценой стольких усилий выстроенного за полярным кругом. Приграничная зона была густо заминирована, а на льду замерзших озер были установлены мины, срабатывавшие при натягивании троса: пусть лед провалится под захватчиками.
Двенадцать сталинских дивизий ударили сразу в двенадцати местах. Солдатам говорили, что финны первыми напали на Советский Союз, но многие сомневались и недоумевали. Капитан Исмаил Ахмедов слышал, как украинский крестьянин спрашивал: «Товарищ командир, объясните, зачем мы воюем? Разве товарищ Ворошилов не сказал на съезде партии, что мы не желаем ни пяди чужой земли и своей ни пяди не отдадим? А теперь мы воюем? Зачем?»16 Офицер попытался объяснить, какую опасность представляет такая близость вражеской границы к Ленинграду, но стратегические амбиции Москвы не вызывали энтузиазма у тех, кому было приказано воплощать их в жизнь, – по большей части это были поспешно набранные резервисты из местных.
Сталина это мало беспокоило. Он был уверен, что 120 000 человек, 600 танков и 1000 пушек с легкостью преодолеют линию Маннергейма, и не прислушивался к предостережениям своих генералов насчет труднопроходимого ландшафта Финляндии. Танки и другой транспорт были вынуждены передвигаться узкими колоннами между озерами, лесами и болотами. Хотя у финнов было мало артиллерии, а противотанкового оружия еще меньше, советские войска действовали настолько неумело, что финны ухитрялись рассеивать колонну огнем из винтовок и автоматов. Заснеженные пустоши восточной Финляндии вскоре густо пропитались кровью. Финны иной раз падали от нервного истощения после того, как час за часом с близкого расстояния косили русских. Красная армия лишилась 60 % танков, главным образом потому, что танки шли сами по себе, без прикрытия пехоты. Их подбивали самыми примитивными средствами, в основном бутылками, наполненными бензином и со вставленным фитилем, – бутылки бросали в машину, и бензин вспыхивал жидким пламенем. Хотя бутылки с зажигательной смесью применялись и раньше, именно в Финляндии их прозвали сперва корзиной Молотова, а затем коктейлем Молотова.
Маннергейм сухо заметил, что на европейский взгляд нападавшие проявляли непостижимый фатализм. Близкий к истерике командир советского батальона объявил подчиненным: «Товарищи, наша атака захлебнулась, но командир дивизии только что лично мне отдал приказ: через семь минут мы атакуем снова»17. Советские колонны вновь рванулись вперед и были истреблены. Некоторые финские подразделения вели широкомасштабную партизанскую войну, ударяли по русским из леса и тут же исчезали. Они старались разделить продвигавшуюся вперед часть, а затем уничтожить советские соединения поодиночке. Свою тактику они именовали «рубка леса» (motti). Среди героев этой кампании запомнился подполковник Ааро Паяри, который в разгар одного из сражений перенес инфаркт, но каким-то образом сумел остаться на ногах. Он, как и большинство его сражавшихся в тех битвах соотечественников, не был профессиональным солдатом, но одержал существенную, пусть небольшую, победу против значительно превосходящих сил противника под Толвоярви. В недели сражений под Коллаа финны использовали две французские 3,5-дюймовые пушки, отлитые в 1871 г., которым для выстрела требовался заряд дымного пороха. В северном секторе оборону поддерживал бронепоезд, стоявший там с 1918 г., – теперь он носился, отражая угрозу на всех направлениях.
Красная армия до нелепости плохо подготовилась к зимней кампании: к примеру, в 44-й дивизии рядовым раздали инструкцию по передвижению на лыжах, но не выдали лыж. В первые недели боев советские танки даже не додумались покрасить в белый цвет. Финны же высылали лыжные патрули, чаще всего ночью, и перерезали пути сообщения между советским авангардом и обозом. Во главе одного из егерских полков финнов стоял полковник Ялмар Сииласвуо. Юрист по мирной профессии, невысокий, светловолосый, крепкий, он вдохнул новую жизнь в затянувшуюся оборону деревни Суомуссалми и в итоге был назначен дивизионным командиром. Русские начали опасаться меткости финских снайперов, которых они прозвали «кукушками». Начальник штаба Девятой армии (командовал ею генерал Василий Чуйков) проанализировал допущенные советским командованием ошибки и пришел к выводу, что продвижение Красной армии было излишне привязано к проезжим дорогам: «Наши соединения, оснащенные большим количеством техники (в особенности артиллерией и средствами транспорта), оказались неспособны к маневру и успешным действиям на такой территории». Солдаты, по его словам, «боялись леса и не умели ходить на лыжах»18.
Финнов советская манера вести войну приводила в изумление и негодование. Один советский генерал вздумал проложить путь по минному полю, погнав перед собой табун лошадей: финны, нежно любящие животных, пришли в ужас от этой бойни. Правда, и кто-то из финнов, глядя на груды вражеских трупов, валяющихся в северном секторе, промолвил: «Этой зимой волки наедятся». Карл Миданс, фотограф из американского журнала Life, описывал вид заснеженного и промороженного поля боя: «Сражение почти закончилось, когда мы прошли по тропе между сугробами от дороги к реке. На ледяной корке лежали погибшие русские. Одинокие, исковерканные тела в тяжелых шинелях и бесформенных валенках. Лица пожелтели, только веки белеют на морозе. По ту сторону ледяного русла весь лес был усеян оружием, фотографиями, письмами, сосисками, хлебом, обувью. Там и сям – туши подбитых танков с разорванными гусеницами, разбитые повозки, мертвые лошади, мертвые люди грудами перегораживали дорогу и пятнали снег под высокими черными соснами»19.
Советская агрессия вызывала повсюду недоумение, в том числе и потому, что у финнов свастика была знаком удачи. Большинство сочувствовало жертвам нападения, даже в фашистской Италии проходили демонстрации в поддержку финнов. Англичане и французы рассматривали действия Сталина как еще одно проявление хищнического союза Германии и России – только что эти двое разделили Польшу. Однако на самом деле Берлин к этому был непричастен. Кое-кто в среде союзников порывался послать в Финляндию военную помощь. Французский генерал Максим Вейган обратился с таким предложением к Гамелену. Помимо всего прочего, это решило бы главную в глазах французов задачу: увести войну подальше от Франции. Он писал: «Я считаю необходимым сломить хребет Советского Союза в Финляндии и повсюду»20. Совместная англо-французская экспедиция в Финляндию напряженно обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, но слишком велики были практические препятствия. Будь Уинстон Черчилль в ту пору премьер-министром Британии, он бы, наверное, начал крестовый поход против русских, но в правительстве Чемберлена лорд Черчилль, министр военно-морского флота, отстаивавший активный курс, оставался в меньшинстве, а все остальные не решались выступить против Советского Союза, пока не завершился конфликт с Германией.
Маршал Маннергейм установил себе строгий режим дня на все время кампании: в 7:00 он просыпался в штаб-квартире в отеле Seurahuone в Миккели, примерно в 65 км за линией фронта; часом позже, безупречно одетый, выходил к завтраку, затем проезжал несколько сотен метров до своего штаба, оборудованного в здании школы. Он велел читать ему вслух список потерь – каждое имя. Финский народ очень немногочислен, и все знают всех. В первые недели войны, сознавая, как слаба его армия, Маннергейм решительно противился желанию подчиненных перейти в атаку, развить успех, но 23 декабря на Карельском перешейке финны все же бросились в наступление. Пехота неслась с криками: «Hakkaa paale!» («Руби сверху!»), – но, без поддержки артиллерии и авиации, принуждена была отступить с большими потерями.
Финское правительство не питало иллюзий, будто сможет нанести решительное поражение СССР, но надеялось, что Сталин сам отступится, если понесет слишком большие потери. Увы, подобная стратегия не могла сработать в борьбе против врага, не считавшегося с человеческими жертвами. Унизительные декабрьские неудачи побудили Сталина лишь сменить часть военного руководства, одного дивизионного командира расстреляли, другого отправили в ГУЛАГ, а на Финский фронт прислали большое подкрепление. Начали строить ледовые дороги, способные выдержать вес танков: на утоптанный снег выкладывали бревна, затем поливали их водой и давали замерзнуть. Финны вступили в войну с запасом артиллерийских снарядов на три недели, а топлива и пуль – на два месяца. К концу января эти ресурсы были практически исчерпаны.
Мир, затаив дыхание, следил за первоначальными успехами финнов. Маннергейм сделался героем Европы, французский премьер-министр сулил финнам к концу февраля 100 самолетов и 50 000 солдат, но пальцем не пошевелил, чтобы исполнить свое обещание. Писатель Артур Кестлер, в эмиграции, в Париже, презрительно отзывался по поводу французского ликования из-за финских побед: «Так любитель подглядывать удовлетворяет свою страсть, наблюдая за другими людьми». В Британии еженедельный орган левых Tribune поначалу нерешительно поддерживал Москву, но затем резко сменил позиции и встал на сторону финнов.
В глазах Черчилля действия Советского Союза ничем не отличались от нацистской агрессии. Первый лорд Адмиралтейства радовался каждой неудаче Сталина и 20 января заявил по радио: «Финляндия, не сдающаяся, более того, торжествующая в самых челюстях чудовища, показала нам, на что способен свободный человек. Эта страна оказала величайшую услугу человечеству. Перед всем миром Финляндия обнажила слабость Красной армии и ее военно-воздушного флота. Множество иллюзий относительно Советской России рассеялись в эти краткие жестокие недели боев за Полярным кругом. Всем стало очевидно, как развращает коммунизм душу нации, так что в мирное время она голодна и беспокойна, а в военное – низменна и жестока».
Эта риторика ободряла и финнов. Член парламента от консерваторов Гарольд Макмиллан рассказывал, как во время его визита в Хельсинки кондуктор сказала ему: «Женщины Финляндии будут сражаться до конца, ведь они знают, что вы придете на помощь»21. Принять участие в сражениях изъявили желание 8000 шведов, 800 норвежцев и датчан, немногочисленные гражданские американцы и англичане. Скольким-то удалось добраться до зоны боевых действий, но особого проку от них не было. Британии не хватало оружия для собственной армии, она мало что могла уделить народу, который сражался пусть и храбро, но не с тем врагом, против кого сражалась в тот момент сама Британия. Отправили 30 бипланов Gloster Gladiator, из которых 18 были подбиты в первые же десять дней. Финнов заставили уплатить за этот «подарок» – со временем точно такую же политику нейтралитета по отношению к Британии изберет и Америка.
Сочувствие к финнам было в Британии искренним и сильным, однако не предпринималось никаких попыток перевести это чувство в практическую плоскость, разве что подготавливали экспедицию в Нарвик, нейтральный порт в незамерзающих водах Норвегии. Союзников привлекала идея высадиться под видом помощи финнам в Норвегии и перерезать на зиму путь между Германией и шведскими железными рудниками – все тот же цинизм, которым была окрашена и политика союзников во время польской катастрофы. В начале 1940 г. Лондон и Париж все еще уговаривали финнов сражаться – ведь сдайся они, и исчезнет удобный предлог для экспедиции в Норвегию. На сумасбродную затею французов снарядить Экспедиционный корпус в Петсамо на северном побережье британцы наложили вето: они все же не хотели напрямую сталкиваться с русскими.
В середине января началась вторая волна вторжения в Финляндию. В одном месте 4000 советских солдат атаковали 32 финнов – русские потеряли 400 человек, а из оборонявшихся уцелело только четверо. 1 февраля захватчики провели массированный артобстрел линии Маннергейма, а затем двинулись многократно превосходящие финнов массы пехоты и бронемашин. Финская артиллерия, и без того насчитывавшая немного орудий, успела к тому времени почти полностью расстрелять все снаряды, и все же на протяжении двух недель финны удерживали свои позиции. Офицер Вольф Халсти 15 февраля писал: «Вскоре после полудня у нашей палатки появился прапорщик-резервист, с виду сущий ребенок, и попросил еды для себя и своих людей. Он командовал подразделением, в котором едва ли кто уже брился. Мальчишки замерзли, изголодались, были напуганы… Они шли на подмогу к отряду, удерживавшему заставу перед Ляде». На следующий день Халсти добавил к этой записи: «Тот же прапорщик-резервист вернулся, одежда в крови, и попросил еще еды. Он лишился обеих своих пушек и половины солдат – русские прорвались»22. Не меньшие страдания выпали и на долю русских, особенно тех, кто попадал в окружение. Советский солдат 2 февраля писал: «Сегодня утром холоднее прежнего, почти минус 35. Из-за холода я не смог уснуть. Наша артиллерия грохотала всю ночь. Проснувшись, я вышел облегчиться, но в этот момент финны открыли огонь, и одна пуля врезалась в землю промеж моих ног. Я не испражнялся с 25 января»23.
Но финны не могли долго продержаться в одиночку. Правительство в Хельсинки в последний раз тщетно обратилось за помощью к шведам. Англичане и французы снаряжали символическую подмогу, но эти отряды только грузились на корабли и еще не отплыли, когда 12 марта финская делегация подписала в Москве соглашение о перемирии. За несколько минут до вступления перемирия в силу Красная армия в последний раз провела массированный обстрел позиций своего побежденного противника. Финский офицер писал родным: «Одно могу сказать: мы не бежали. Мы готовы были сражаться до последнего человека. Мы вправе высоко держать голову, потому что три с половиной месяца подряд мы бились изо всех сил»24.
Карл Миданс по пути в Швецию оказался в одном поезде с тремя финскими офицерами. Один из них обратился к американцу с такими словами: «По крайней мере вы можете им сказать, что мы храбро сражались». Миданс пробормотал, что обязательно это сделает. Но полковник не совладал с собой: «Ваша страна обещала помочь! Вы обещали, и мы вам поверили». Он схватил Миданса и тряс его, вопя: «Полдюжины истребителей Brewster без запчастей! А из Англии нам прислали пушки, оставшиеся от последней войны, – они вовсе не стреляют!» И финн разрыдался25.
Условия мира, которые Сталин навязал побежденным, многих удивили своей умеренностью. Территориальные требования увеличились: он забирал себе 10 % территории Финляндии, но не пытался оккупировать страну, хотя, вероятно, мог бы. По-видимому, Сталин не хотел навлекать на себя гнев европейских держав в тот момент, когда на карту были поставлены куда более крупные приобретения. К тому же, потеряв убитыми 127 000 солдат (а может быть, и до четверти миллиона), в то время как потери финнов исчислялись всего 48 243 убитыми (и 420 000 лишились своих домов), Сталин утратил прежнюю самоуверенность. Пленников, возвращенных ему финнами, он отправил в ГУЛАГ – пусть искупают предательство: ведь сдача в плен приравнивалась к государственной измене.
В противостоянии между Германией и союзниками Финская кампания не играла никакой роли, но она существенно повлияла на стратегию обеих сторон: они пришли к выводу, что Советский Союз – «бумажный тигр», войско Сталина слабо, командиры – ничтожества. После перемирия Финляндия, так и не дождавшаяся реальной помощи от Британии и Франции, обратилась к Гитлеру, и тот с радостью взялся перевооружить финские войска. Русские также усвоили печальный урок Финской войны и принялись оснащать свою армию зимней одеждой, камуфляжем для перемещения по снегу и смазкой для низких температур. В будущей войне все это сыграет немалую роль. Но мир пока что видел одно: один из самых маленьких европейских народов сумел уронить престиж Советского Союза.
Пока Финляндия билась за свое существование, всю зиму с 1939 на 1940 г. солдаты союзников мерзли в заснеженных окопах и бункерах на границе Германии. Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, выжимал, как мог, патриотическую пропаганду из столкновений Королевского флота с немецкими подводными лодками и кораблями-рейдерами. 13 декабря произошел сенсационный эпизод: три британских крейсера столкнулись неподалеку от берегов Уругвая с намного лучше вооруженным карманным линкором немцев Graf Spee. В сражении британцы понесли большие потери, но и немецкому линкору был нанесен значительный ущерб, так что ему пришлось впопыхах искать убежища в Монтевидео. 17 декабря Graf Spee затопили, не решившись снова вступить в бой, а капитан судна совершил самоубийство; у англичан появилась долгожданная возможность похвастаться победой. Англичане старались приобрести друзей в Соединенных Штатах или хотя бы вести войну так, чтобы не раздражать американцев, и когда Черчилль узнал, что американцы недовольны распоряжением обыскивать их корабли на предмет контрабанды, он 29 января 1940 г. отдал приказ в дальнейшем не останавливать американские корабли в военной зоне Англии. Это распоряжение хранилось в тайне, чтобы не обижать другие нейтральные государства, чьи суда продолжали подвергаться досмотру.
Тем временем разногласия между правительствами союзников продолжались: французы руководствовались исключительно желанием избежать прямого военного столкновения с Гитлером и отказались даже бомбить промышленную область Саар, которая находилась в пределах досягаемости и заводы которой имели существенное стратегическое значение. Правительство Даладье стремилось увести войну как можно дальше от территории Франции, оно одобряло, к примеру, затею усилить блокаду Германии, перекрыв ей поставки железа из Швеции. Для достижения этой цели пришлось бы нарушить нейтралитет Швеции: либо минировать прибрежный рейд и тем самым вынудить немецкие корабли оставаться в открытом море, либо высадить на берег десант, подкрепленный с воздуха, или можно было принять одновременно и те и другие меры. Премьер-министр Британии Невилл Чемберлен и министр иностранных дел лорд Галифакс подобную политику отнюдь не приветствовали, хотя Черчилль и выступал за решительные действия. На обдумывание и подготовку норвежской экспедиции ушло много времени, но дата высадки многократно переносилась.
Сэр Эдмунд Айронсайд, командующий Британской армией, писал: «Французы выдвигают самые экстравагантные идеи и во всем проявляют полную беззастенчивость». Гамелен позднее говорил: «Общественное мнение не знало, чего хотело, но заведомо хотело чего-то другого, а главное – чтобы что-то делалось». Офицер французского флота Жак Мордаль, ставший впоследствии историком, с презрением писал: «Главное было делать хоть что-нибудь, пусть даже глупость»26. Очередным яблоком раздора стал британский план заминировать Рейн: Париж опасался ответных действий Германии.
Народам стран-союзников об этих спорах почти ничего не было известно. Они видели лишь, как их войска бездействуют в снегах на границе, роют окопы и оттуда следят за немцами в таких же окопах. Ощущение бессмыслицы происходящего охватывало все слои населения – от национального руководства до простых граждан от мала до велика. «Все вокруг выходят замуж, заключают помолвку или рожают детей, – записывала 7 апреля машинистка из Ливерпуля Дорис Меллинг. – Чувствую, что я отстаю от хода событий». Но ей не понравилось шутливое замечание журналиста лорда Кастлросса в Sunday Express: мол, если какая-то девушка до конца войны так и не найдет себе мужа, значит, плохо старалась. «Почти все мои подруги замужем живут довольно скверно. Собственного дома нет, приходится по-прежнему работать и т. д.»27.
Мэгги Джой Блант, тридцатилетняя писательница, сторонница левых, жила в Слоу, к западу от Лондона. 16 декабря 1939 г. она писала, что самое странное в нынешней войне то, как мало она отразилась на жизни большинства людей:
«Нам приходится терпеть определенные неудобства – затемнение, рационирование бензина, изменения в расписании автобусов и поездов, сокращение театральной программы, подорожание продуктов, недостаток некоторых товаров, в частности электрических батареек, сахара и масла. Многим людям приходится выполнять работу, какую они никогда прежде не делали и не собирались делать. Но в целом наш образ жизни, система занятости и образования, наши представления и планы на будущее не претерпели изменений. Мы словно решили разыграть еще одну партию в теннис, пока не разразилась уже нависшая буря. Наш местный член парламента… признается, что ему не нравится эта “полусонная” война. Разбрасывать [антинемецкие] листовки – все равно что разбрасывать конфетти. Вы уж меня извините, но, прежде чем станет возможным заключить мир, немцев нужно основательно проучить»28.
Мэгги и ее соотечественники не догадывались, что зимой 1939 г. нацистам тоже приходилось несладко. Накануне войны Германии грозило банкротство: Гитлер потратил все средства страны на оружие. На все остальное денег оставалось так мало, что разваливалась система железных дорог, катастрофически не хватало подвижного состава; две крупные железнодорожные аварии, унесшие 230 жизней, вызвали общественное негодование. Нацисты не только не сумели наладить движение поездов по расписанию – срывались поставки угля для паровозов, гестапо докладывало, что растет недовольство качеством обслуживания пассажиров. Союзническая блокада вызвала коллапс немецкого экспорта и острую нехватку сырья. Гитлер собирался развернуть контратаку на Западном фронте 12 ноября и пришел в ярость, когда вермахт потребовал отложить операцию до весны. Генералы считали невозможным проводить широкомасштабные боевые действия в такую погоду, а также жаловались на недостаточное снабжение частей в Польше: там не хватало транспорта и всех видов оружия. В результате всеобщей мобилизации число рабочих в промышленности (24,5 млн на май 1939 г.) сократилось на 4 млн. Тяжелая промышленность шаталась и колебалась, многие виды продукции пришлось сократить из-за недостатка стали.
И тогда было принято решение, на годы вперед определившее состояние немецкой армии: сосредоточиться на производстве боеприпасов и легких бомбардировщиков Ju88. Люфтваффе объявил «юнкерсы» оружием победы, и этот самолет действительно сослужил хорошую службу, однако на следующих этапах войны отсутствие самолетов нового поколения обернулось серьезной проблемой для ВВС. Германский флот оставался слабым. Говоря словами адмирала Редера, суда «отнюдь не были оснащены для больших сражений и могли лишь показать, как они умеют тонуть с достоинством». Численность же немецкой армии к зиме 1939 г. незначительно превышала силы союзников. Поразительно, что в столь сложной ситуации Гитлер сумел удержать психологическое превосходство. Существенное его преимущество заключалось в том, что союзники взяли на себя обязательство бороться против нацизма и одолеть его, но не были готовы к необходимому для достижения этой цели кровопролитию, к человеческим жертвам. Фюрер же был свободен действовать как ему заблагорассудится.
В последние недели перед немецкой контратакой на Западном фронте отношения между союзниками окончательно испортились: они винили друг друга в неуспехе первого этапа войны. Общественное мнение обрушилось на премьер-министра Даладье; тот 20 марта обратился к парламенту за вотумом доверия. Только один депутат проголосовал против действующего премьера, 239 высказались в его пользу, но 300 депутатов воздержались, и Даладье подал в отставку с поста премьер-министра, сохранив, однако, за собой портфель военного министра. Премьером стал Поль Рейно. Новый руководитель Франции, шестидесятидвухлетний консерватор, был знаменит большим умом и малым ростом – не дотягивал до метра шестидесяти. Он рвался в бой и тут же предложил помимо высадки в Норвегии еще и подвергнуть бомбардировке советские нефтяные скважины в Баку. Гамелен мрачно возразил: «После Даладье, который ни на что не мог решиться, мы получили Рейно, который выдает по решению каждые пять минут»29. Поначалу новый премьер-министр поддержал затею Черчилля минировать Рейн, но члены Кабинета, по-прежнему страшившиеся германской мести, решительно этому плану воспротивились. Тогда англичане сказали: раз французы не поддержали их план минировать Рейн, они не примут участия в высадке в Нарвике.
В первые дни апреля, как только на европейском континенте стаял снег, армии словно очнулись от спячки и огляделись, соображая, что принесет им новый военный сезон. Черчилль наконец убедил своих коллег в правительстве принять участие в минировании прибрежных вод Норвегии. С этой целью снарядили четыре миноносца, а в британские порты прибыл немногочисленный десант, готовый отплыть в Норвегию, если немцы попытаются воспрепятствовать там действиям англичан. Лондон упустил из виду тот факт, что немецкий флот давно уже находится в боевой готовности. Гитлер опасался вторжения британцев в Норвегию, потому что в итоге Германия оказалась бы отрезана от источника железной руды. Волнение фюрера достигло пика 14 февраля 1940 г., когда миноносцы Королевского флота загнали Altmark, вспомогательное судно при линкоре Graf Spee, в норвежский фьорд, чтобы освободить захваченных им в плен 299 британских моряков торгового флота. Чтобы перехватить инициативу и не позволить англичанам закрепиться в Норвегии, Гитлер 2 апреля сам отдал приказ, и вторжение с моря началось. Англичане со своих кораблей и самолетов видели, как тронулся в путь немецкий флот, но командование было так озабочено предстоявшей операцией минирования, что даже не сообразило: это перемещение предвещает не реакцию на их действия, а широкомасштабную операцию немцев. Адмиралтейство вообразило, будто адмирал Редер ведет свой флот в Атлантический океан, чтобы блокировать английские морские пути, а потому большую часть британских боевых судов поспешно отправили на перехват, далеко от берегов Норвегии. К утру 8 апреля англичане успели заложить мины в прибрежных водах Норвегии, но несколько часов спустя немцы атаковали и с воздуха, и с моря, высадили десант и захватили всю страну. Это был конец «Странной» войны.
3. Блицкриги на западе
1. Норвегия
Небольшие европейские государства предпочли бы не ввязываться в войну. Почти все они противились союзу с Гитлером, поскольку такой альянс предполагал немецкую гегемонию, но даже те, кто разделял демократические идеалы союзников, не спешили присоединиться к ним и начать боевые действия. Исторический опыт убеждал: таким шагом они навлекут на себя все ужасы войны без надежды хоть что-то приобрести. Судьба Польши и Финляндии только что подтвердила: союзники не в силах вырвать у диктаторов намеченную жертву. В Первой мировой войне Голландии и скандинавам удалось сохранить нейтралитет. Почему бы и на этот раз не попробовать? Зимой 1939/40 г. все главным образом старались не раздражать Гитлера. Норвежцев покушение англичан на их береговую линию беспокоило больше, чем планы Германии. Но 9 апреля в 01:30 адъютант разбудил короля Норвегии Хокона: «Государь, война началась!» Монарх спросонья поинтересовался: «С кем?»
Вопреки многократным предупреждениям насчет агрессивных планов Германии, Норвегия так и не привела в боевую готовность свою крошечную армию. В столице сразу же ввели затемнение, но на известие о приближении германского боевого флота к фьорду Осло старый генерал Кристиан Локке, норвежский главнокомандующий, реагировал вяло: распорядился разослать резервистам по почте уведомление, призывающее их явиться лишь 11 апреля. Члены его штаба пытались возражать, но Локке в упор не желал видеть реальность. «Немножко поразмять кости – это нам пойдет на пользу», – снисходительно обронил он.
Немецкие боевые корабли вошли в норвежские порты, и началась высадка десанта. Норвежцы, а также англичане и французы тешили себя надеждой, что Гитлер не посмеет захватить Норвегию под носом у Британского королевского флота. Отсутствие разведданных и неудачное расположение войск помешали Адмиралтейству воспользоваться шансом и задать немцам трепку в момент их высадки, 9 апреля. Позднее захватчики понесли серьезные потери на море, но и британскому флоту немецкий ВВС и военно-морской флот нанесли существенный ущерб. Кратчайшее расстояние от берегов Британии до берегов Норвегии – 650 км – непреодолимо для самолетов, базирующихся на суше. Вскоре стало до боли ясно, насколько суда уязвимы для атаки с воздуха.
Наиболее драматические события в первое утро вторжения разворачивались во фьорде Осло примерно в 04:00. Новехонький крейсер Blücher, с тысячью германских солдат на борту, приближался к Оскарборгу. Защитники древней крепости тщательно зарядили две пушки XIX в. – «Моисея» и «Аарона». Комендант, полковник Биргер Эриксен, зная, что радиус поражения у этих орудий невелик, распорядился выжидать до последнего. Лишь когда крейсер от берега отделяло всего 500 м, старинные пушки изрыгнули огонь. Одно ядро угодило в контрольный противовоздушный центр крейсера, а другое – точнехонько в запасные баки с авиационным топливом, и к небу взметнулся огненный столп. Еще две пробоины в судне произвели запущенные с берега торпеды. Охваченный огнем Blücher сильно накренился, на борту начали взрываться боеприпасы. Корабль быстро затонул, унеся с собой тысячу немецких солдат.
А затем в норвежской столице разыгралась комедия черного юмора. Вторжением командовал генерал Эрих Энгельбрехт, он был пассажиром на борту затонувшего Blücher. Норвежцы выловили генерала из воды и объявили его военнопленным. Захватчики на время оказались обезглавлены. Однако генерал Локке бежал из столицы вместе со своим штабом – сперва на трамвае, потом безуспешно ловил попутку и наконец сел в поезд. Правительство подало в отставку, но король ее не принял. Парламент (стортинг) собрался на экстренную сессию, главным образом спорили о том, имеет ли смысл сдаваться. Министры предлагали разрушить мосты и таким образом замедлить продвижение врага, но депутаты заспорили: среди этих мостов значились ценные памятники архитектуры. Британский посол передал из Лондона обещание помочь, но без конкретных обязательств и дат. Немецкие десантники тем временем захватили аэропорт Осло, вскоре и бόльшая часть портов на юго-западе Норвегии оказалась в их руках. Первые части шести дивизий высадились и развернулись в тот самый момент, когда правительство Норвегии улепетывало на север.
Среди тех, кто с изумлением и ужасом наблюдал за вторжением, находилась девятнадцатилетняя еврейка, недавно бежавшая из Австрии, – Рут Майер. 10 апреля в пригороде Осло Лиллестрёме она описывала в своем дневнике сцену, которой предстоит сделаться рутинной трагедией для многих европейских стран: «Я воспринимаю немцев скорее как зловещую стихию, нежели людей. Мы видели, как люди потоком струятся из подвалов, собираются на улицах с колясками, шерстяными одеялами, с детьми на руках. Они садятся на грузовики, в конные тележки, в такси и частные автомобили. Словно кино разворачивается перед моими глазами: бегут финны, поляки, албанцы, китайские эмигранты! Так просто и так печально: люди эвакуируются, унося с собой шерстяные одеяла, серебряные ложки и детей. Бегут от бомб»1.
Норвежцы не склонились перед завоевателями и оставались неумолимо к ним враждебны. Они были вынуждены признать поражение, однако выслушивать резоны не собирались. Рут Майер слышала, как трое немецких солдат объясняли кучке жителей Осло, что поляки перебили 60 000 мирных немцев и рейх вынужден был вмешаться ради спасения своих братьев по крови. Рут рассмеялась:
«[он] обернулся ко мне и сказал: “Фройляйн, вам смешно?” – “Да, мне смешно”. – “А наш фюрер!” – Его глаза увлажнились: – Он тоже человек, как все мы, но лучший, лучший во всей Европе!” Небесно-голубые глаза другого солдата тоже увлажнились, он кивал, поддакивая этим словам: “Лучший! Лучший!” Еще кто-то подтянулся послушать. Норвежец спросил: “И мы должны поверить, что вы явились сюда спасать нас? Так тут написано!” – он ткнул пальцем в газету. – “Спасать вас? Нет, мы не за этим”. Но блондин перебил: “Да, конечно же, для того мы сюда и пришли”. Темноволосый призадумался и сказал: “Собственно, если по правде… мы защищаем вас от англичан”. Норвежец: “Вы сами-то в это верите?”»2
Вера большинства немцев в справедливость и разумность их миссии подкреплялась стремительным успехом. Завоеватели подступались уже и к южной Норвегии, перерезали ее связи с другими странами, захватив лежавший на пути полуостров Дания – там они почти не встретили сопротивления. Стортинг собрался вновь, на этот раз в маленьком городке Эльверум в 65 км от Осло. Пока они обсуждали положение, пришло срочное известие: немцы создали в Осло марионеточный режим во главе с предателем. «Теперь у нас есть правительство Куусинена!» – возмущенно вскричал премьер-министр, подразумевая финского коммуниста Отто Куусинена, способствовавшего сталинскому вторжению в Финляндию. Однако норвежский «Куусинен» Видкун Квислинг окажется куда более опасным – настолько, что его имя сделается нарицательным.
Четыре автобуса с немецкими десантниками, спешившими в Эльверум, попали под огонь из засады, устроенной членами местного клуба стрелков. Норвежцы обратили солдат в беспорядочное бегство и смертельно ранили немецкого авиационного атташе капитана Эберхарда Шпиллера, которому было поручено арестовать вождей нации. Королевская семья вместе с министрами перекочевала в деревушку Нибергсунн. Король Хокон VII, высокий и тощий датчанин, которому к началу войны исполнилось 67 лет, был избран королем, когда норвежцы в 1905 г. добились независимости от Швеции. В 1940 г. этот монарх сумел сохранить и мужество, и достоинство. Вечером 10 апреля, когда правительство собралось на совет посреди глубоких снегов Нибергсунна, король высоким, дребезжащим голосом заявил: «Я готов полностью принять на себя личную ответственность за все несчастья, которые падут на нашу страну и наш народ, если мы отвергнем притязания немцев. Правительство решает самостоятельно, однако я должен прояснить собственную позицию: я принять их условия не могу. Это несовместимо с моим представлением о долге монарха». Король предпочитал отречься от престола, нежели согласиться с требованием Берлина и признать Квислинга. На миг старый король умолк, из глаз его покатились слезы. Совладав с собой, он продолжал: «Пусть правительство принимает решение, не оглядываясь на мое мнение. Но я счел своим долгом ясно дать понять, на чем стою»3.
Норвежцы решили сражаться, выиграть время, пока подтянутся союзные силы. На следующий день, 11 апреля, король Хокон и его сын принц Улаф продолжали совещание с министрами. Налетели немецкие самолеты, принялись бомбить Нибергсунн в расчете таким образом покончить с национальным руководством норвежцев. Большинство политиков укрылось в свинарнике, король с адъютантами успел добежать до ближайшего леса. Жертв не было, и хотя пулеметный огонь многочисленных Heinkel повергал норвежцев в ужас, от принятого решения они не отступились. Хокона более всего потрясло, что немцы стреляли по мирным жителям. «Я не мог вынести этого зрелища: дети, скорчившиеся на снегу, пули бьют в деревья, и ветви градом сыплются на детей», – сказал король и пообещал, что впредь никогда не будет укрываться в таком месте, где его присутствие поставит под угрозу его беззащитных подданных. Обсудили предложение премьер-министра просить убежища в Швеции, но и этот вариант Хокон решительно отверг, и в итоге политические лидеры страны перебрались в Лиллехаммер с намерением возглавить сопротивление оттуда. Никчемного старика Локке сменил в должности главнокомандующего отважный и энергичный генерал Отто Руге. Некий британский офицер сделал этому норвежцу величайший британский комплимент, сравнив его с распорядителем лисьей охоты. Запоздалая мобилизация происходила беспорядочно, поскольку на юге склады оружия и боеприпасов оказались в руках немцев, но почти все 40 000 человек, откликнувшихся на призыв, проявили себя как искренние патриоты. Фрэнк Фоли, британский резидент в Осло, телеграфировал своему начальству: «Материальное состояние армии внушает жалость, но люди прекрасны»4. В следующие недели норвежцы оказали героическое сопротивление захватчикам. Больших городов в этой стране было немного, население в основном распределялось по деревням на берегах глубоких фьордов, эти общины соединялись узкими дорогами, вившимися среди отрогов гор. И немцы, и британские и французские офицеры, которым внезапно пришлось сражаться в Норвегии, собирали данные о местности, заказывая соответственно из Берлина, Лондона или Парижа путеводители Baedeker.
Набранный с бору по сосенке англо-французский десант представлял собой какую-то пародию на реальную помощь. Практически все боеспособные части британской армии находились на территории Франции, на другой берег Северного моря Англия сумела послать лишь двенадцать толком не обученных батальонов Территориальной армии. Отправляли их сумбурно, задачу то и дело формулировали заново. У офицеров не было карт, транспорта, радиосвязи друг с другом, не говоря уж о связи с Лондоном. При высадке их не прикрывали ни огнем из тяжелых оружий, ни с воздуха, провиант и боеприпасы были навалены кучами на транспортные суда, и найти там что-либо не представлялось возможным. Солдаты были дезориентированы. Джордж Парсонс с товарищами высадился у Мушёэна: «Вообразите, что мы почувствовали, увидев перед собой гору высотой 700 м, увенчанную ледяной шапкой. Мы, парни из южного Лондона, и гор-то прежде не видели, большинство из нас даже у моря не бывали»5.
Даже если в каких-то точках на берегу немцы оказывались в меньшинстве, они превосходили союзников энергией и тактикой. Норвежский офицер полковник Давид Туэ докладывал начальству, что одно из прибывших британских отделений состояло из «совсем юных парней, по-видимому, выросших в трущобах Лондона. Они чересчур интересуются женщинами Ромсдаля и попросту грабят дома и магазины. Заслышав звук самолетного мотора, они разбегаются как зайцы»6. Британское министерство иностранных дел на последнем этапе кампании сообщало: «Пьяные британские солдаты поспорили с норвежскими рыбаками и обстреляли их. Многие британские офицеры ведут себя с заносчивостью пруссаков, а моряки настолько осторожны и подозрительны, что в каждом норвежце видят предателя и не доверяют жизненно важной информации, если она исходит от местных жителей»7.
Хаотичность в принятии союзниками решений уступала разве что цинизму в обращении с несчастными норвежцами. Британское правительство сулило сражающимся всяческую помощь, прекрасно зная, что выполнить эти обещания не сможет. Военное министерство интересовалось только Нарвиком и возможностью захватить и удержать регион вокруг этого порта, чтобы перерезать маршрут зимних поставок железа из Швеции в Германию. Во фьорде у Нарвика происходили ожесточенные морские сражения, обе стороны несли существенные потери. Небольшой английский десант закрепился на острове поблизости от берега, и командующий этим подразделением упорно противился требованиям адмирала – лорда Корка-и-Оррери, язвительного джентльмена с моноклем – продвигаться к порту. Корк решил воодушевить воинов личным примером и сам двинулся во главе их к берегу, но коротышке пришлось отказаться и от своих амбиций, и от плана захватить порт с моря, ибо он тут же по грудь провалился в сугроб.
В Лондоне стратегические споры быстро перерастали в крик и скандал. Громче всех кричал Черчилль, но его завлекательные и экстравагантные планы были невыполнимы из-за отсутствия ресурсов. Министры спорили друг с другом, спорили с французами, спорили с ближайшими советниками. Между генералами отсутствовали связь и координация. За полмесяца было принято и тут же отброшено шесть разных оперативных планов. Нехотя британцы признали, что хоть какая-то демонстрация поддержки норвежцев, которые сражались уже в сердце своей страны, с политической точки зрения необходима, хотя с военной точки зрения бессмысленна. Все так же хаотично попытались высадиться у Намсуса и Ондалснеса; тут же налетели немецкие бомбардировщики, уничтожавшие склады провианта быстрее, чем союзники их строили, а заодно испепелившие старинные деревянные города. В Намсусе британские склады грабили вдобавок и французы; на дорогах происходили аварии, поскольку британцы и тут ездили по «своей» стороне дороги. 17 апреля генерал-майор Фредерик Хотблэк, выслушав в Лондоне инструкцию начать атаку на Тронхейм, внезапно упал в обморок: у него диагностировали инсульт.
Командующий британской 148-й бригадой, проигнорировав инструкции из Лондона, повел своих людей на соединение с норвежской армией и потерял большую их часть при столкновении с немцами – триста уцелевших спаслись с поля боя на автобусах. Штабной офицер, отправленный из Норвегии в военное министерство за инструкциями, вернулся к генерал-майору Адриану Картону де Виарту со словами: «Делайте, что сочтете нужным, они там сами не знают, чего хотят». Один раз британцам удалось сразиться с честью – под Кваном, 24–25 апреля, – а потом они вынуждены были отступить.
Затем министры и их советники распорядились из Лондона приступить к эвакуации Намсуса и Ондалснеса. Невилл Чемберлен с присущим ему эгоцентризмом опасался главным образом того, что в неудаче станут винить именно его. Ведь поначалу пресса с подачи правительства обманывала британский народ надеждой на благополучный исход кампании; BBC несла чушь о стальном кольце, которым союзники окружат-де Осло, а теперь премьер-министр обсуждал с коллегами, не признаться ли парламенту в том, что Британия и не собиралась проводить долгосрочные операции в центральной Норвегии. Французов, прибывших 27 апреля в Лондон на заседание союзного военного совета, предложение уйти из Норвегии ошарашило, они громко роптали. Но во Францию Рейно возвратился с уверенностью, что сумел ободрить Чемберлена и его коллег: «Мы указали им, как нужно действовать, и укрепили их волю». Пустые фантазии: два часа спустя британцы получили приказ об эвакуации. Памела Стрит, дочь фермера из Уилшира, печально отмечала в дневнике: «Война – словно огромная тяжесть, и с каждым днем этот груз давит все сильнее»8.
Норвежская кампания усилила взаимное недоверие, враждебность между британским и французским правительствами, и даже после падения Чемберлена преодолеть этот настрой не удалось. 27 апреля Рейно жаловался коллеге на бездействие британских министров, «стариков, разучившихся рисковать». Даладье 4 мая обратился к французскому кабинету министров со словами: «Надо спросить англичан, что они собираются делать: они настаивали на этой войне, и они же выходят из дела, как только требуется принять меры, которые могут непосредственно затронуть их самих». В довершение позора британским командирам на местах запретили предупреждать норвежцев об эвакуации. Генерал Бернард Пэджет проигнорировал этот приказ и спровоцировал напряженную сцену с главнокомандующим норвежцев Отто Руге. Тот возмущенно спрашивал: «Так значит, Норвегия разделит судьбу Чехословакии и Польши? Но почему? Почему? Вас же не разбили?» Однако этот взрыв длился недолго, Руге взял себя в руки, и привычное спокойствие и достоинство вернулись к нему. Некоторые историки находили изъяны в организованной им обороне центральной Норвегии, но трудно вообразить, какие действия его крошечной армии могли бы изменить исход войны. Когда король Хокон принял решение удалиться вместе с правительством в изгнание в Британию, Руге не пожелал оставить своих подчиненных и разделил с ними плен.
Командовавший британскими силами под Намсусом генерал-майор Картон де Виарт выполнил приказ об эвакуации, не предупредив стоявшего с ним бок о бок норвежского командира, и тот к полному своему изумлению вдруг обнаружил, что с фланга его никто не прикрывает. С трудом добравшись до порта, отряженный Руге офицер обнаружил лишь небольшое количество оставленных британцами припасов, разбитые машины и бойкую прощальную записку Картона де Виарта. Генерал Клод Окинлек, к которому перешло командование союзными силами под Нарвиком, вскоре писал в Лондон начальнику генштаба Айронсайду: «Самое худшее во всем этом – необходимость лгать всем подряд, лишь бы сохранить секретность. Особенно тяжела ситуация с норвежцами, чувствуешь себя последним подлецом, прикидываясь, будто собираешься сражаться за них, в то время как мы вот-вот уйдем»9. Здесь, на северной окраине страны, против 4000 немцев, удерживавших Нарвик, сконцентрировалось 26 000 союзников. Поразительно, но, даже после того как немцы начали вторжение во Францию, союзники продолжали борьбу под Нарвиком – вплоть до конца мая – и 27-го захватили порт, сломив упорное и умелое сопротивление немцев.
Уже под Нарвиком проявилось характерное для всей мировой войны смешение народов, неопределенность, кто кому и чему хранит верность. Среди осаждавших порт были испанские республиканцы, которые после бегства из родной страны вступили во французский Иностранный легион. «Офицеры, неохотно принимавшие их в ряды легионеров (всех республиканцев считали коммунистами), были изумлены их отвагой, – писал капитан Пьер Лапи. – Молодого испанца, бросившегося на германский пулемет у Элвегарда, скосило огнем с расстояния в несколько метров. Другой тут же выскочил вперед и прикладом винтовки разбил пулеметчику голову»10. Полевой журнал полка сохранил запись о том, как легионеры штурмовали отвесный склон под Нарвиком, когда на них обрушилась контратака противника: «Капитан де Гитто был убит, лейтенант Гару тяжело ранен. Под руководством лейтенанта Вадо отделение сумело отразить контратаку, и немцы бежали, бросив убитых и раненых. Первым в город вошел сержант Шабо».
И все это – понапрасну: едва захватив город и схоронив убитых, союзники вернулись на корабли, понимая, что удержать свои позиции не смогут. Норвежцам остались сотни разбомбленных домов, погибшие мирные жители. Их король и члены правительства отбыли 7 июня в Англию на борту английского корабля. Некоторые норвежцы тоже пустились в путь, бежали от немецких оккупантов в надежде продолжить борьбу в рядах союзников. Кое-кому советский посол в Стокгольме – замечательная женщина-интеллектуал Александра Коллонтай – помогла переправиться на восток, и после почти кругосветного путешествия они добрались до Англии.
Эвакуация из центральной Норвегии под сильным обстрелом с воздуха поразила и даже шокировала британское общество. Студент Кристофер Томлин 3 мая писал: «Я изумлен, разочарован, напуган нашим бегством. Мистер Чемберлен уверял нас, что мы выгоним немцев из Скандинавии. Теперь же руки опускаются: я устрашен и жду следующих дурных новостей. Неужели у нас не найдется побольше людей черчиллева чекана?»11 На самом деле первый лорд Адмиралтейства тоже нес немалую ответственность за поспешную и неудачную высадку в Норвегии. Вооруженные силы Британии не имели достаточных ресурсов для эффективного вмешательства в войну; своей суетой они лишь оскорбляли трагедию норвежского народа. Но риторика Черчилля, его неукротимая воинственность в противовес явной растерянности и слабости премьер-министра, возбуждала в народе желание сменить правительство, и это желание вполне разделял парламент. 10 мая Чемберлен ушел в отставку, а на следующий день король Георг VI поручил формирование нового правительства Черчиллю.
Наибольшие потери в Норвежской кампании понесли немцы: 5296 человек против 4500 у британцев, причем больше всего людей британцы потеряли, когда крейсер Scharnhorst 8 июня затопил авианосец Glorious вместе с конвоем. Французы вместе с формированиями из польских изгнанников потеряли 530 человек убитыми, норвежцы – примерно 1800. Немецкий люфтваффе лишился 242 самолетов, а британские ВВС – 112. Затонули три британских крейсера, три эсминца, авианосец и четыре подводные лодки, а у немцев – три крейсера, десять эсминцев, шесть подводных лодок. Еще четыре немецких крейсера и шесть эсминцев были выведены из строя.
Завоевание Норвегии предоставило Гитлеру базы для морских и воздушных сил – они понадобятся ему позднее, когда он нападет на Советский Союз: отсюда немцы будут нападать на союзные конвои, направляющиеся в Мурманск. Швецию Гитлер не тронул и предоставил ей сохранять нейтралитет: с него довольно было стратегического господства в регионе, благодаря которому шведы продолжали поставлять Германии железо и не отваживались вступать в какие-либо отношения с союзниками. Тем не менее за оккупацию Норвегии Гитлеру пришлось достаточно дорого заплатить: страшась новых британских покушений, он почти до самого конца война держал на этой территории 350 000 человек, которые могли бы пригодиться на основных фронтах. Кроме того, потери немецкого флота при этом столкновении показали, насколько неразумной была бы попытка вторжения в Англию.
За операции союзников главным образом отвечали англичане, на них же в основном ложилась и вина за провал. Многое можно списать на недостаток ресурсов, но старшие офицеры Королевского флота плохо показали себя в боях. В потере авианосца «Glorious» был в первую очередь виноват проявивший чудовищную некомпетентность капитан судна; также сделалась очевидна уязвимость британского флота перед воздушными налетами. Из всех морских операций более-менее прилично были проведены атаки на немецкие эсминцы под Нарвиком 10 и 13 апреля и последующая эвакуация англо-французских сухопутных сил. В отношениях с норвежцами британцы отличались двуличием или по крайней мере недостатком искренности, что, в конце концов, сводится к тому же. Поразительно, как быстро норвежцы им это простили и оставались преданными союзниками – как те, кому удалось спастись в изгнании, так и те, кто продолжал бороться на своей оккупированной родине. Перемены в британском правительстве уже не могли предотвратить оккупацию, после того как 9 апреля Королевский флот упустил лучший свой шанс. Неэтичное поведение и военная беспомощность, сказавшиеся во время этой кампании, испортили репутацию многим британским политикам и военным руководителям. По сравнению с предстоящими сражениями эта операция была не столь значительна, однако здесь сказались те недостатки воли, руководства, снаряжения, стратегии и подготовки, которые не раз еще подведут англичан в гораздо бόльших по масштабу столкновениях.
Самым важным для Великобритании последствием неудачной войны стала отставка Чемберлена. Если бы не Норвегия, он бы, скорее всего, сохранил свой пост и на время Французской кампании, а это могло бы обернуться катастрофой для Британии и для всего мира – кабинет Чемберлена с большой вероятностью затеял бы мирные переговоры с Гитлером. Но подобное утешение для сломленных норвежцев могут предлагать потомки, тогда же все участники событий пребывали в отчаянии, за исключением торжествовавших победу германцев.
2. Падение Франции
Вечером 9 мая 1940 г. французские войска, стоявшие на Западном фронте, слышали «значительный шум» на немецкой стороне: пронесся слух, что враг наступает. Командиры предпочли счесть этот слух ложной тревогой, ведь такое уже неоднократно случалось. Хотя продвижение немцев на территорию Голландии, Бельгии и Франции началось 10 мая в 04:35, командующего союзными войсками генерала Мориса Гамелена разбудили только в 06:30 – через пять часов после предупреждения, полученного от передовых постов. Откликнувшись на долгожданный призыв брюссельского и гаагского правительства о помощи – их нейтральные государства оказались на пути немецкого смерча, Гамелен приказал продвинуться к реке Диль, осуществив таким образом свой давний план. Девять дивизий Британского экспедиционного корпуса и отборные французские войска – 25 дивизий Первой, Седьмой и Девятой армии – двинулись на северо-восток. Люфтваффе почти не мешало их продвижению: Гитлер сознательно заманивал союзников именно туда. С их уходом устранялась фланговая угроза основным немецким силам, которые рвались дальше на юг.
Оборона Голландии и Бельгии была сразу же взломана. В первые часы 10 мая германские десантники-планеристы захватили ключевой форт Эбен-Эмаэль, прикрывавший канал Альберта. Форт был возведен немецкой строительной компанией, которая любезно передала чертежи гитлеровскому командованию. В тот самый момент, когда в Британии Черчилль вступал в должность премьер-министра, передовые части немцев вклинились в голландскую армию. Тем временем на юго-западе 134 000 человек на 1600 машинах, 1222 из которых составляли танки, начали прокладывать себе путь через Арденны, чтобы нанести решающий удар по слабому центру французской линии обороны. Потом немцы шутили, что создали крупнейшую транспортную пробку за всю историю лесов Люксембурга и южной Бельгии, запрудив тысячами танков, грузовиков и пушек узкие дороги, которые союзники вообще не считали годными для передислокации армии. На этом отрезке пути вражеские колонны нетрудно было бы разгромить с воздуха, если бы французы знали об их присутствии и понимали смысл их маневра, но французы ни о чем не догадывались. С самого начала этой операции и до конца Гамелен и его помощники руководили войсками в тумане полнейшей неопределенности, зачастую не зная, ни докуда успели дойти немцы, ни куда они направляются.
В английской литературе незаслуженно много внимания уделяется действиям небольшого по численности британского контингента и его эвакуации из Дюнкерка. Очевидно, что основной задачей немцев было разгромить французскую армию, которая представляла для них куда более серьезную угрозу. Британцы в этой ситуации играли второстепенную роль, особенно в первые дни, когда Британский экспедиционный корпус сковывал лишь незначительную часть немецких воздушных и наземных сил. Неверно утверждение, будто французы связывали все надежды исключительно с укрепленной линией Мажино: основное назначение этих бункеров и пулеметных гнезд заключалось именно в том, чтобы высвободить как можно больше людей для операций севернее линии Мажино. Воспоминания о чудовищных разрушениях и жертвах, которые принесла им война 1914–1918 гг., побуждали французов перенести сражение куда угодно, лишь бы подальше от родной земли. Гамелен планировал провести решающее сражение в Бельгии, вот только у немцев имелись иные планы. Главной ошибкой французского командования весной 1940 г. стало перемещение Седьмой армии на левый фланг в расчете на дальнейшее продвижение в Бельгию.
Французский авангард пересек границу с Голландией и обнаружил, что голландская армия уже отступила так далеко на северо-восток, что соединиться с ней и развернуться единым фронтом не представлялось возможным, а бельгийская армия и вовсе бежала в беспорядке. Армия Гамелена тем не менее проявила немалую отвагу в последовавших битвах за Бельгию. Зениток и противотанковых орудий французам не хватало, но у них имелись хорошие танки, в частности Somua S35. В затянувшейся схватке под Анню с 12 по 14 мая немцы потеряли 165 танков, а французы – 105. Французский фронт на Диле не был прорван, но защитникам этой линии обороны пришлось отступить, потому что развернулся их правый фланг, немцы же, завладев полем боя под Анню, получили возможность восстановить свои силы и бόльшую часть поврежденной бронетехники.
В первые два дня этой кампании французское командование не вполне сознавало уровень угрозы. Очевидец описывал беспечное поведение Гамелена, прогуливавшегося по коридору форта с довольным и боевитым видом. Другой наблюдатель отмечал «отличную форму и широкую улыбку главнокомандующего»12. Гамелену исполнилось 67 лет; в 1914 г. он возглавлял штаб армии при Жоффре и считался главным виновником победы Франции при Марне. Главнокомандующий осознавал себя в первую очередь культурным человеком, любил дискутировать об искусстве и философии и всерьез интересовался политикой; он пользовался значительно большей популярностью, чем его предшественник желчный Максим Вейган. Губительной слабостью Гамелена оказалась его страсть к компромиссам: он любой ценой избегал трудных решений. И он сам, и его соратники настроились на «une guerre de longue durée»[5] и на затяжную конфронтацию у границ Франции, а события в мае 1940 г. разворачивались с непостижимой для них стремительностью.
Немцы отрядили 17 дивизий угрожать линии Мажино с юга, 29 дивизий – захватить Голландию и северную Бельгию и 45, в том числе 7 танковых, – для атаки по центру, а затем они должны были двинуться на северо-запад к Ла-Маншу, перейти по пути реку Маас и отрезать французские войска в Бельгии от английских. Лишь половина немецких солдат прошла полную подготовку, более четверти составляли резервисты в возрасте за сорок. Основной силой в борьбе против французской армии стали 140 000 танкистов и солдат из механизированных дивизионов – именно они одним броском форсировали Маас. Передовые отряды немцев добрались до реки 12 мая к 14:00, не встретив по пути ни одного французского солдата с тех пор, как выбрались из Арденнского леса, – это была не атака, а скорее, марш по чужой стране. Линию Мааса удерживали резервисты Второй армии под командованием Шарля Хюнтцигера. Утром 13 мая обороняющиеся подверглись массированной атаке с воздуха – более тысячи бомбардировщиков налетали волнами, сменяя друг друга. То был первый для этих людей опыт боевых действий; особых потерь французы не понесли, но духом пали. Один солдат писал: «Страшны даже грохот моторов и этот чудовищный вой пикирующего самолета, раздирающий нервы в клочья. И – град бомб. Снова и снова! Нигде не видать французских, английских самолетов. Куда они на хрен подевались? Рядом со мной плачет мальчишка-солдат»13.
Штабной французский офицер, находившийся под Седаном, записывал: «Артиллеристы прекращают огонь и вжимаются в землю, пехота прячется в окопах, напуганная грохотом бомб и воем пикирующих бомбардировщиков. Инстинкт даже не подсказывает им бежать к зениткам, попытаться отстреливаться – нет, им лишь бы голову спрятать. Пять часов такого кошмара – и все они никуда не годятся»14. Солдаты, как и большинство людей, плохо выносили неожиданности. За долгую зиму 1939 г. никто не додумался подготовить французскую армию к подобным испытаниям.
Воздушные налеты повредили телефонную связь между командованием отдельных частей. Вечером 13-го в 5 км к югу от Седана поднялась «танковая паника». Генерал, командующий тамошним подразделением, вышел из штаб-квартиры разобраться, почему с улицы несутся дикие вопли, и застал кромешный хаос среди своих подчиненных: «По шоссе сплошным потоком бежали артиллеристы и пехотинцы, кто на машинах, кто пешком, многие бросили оружие, но прихватили с собой вещмешки, и все неслись по дороге с криками: “Танки в Бюльсоне”. Некоторые, словно обезумев, стреляли в воздух. Генерал Лафонтен и офицеры штаба бросились наперерез дезертирам, пытались их образумить, построить в ряды, распорядились преградить им путь грузовиками. Офицеры смешались с рядовыми. Массовая истерия»15. Около 20 000 обратились в бегство во время «Бюльсонской паники» за шесть часов до того, как немцы перешли Маас. По всей вероятности, напуганные солдаты приняли собственные танки за вражеские, и это спровоцировало бегство.
Первые немецкие отряды, пытавшиеся форсировать Маас, понесли большие потери от огня французских пулеметов, но горсточка храбрецов перебралась на западный берег в лодчонках, а затем прошла через болота и атаковала позиции французов. Сержант Вальтер Рурарт возглавил одиннадцать минеров, которые подрывали один бункер за другим гранатами и ранцевыми зарядами. Погибло шесть немцев, но остальным удалось проделать брешь в обороне противника. Мотопехотинцы промчались по старой дамбе, соединявшей остров с обоими берегами Мааса, и закрепились на западной стороне. В 17:30 немецкие инженеры уже наводили мосты, оборудование подвозили на плотах. Часть французских солдат уже отступала, вернее, бежала. В 23:00 по наведенным понтонам заклацали танки: немецкие саперы поработали так же хорошо, как и атакующие части.
Французы реагировали на удивление пассивно и до глупости самодовольно. Генералу Хюнтцингеру намекали, что немецкое вторжение протекает по тому же сценарию, что и в Польше. Он театрально пожал плечами: «Польша – это Польша, а мы находимся во Франции». Его предупредили, что немцы переправляются через Маас. Он ответил: «Тем больше мы возьмем пленных». Ранее в тот же день штаб Гамелена заявлял: «Все еще не представляется возможным определить район, где противник развернет основную атаку». Но ведь еще ночью генерал Жозеф Жорж, командовавший Северо-Восточным фронтом, звонил Гамелену и предупреждал, что под Седаном наблюдается серьезный прорыв, «un pepin»[6]. 14 мая в 03:00 в штаб-квартире Жоржа разворачивалась запечатленная одним из французских офицеров сцена: «Помещение слабо освещено. Майор Наверо тихим голосом повторяет последние известия по мере их поступления. Генерал Ротон, глава штаба, распластался в кресле. Атмосфера – как в семье, где только что кто-то умер. Жорж мгновенно поднялся… Смертельно бледный: “Наш фронт прорвали под Седаном! Катастрофа”. Он бросился на стул и разразился слезами»16. Другой офицер описывал генерала Жоржа Бланшара, командующего Первой армией, который «застыл в трагической неподвижности, ничего не говоря, ничего не делая – он просто смотрел на развернутую перед нами карту»17.
Решающий момент этой кампании наступил позднее тем же утром. Сам факт, что немцы форсировали Маас, не означал катастрофу: французы могли отбросить их немедленной контратакой. Но французские войска собирались словно спросонья, затем продвигались нехотя и несогласованно. 152 бомбардировщика французских и британских ВВС под прикрытием 250 истребителей не смогли повредить немецкую переправу, а сами понесли тяжелые потери – из 71 английского бомбардировщика 31 не вернулся на базу. Одномоторный Battle лейтенанта Билла Симпсона загорелся при падении, его полуголого – одежда обгорела – экипаж вытащил из самолета. Сидя на траве, он в ужасе и недоумении смотрел на свои руки: кожа свисала с ладоней длинными сосульками, пальцы согнулись, концы их заострились, руки больше походили на лапы огромной хищной птицы. «Изуродованы, заострены к концу, словно когти, истончены. Что же мне делать? Как жить дальше с парализованными культяпками?»18
К ночи 14-го три французских подразделения у Седана дрогнули, солдаты бежали с поля боя. В числе опозорившихся была и 71-я дивизия. В легенду вошел примечательный эпизод: один из полковников дивизии пытался остановить дезертиров, и солдаты смели его с дороги, восклицая: «Мы хотим домой, мы будем работать! Здесь больше делать нечего! Все погибло! Нас предали!»19 Некоторые современные историки сомневаются в достоверности этого рассказа. Пьер Лесор, другой офицер той же дивизии, сохранил иные, более достойные воспоминания о событиях трагического дня: «Слева от себя, примерно в 800–1000 м, я отчетливо видел артиллерийскую батарею, которая не переставала стрелять по пикирующим Stuka, хотя те непрерывно атаковали ее. Я и сейчас вижу небольшие круглые облачка, появлявшиеся от залпов в воздухе вокруг кружащих самолетов, которые рассеивались в стороны и тут же возвращались. И мои артиллеристы тоже не прекращали огонь по самолетам, хотя и безнадежный». Но и Лесор видел, как постепенно падает мораль в его отделении: «Признаться, после того, как немцы два дня безраздельно господствовали в небе, люди начали беспокоиться и возмущаться. Сперва просто ворчали: “Господи, одни только немецкие самолеты, наши-то чем заняты?” Но на исходе второго дня уже ощущалось, как растет беспомощная ярость»20.
В следующие дни французские танки бессистемно атаковали с юга мост через Маас. Гамелен и его офицеры допустили еще одну фатальную ошибку, которую, по-видимому, уже невозможно было исправить: они не сообразили, что передовые группировки фон Рундштедта не станут углубляться на юг, в сердце Франции, а устремятся на север, чтобы отрезать британские и французские соединения в Бельгии. Ширящийся «поток» немцев продвигался стокилометровым фронтом. Французская Девятая армия, на которую возлагалась защита этого региона, практически перестала существовать. Немецкие танковые колонны имели все основания опасаться контратаки союзников с флангов, но французскому командованию не хватало воли или решимости затеять подобную операцию, как не хватало и ресурсов для ее осуществления. Неверно было бы полагать, что французская армия не оказала немцам существенного сопротивления в 1940 г. Некоторые из подчиненных Гамелену соединений проводили энергичные и вполне успешные контратаки на местах и понесли большие потери. Но ни разу французы не сумели организовать атаку достаточно сильную, чтобы остановить стремительное продвижение бронированных машин фон Рундштедта.
Пьер Лесор описывает «состояние всеобщего беспорядка и отчаяния. Каски и оружие куда-то подевались, имущество навьючивали на велосипеды и толкали их перед собой, не армия, а растерянные кочевники. На обочине неподвижно стоял одинокий человек в черном головном уборе и короткой рясе – армейский капеллан. Я увидел, что он плачет»21. Другой солдат, Гюстав Фольшер, описал встречу с дезертирами из подразделений, разбитых на севере: «Они рассказывали ужасные вещи, невероятные вещи. Некоторые бежали от самого Альбертова канала. Они просили есть и пить, бедолаги! Текли непрерывным потоком – жалкое это было зрелище! Если бы те любители парадов, кто привык любоваться воинским строем в Париже или в других городах, увидели бы тем утром другую армию, настоящую, они бы постигли страдания рядового солдата»22.
Поначалу французское общество отказывалось воспринимать реальность происходящего. Привычный мир рушился на глазах. Еврейская писательница родом из России Ирен Немировски в автобиографическом романе 1940–1941 гг. описывала реакцию в Париже на ошеломляющую новость о приближении немцев: «Этим ужасным сообщениям никто не верил. Не поверили бы и в известие о победе»23. Но по мере того как страшная истина проникала в сознание, началась повальная паника. Одно из самых страшных явлений тех дней – массовое бегство гражданских, которое катастрофически сказывалось как на состоянии военных коммуникаций, так и на боевом духе солдат. Жители восточной Франции пережили немецкую оккупацию в 1914 г. и были готовы на все, лишь бы не подвергнуться тому же испытанию вторично. Реймс бежал почти поголовно, из 200 000 жителей Лилля в своих домах оставалась едва десятая часть, а в Шартре, после того как этот город с древним собором подвергся жестокой бомбардировке, из 23 000 человек осталось всего 800. Многие города превращались в призраки. В восточной и центральной Франции военные подразделения с трудом маневрировали и тщетно пытались занять позицию для боевых действий, затертые бесконечными колоннами отчаявшихся гражданских. Гюстав Фольшер писал:
«Люди обезумели, они даже не отвечали на вопросы. Все твердили одно: “Эвакуация, эвакуация!” Особенно грустно было видеть на дороге целые семьи, которые гнали с собой скот, а в итоге вынуждены были оставлять животных в каком-нибудь хлеву. Мы видели повозки, запряженные двумя, тремя или четырьмя красивыми кобылами, и подчас за ними бежал маленький жеребенок, на каждом шагу рискуя попасть под колеса. Иногда лошадей погоняет плачущая женщина, чаще лошадей ведет под уздцы ребенок лет восьми, десяти или двенадцати. На повозку поспешно свалена мебель, чемоданы, постельное белье, самые дорогие или, вернее, самые необходимые вещи. Там же устроились старики с младшим внуком, может, новорожденным. Каждый ребенок окидывает нас взглядом, когда мы нагоняем их, они несут кто собачонку, кто котенка или клетку с канарейками, с которыми не могли расстаться»24.
Восемь миллионов французов покинули свои дома в первый месяц после вторжения немцев. То была крупнейшая массовая миграция в истории Западной Европы. Остававшиеся в Париже то и дело вынуждены были прятаться в убежище от воздушных налетов. «Детей одевали при свете факелов, – писал один из переживших это. – Матери брали на руки маленькие, теплые, тяжелые тела: “Пошли, не бойся, не плачь”. Бомбардировка. Всюду погашен свет, но под ясным золотым июньским светом отчетливо проступает каждая улица, каждый дом. Сена впитывала малейшие проблески света и отражала их в сто раз ярче, как многогранное зеркало. Плохо занавешенные окна, блестящие крыши, металлические детали дверей – все сверкало, отражаясь в воде. Местами почему-то долго не выключался красный свет – почему так, никто не знал, – и Сена вбирала в себя эти огоньки, захватывала их и пускала игриво скакать по волнам»25.
Форсировав Маас, немцы целую неделю неуклонно продвигались вперед, а союзники предпринимали любые действия – очень медленно, – кроме сражения. Британцы полностью возлагали вину за сложившуюся ситуацию на французов, но кое-кто из офицеров Горта более разумно смотрел на вещи и признавал, что и «нашим особо гордиться нечем». Через несколько дней Джон Хорсфолл, офицер ирландских стрелков, писал: «Часть нашей армии уже не способна к скоординированным действиям, как к нападению, так и к защите. И целиком винить в этом политиков мы не можем, эти проблемы были всецело нашими собственными. Вина нашей армии – недостаток ума, и остается лишь удивляться, чем военная академия занималась в предвоенные годы»26. Поразительное превосходство немцев на поле боя над армиями союзников станет одной из главных загадок не только кампании 1940 г., но и всей войны. Томас Манн называл нацизм «мистикой механизации». Майкл Говард писал: «Вооруженные военными технологиями и бюрократическим рационализмом Просвещения, воспламененные воинскими доблестями давнего и преимущественно выдуманного прошлого, немцы – что неудивительно – поражали и пугали мир в обеих мировых войнах»27. Известная доля истины в этих высказываниях есть, и все же они не дают исчерпывающего ответа на вопрос: почему вермахт оказался настолько хорош? Да, старшие офицеры сражались в Первой мировой, но затем более 10 лет германская армия находилась на грани исчезновения. Никакого боевого опыта в период между мировыми войнами у солдат не было, в то время как многие британцы – и офицеры, и рядовые – принимали участие в затяжных конфликтах на северо-западной границе Индии, в Ирландии или в колониальных столкновениях.
Напрашивается неизбежный вывод: присвоенная британской армии роль имперского жандарма помешала ее обучению и подготовке к полномасштабным боевым действиям. Эти местные конфликты требовали участия небольших подразделений, основной боевой единицей считался полк. Для победы требовалось не так уж много усилий, самоотверженности и тактического мышления. Некоторые офицеры стали, по словам Майкла Говарда, «высочайшими профессионалами малых масштабов». В этой войне самым печальным образом сказалось отсутствие единой системы подготовки высшего командования – Британская армия обзавелась такой системой лишь 30 лет спустя. Вермахт, заново набранный в 1930-е гг., с готовностью принимал новые идеи и готовился исключительно к континентальной войне. Офицеры вермахта обладали куда большей энергией, профессионализмом и гибким воображением, чем большинство их противников; рядовые явно получили сильную мотивацию. Поведение немецкой армии на поле боя отличалось строжайшей дисциплиной на всех уровнях – и эта особенность сохранилась до конца войны. Готовность контратаковать в самых неблагополучных ситуациях доходила до степени гениальности. У немцев, в отличие от их британских и французских противников, без затруднения привилась концепция войны на уничтожение, до полного истребления врага. Союзники и на поле боя гордились тем, что ведут себя как разумные люди – это соответствовало культуре, в которой они выросли. Вермахт показал, на что способны люди, отбросившие разум.
В мае 1940 г. Джон Хорсфолл сокрушался об отсутствии у Британского экспедиционного корпуса надежных карт, о том, что отступление не прикрывалось местными контратаками, которые могли бы нанести серьезный ущерб передовым отрядам немцев, о неумении эффективно применять артиллерию, а также готовить к сражению тех, кому предстояло непосредственно в нем участвовать: «Нашим солдатам нужно простыми словами объяснить, с чем им предстоит иметь дело»28. На долгом пути из Бельгии, а затем по северо-востоку Франции Хорсфолл и его товарищи нагляделись на то, как разрушается армия и разваливаются на куски многие командиры. Зрелище удручающее и отвратительное. «Чудовищный поход», – пишет он. Ряды стрелков «разрывали отбившиеся, дезориентированные осколки других отрядов, они выскакивали откуда-то с проселочных дорог. Многое повергало в смущение. Очевидно, где-то в нашей армии что-то разболталось. Люди вскоре догадывались об этом, а офицерам приходится как-то подавлять подобные разговоры или поднимать их на смех… Происходило что-то очень плохое, но наши солдаты были виноваты в этом не более, чем в крымских поражениях. Я не понимал, почему нельзя было должным образом руководить отступлением».
Французское командование и вовсе переселилось в мир грез. Штабные офицеры Гамелена с изумлением смотрели на то, как их глава 19 мая обедает у себя в штаб-квартире, пошучивая, ведя легкую беседу, – и это среди охваченных отчаянием подчиненных. В тот же вечер в 21:00 – первые танки как раз достигли Ла-Манша возле устья Соммы – по приказу Рейно Гамелен был смещен с поста главнокомандующего, и его сменил семидесятитрехлетний генерал Максим Вейган. Новый командующий сразу понял, что у союзников остался последний шанс – контратаковать немецкие танки с юга и севера в районе Арраса, прорвать кольцо, замкнувшее Бельгию и северо-восток Франции. Сэр Эдмунд Айронсайд, глава британского генерального штаба, подоспев из Лондона, сделал тот же вывод. Со встречи в Лансе с двумя французскими генералами, Гастоном Бийотом и Жоржем Бланшаром, Айронсайд вышел преисполненный отвращения к их нерешительности. Они оба пребывали «в глубочайшей депрессии. Ни плана, ни попытки составить план. Готовы идти на бойню. Поражение начинается с головки, без военных потерь». Айронсайд требовал немедленно ударить в направлении на юг, на Амьен, и Бийот обещал в этом участвовать. Затем Айронсайд позвонил Вейгану. Атака двух французских и двух британских дивизий была назначена на следующее утро, 21-го.
Но прав оказался Горт, не веривший, что французы стронутся с места. На следующее утро два недоукомплектованных британских подразделения двинулись вперед и оказались в одиночестве, без поддержки с воздуха. Когда Горт ударил к западу от Арраса, немецкие колонны сперва пришли в расстройство. Завязалось яростное сражение, британцы продвинулись на 16 км и захватили 400 военнопленных, а потом атака выдохлась. Эрвин Роммель, командовавший танковой дивизией, возглавил немецкую оборону и вдохнул отвагу в своих растерявшихся солдат. Танки Matilda нанесли немцам серьезный ущерб, адъютант Роммеля погиб рядом со своим начальником. Но британцы быстро расстреляли все стрелы из своего колчана: их атака была отважной и эффективной, но сил не хватило, и потому она не имела решающего значения.
Утром того же дня, 21-го, пока британцы еще двигались на Аррас, Вейган отправился из Венсена на Северный фронт, в надежде организовать более мощный контрудар. Но поездка главнокомандующего обернулась фарсом: он два часа прождал самолета в Ле-Бурже. Добравшись до Бетюна, он не застал на опустевшем аэродроме никого, кроме одинокого зачуханного солдатика, охранявшего запас бензина. Этот человек направил генерала на почту, и оттуда Вейган дозвонился до командующего армейской группой Бийота, который все утро разыскивал Вейгана под Кале. Откушав омлет в сельской гостинице, главнокомандующий вылетел в порт, оттуда по дорогам, забитым беженцами, кое-как доехал до Ипра, где в здании мэрии у него состоялась встреча с бельгийским королем Леопольдом. Вейган советовал королю поскорее уводить армию на запад, но Леопольд не хотел покидать Бельгию. Бийот сказал, что к атаке готовы только британцы, которые до тех пор не участвовали в боях. Вейган оскорбился отсутствием лорда Горта, ошибочно сочтя его умышленным.
Командующий Британским экспедиционным корпусом прибыл в Ипр позднее и без особой охоты согласился принять участие в очередной контратаке, но предупредил, что все его резервы задействованы в других местах. Горт не верил в осуществимость совместной англо-французской операции. Вейган позднее писал, что британцы задумали предать союзников: со времен Первой мировой войны французы пребывали в убеждении, будто англичане, сражаясь на их территории, одним глазом непременно поглядывают в сторону Ла-Манша и подумывают удрать. А британцев приводили в отчаяние пораженческие настроения французов. В этом смысле Вейган угадал верно: Горт отчаялся дождаться от союзников каких-либо действий и теперь думал главным образом о том, как спасти от катастрофы свой корпус. Позднее той мрачной ночью 21 мая Бийот погиб в аварии, и прошло два дня, прежде чем в Северную армию был назначен другой командующий. Отношения между союзниками стремительно портились. Еще накануне после встречи с Бийотом глава британского штаба сэр Эдмунд Айронсайд писал: «Я вспылил и, ухватив Бийота за пуговицу мундира, потряс его. Этот человек давно сдался»29. Вечером 21-го Горт сказал королю Леопольду: «Дело плохо». В 19:00 Вейган в разгар воздушного налета отбыл в Дюнкерк на торпедоносце и к 10:00 следующего дня добрался до своей штаб-квартиры. Пока он бесплодно блуждал по северной Франции, немецкие танки, пушки и солдаты час за часом продвигались на север и на запад сквозь огромный разрыв в фронте союзников.
Верховный главнокомандующий пребывал в стране счастливых грез. Утром 22 мая он чуть ли не игриво докладывал Рейно: «Мы наделали столько ошибок, что я преисполняюсь уверенности: в будущем мы сделаем меньше». Он заверил премьер-министра Франции, что и Британский экспедиционный корпус, и армия Бланшара пребывают в полной боевой готовности. Вейган сообщил свой план контратаки и заключил несколько двусмысленно: «Либо мы победим, либо спасем свою честь». На встрече с Черчиллем и Рейно в Париже 22 мая Вейган продолжал излучать оптимизм, утверждая, что новая армия без малого из 20 французских дивизий осуществит контратаку с юга, чтобы воссоединиться с Британским экспедиционным корпусом. Но и свежая армия, и контратака существовали только в воображении главнокомандующего.
В ночь на 23-е Горт отвел своих людей с выступа, который они занимали под Аррасом. Французы сделали вывод: британцы, как в 1914 г., ведут себя малодушно и себялюбиво. Горт всего лишь действовал в соответствии с требованиями реальности, но Рейно не предупредил Вейгана о намерении британцев эвакуировать свой корпус. Горт сказал адмиралу Жан-Мари Абриалу, отвечавшему за порт Дюнкерк, что три британские дивизии будут прикрывать отступление французов, но сам Горт отбыл в Англию, а его преемник, генерал-майор Гарольд Александер, не пожелал исполнять это обещание. Абриал заявил ему: «Своим решением вы обесчестили Британию». Вслед за поражением обрушился шквал взаимных обвинений между союзниками. Так, Вейган, услышав 28 мая о капитуляции Бельгии, яростно возопил: «Король! Свинья! Какая же подлая свинья!»
Британцы тем временем начали эвакуацию своего корпуса через порт и пляжи Дюнкерка. Всем уже было очевидно, что надвигается окончательный разгром. Джон Хорсфолл из полка Ирландских стрелков с усталым смирением писал: «Что ж, обратимся к истории и вспомним, что это было вполне ожидаемо и такова обычная участь нашей армии, когда правительство ввергает нас в европейские войны»30. Сержант Л. Пекстон в числе 40 000 с лишним английских солдат попал в плен после арьергардного боя под Камбрэ, где его подразделение было разбито. «Помню приказ: “Прекратить огонь!” Было 12 часов, – писал он впоследствии. – Встал во весь рост и поднял руки. Боже, как мало нас оказалось! Я подумал, пришел мой конец, и закурил бычок»31.
Об эвакуации из Дюнкерка британская общественность узнала 29 мая. Частные суденышки гражданских лиц присоединились к боевым кораблям, стараясь вывезти как можно больше людей из порта и с пляжей. То, что британскому флоту удалось совершить за следующую неделю, достойно легенды. Вице-адмирал Бертрам Рэмси руководил операцией из подземного штаба в Дувре. С невероятным спокойствием и мастерством он руководил перемещениями 900 кораблей и лодчонок. Романтический ореол этой эвакуации связан с образом рыбацких баркасов и увеселительных яхт, которые снимали британцев с берега, хотя, конечно, большинство (примерно две трети) вывезли непосредственно из порта причаливавшие в конце мола миноносцы и другие крупные суда. Повезло и с погодой: на всем протяжении операции Dynamo в Ла-Манше на удивление стояла тишь да гладь.
Рядовой Артур Гвинн-Браун в лирических строках изливал свою благодарность за то, что его спасли из дюнкеркского ада и помогли вернуться домой: «Это было чудо. Я попал на корабль, и каждый корабль, да, каждый корабль – это Англия. Каждый корабль, да, каждый корабль, я был на корабле, на пути в Англию. Это было чудо. Я сидел тихо, я дышал океанским бризом, не дымом, не гарью, не огнем и густым серым дымом бензина, а морским бризом. Я глотал его, он был такой чистый и свежий, и я был жив, это было чудо»32.
Многие опасались, какой их ждет прием после одного из крупнейших поражений в истории страны. Старшина роты Уолтер Гилдинг писал: «Когда мы сходили на берег, я боялся, что те, кто ждут на берегу, нас прикончат, ведь мы – регулярная армия и мы бежали. Но люди кричали и хлопали нам, как будто мы герои. Подносили нам кружки с чаем и сэндвичи. Думаю, мы представляли собой жалкое зрелище»33.
Такой же прием ждал и Джона Хорсфолла: «У Рэмсгейта нам впервые устроили невероятный импровизированный праздник, армия и гражданские службы организовали его совместно. Британия приветствовала нас в мантии феи и с волшебной палочкой в руках, были вкратце представлены какие-то исторические моменты – мы едва разбирали, но были глубоко тронуты и сразу же распознали тот присущий нации неукротимый дух, который низверг Наполеона, покончит и с Гитлером. С каким теплом, как вдохновляюще принимали нас в этом старинном порту. Накрыли подносы, очаровательные дамы предлагали нам чай и всяческое угощение. Только вот мы устали, измучились и, наверное, не слишком-то реагировали на все это»34.
Легенда Дюнкерка, впрочем, как и любое великое историческое событие, подпорчена кое-какими неприятными моментами: многие гражданские моряки, которых попросили помочь при эвакуации, отказались, в том числе рыболовный флот Рая и экипажи некоторых спасательных лодок, а другие, однажды ощутив на своей шкуре бомбежку люфтваффе, во второй раз к французскому побережью уже не подошли. И в то время как большинство подразделений сохранило боевой порядок, во втором эшелоне случались такие беспорядки, что офицерам приходилось грозить оружием и даже пускать его в ход. Первые три дня эвакуации британцы переправляли только своих, а французам предоставляли охранять подступы к гавани – их на борт не приглашали. Был как минимум один случай, когда «лягушатники» устремились к кораблям, а вышедшие из повиновения английские солдаты открыли по ним огонь. Понадобилось личное вмешательство Черчилля, чтобы эвакуировали и французов – 53 000 человек, но лишь после того, как вывезли последнего британского солдата. Большинство французов вскоре запросились обратно, попали в руки немцев и были отправлены в Германию на принудительные работы, но это им казалось лучше, чем английское изгнание.
Английский солдат Дэвид Маккормик, расквартированный в Дувре, в письме домашним от 29 мая описывал собственное участие в эвакуации весьма мрачно: «В 1:45 нас разбудили и повели в доки. Там мы до 8:30 испытывали физические и душевные страдания, таская трупы, после чего остались с праздными руками и умом. Мне так плохо, я готов рыдать. Все это бессмысленно, и мне противна закоснелость большинства наших – они идут в доки главным образом, чтобы уворовать сигареты, мелочь и т. д.»35.
Флот понес под Дюнкерком серьезные потери: затонуло шесть эсминцев, 25 получили значительные повреждения. Хуже всего морякам пришлось 1 июня: бомбардировкой с воздуха были затоплены три эсминца и пассажирское судно, еще на четырех кораблях обнаружились пробоины. Адмиралтейству пришлось отказаться от использования крупных военных судов в процессе эвакуации. Солдаты и моряки поносили свои ВВС, которых-де и не увидишь в небе: не было под Дюнкерком человека, который не страшился бы постоянно возобновлявшихся налетов Stuka. Однако британский воздушный флот очень много сделал как раз для того, чтобы не позволить распоясаться люфтваффе, и заплатил за это высокую цену: за девять дней эвакуации было сбито 177 английских самолетов. Немцы всячески старались сорвать операцию Dynamo, но их пилоты признавались, что впервые после 10 мая англичане не допускают их господства в воздухе. В результате люфтваффе не удалось нанести эвакуирующимся такой урон, на который рассчитывал и которым заранее похвалялся Геринг, – отчасти тут была заслуга британских ВВС, отчасти и сами немцы виноваты. После 1 июня германские самолеты били в основном по французам, и потому англичанам завершающая фаза эвакуация обошлась не так дорого, как первые дни. Но главное – Британский экспедиционный корпус вернулся домой. 338 000 человек добралось до берегов Англии, из них 229 000 британцы, остальные – французы и бельгийцы. Благополучное их возвращение приписывали в основном личным заслугам Горта, однако, хотя британский главнокомандующий и впрямь распоряжался вовремя и с толком, спасти корпус не удалось бы, если б Гитлер не придержал свои танки. По одной версии – менее убедительной, хотя не вовсе невероятной, – то было политическое решение, продиктованное надеждой склонить Великобританию к мирным переговорам. Но скорее Гитлер попросту доверился обещанию Геринга прикончить англичан с воздуха: Британский корпус уже никак не препятствовал осуществлению стратегических планов Германии, а танки требовалось срочно отремонтировать и вновь использовать в сражениях против войск Вейгана. Французская Первая армия оказывала немцам мужественное сопротивление под Лиллем, тем самым удерживая врага подальше от Дюнкерка. И пусть английские солдаты остались недовольны союзниками, надо признать, что армия Черчилля действовала в ту кампанию ничуть не лучше армии Рейно.
Парадоксальным образом британский премьер-министр сумел превратить эвакуацию из-под Дюнкерка в мощнейшую пропагандистскую тему. Жительница Ланкастера Нелла Ласт 5 июня писала: «Я позабыла, что я – домохозяйка средних лет, которая часто устает и жалуется на боль в спине. Эти события помогли мне почувствовать себя частицей чего-то вечного, бессмертного, какого-то огня, который может дать тепло и свет, но может и жечь, и уничтожать мусор. Каким-то образом все обрело смысл, и я порадовалась тому, что принадлежу к тому же народу, что и те, кто спасал, и те, кого спасали»36. Британцам удалось вывезти профессиональные военные кадры, на основе которых были созданы новые формирования, но оружие и снаряжение корпуса были полностью утрачены. Во Франции осталось 64 000 единиц транспорта, 76 000 тонн боеприпасов, 2500 пушек и более 400 000 тонн провианта. Сухопутные силы Британии оказались фактически разоружены, и многим солдатам пришлось ждать годы, прежде чем они получили оружие и обмундирование и смогли вернуться в строй.
Порой высказывается мнение, что с уходом Экспедиционного корпуса закончилась и война, однако это мнение в корне неверно: в период с 10 мая по 3 июня немцы ежедневно теряли около 2500 человек, а в следующие две недели темп потерь удвоился и составил 5000 человек в день. 28 мая рядовой французской 28-й дивизии записывал, не теряя бодрости: «Видимо, немцы захватили Аррас и Лилль. Если так, нации пора вернуть прежний дух 1914 и 1789 гг.». Многие подразделения по-прежнему рвались в бой, иные рядовые отнюдь не поддавались отчаянию, которое овладело их начальством. Один из подчиненных бригадного генерала Шарля де Голля писал: «За пятнадцать дней мы четыре раза ходили в контратаку и всякий раз побеждали. Так подтянемся же и зададим жару этой свинье Гитлеру». Другой солдат 2 июня писал: «Мы сильно устали, но останемся стоять здесь, они не пройдут, мы их поколотим, и я буду гордиться тем, что участвовал в Победе – в ней я не сомневаюсь»37. Даже некоторые иностранные правительства еще не были готовы признать окончательное поражение Франции. 2 июня итальянский министр иностранных дел с присущим режиму Муссолини цинизмом посулил французскому послу в Риме: «Несколько побед – и мы будем на вашей стороне».
На последнем этапе кампании 40 французских пехотных дивизий и остатки трех танковых соединений противостояли 50 немецким пехотным дивизиям и 10 танковым дивизиям. 35 генералов Вейгана были отправлены в отставку и замещены другими людьми. В июне 1940 г. французская армия сражалась намного лучше, чем в мае, но было уже слишком поздно, чтобы изменить ситуацию после первоначальных поражений. Константин Жоффе из Иностранного легиона с удивлением писал о том, как доблестно воевали евреи его полка:
«По большей части это были портные или мелкие торговцы из Белльвиля, рабочего района Парижа, или из гетто на рю де Тампль. В [тренировочном лагере] Баркаре с ними никто не общался. Они говорили только на идиш. Казалось, они боятся пулемета, всего боятся. Но, когда требовались добровольцы, чтобы подтаскивать боеприпасы под сильным обстрелом или перерезать ночью колючую проволоку прямо перед вражескими дулами, эти щуплые человечки вызывались первыми. Они делали свое дело тихо, без помпы, возможно, и без энтузиазма, но делали. Именно они до последней минуты выносили все наше вооружение с позиции, которую мы в очередной раз оставляли»38.
Командиры вермахта выражали свое восхищение отваге, с какой некоторые французские подразделения в начале июня отстаивали новую линию фронта – на Сомме. В дневнике одного немца мы читаем: «Французы обороняли эти разрушенные деревни до последнего человека. Некоторые “ежи” продолжали топорщиться, даже когда наш фронт уходил на 30 км вперед»39. Но 6 июня фронт был окончательно прорван, а 9-го танки Рундштедта подъезжали к Руану. На следующий день они прорвали линию на реке Эне, и правительство бежало из Парижа. Дипломат Жан Шовель сжигал документы в камине своего кабинета на набережной д’Орсе, пока в трубе камина не вспыхнул пожар, – и в скольких таких символических кострах сгорала в те дни надежда нации. Высказывались опасения, что после бегства правительства социалистически настроенные рабочие явятся из пригородов в столицу и в очередной раз провозгласят коммуну, однако после бегства стольких мирных жителей наступило смертельное спокойствие. 12 июня швейцарский журналист наблюдал на парижской улице брошенное стадо мычащих в растерянности коров. Через два дня Париж пал, и австрийский писатель Стефан Цвейг – ему, еврею, давно пришлось эмигрировать как можно дальше от этих событий – писал: «Мало какие личные горести так удручили меня и преисполнили такого отчаяния, как унижение Парижа – города, обладавшего редкой способностью делать счастливым каждого, кто в него приезжал»40.
Исход гражданского населения на запад и юг продолжался и днем, и ночью. «Тихо, не включая фар, машины продолжали двигаться рядами, – писала Ирен Немировски, – чуть не лопаясь от пожитков и мебели, колясок и птичьих клеток, чемоданов и корзин с одеждой, и у каждой на крышу был прочно привязан матрас. Словно горы, состоящие из хрупких подпорок, они двигались как бы и не силой мотора, а увлекаемые собственным весом»41. Описала Немировски и трех мирных жителей, погибших под бомбежкой: «Тела разорвало в клочья, но по какой-то случайности лица остались не задеты. Обычные, угрюмые лица с застывшей гримасой недоумения, как будто люди пытались в последний момент понять, что же с ними происходит: они же не созданы для гибели в бою, господи боже, они же не созданы, чтобы вот так умереть!»42
Британский пилот-истребитель Пол Ричи видел, как немецкая бомба упала на крестьян, трудившихся в поле: «Мы нашли их среди воронок. Старик лежал ничком, тело гротескно искривлено, одна нога оторвана, из огромной раны пониже затылка ручьем текла на землю кровь. Рядом лежал его сын. Ближе к изгороди я нашел останки третьей жертвы – насколько в этом можно было признать останки человека: это были какие-то ошметки тряпок, ботинка и превратившиеся в щепки кости. Рядом с разбитой бороной лежало пять раненых коней – мы их пристрелили. Воняло взрывчаткой и дымом»43.
В эти дни, когда европейцы еще только-только начинали расставаться с иллюзиями, британские пилоты с ужасом видели, как Messerschmitt расстреливают из пулеметов беженцев. В общей мешанине Ричи столкнулся с товарищем-пилотом: «Навидавшийся всякого, Джонни нехотя признал: “Они – засранцы”. На том и кончилась наше представление о рыцарственном противнике»44. Рядовой Эрни Фарроу из Второго норфолкского полка Британской армии, также ужасался при виде учиненной воздушными рыцарями Геринга бойни: «На дороге повсюду валялись мертвые, без рук, без головы, валялась и убитая скотина, были там совсем маленькие дети, были и старики. Не один-два, а сотни убитых. Мы не могли останавливаться и расчищать дорогу, мы гнали грузовики прямо по ним, сердце разрывалось»45.
Правительство Рейно временно укрылось в Шато де Шиссэ на Луаре. Там любовница премьер-министра Элен де Порт указывала подъезжавшим места на парковке, облачившись в красный халат поверх пижамы. Именно страстный натиск любовницы побудил премьера подписать перемирие. После гибели де Порт в аварии Рейно с сожалением писал: ее «сбило с толку желание быть заодно с молодыми, противопоставить себя евреям и старым политикам. Но она думала, что тем самым помогает мне»46. Эти настроения разделяли многие французы. В Сюлли-сюр-Луар багровая от возбуждения и гнева женщина орала перед церковью на французского офицера: «Что вы, вояки, сделали, чтобы положить конец войне? Хотите, чтобы нас всех перерезали вместе с детьми? Почему вы все еще сражаетесь? Уж этот мне Рейно! Доберись я до него – глаза бы вырвала негодяю!»47
А в штаб-квартире вермахта царило ликование. Генерал Эдуард Вагнер 15 июня писал: «Пусть будет занесено в историю наших дней и историю мира, как [начальник генштаба вермахта Франц] Хальдер, сидя перед картой с масштабом 1:1 000 000 сантиметром вымеряет расстояния и уже разворачивает войска на том берегу Луары. Сомневаюсь, чтобы сочетание холодного рассудка и горячего энтузиазма [генерала Ханс фон] Зеект когда-либо прежде находило столь блестящее выражение, как в генеральном штабе при нынешней кампании. И вопреки всему следует воздать честь фюреру, ибо только его решимость привела к такому исходу»48.
Вечером 12 июня Вейган предложил просить о перемирии. Рейно хотел сформировать вместе со своим кабинетом министров правительство в изгнании, но маршал Филипп Петен отверг эту идею. 16-го Рейно убедился, что большинство министров выступают за капитуляцию, и отказался от своего поста в пользу Петена. Наутро маршал обратился по радио к французскому народу: «С тяжелым сердцем я говорю вам сегодня о необходимости прекратить борьбу». Мало кому из французских солдат хотелось жертвовать своей жизнью на поле боя после такого заявления.
И все же отважные, пусть и тщетные, попытки сопротивления еще случались. Под Шатонефом упорно удерживал свои позиции пехотный батальон. Другой случай стал национальной легендой: когда колонны беженцев и дезертиров переправлялись через Луару, начальнику французского кавалерийского училища в Сомюре, старому боевому ветерану полковнику Даниэлю Мишону было велено прикрывать мосты силами 780 кадетов и инструкторов. Полковник собрал их всех в сомюрском театре и объявил: «Господа, от училища требуется принести себя в жертву. Франция полагается на вас!» Один из кадетов, Жан-Луи Дюнан, бросивший ради военного обучения архитектурную школу в Париже, восторженно писал родителям: «Я с нетерпением жду битвы, как и все мои товарищи. Нам предстоят в сто раз худшие испытания, но я встречу их с улыбкой»49.
Мэр города уже потерял на поле боя сына-солдата. Он знал, что Петен готовит капитуляцию, и заклинал Мишона не превращать в арену сражения старинный Сомюр. Полковник презрительно отмахнулся: «Я получил приказ защищать город. На карту поставлена честь училища». Он отослал в тыл 800 коней, а кадетов распределил небольшими отрядами, каждый во главе с инструктором, по 40-километровой линии фронта – в тех местах, где возможно было переправиться через реку. Рядом с кадетами стояли несколько сотен новобранцев из алжирской пехоты и сколько-то отбившихся от своих подразделений солдат; в помощь им прислали горсточку танков. Около полуночи 18 июня, когда передовые отряды немецкой кавалерийской дивизии под командованием генерала Курта Фельдта приблизились к Сомюру, их встретил шквал огня. Немецкий офицер в сопровождении пленника-француза выступил вперед, размахивая белым флагом и пытаясь вступить в переговоры, – в них стали стрелять и бросать гранаты, обоих парламентеров убили. Тогда германская артиллерия принялась обстреливать Сомюр, а по всей линии обороны там и сям вспыхивали ожесточенные локальные схватки.
Оборонявшиеся являли примеры мужества, которые еще лучше запомнились благодаря сознательной игре на публику. Кадет Жан Лабуз выразил сомнение в разумности приказа держаться до последнего: «Мы готовы умереть, но ради чего?» – и офицер (которому тоже вот-вот предстояло погибнуть) ответил: «Мы гибнем не зря. Мы все умрем за Францию». Другой офицер, под Милли-ле-Мегон, в полночь поднял с постели сельского священника и велел ему дать напутствие кадетам, перед тем как они пойдут на смерть, – 200 человек успели принять причастие в сумеречной деревенской церкви, прежде чем вновь разгорелся бой. Французы взорвали под Сомюром мосты и 19-го, а также 20 июня пресекали неоднократные попытки немцев переправиться через Луару на лодках.
Тогда оккупанты форсировали реку выше и ниже по течению, обойдя Сомюр с флангов. Пал последний пункт обороны кадетов: ферма под Анисом, в 5 км к юго-западу от города. Там погибли вместе со своими наставниками десятки кадетов, в том числе бывший студент архитектурного училища Жан-Луи Дюнан. Погиб под Анисом и Жан Аллен, перед войной успевший стать многообещающим композитором и органистом. Аллен был награжден Военным крестом во Фландрии, эвакуировался из-под Дюнкерка, тут же вернулся из Англии и вновь вступил в бой – на этот раз последний. В сумке его мотоцикла были найдены листы незаконченного музыкального сочинения.
Дезертиры и гражданские смотрели на столкновения под Сомюром со стороны, браня и высмеивая последних защитников за глупое упорство, за ненужное кровопролитие. Но, когда Франция капитулировала, а глубоко удрученный старик – полковник Мишон – оставил безнадежную позицию и повел своих кадетов на запад в надежде дать бой где-то еще, патриоты подхватили историю этого отважного противостояния: по крайней мере под Сомюром нашлись бойцы, которые вели себя с честью. Ставились памятники таким людям, как лейтенант Жак Депла, который погиб вместе со своим эрдельтерьером Нельсоном, защищая вместе с Мишоном остров Жанн. С военной точки зрения стычки 19–20 июня не имели никакого смысла. Но с моральной точки зрения они приобрели огромное значение для народа Франции – если не сразу, то впоследствии.
Большая часть армии тем временем ожидала, пока ее возьмут в плен. Лейтенант Жорж Фридман, в мирной жизни философ, писал: «Ныне у многих французов я не вижу ни следа скорби о несчастиях их страны. Я наблюдал лишь облегчение, самодовольное, порой даже радостное, низменное атавистическое удовлетворение при мысли, что для нас война окончена, а до других нам и дела нет»50. Французские правые аплодировали приходу Петена к власти. Один из приверженцев маршала писал другу: «Наконец-то мы победили». Самого Петена, объезжавшего после заключения перемирия страну, повсюду встречали огромные, истерически приветствовавшие его толпы. Людям казалось, что нацисты не причинят им такого зла, какое принесла бы затянувшаяся безнадежная война. И надолго остались в сердцах французов зависть, горечь, ожесточение против англичан: их-то Черчилль сумел, вопреки очевидной вроде бы реальности, привести к совершенно иному убеждению.
Завоевание Франции и Нидерландов обошлось Германии в 43 000 убитых и 117 000 раненых; Франция потеряла около 50 000 убитыми, Британия – 11 000; 1,5 млн оказались в немецком плену. Британцам повезло вторично – еще одно чудесное избавление, еще один Дюнкерк51. После эвакуации Экспедиционного корпуса Черчилль принял этически верное, хотя с военной точки зрения нелепое решение – направить на Континент подкрепление, чтобы укрепить пошатнувшуюся решимость французского правительства. В июне через Ла-Манш переправились две плохо снаряженные дивизии и присоединились к остаткам британской армии на том берегу. После заключения перемирия немцы были так заняты, что удалось эвакуировать в Англию через северо-западные порты Франции почти 200 000 человек, потеряв лишь несколько тысяч из них. Черчиллю повезло: последствия предпринятой им авантюры не обрушились ему на голову.
Посол Великобритании во Франции сэр Рональд Кэмпбелл после коллапса написал нечто вроде надгробной речи: «Я сравню Францию с человеком, который оглушен внезапным ударом и не успевает подняться, а противник тем временем наносит добивающий удар»52. И десятилетия после поражения Франции шли напряженные споры о причинах такого исхода, в том числе и о вырождении нации. Летом 1940 г. епископ Тулузский громыхал: «Достаточно ли мы страдали? Достаточно ли молились? Покаялись ли в шестидесяти годах общенационального отпадения от Бога, в шестидесяти годах, когда французский дух проходил через все современные извращения, когда французская мораль приходила в упадок, когда чудовищно разрасталась анархия?»53
Современные стратегические игры, воспроизводящие события 1940 г., часто заканчиваются поражением немцев. На этом основании некоторые историки отказывают признавать триумф Гитлера неизбежным – его-де можно было предотвратить. Невозможно согласиться с подобной точкой зрения. В последующие годы немецкая армия неоднократно подтверждала свое преимущество перед союзниками, которым удавалось побеждать только при существенном перевесе в живой силе, танках и поддержке с воздуха. Вермахт обладал напором и энергией, несравнимыми с тем, что демонстрировали в 1940 г. союзники. Вопреки популярному мифу, немцы не имели детального плана покорения Франции в ходе блицкрига, то есть «молниеносной войны». Немецкие командующие, в частности Гудериан, вдохновенно воспользовались ситуацией – и результат превзошел самые смелые их ожидания. Если б французы двигались быстрее, а немцы медленнее, исход кампании оказался бы другим, но само по себе такое рассуждение не имеет смысла.
В 1940 г. у немцев не было необходимости отвлекать значительные силы на Восточный фронт, как в 1914 г., когда Франция воевала в союзе с Россией. Несмотря на несомненное превосходство немцев в воздухе, поражение союзников было обусловлено не столько материальными, сколько моральными причинами: за редкими исключениями реакции союзников недоставало уверенности. Уинстон Черчилль едва ли не единственный – как среди англо-французского руководства, так и среди солдат на поле боля – проявлял готовность сражаться до последнего человека. Французские генералы и политики, напротив, предпочитали рационалистический подход: они установили предельный ущерб для населения и инфраструктуры, на который готовы пойти, прежде чем склониться перед чужеземным завоевателем, как уже неоднократно в истории склонялась Франция. Мало кто из французских солдат был готов жертвовать собой во имя отечества, поскольку у них не было доверия ни к руководству, ни к командованию: между 1920 и 1940 гг. в стране сменилось 42 слабых правительства. Уже 18 мая Гамелен писал: «Французский солдат, вчерашний обыватель, не верит в войну… Он склонен без устали критиковать каждого, кто обладает хоть крупицей власти, он не получил того морального и патриотического воспитания, которое подготовило бы его к участию в драме национальных судеб».
Ирен Немировски задним числом, в 1941 г., объясняла катастрофу так: «Годами действия некоего социального слоя во Франции определялись исключительно страхом. От кого ждать меньше всего неприятностей (не абстрактных, а прямо сейчас, в виде пинков и затрещин)? От немцев? От англичан? От русских? Немцы их разбили, и они тут же забыли трепку: теперь немцы будут их защищать. Поэтому они за немцев»54. Мало кто из французов в 1940 г. и позднее последовал примеру десятков тысяч поляков, которые продолжали борьбу за пределами своей вынужденной капитулировать родины. Лишь в 1943–1944 гг., когда стала очевидна скорая победа союзников, а немецкое иго сделалось невыносимым, французы начали оказывать англо-американцам существенную поддержку. В ту пору, когда Англия сражалась в одиночку, французская армия и французский флот активно сопротивлялись войскам Черчилля всюду, где сталкивались с ними, и даже среди тех, кто не стал бороться против англичан, очень немногие встали на их сторону. Например, французский авианосец Bearn с драгоценными американскими истребителями на борту предпочел с июня 1940 г. по ноябрь 1942 г. укрываться в гавани французской колонии Мартиники.
В числе испуганных зрителей французской катастрофы был и Сталин. Молотов, как подобало, телеграммой поздравил Гитлера со взятием Парижа, но в глубине души московское правительство было напугано триумфом наци. Советский Союз рассчитывал на затяжное кровопролитие на Континенте, которое ослабит и западные державы, и Германию. Позднее советский дипломат в Лондоне позволил себе неосторожное замечание: в большинстве стран мира сопоставляли потери союзников и немцев, но Сталин складывал их, подсчитывая собственный перевес. Никита Хрущев описывал неистовство Сталина при известии о капитуляции Петена: «Сталин очень разволновался, разнервничался. Редко мне доводилось видеть его в таком состоянии. Обычно на заседаниях он не сидел на стуле, он расхаживал, а в тот раз буквально бегал по комнате и страшно ругался. Он проклинал французов, проклинал англичан: “Как это они позволили Гитлеру побить их?”»55
Вероятно, Сталин понимал неотвратимость войны с немцами, но рассчитывал на два-три года отсрочки. Он приступил к массированному перевооружению армии, но до завершения этой реформы было еще далеко. Сталин полагал, что советско-германский пакт слишком выгоден Гитлеру, чтобы тот нарушил его, по крайней мере до тех пор, пока не совладает с Англией. Немцы пользовались северными портами России, огромное количество зерна, продуктов и нефти текло из Советского Союза в рейх. Даже после капитуляции французов Сталин, опасаясь рассердить своего грозного соседа, воздерживался от строительства существенных оборонных сооружений на западной границе. Пока что он пользовался моментом для новых территориальных приобретений. В то время как глаза всего мира были прикованы к Франции, он аннексировал государства Балтии, и за год НКВД провел там свирепые чистки и массовые депортации. Сталин также отнял у Румынии Бессарабию, которая с 1812 по 1919 г. входила в состав России, и прихватил Буковину. По меньшей мере 100 000 румын (а может быть, и до полумиллиона) переправили в Центральную Азию на заводы взамен русских рабочих, мобилизованных в армию. События на Западе привлекали всеобщее внимание, и разве что министры иностранных дел замечали кошмар, учиненный Сталиным на Востоке, – в этом смысле победы Гитлера играли на руку Сталину. Тем не менее глава Советского Союза распознал в гитлеровском триумфе опасность не меньшую для его народа, чем для сокрушенных западных держав.
Италия вступила в войну на стороне Гитлера 10 июня, движимая беззастенчивым желанием урвать свою долю добычи. Бенито Муссолини, как и большинство его соотечественников, боялся Гитлера и не любил немцев, но не устоял перед искушением недорогой ценой приобрести какие-то территории в Европе и в африканских колониях союзников. Поведение Муссолини вызывало насмешки и среди его врагов, и среди сподвижников: он присоединился к Гитлеру, потому что мечтал о победах, которых не мог бы достичь в одиночку, мечтал о трофеях в обмен лишь на символическое кровопролитие. Перед своими приближенными он в мае и июне 1940 г. неоднократно выражал надежду, что до подписания мира с союзниками погибнет тысяча итальянцев, от силы две, и Италия получит все, чего желает56.
Накануне вступления в конфликт Муссолини втайне делился намерением объявить войну, однако ее не вести. Естественно, этот минималистский подход привел к фиаско: 17 июня, когда французы уже запросили мира, Муссолини внезапно направил свои войска через франко-итальянскую границу в Альпах. Итальянская армия не была готова к походу, и ее нападение тут же отразили. Но дуче по-прежнему пребывал в плену иллюзий, он, по его словам, опасался лишь, как бы англичане не сдались прежде, чем Италия внесет свой символический вклад в победу, и вместе с тем предпочел бы, чтобы немцы потеряли в этой войне не менее миллиона солдат. Ему нужен был Гитлер победоносный, однако не всемогущий. Все эти мечты Муссолини рухнули самым прискорбным образом, и над ним можно было бы посмеяться, можно бы и пожалеть, если б его амбиции не стоили жизни столь многим людям.
20 июня Франц Гальдер удовлетворенно писал: «Даже представить себе не могу, чего бы еще руководство могло от нас хотеть, какие его желания остались невыполненными». Адъютант Гитлера полковник Георг Энгель записывал: «Главнокомандующий [Вальтер фон Браухич] получил свой час славы с Гитлером: он возвестил фюреру о завершении операции и подготовке перемирия. Он также предупредил ф[юрера] о необходимости либо заключить мир с Англией, либо подготовить и как можно скорее осуществить вторжение. Фюрер настроен скептически, полагает, что Англия так слаба, что после бомбардировок крупные наземные операции уже не понадобятся. Армия просто войдет и займется оккупационными задачами. Ф[юрер] говорит: “Так или иначе [англичанам] придется смириться с ситуацией”»57.
Среди тех, кто наблюдал победный парад немецких войск в Париже 22 июня, присутствовала, как ни странно, девятнадцатилетняя англичанка Розмари Сэй, не успевшая эвакуироваться из французской столицы:
«Военная машина катилась по Елисейским Полям: холеные кони, танки, машины, пушки, тысячи и тысячи солдат. Единая и слаженная процессия, сверкающая, с виду бесконечная, словно гигантский зеленый змей, обвившийся вокруг сердца захваченного города, а город покорно ждет, пока его заглотают. Большая толпа зрителей, большинство молчат, но некоторые приветственно кричат. Мои друзья [нейтральные американцы] превратились в мальчишек: выкрикивали имена полков, дивились современным танкам, присвистывали при виде замечательных лошадей. Я молчала, глубоко сознавая, что присутствую при историческом моменте. Сильных эмоций я не испытывала, но, по мере того как текли часы, а бесконечный спектакль все длился, я несколько устыдилась того, что пришла на него. Я подумала о родителях и друзьях там, в Лондоне, об их страхе перед будущим»58.
Пока немцы не начали операцию на Западе, союзники рассчитывали затянуть войну, чтобы дождаться американской помощи и перевести на военные рельсы собственную промышленность. Захват Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции опрокинул все их планы, Германия торжествовала. Мало кто в тот момент понимал, что капитуляция Франции, подписанная 22 июня в историческом вагоне в Компьене, обозначает не конец войны, а только начало. И размах притязаний Гитлера, и упорство Черчилля еще не обнаружили себя в полной мере.
4. Британия в одиночестве
Боевого пилота Пола Ричи, раненного во Франции, в первые дни июня переправляли домой на почтовом самолете: «Я смотрел вниз на спокойные и мирные английские деревни, где дым поднимался не от разбомбленных домов, а шел неторопливо из труб коттеджей, я видел, как на зеленой поляне играют в крикет. Мои мысли все еще оставались там, где в грохоте и огне погибала Франция, и уютное довольство Англии, укрывшейся за морской оградой, казалось мне противным. Я подумал: несколько бомб привели бы этих игроков в крикет в чувство, а еще подумал, что бомб ждать недолго»1. Примерно такие же чувства испытывали в те дни многие, когда пытались, пережив ужасы войны, передать эти чувства тем, кого эти ужасы пока миновали. И Ричи был прав также в том, что населению Южной Англии недолго уже оставалось мирно играть в крикет. Но, когда с этих зеленых лужаек призвали в строй англичан – многие из них толком сами себя не понимали, пока лидер нации не передал их смутные переживания прекрасной прозой, – они дали гитлеровской Германии отпор, достойный всей истории Британии.
Речь Черчилля в палате общин 18 июня 1940 г. цитировалась столько раз, что порой ее вспоминают лишь как прекрасный образчик риторики. Однако в каждую из ее заключительных фраз стоит всмотреться, потому что здесь раз и навсегда до конца войны была сформулирована миссия, стоявшая перед демократическими державами.
«Генерал Вейган объявил, что битва за Францию окончена. Теперь, полагаю, начнется битва за Британию. От этого сражения зависит судьба христианской цивилизации. От нее зависит наша жизнь, жизнь Британии, давняя традиция империи и ее институтов. Вскоре вся мощь и ярость врага обрушатся на нас. Гитлер знает, что он должен сломить нас, этот остров, или ему не выиграть войну. Если мы сумеем противостоять ему, то вся Европа сможет освободиться, и жизнь всего мира двинется дальше, к ясным, солнечным высотам. Но если мы падем, то весь мир, в том числе и Соединенные Штаты, провалится в бездну новых Темных веков, которые окажутся страшнее и, вероятно, продолжительнее благодаря извращенному применению науки. Так исполним же мужественно наш долг и поведем себя так, чтобы – если даже Британская империя и Содружество просуществуют еще тысячу лет – люди все же говорили: “То был их лучший час!”»
Поразительное впечатление возникает при сопоставлении этого призыва «исполнить свой долг» с настойчивыми обращениями немецкого фюрера в 1944–1945 гг., когда он, оказавшись в схожих обстоятельствах, настаивал на фанатичном сопротивлении. Речи британского премьер-министра присущи достоинство, великодушие, юмор, человечность и решительность – только это последнее качество мы и можем обнаружить у Гитлера. Летом 1940 г. перед Черчиллем стояла насущная и сложная задача – убедить собственный народ и весь мир в том, что дальнейшее сопротивление имеет смысл. Тридцатичетырехлетний сержант Пекстон находился в плену в Германии. 19 июля он писал: «Слышал сегодня, что Гитлер передал какие-то условия мира, а Черчилль сказал ему, куда их засунуть. Хоть бы они договорились, мы все хотим этого, и поскорее отправиться домой»2. Мнение Пекстона, конечно же, окрашено опытом поражения во Франции, к тому же он находился во власти победителей-наци. Но и в Британии, особенно среди деловых кругов и правящей элиты, среди тех, кто лучше других сознавал слабость своей страны перед лицом угрозы, хватало людей, опасавшихся наихудшего. Но Черчилль (и в этом его великое историческое и личное достижение) сплотил всех вокруг единой и ясной цели: отразить вторжение.
Дальнейший ход войны определялся в последние месяцы 1940 г. Нацисты сами были ошеломлены масштабами побед и несколько снизили темп. Гитлер выбрал наихудший из возможных стратегических компромиссов, развязав воздушную войну против Британии: завладев Континентом, он полагал, что достаточно будет и такой демонстрации сил, чтобы побудить англичан сдаться. Если бы он предоставил англичанам попросту вариться в собственном соку на острове, Черчиллю нелегко было бы поддерживать национальный дух и объяснять, каковы дальнейшие стратегические задачи страны. Достаточно было бы отправить осенью небольшой немецкий контингент, чтобы поддержать итальянскую агрессию в Египте, и англичан, вероятно, удалось бы вытеснить с Ближнего Востока. Можно было бы без особого труда захватить Мальту. Такие унижения подорвали бы доверие к доктрине Черчилля: биться до конца.
Вместо этого люфтваффе предприняло довольно нелепую кампанию – единственный вид нападения, который Британия в силу своего географического положения могла отразить. Британской армии и британскому народу не пришлось сражаться с вермахтом на берегах и зеленых полях своего острова. Такое столкновение могло закончиться для обороняющихся катастрофой. Теперь же премьер-министр просил англичан просто потерпеть, пока страну обороняли несколько сотен пилотов и – пусть менее наглядно, зато на деле важнее – мощные корабли военного флота. И вдохновенные речи премьер-министра обеспечили его политике поддержку вопреки убедительным, бившим в нос триумфам Гитлера, даже когда города начали гореть и погибали мирные жители.
Незамедлительное вторжение было не столь реальным, как того опасались британские генералы и как публично утверждал Черчилль. Немцам не хватало десантных судов и конвоя для того, чтобы переправить армию через Ла-Манш, который караулил сильный британский флот. На такое Гитлер никак не мог решиться. Но разведданные о ресурсах и решениях фюрера оставались фрагментарными: пока еще в Блетчи-парке не научились столь виртуозно расшифровывать вражеские радиограммы[7] как это будут делать на более поздних этапах войны. И деятельность немцев на Континенте, и отсутствие активности зачастую оставались неизвестны Лондону. Руководители британской разведки, травмированные поражением во Франции, были склонны приписывать вермахту чуть ли не сверхъестественные возможности.
В глубине души Черчилль изначально сомневался в вероятности вторжения, но в 1940–1941 гг. непрерывно напоминал об этой угрозе и в речах, и при выработке стратегии – это помогало сосредоточиться на определенной задаче и занять делом и армию, и народ. Черчилль полагал, и в общем-то справедливо, что бездействие и ощущение беспомощности роковым образом подорвет дух народа, а также прахом пойдет его расчет втянуть в конфликт Соединенные Штаты. Черчилль не допускал возвращения к «Странной войне», и, поскольку едва ли не единственной задачей ополчения только и могла быть подготовка на случай вторжения, он ставил эту задачу как основную даже спустя много месяцев после того, как острая угроза миновала.
После падения Франции беспощадную решимость британского премьер-министра первыми ощутили на себе недавние союзники. Однажды утром в июле 1940 г. Королевский флот окружил французские суда, находившиеся в британских гаванях, и потребовал сдаться. В Девонпорте офицеры подводной лодки Surcouf оказали сопротивление, в машинном зале завязалась перестрелка, погиб один французский моряк и трое британских. Три четверти оказавшихся в Британии французов, в том числе и те, кого только что вывезли из Дюнкерка, настаивали на репатриации, и в этом им британские власти не отказали. Однако конфликт продолжал развиваться: 3 июля эскадра в Мерс-эль-Кебире отвергла британский ультиматум. Черчилль ни в коем случае не желал допустить, чтобы корабли перешли в руки Петена и приняли участие в немецком вторжении в Англию. Адмирал Марсель-Бруно Женсуль не собирался ни возобновлять боевые действия в союзе с англичанами, ни соблюдать нейтралитет под их контролем, и тогда адмирал Сомервилл затопил или уничтожил артиллерийским огнем три корабля Женсуля, причем погибло 1300 моряков. Черчилль опасался, как бы в ответ Петен не передал свои военные силы в распоряжение нацистов, но тем не менее отдал приказ открыть огонь. В итоге правительство Виши не приняло участия в конфликте, а несколько отдаленных африканских колоний даже выразили лояльность Свободной Франции, сформированной бригадным генералом Шарлем де Голлем в Лондоне. И в то же время французы вплоть до конца 1942 г. яростно боролись с любым посягательством англичан на их территории.
Политика Петена отнюдь не была только следствием поражения Франции. Она пользовалась широкой поддержкой: правительство Виши ухватилось за возможность навязать, по выражению Майкла Берли, «регрессивную мораль, политический и социальный уклад, в котором авторитет и долг восторжествуют над свободой и правами»3. Патологический страх, ненависть к левым и евреям побуждали почти всех представителей аристократических, торговых и буржуазных кругов Франции поддерживать Петена, пока немецкое иго не сделалось невыносимым и не стала очевидной скорая победа союзников.
Налеты люфтваффе на Британию, начавшиеся в июле 1940 г., предоставили англичанам завидную возможность воевать с немцами в благоприятных условиях: из всех наземных и воздушных видов войск единственный, в котором англичане почти не уступали противнику по качеству и количеству, был однопилотный истребитель-перехватчик. Состоявшие на вооружении RAF Hurricane и Spitfire пока еще действовали согласно устаревшей тактической доктрине, и установленные на них пулеметы калибра 0,303 не обладали достаточной поражающей силой, зато управлявшая этими соединениями система радаров, наземного наблюдения и радио была на тот момент лучшей в мире. Гражданские служащие, ученые и авиатехники работали с большим энтузиазмом. И хотя снаряжение и обученность британской армии на всем протяжении войны оставались неудовлетворительными, народ Черчилля существенно превосходил Германию в применении науки и технологий: одним из основных факторов победы для Британии стала возможность мобилизовать лучшие умы среди гражданских и направить их усилия на военные задачи. У британских ВВС сложилась выдающаяся система защиты, а противник не имел даже толковой системы атаки.
На протяжении лета командование люфтваффе сковывала несогласованность приказов. Генерал Альберт Кессельринг возражал против бомбардировок Англии, он бы предпочел захватить Гибралтар и обеспечить Германии господство в Средиземноморье. Гитлер поначалу велел щадить английские города, а Геринг не хотел разрушать южные порты – они, мол, еще пригодятся для высадки вермахта. Немецкие ВВС попытались добиться господства в воздушном пространстве юго-восточной Англии, уничтожая истребители противника, и решали эту задачу довольно нелепым методом: бомбили аэродромы и инфраструктуру британской авиации, а на защиту своим бомбардировщикам придавали истребители в расчете, что те будут сбивать британские самолеты так же легко, как во Франции. Немцев, как всегда, подвела разведка: она в Третьем рейхе хромала. Они понятия не имели, как работает сеть опережающего обнаружения и контроля RAF. Вообще-то немцы создали радарную систему (Dezimator Telegraphie, или коротко DeTe) раньше, чем англичане, и технически были оснащены лучше. Однако немцы не связали свои радары в эффективную систему наземного контроля и им в голову не приходило, что англичане способны это сделать. Вплоть до конца войны немецкое руководство пребывало во власти доходившего до безумия самомнения (древние греки назвали это гордыней – «гибрис»). Особенно явно это сказалось в отношении к техническим изобретениям противника: если у немцев какого-то орудия или прибора не было, значит, и врагу не хватит ума подобное изобрести.
Полковник Беппо Шмид, глава немецкой авиаразведки, доносил вышестоящим лишь то, что они хотели слышать. Геринг не располагал достаточным стратегическим резервом или производственными мощностями для ускоренного строительства новых самолетов. Битву за Британию немцы провели с поразительной некомпетентностью, причина которой – невежество и самомнение. RAF, конечно, тоже допускал ошибки, но маршал авиации сэр Хью Даудинг и его ближайший помощник вице-маршал авиации Кит Парк, уроженец Новой Зеландии, командовавший Одиннадцатой группой, проявили последовательность и ясность суждения, граничащие с гениальностью, чего по другую сторону Ла-Манша отнюдь не отмечалось. Два преимущества на первом этапе этой кампании у немцев все же имелось: небольшое превосходство в числе самолетов и костяк уже опытных боевых кадров. Но их следовало направить на главные цели – радары, боевые аэродромы и инфраструктуру, а этого немцам сделать не удалось.
Битва за Британию началась с июльских схваток над Ла-Маншем: немцы атаковали береговой конвой, англичане его защищали. Поразить конкретную цель с воздуха было непросто. Например, когда пикирующий бомбардировщик атаковал с кормы судно длиной 250 м, у него было всего 1,5 секунды, чтобы метнуть бомбы, а если он заходил с носа, то временной промежуток сокращался до четверти секунды. Надо отдать должное искусству пилотов немецких Stuka: они сумели причинить британским конвоям существенный ущерб. Но Ju87 летали даже медленнее, чем бомбардировщики RAF, которые целыми эскадрильями погибали над Францией, и теперь настал черед британцев воспользоваться уязвимостью противника: где бы Stuka не наткнулись на английские истребители, они несли тяжелые потери, и вскоре их пришлось вывести из сражения. Пилот Spitfire Джефф Уэллум пытался передать словами стремительную битву в воздухе:
«Откуда ни возьмись вдруг строчит пулемет – сплошняком, очень близко. Чертов пулеметчик в носу. Это мишень, сосредоточься, мишень. Смотрю на него в прицел, слишком быстро увеличивается, сосредоточься, удерживай, так, правильно, держи прицел. Тише, сердце, тише. А теперь – стреляй! Я жму на гашетку, и – ад разверзся. Пулеметы строчат, звук рвущейся ткани, мимолетом я замечаю, как разлетается осколками стекло в носу моего Dornier, Брайан на Spitfire отрывается, на долю секунды я вижу его залитое бензином брюхо. Стреляй, Джефф, держись! Бога ради, отворачивай, не то врежешься – слишком близко. Я прекращаю стрелять, отворачиваю и слышу его двигатель, когда он проносится прямо надо мной. Чертовски опасно!»4
Поразительно, как мало самолетов было уничтожено в этих столкновениях. К примеру, 25 июля десятки английских и немецких самолетов вступили в перестрелку в воздухе над конвоем в Ла-Манше, но только два Spitfire было сбито и один Messerschmitt Bf109. Пилоты RAF не имели, по сути дела, подготовки к воздушным боям, а немцы отточили свое мастерство над Испанией и Польшей. Теперь защитникам Англии приходилось учиться сразу в бою. Вскоре стало ясно, что с каждой стороны сражается несколько асов, на чью долю и приходится подавляющее число сбитых самолетов противника: 3,5 % пилотов RAF одержали 30 % побед, а в люфтваффе эта пропорция в пользу лучших бойцов оказалась еще выше. Все решали зоркий глаз, меткость и решимость подобраться вплотную к врагу.
В британских ВВС культ асов отнюдь не поощрялся; напротив, у немцев их всячески продвигали и возвеличивали. Завистники в люфтваффе интересовались, не давит ли Адольфу Галланду, Гельмуту Вику и Вернеру Молдерсу на горло лента Рыцарского креста – награда за множество сбитых английских самолетов. Галланд, отважный и умелый истребитель, но также самовлюбленный и жестокий человек, был безжалостен и к слабакам среди своих подчиненных. Однажды он услышал в рации немецкий голос, взывавший: «У меня на хвосте спитфайр!» – и мгновением позже: «Спитфайр гонится за мной! Что мне делать?» Галланд рявкнул: «Выходи из самолета, сыкун!»5
В отличие от всех других видов сражений, в воздухе встречались очень молодые люди – только им хватало сил на воздушный бой на скорости под 1000 км/ч, после 30 лет ресурсы организма исчерпываются. Старшие командовали ими из штаба, с земли, но исход сражения зависел от мальчишек чуть моложе или чуть старше двадцати. В их словах и поступках, что в небе, что на земле, сказывается их молодость. 17 августа лейтенант Ханс-Отто Лессинг, пилот Bf109, в письме родителям похвалялся очередной (считалось, что сотой) победой своего отделения, словно школьник, описывающий успехи футбольной команды: «Мы состоим в эскадрилье майора Молдерса, самой победоносной эскадрилье! За последние дни англичане ослабли, хотя некоторые продолжают сражаться как следует. Hurricane – старые пыхтелки!.. Это лучшее время моей жизни. Я бы и с королем местами не поменялся. Как скучно нам будет потом, в мирное время»6. Наутро одна из «старых пыхтелок» его прикончила.
Пилот RAF Пэдди Бартроп потом вспоминал: «Пиво, женщины и спитфайры – только это мы и видели. Кучка юных Джонов Уэйнов. В 19 лет сам черт не страшен»7. Британские пилоты не пропускали ни дня без пьянки: молодости усталость неведома. Пит Бразерз рассказывал: «Мы надирались в лоск». Однажды в плохую погоду эскадрилья осталась на земле. К ним в баре присоединились авиатехники, но чуть небо развиднелось, пилоты галопом выскочили на поле. «Отрываешься от земли и напоминаешь себе: вот кнопка, эту рукоять туда, включи прицел. Мы были все вусмерть пьяны. Но стоило завидеть свастику – мигом протрезвели»8.
Они любили свои самолеты, своих волшебных железных птиц. Боб Стэнфорд-Так рассуждал: «Мужчины влюбляются в яхты, порой, как ни странно, в женщин или в автомобили, но я уверен, что каждый пилот Spitfire обожал свой самолет с той самой минуты, как впервые садился в аккуратный маленький кокпит, где все под рукой». Такие же впечатления остались и у Боба Доу после первого вылета на новой машине: «Сердце так и скачет! Сперва я обошел самолет со всех сторон, потом посидел в нем, погладил его. Такой красивый! Мне кажется, все мы в них сразу влюбились»9. Бок о бок с англичанами в воздухе сражались новозеландцы, канадцы, чехи, жители Южной Африки и горсточка американцев. Самую крупную группу иностранцев во время Битвы за Британию составляли поляки – 146 человек, 5 % от общего числа пилотов. Репутация их была безупречна, поляки отличались и опытом, и беззаветной отвагой. «Как видаешь свастика или черный крест на самолете, – рассказывал один из поляков Болеслав Дробиньский, – сердце бьется чаще, думаешь: сбиваю его или пусть меня застрелят. Месть не на жизнь, а на смерть!»10 То была не пустая похвальба. Позднее, когда поляки бомбили Германию, они надписывали бомбы: «За Варшаву», «За Львов».
Защитники британского воздушного пространства купались во всенародной любви. Пилотов, когда они после очередного сражения над городами и деревнями Англии, появлялись под вечер среди гражданского населения, повсюду бурно приветствовали. Это много значило для молодых людей, страшно устававших и каждый день терявших товарищей. «К нам были так добры, – вспоминал потом один из пилотов. – Это было чудесно. Потом уже Британия не была такой»11. Пехотинцы завидовали летчикам и звали их «набриолиненные парни» (Brylcreem boys), как немцы своих – «солдатики в галстуках» (Schlipssoldaten). На всем протяжении этой войны летчики разных наций будут окружены ореолом, в котором отказано тем, кто сражается на земле.
Тем острее ощущались потери опытных пилотов-истребителей: десять асов, летавших на Hurricane, сбившие пять или более вражеских самолетов, погибли с 8 по 19 августа, а еще 12 – между 20 августа и 6 сентября. Приходившие им на смену новички погибали впятеро быстрее; особенно высоки были потери в тех эскадрильях, которые продолжали соблюдать жесткое построение, предписываемое доктриной RAF для атакующих соединений. Те подразделения, чьи командиры проявляли бόльшую инициативу и гибкость, оказывались в лучшем положении. Летавшие «в колее» погибали, в живых оставались крутившиеся, вертевшиеся, постоянно менявшие курс, чтобы не оставаться неподвижной мишенью. Три четверти британских истребителей были сбиты Bf109, а не пулеметчиками на бомбардировщиках и не двухмоторными Bf110. Все решала внезапность: четверо из пяти жертв не успевали увидеть атакующих, многих атаковали сзади, пока они гнались за вражеским самолетом впереди.
«Десять секунд в горящем кокпите – и ты покойник, огонь и дым тебя прикончат, – вспоминал сержант Джек Перкин. – Девять секунд – и до конца войны проваляешься в госпитале имени королевы Виктории в Восточном Гринстеде в ожоговом отделении доктора Арчи Макиндоу. Если выберешься за восемь секунд, летать больше не будешь и придется пройти с дюжину пластических операций»12. Пилот Hurricane Билли Дрейк передал ощущения подбитого летчика: «Это похоже на автомобильную аварию. Что было – потом и не вспомнишь»13. С обеих сторон значительная часть потерь происходила не в бою, а от несчастных случаев, вызванных беспечностью или неосторожностью усталых и неопытных юнцов: с 10 июля по 31 октября в аварию попали 463 Hurricane, зачастую со смертельным для пилота исходом. И у Даудинга, и у Геринга не менее трети потерь приходилась на такого рода случайности.
Из тех, кому удалось катапультироваться над морем, мало кого нашли: человек в спасательной шлюпке – слишком маленькая точка, спасательные экипажи, бороздившие Ла-Манш и Северное море, могли его и пропустить. Ульрих Штайнхилпер глянул вниз, на воды Ла-Манша, возвращаясь после очередного вылета в сентябре: «Наш путь над этими враждебными водами усеян парашютами, плавают летчики в спасательных жилетах, пятна бензина на холодной воде указывают, где нашел свой конец еще один Me109. Вдоль всего побережья под Булонью мы видели 109-е – в полях, на траве, некоторые так и врезались носом»14. В тот день утонуло 19 немецких экипажей, и лишь два были подобраны гидросамолетами.
Тот рыцарственный дух, с которым британцы вступали в войну, быстро повыветрился. Дэвид Крук вернулся с задания, на котором погиб его сосед по комнате, и с изумлением уставился на вещи своего приятеля, лежавшие там, где он их оставил, на полотенце на окне. «Никак не мог выкинуть из головы Питера, мы еще только утром болтали с ним и смеялись. Теперь он лежит в кокпите разбитого Spitfire на дне Ла-Манша»15. В тот день жена погибшего пилота позвонила договориться, чтобы ему предоставили отгул, и услышала от командира эскадрильи известие о его смерти. Крук писал: «Это было ужасно. Я видел своими глазами горе и смерть». После того как эскадрилья Пита Бразерза несколько раз приняла участие в боях и он потерял многих друзей, Пит перестал тешиться иллюзией, будто это всего лишь матч двух соперничающих команд. «Тогда я сказал себе: “Это бандиты. Ничего в них нет хорошего. Я буду беспощаден”»16. В самом начале кампании пилот Денис Уисслер записывал в своем дневнике: «Боже, хоть бы эта война скорее кончилась»17. Мало кто из молодых людей, сражавшихся по ту или иную сторону в Битве за Британию, уцелел в следующие пять лет войны. Летать для них было наслаждением, но слишком рано этим юношам пришлось взрослеть посреди ужаса и жестокости, которые стали их ежедневной участью в воздушных боях.
В августе люфтваффе планомерно наращивало интенсивность боевых действий, атакуя английские аэродромы, а изредка и радарные станции. Маршал авиации сэр Хью Даудинг, главнокомандующий истребительной авиации, вступил в это сражение с 600 боевыми самолетами, а немцы ежедневно высылали в среднем по 750 бомбардировщиков, 250 пикирующих бомбардировщиков, более 600 одномоторных и 150 двухмоторных истребителей, распределенных по трем эскадрильям. В первую очередь бомбили юго-восточную Англию, но Даудингу приходилось также защищать северо-восток и юго-запад страны. В первый раз усиленная бомбардировка аэродромов и коммуникаций состоялась 12 августа. Тогда вышла из строя радарная станция Вентнор на острове Уайт. На 13 августа люфтваффе планировало решающий «День орла», но в густом тумане массированный налет распался на ряд плохо скоординированных атак. Двумя днями позже, 15-го, произошел самый мощный налет на Англию – 2000 боевых судов, из которых 75 было сбито. Англичане потеряли 34 самолета, причем два не успели даже оторваться от земли. Наибольшие потери понесли немецкие отделения, вылетевшие со скандинавских аэродромов, – их не сопровождали одномоторные истребители, поскольку для них такое расстояние было чересчур велико. Немцы прозвали этот день «черный четверг». Но еще большие совокупные потери обе стороны понесли три дня спустя, 18-го, когда люфтваффе утратило 69 самолетов, а британская истребительная авиация – 34 в воздухе и 29 на земле.
Обе стороны были склонны значительно преувеличивать нанесенный противнику ущерб, но ошибки немецкой разведки имели более серьезные последствия, поскольку поддерживали иллюзию, будто Германия побеждает. За август и начало сентября люфтваффе провело 40 рейдов на базы британской истребительной авиации, но лишь две базы – Мэнстон и Лимпн на побережье Кента – были выведены из строя больше чем на считаные часы, а радары вообще не входили в число основных целей немецких бомбардировщиков. Под конец августа немцы были уверены, что истребительная авиация сократилась вдвое, до 300 самолетов, а на самом деле у Даудинга оставалось вдвое большее число самолетов, и теперь преимущество оказалось уже на стороне англичан. С 8 по 23 августа RAF лишился 204 самолетов, но за то же время было построено 476 новых, а многие из подбитых удалось отремонтировать. Люфтваффе потеряло 397 самолетов, в том числе 181 истребитель, а немецкие заводы произвели всего лишь 313 Bf109 и Bf110. В середине августа погибли 104 британских пилота, а у немцев 623 летчика погибли или попали в плен.
К сожалению, бомбардировщикам RAF редко воздается по заслугам за вклад в эту кампанию, а ведь с июля по сентябрь они потеряли вдвое больше экипажей, чем истребительная авиация, атакуя готовившиеся к вторжению баржи в портах Ла-Манша и проводя устрашающие налеты на немецкие аэродромы. Нападения на аэродромы причиняли незначительный материальный ущерб, но усиливали стресс среди пилотов люфтваффе, которые из-за этих налетов и на земле не могли как следует отдохнуть. «Британцы всю ночь треплют нам нервы, – записывал пилот Ульрих Штайнхилпер. – Они никак не угомонятся, наши зенитки все время стреляют, а мы глаз не можем сомкнуть»18.
Геринг переменил тактику: теперь он высылал небольшие отряды бомбардировщиков с сильным прикрытием истребителей. Их миссия состояла в том, чтобы спровоцировать англичан на бой для защиты собственных аэродромов, и тогда немецкие истребители получали возможность уничтожить противника в воздухе. Даудинг и в самом деле нес большие потери, но, к огорчению командования люфтваффе, каждый день на перехват немецких самолетам вновь поднимались эскадрильи британцев. Начались трения между Одиннадцатой группой, истребители которой обороняли юго-восток, и Двенадцатой группой, экипажи которой должны были прикрывать аэродромы Одиннадцатой группы от немецких бомбардировщиков. На рубеже августа и сентября несколько авиабаз были серьезно повреждены. Чем, собственно, занимались пилоты Двенадцатой группы, когда это произошло? Дело в том, что ряд командиров этой эскадрильи, в том числе Дуглас Бейдер, непременно требовали сначала выстроиться «большим крылом», а потом уже вступать в бой. На такое построение уходили драгоценные минуты, но в спорах между теоретиками верх одержали приверженцы «большого крыла». К ним прислушивались, а они бессовестно раздували свои достижения. В результате от междоусобных дрязг, которые за сентябрь превратились для RAF в серьезный недуг, пострадала репутация Кита Парка, командующего Одиннадцатой группой, а командующий Двенадцатой группой Траффорд Ли-Мэллори, куда лучше исполнявший роль интригана, нежели боевого командира, заметно укрепил свое влияние. Потомство признает в Парке выдающегося авиатора, чей вклад в Битву за Британию равен заслугам самого Даудинга.
Многие молодые пилоты RAF, зная уровень потерь среди истребителей, заведомо считали себя обреченными, но оттого не менее отважно и преданно сражались. Пилот Hurricane Джордж Барклай из 249-й эскадрильи 1 сентября был направлен на аэродром Норт Уилд в Эссексе – этой авиабазе доставалось хуже многих других. Когда они собирали вещи, товарищ Барклая мрачно заметил: «Кое-кому из нас не суждено возвратиться в Боском». Сам Барклай смотрел в будущее с оптимизмом и записал в дневнике: «Думаю, каждый из нас уверен, что продержится как минимум неделю»19.
Под конец августа немцы допустили самую нелепую стратегическую ошибку за всю кампанию: вместо аэродромов они принялись бомбить сначала Лондон, потом другие крупные города. Гитлеровские генералы были уверены, что таким образом вынудят Даудинга бросить в бой последние резервы, но британские военачальники, в том числе и Черчилль, почувствовали облегчение: они знали, что столица выдержит бомбардировки, в то время как авиабазы истребительной авиации были куда более уязвимы. А пилоты продолжали сражаться – тяжелые каждодневные схватки, большие потери. 3 сентября Джордж Барклай писал сестре тем подростковым, задыхающимся от избытка чувств языком, каким изъяснялись они все: «Сегодня мы поднимались в воздух четыре раза, дважды побывали в ужасной битве с сотнями “мессеров”. Это просто замечательно, ни с чем не сравнишь! Совершенно забываешь, что творится с твоим самолетом, только бы врага не упустить. Кружат вокруг сотни самолетов, по большей части с черными крестами, на высоте типа 6000 м, устье Темзы и графства вокруг видны вплоть до Клактона, словно выпуклая карта»20.
Сэнди Джонстоун «чуть из кокпита не выпрыгнул, когда 7 сентября впервые увидел столько самолетов люфтваффе – впереди и над нами, целая армада, они шли эшелонами от самого горизонта. Никогда я не видел в воздухе одновременно столько самолетов. Жуткое зрелище»21. Поначалу немецкие экипажи успокаивала мысль о величине и мощи их воздушного флота. «Куда ни глянь – всюду наши, какое прекрасное зрелище»22, – писал Петер Шталь после очередного сентябрьского рейда на Ju88. Но и он, и его товарищи вскоре убедились, что ощущение безопасности было иллюзорным – их строй тут же разорвали пикирующие, заходящие со всех сторон, изрыгающие огонь Hurricane и Spitfire. К середине дня 7 сентября тысяча самолетов схватилась в битве над Кентом и Эссексом. Hurricane Джорджа Барклая был подбит, и он едва успел приземлиться в поле. Немцы потеряли 7 сентября 41 самолет, а британские истребители – 23. Как и во всех крупных сражениях той кампании, преимущество осталось за англичанами.
Ульрих Штайнхилпер, пилотировавший Bf109, оказался одним из многих летчиков, кто, кроме страха и возбуждения, почувствовал и красоту созданной ими картины: в сентябре над Лондоном он любовался «чистейшей голубизной неба и солнцем, которое взбиралось в зенит, окруженное зловещей дымкой, а вдоль и поперек носились сражавшиеся не на жизнь, а на смерть истребители. И посреди всего этого – горящие дирижабли и горсточка парашютов в поразительной, щемящей отъединенности»23. 15 сентября налет люфтваффе не сопровождался обычными отвлекающими маневрами, так что британское командование ясно видело, куда направлена угроза, и бросило все силы на перехват. Навстречу немцам попарно шли истребители, вылетев на опережение до самого Кентербери, а над восточным Лондоном разворачивалось «большое крыло» Даксфорда. В тот день и вторая атака люфтваффе натолкнулась на сильную оборону англичан – всего было сбито 60 немецких самолетов, хотя RAF приписал себе 185. С 7 по 15 сентября немцы потеряли 175 самолетов – гораздо больше, чем успевали выпускать их заводы.
Немцы вели эту кампанию непоследовательно: сперва пытались уничтожить базы RAF и ресурсы британской авиации, затем переключились на цели, стратегические скорее с моральной точки зрения. Боезапас легких немецких бомбардировщиков хотя и был достаточен, чтобы причинить заметный ущерб, но не мог нанести решающий удар сложному индустриальному обществу. RAF тоже не сумел разделаться с люфтваффе, это было не в его силах, но и в воздушном пространстве над Ла-Маншем и Южной Англией немцам захватить господство не удалось даже ценой огромных потерь. Истребительная авиация сохранила себя и продолжала срывать планы Геринга. Британские заводы успевали производить больше одномоторных истребителей, чем немецкие, и это достижение английской промышленности сыграло ключевую роль. Всего англичане потеряли 544 человека – примерно каждого пятого участника Битвы за Британию; у немцев погиб 801 пилот бомбардировщиков и 200 попали в плен, но настоящей катастрофой стала потеря 2698 опытных пилотов-истребителей.
Личный вклад Черчилля заключался в том, что он, обращаясь к народу через головы кое-кого из представителей аристократического класса, убеждал англичан: они ведут благородную и необходимую борьбу и уже познали успех. Битва за Британию ободрила англичан настолько, что они словно перестали замечать подавляющее преимущество противника. «Наши пилоты прошли через страшные испытания, но ежедневно они совершают все новые подвиги, – писал пожилой тори-заднескамеечник Катберт Хедлэм 20 сентября. – Удивительно, сколь многим мы обязаны горстке молодых людей: мы, миллионы англичан, бездействуем, а элитный отряд воинов, набранных там и сям, ведет решающее сражение у нас над головами. Должно быть, это особенные люди – когда-нибудь мы узнаем в точности различие в материальных ресурсах между RAF и люфтваффе и тогда еще более изумимся отваге этих замечательных парней, которые ныне служат небывалую службу своей родине»24.
Но и в целом народ Британии выносил общее испытание вполне достойно. Бомбардировке подвергались только жители больших городов, однако страх перед вражеским вторжением затрагивал всех. Черчилль не слепо решился биться до последнего: он вполне реалистично признавал возможность поражения и национальной катастрофы. Бригадный генерал Чарльз Гудзон присутствовал в июле на совещании командного состава в Йорке. Военный министр Энтони Иден объявил собравшимся, что по поручению премьер-министра он намерен проверить боевой дух войск. Иден, как запомнилось Гудзону, намеревался задать каждому генералу по очереди вопрос: «можно ли рассчитывать на то, что подчиненные нам войска продолжат сражаться при любых обстоятельствах? Было слышно, как все невольно затаили дыхание». Замешательство еще более усилилось, когда министр предупредил, что «в какой-то момент правительство может оказаться вынуждено принять тяжелейшее решение. Может сложиться ситуация, когда неразумно будет в тщетной попытке спасти проигранную войну бросать плохо вооруженных людей против закрепившегося на британской земле врага»25. Иден хотел знать, как войска отреагируют на приказ грузиться в северном порту на корабли и отправляться в Канаду, покинув свои семьи.
Гудзон записал: «В мертвой тишине он задавал этот вопрос одному генералу за другим». Почти все отвечали единодушно: кадровые офицеры, сержантский состав и неженатые солдаты выполнят такой приказ, но среди мобилизованных и женатых «большинство будет настаивать на том, чтобы продолжать борьбу в Англии или же предпочтут [остаться и попытать] счастья со своими семьями, невзирая на последствия». Иными словами, командование британской армии полагало, что перед лицом неминуемого поражения значительная часть личного состава сделает тот же выбор, что и презираемые ими слабаки-французы: скорее сдадутся, чем решатся продолжать борьбу в изгнании. Гудзон завершает свой рассказ: «С этой встречи мы выходили присмиревшие». Ни он сам, ни его коллеги ни разу не представляли себе перспективу такой борьбы до конца – борьбы в изгнании, на чужбине, когда сама Англия падет. Черчилль допускал и такую вероятность, но мало кто из англичан даже мысленно заглядывал в те бездны самопожертвования, которые окидывал взором премьер-министр.
Гитлер мог бы решиться на вторжение, если бы люфтваффе захватило контроль в воздухе над Ла-Маншем и Южной Англией, но при сложившихся обстоятельствах, инстинктивно опасаясь и моря, и лишнего стратегического риска, он почти ничего не предпринимал в плане подготовки, разве что сосредотачивал в портах Ла-Манша буксирные суда. Угрозой вторжения Черчилль воспользовался более ловко, чем его противники: он сумел сплотить народ вокруг общей цели отразить врага, если тот ступит на землю Англии. С перекрестков и железнодорожных станций убирали дорожные знаки и названия мест, берег опутали колючей проволокой, мужчины, по возрасту не подлежавшие мобилизации, записывались в местное ополчение, им выдавали простое оружие. Призрак вторжения Черчилль умышленно и даже цинично реанимировал вплоть до 1942 г., опасаясь, как бы природная апатия не вернулась к англичанам, едва те решат, что угроза национальной катастрофы миновала.
А в тот год и летом, и осенью намерения Германии оставались неясными и грозными. Среди населения страх смешивался с возбуждением и даже предвкушением, тем более острым, что сама мысль сражаться с немцами посреди английских лугов и деревень казалась ирреальной. Некая хозяйка усадьбы добавила в часть своего запаса канадского кленового сиропа крысиный яд в расчете скормить это угощение немцам, но, к величайшей досаде ее детей, отравительница тут же перепутала банки, забыла, какие из них оставались безопасными и пригодными для потребления, а потому вынуждена была отказать своим домашним в этом лакомстве26. Фермер из Уилтшира Артур Стрит уловил нечто, смахивавшее на пантомиму в действиях и жестах своих работников и соседей, когда местное ополчение предупредили о скором и неминуемом вторжении немцев:
«В ту ночь дежурило отделение Седжбери Уоллоп, и патрульные доставили в местное отделение полиции 17 ошеломленных гражданских, забывших прихватить с собой удостоверения личности. Но к семи часам в Уолтере Пококе очнулся фермер, и он посоветовал своему работнику на полчаса вновь превратиться из солдата в пастуха: “Ты бы наведался к овцам, но прихвати с собой винтовку с патронами, – велел он. – До загона всего десять минут ходу, а случись что, я за тобой сразу же пошлю”. “В порядочке наши овцы, – отвечал пастух. – С вечера их загнали в ограду, и хотя этому парнишке Артуру всего пятнадцать годков, я ж его сам обучил как надоть. И никуды я не двинусь, пока отбоя не будет”. К одиннадцати, когда пришло наконец известие, что угроза вторжения – реальная или мнимая – миновала, все уже изворчались. “Думаете, они в сам-деле придут, сэр?” – приставал к хозяину Том Спайсер. “Навряд ли”, – отвечал ему Уолтер. “Так я и думал, – фыркнул Фред Банс, кузнец. – На этих немецких увальней ни в чем положиться нельзя”»27.
Деревенщине из Уилтшира выпало счастье, какого большинство народов континентальной Европы были лишены: они могли беззаботно смеяться над врагом, ибо им не пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. 17 сентября Гитлер распорядился отложить на неопределенный срок операцию Seelöwe – план вторжения в Британию. Этого англичане не знали: гражданское население, как и пилоты истребителей, заметили только, как в октябре массированные дневные атаки постепенно сменялись ночными воздушными рейдами. С 10 июля по 31 октября немцы потеряли 1294 самолета, а британцы – 788. Гитлер уже не надеялся не только захватить Британию в 1940 г., но и окончательно расправиться с истребительной авиацией противника. Вместо этого он распорядился постоянно бомбардировать города Британии в расчете таким образом сломить дух гражданского населения. Основными мишенями стали авиационные заводы, лондонские доки и другие элементы инфраструктуры. Поскольку немцы не могли похвалиться точностью навигации и бомбометания, в глазах англичан эти воздушные рейды были попросту непрерывной атакой на мирных жителей, кампанией террора.
Эти ночные рейды, начавшийся с 7 сентября «блиц», отражать было куда труднее, чем дневные налеты, поскольку у RAF имелось крайне мало ночных истребителей и радары плохо работали в темноте. Черчилль распорядился, чтобы зенитки, слишком слабые, чтобы поразить врага, все же стреляли почаще – это внушало гражданам уверенность, – но серьезного ущерба бомбардировщикам они причинить не могли. С сентября до середины ноября каждую ночь, за одним-единственным исключением, прилетало до 200 самолетов люфтваффе. 13 000 снарядов и зажигательных бомб обрушилось на Лондон, Бристоль, Бирмингем, Портсмут и другие города, а поплатились немцы всего 75 самолетами, и те в большинстве своем стали жертвами аварий, а не истребителей.
Подвергшиеся «блицу» горожане прошли через различные стадии изумления, страха, ужаса и, наконец, приняли новые условия существования. Жительница Лондона описывала один из налетов: «Бомбы густо падали, одна подле другой. Их взрывы чаруют и гипнотизируют, вероятно, это чувство тянется из детства, когда мы любовались хлопушками. Вот и я смотрела, как взрываются первые две бомбы. Если бомба не угодит в дом и не поднимет его на воздух, сам по себе ее взрыв не такое захватывающее зрелище, как большой пожар: вздымающиеся вверх языки красного и желтого пламени так примитивны, словно их нарисовал мальчишка»28. Мюриэль Грин, жительница норфолкской деревни, с удивительной для девушки девятнадцати лет отзывчивостью, записала в дневнике свои чувства в ночь после разрушительного налета немецкой авиации на Ковентри: «Хотела бы я знать, что чувствуют сами эти летчики. Ведь кто-то же их любит, хотя они и наци, они рискуют жизнью и сражаются за свою страну, как и наши пилоты. Несчастные жители Ковентри! Как же им сегодня безнадежно плохо. Сколько еще это может продолжаться? Как долго нам жить в страхе перед неведомыми бедами, каких большинство из нас еще не испытало?»29
Бомбардировки продолжались до тех пор, пока Гитлер в мае 1941 г. не начал готовить армию к нападению на Советский Союз. Города Англии, в особенности центральные кварталы, сильно пострадали от этих налетов, а еще существеннее страдали душевно горожане, ночь за ночью прятавшиеся в убежищах со своими детьми и своими страхами. В среднем за рейд бомбардировщики, поднимавшиеся с аэродромов северной Франции, теряли около 1,5 % личного состава – куда меньший процент потерь, чем несли потом англичане, бомбившие Германию, потому что англичанам приходилось проделывать более дальний путь. Погибло около 43 000 англичан и 139 000 было ранено.
Отсутствие четкого плана помешало люфтваффе зимой 1940/41 г. нанести существенный ущерб британской промышленности. Сказался недостаток и достаточно точных приборов наведения, и бомб высокой разрушительной мощи. Молодой ученый по фамилии Джонс, ставший офицером разведки, сделал важнейшую вещь для противовоздушной обороны: он придумал, как распознавать сигналы немецких радиолокаторов и как их блокировать. Конечно, при сигнале воздушной тревоги приходилось останавливать работу, а некоторые ключевые заводы были все же серьезно повреждены; немецкие бомбы разрушили десятки тысяч домов, в том числе старинные здания, церкви и другие памятники архитектуры. Но население Британии приспособилось заниматься своими делами и под бомбардировками.
«Раненые шумят гораздо меньше, чем я ожидала, – писала Барбара Никсон, актриса, ставшая смотрительницей убежища в Финсбери. – Лишь дважды мне довелось слышать ужасные крики (если не считать случаи истерии). Однажды это был сигнальщик – ему оторвало ноги, и, пока он еще был в сознании, прибор вспыхнул у него в руках. Никто не мог приблизиться к нему, и прошла, казалось, вечность, прежде чем стихли его чудовищные, леденящие сердце вопли. Но обычно раненые, даже тяжелые или оказавшиеся в ловушке, были слишком ошеломлены и не могли кричать. А вот животные – те шумели ужасно. Едва ли не самая кошмарная ночь за первые три месяца – та, в которую разбомбили скотный рынок и животные мычали, блеяли, орали три часа кряду. Тогда же рухнул локомотив, и его гудок все гудел, не замолкая. Этот монотонный звук в сочетании с отдаленным ревом мулов просто сводил с ума»30.
В ту эпоху значительная часть транспорта все еще оставалась на конной тяге. В городских конюшнях, по сельскому обыкновению, держали козла, за которым лошади покорно следовали, если возникала в том необходимость. Однажды ночью в Сити загорелись помещения крупной извозчичьей компании, и двести лошадей вышли вслед за вожаком козлом в безопасное место. И все же, как ни отважно переносила Британия «блиц», страдания простых людей превышали всякую меру. Бернард Копс, видевший все это ребенком и ставший впоследствии прозаиком и драматургом, писал: «Иные люди задним числом поэтизируют “блиц”. Будто бы это были времена всенародного подъема и добрососедства. Только не для меня. Для меня началась пора ужаса, страха, непреходящего кошмара. Детство закончилось, я лицом к лицу стоял с реальностью преобразившегося мира… Начался новый исход, евреи Ист-Энда покидали свои дома и уходили в подполье»31.
Отчасти поддерживало британцев и традиционное английское легкомыслие (если не глупость). Священник в лондонском бомбоубежище спросил соседку, молится ли она при звуке падающих бомб. «Конечно, – ответила она, – я взываю: “Боже! Не дай им упасть сюда!”» «Но ведь это несправедливо по отношению к другим людям, – заметил священник. – Если ваша молитва будет удовлетворена, бомба упадет не на вас, а на кого-то еще». «Это уж не мое дело, – возразила женщина, – пусть они тоже молятся и гонят бомбу подальше»32. Бомбоубежища кишели вшами и насекомыми. В обширных убежищах под бедными городскими кварталами то и дело можно было наткнутся на пьяниц как мужского, так и женского пола, на ожесточенные ссоры и драки, и, разумеется, в отсутствии уборных там была невыносимая грязь.
Тяжелее всего война сказывалась на стариках и детях, на тех, кто толком не понимал происходящего. Снова Барбара Никсон: «Они не понимали, что творится вокруг, никогда ничего не слышали о Польше и не знали, что представляет собой фашизм. В лучшем случае они представляли себе злобную тварь Гитлера, который пытается всех нас взорвать или умертвить прямо в постели»33. Эрни Пайл, знаменитый американский корреспондент, в январе 1941 г. писал из Лондона: «Трагичнее всего кажутся мне старики… Представьте, что вам семьдесят или восемьдесят, вам больно, остались лишь смутные воспоминания о прожитой жизни, в которой тоже мало что было хорошего. И представьте, как вы каждую ночь бредете в бомбоубежище, завернув свои старые плечи в поношенное пальто, и сидите там на деревянной скамье, прислонившись спиной к изгибу холодной стены. Сидите всю ночь, то задремывая, то просыпаясь в испуге. Представьте себе такую участь – каждую ночь, каждую, начиная с сегодняшней»34.
Житель Лондона Герберт Бруш семидесяти одного года рассказывал, как его знакомая обратилась к врачу, потому что у нее стали отказывать нервы – ей приходилось в условиях войны водить машину. По пути в Кембридж она попала под пулеметный огонь с воздуха, и ей пришлось прятаться в живой изгороди. Затем в Норвиче в течение ночи несколько бомб упали поблизости от нее. Врач признал у пациентки посттравматический шок, прописал ей сильное тонизирующее средство и рекомендовал полный покой на две недели35. Реакция этой женщины на сравнительно малую опасность кажется избыточной, но каждый человек измеряет риск и лишения в соответствии с индивидуальным опытом. Бессмысленно было бы объяснять домохозяйке из английского пригорода, что полякам, евреям, французским беженцам, а потом и солдатам на Восточном фронте намного хуже, чем ей. Она видела только одно: по сравнению со всем ее прежним жизненным опытом происходящее с ней ужасно. Мало кто наслаждался ужасом, как тридцатилетний садовник, пацифист Джордж Спринджет, по соображениям совести отказывавшийся брать в руки оружие. В первые недели войны он постоянно принимал тонизирующее средство «Санатоген», но вскоре уже не чувствовал в том потребности: «С тех пор, как начался “блиц”, я чувствую себя совершенно здоровым»36.
Среди героев этой кампании были и люди, научившиеся тяжким путем проб и ошибок разряжать невзорвавшиеся бомбы, которых вскоре уже огромное количество лежало на улицах английских городов. Одним из самых замечательных саперов стал Джек Говард, граф Суффолк. В начале войны этот бонвиван тридцати четырех лет от роду добыл себе должность в научном отделе Министерства снабжения. В этом качестве он, между прочим, вывез из Бордо после французской капитуляции на миллион фунтов промышленных алмазов, доставленных в этот город из Амстердама, группу знаменитейших французских ученых и весь имевшийся в стране запас норвежской тяжелой воды, необходимой для производства атомной бомбы. Осенью 1940 г. этот эксцентричный человек, взахлеб игравший с жизнью, вызвался разряжать бомбы37.
Суффолк сформировал собственное подразделение, куда вошла также и его симпатичная секретарша Берил Морден. На собственный счет Суффолк купил и оборудовал грузовик. В ковбойской шляпе и пилотских ботинках, а порой и в пилотском шлеме, но всегда с двадцатисантиметровым сигаретным мундштуком в руках он разряжал бомбы и изучал немецкие взрыватели замедленного действия, которые с каждым днем все более усложнялись. Его отвага и ум не знали себе равных, а вот дисциплина хромала. 12 мая 1941 г. на лондонском кладбище бомб в Эрит Марш граф возился с тикающим взрывателем замедленного действия Type 17 – бомба взорвалась, унеся с собой Дикого Джека. Вместе с Говардом подорвалось еще тринадцать человек, в том числе и красотка Берил Морден. Его смерть оплакивали, но все же и возмущались: по неосторожности лорд прихватил с собой на тот свет слишком многих. Работа с бомбами – не для любителя.
Другая проблема возникла у сапера Боба Дэвиса, который до войны ходил на рыболовецком судне из гавани Корнуолла. Кое-какой технический опыт он в своих путешествиях приобрел и сумел устроиться в корпус Королевских инженеров. Однажды в сентябре 1940 г. после ночного налета подразделение Дэвиса вызвали разряжать тысячекилограммовую бомбу, которая засела глубоко на площади перед собором Святого Павла. Едва саперы приступили к работе, как вдохнули протекавший из пробитой трубы газ, и им пришлось прервать работу. Получив медицинскую помощь, они вернулись к работе и копали до утра, пока от искры не вспыхнул газ в другой трубе – трое из команды Дэвиса сгорели заживо.
Пресса следила за этой историей: опасность грозила старинному собору. Daily Mail восхваляла отвагу саперов: «Эти храбрые и умелые королевские инженеры не раз уже глядели в лицо смерти»38. Почти 80 часов пришлось им копать, пока в 8 м под лондонской глиной Дэвис и его люди не добрались до бомбы. Обвязали ее крепким канатом и попытались вытащить здоровенную железяку с помощью грузовика. Канат порвался. Лишь когда тяжесть распределили на два каната, привязанных к двум грузовикам, удалось неспешно поднять бомбу на поверхность. Ее закрепили в кузове и повезли по улицам Лондона в Хэкни Марш, где наконец взорвали. Получилась воронка диаметром 30 м.
Команда Дэвиса прославилась. О ней постоянно писали в прессе. Заголовки кричали: «Человек победил бомбу». Дэвису и тому саперу, который непосредственно обнаружил бомбу и спас собор, вручили Георгиевский крест – только что установленную награду для актов гражданского героизма. И лишь в мае 1942 г. эта славная история получила печальное продолжение: Дэвис предстал перед судом по обвинению в тридцати случаях крупномасштабного и систематического воровства, которым он занимался в должности начальника отряда. Он также вымогал наличные у людей, чьи дома спасал от неразорвавшихся бомб, не брезговал и поддельными чеками. Новые разоблачения: выяснилось, что бомба у собора Святого Павла не была снабжена запалом отложенного действия, то есть не представляла особой угрозы, к тому же Дэвис не отвозил ее самолично в Хэкни. Опозоренный офицер отсидел два года в тюрьме и вышел в 1944 г. на свободу. На самом деле саперы исполняли тяжелую и опасную работу, и даже этот корнуоллский пройдоха внес свой вклад в оборону, но эта история свидетельствует о том, что в «блице» отводилась роль не только героям, но и подонкам, а многие люди представляли собой удивительную смесь того и другого.
Воздушная война против Британии – один из величайших военных промахов Гитлера, большей глупостью было только нападение на Советский Союз. К июню 1940 г. англичане, в особенности правящие классы, осознали, что на Континенте им нечего противопоставить нацистам. Если бы Гитлер предоставил им вариться в собственном соку и сокрушаться о своей беспомощности, вновь послышались бы голоса в пользу мирных переговоров с Германией, эта идея нашла бы поддержку среди давних сторонников компромисса, которые все еще занимали высокие посты. Неосуществившаяся, висящая в воздухе угроза бомбардировок – в 1939 г. все их ожидали и все боялись – повлияла бы на политику Британии сильнее, чем реальные и не такие уж страшные налеты.
Основное правило применения силы для решения государственных задач – действовать эффективно. Немцы не достигли своей цели в кампании 1940/41 г. против Англии, и обнаружилась одна из фундаментальных особенностей всей этой войны: вермахт зачастую сражался блистательно и выигрывал битвы, но нацистское правительство оказалось малоспособным к ведению войн. Так и люфтваффе не запугало народ Черчилля и не принудил его склониться перед Гитлером, а лишь пробудил в англичанах негодование и готовность к сопротивлению.
Задним числом период с июля 1940 г. по весну 1941 г. будут вспоминать в основном в связи со сражениями в воздушном пространстве Англии, но на самом деле Битва за Британию отнимала лишь малую часть военных ресурсов немцев. Почти вся немецкая армия пребывала в праздности, как и в пору «Странной войны». Конечно, приходилось командовать завоеванными народами, делить плоды победы, особенно добытые во Франции. В Берлине «война проявляется не традиционными признаками – упадком и скудостью, – писал американский корреспондент Говард Смит, – а внезапным подъемом и процветанием. Берлинские уборщицы и служанки, в жизни не надевавшие шелковых чулок, познакомились с товаром от Хауссмана – вернее, “от моего Ханса, он сейчас на фронте”. В забегаловках на углу появились ряды арманьяка, мартелля и курвуазье»39.
Немецкая оборонная промышленность все еще разворачивалась неспешно, ей требовалось время, чтобы произвести танки, самолеты и боеприпасы взамен растраченных при покорении соседних стран. За зиму численность армии существенно возросла благодаря новому призыву – с мая 1940 г. по июнь 1941 г. – с 5,7 млн до 7,3 млн человек, 180 дивизий вместо прежних 143. С оккупированных территорий везли не только коньяк и чулки, но и промышленное оборудование, в особенности немцам требовались железнодорожные вагоны. Под немецкой властью экономика завоеванных стран переживала резкий спад, и облегчение наступит лишь после освобождения, однако французские оборонные заводы продолжали работать – на немцев.
Воздушной войне с Британией Гитлер практически не уделял внимания. Он даже ни разу не наведался на аэродромы у побережья Ла-Манша. Всю осень и зиму он бился над основной своей стратегической дилеммой: попытаться на гребне европейских побед осуществить в 1941 г. вторжение в Британию или послушаться своих желаний и инстинктов и повернуть на Восток. 31 июля 1940 г., задолго до того, как началась собственно Битва за Британию, Гитлер собрал в Бергхофе своих генералов и поделился с ними намерением в следующем году, в мае, напасть на Россию. Но после этого заявления Гитлер промедлил еще несколько месяцев в раздумье. Командование германского флота требовало решительных действий с целью изгнать англичан из Средиземноморья – захватить со стороны Испании Гибралтар, через Ливию выйти к Суэцкому каналу. Адмирал Эрих Редер отстаивал этот план действий, и его поддерживал генерал Вальтер Варлимонт, глава отдела стратегического планирования вермахта. После совещания высших чинов армии в рейхсканцелярии 4 ноября адъютант Гитлера Герхард Энгель записал: фюрер кажется угнетенным, «в данный момент он не знает, как поступать дальше».
Вариант с продвижением на Запад все еще не был окончательно отброшен и в ноябре, когда в Берлин наведался советский министр иностранных дел Молотов. Аппетиты русских к территориальным приобретениям росли, и немцев это вовсе не устраивало. Молотов интересовался дальнейшей судьбой Румынии, Болгарии, Польши и даже Греции. Он спрашивал, отвечает ли нейтралитет Швеции общим интересам Германии и России. («Да, отвечает», – резко намекнули ему.) Из обмена любезностями выяснилось, что неудовлетворенные амбиции по части «жизненного пространства» имеются не только у Гитлера, но и у Сталина. Едва Молотов сел на самолет до Москвы, как Гитлер подтвердил свой первоначальный план: в следующем году – на Россию!
Собственно, с его точки зрения, иного выбора и не было. Немецкая экономика была куда слабее, чем казалось: она лишь ненамного превосходила по продуктивности Британию, а доход на душу населения в Британии был даже выше. Германия не могла вечно существовать в условиях войны, экономика была до предела напряжена необходимостью содержать и вооружать вермахт. Кроме того, Гитлер спешил закрепить свое господство в Европе, пока не подоспели Соединенные Штаты – по его прогнозам, Америка могла вмешаться в конфликт в 1942 г. Варианта заключить перемирие с Англией ему не предоставлялось: Черчилль наотрез отказался от переговоров. Гитлер убедил себя, что упорство англичан подпитывается надеждой вступить в альянс со Сталиным и в союзе с ним разгромить немцев. В таком случае, разгромив Советский Союз, Гитлер приблизил бы и капитуляцию Британии. Если схватка с Россией неизбежна, было бы глупо откладывать ее: Сталин тем временем завершит перевооружение армии. 18 декабря Гитлер подписал директиву, назначив вторжение на конец мая 1941 г.
Три соображения побуждали Гитлера нанести удар первым: во-первых, он хотел осуществить свою миссию – уничтожить большевизм и создать германскую империю на востоке; во-вторых, казалось благоразумным разделаться с советской угрозой прежде, чем вновь сосредоточить свои силы на Западе и окончательно решить вопрос с Британией и Соединенными Штатами; в-третьих, имелись на то и экономические резоны. Ирония судьбы: Советский Союз после заключения пакта поставлял Германии огромное количество сырья и продуктов. В 1940 г. почти весь корм для скота Германия получала из России; 74 % фосфора, 67 % асбеста, 65 % хрома, 55 % марганца, 44 % никеля и 34 % нефти – и Гитлер решил, что подобную зависимость невозможно и далее терпеть. Летом неурожай в Германии вынудил его импортировать также украинскую пшеницу, и Гитлеру уже не терпелось завладеть зерновым поясом Советского Союза и кавказской нефтью. Далеко не сразу – лишь ближе к концу войны – союзники осознали, как плохо у противника дело с топливом: из-за нехватки бензина шоферов-новобранцев в вермахте практически не обучали, а в результате часто происходили аварии тяжелой военной техники. Даже в 1942 г., в самый страшный год Битвы за Атлантику, Британия импортировала 10,2 млн тонн нефти, а немецкий импорт и продукция химзаводов в совокупности не превышали 8,9 млн тонн. Захват кавказских нефтяных скважин был одной из приоритетных задач операции Barbarossa, и Гитлер стремился на юг, хотя для этого пришлось разделить силы наступающих и отказаться от возможности уничтожить Красную армию единым массированным ударом. Вторжение в Россию было для Гитлера одновременно и крестовым походом, и решением экономических проблем. Характерно, что этими планами Гитлер не делился с итальянцами, опасаясь их болтливости. Всю зиму 1940/41 г. Муссолини лелеял надежду на счастливый мир, плодами которого он сможет насладиться, захватив Египет. Для всех стран оси характерно такое отсутствие доверия – вплоть до 1945 г. Германия, Италия и Япония не предпринимали попыток выработать единую стратегию, чтобы одолеть союзников.
Так что в последние дни 1940 г., когда англичане считали себя главной мишенью нацистской агрессии и заголовки газет по всему мире вопили о драматических перипетиях «блица», Гитлер мыслями уже был далеко. Его военачальники готовили армию к походу на Восток. Уже в ноябре эстонский двойной агент сообщил резиденту британской разведки в Хельсинки, что, по словам офицера абвера, немецкое командование планирует на июнь начало войны против СССР. Англичанин отмахнулся – война на два фронта казалась безумием – и сказал: «Вероятно, подобные заявления делаются в пропагандистских целях»40. Даже если бы он передал эту информацию в Лондон, англичанам вряд ли удалось бы поколебать самодовольное спокойствие Сталина и побудить его подготовиться к обороне.
За без малого год после капитуляции Франции большинству немецких солдат не приходилось пускать в ход оружие. Наземные операции прекратились, был потерян темп – в тот момент едва ли кто это заметил, но на дальнейшем ходе войны это промедление сказалось. Гитлер не предпринимал мер, чтобы превратить крупнейшее в истории завоевание в прочное и долговременное господство. Немецкому флоту недоставало сил для вторжения в Британию и даже для того, чтобы перерезать маршруты снабжения через Атлантику; воздушные налеты на Британию не дали существенных результатов. Предположение, будто Гитлер напал на Советский Союз потому, что не придумал, чем еще заняться, звучит легкомысленно, однако что-то в этом есть – приходится согласиться с Яном Кершо41. Нацистам предстояло еще немало побед, но некоторые генералы, посвященные в планы Гитлера, уже догадывались о фундаментальных проблемах Третьего рейха: требовалось захватить как минимум полушарие, чтобы со всех сторон обезопасить себя, но оставалась сомнительной способность военной и экономической системы немцев осуществить такие завоевания.
Триумф Гитлера в Западной Европе вызвал у демократических стран преувеличенное представление о его силах, а народ Гитлера предался ликованию. В новую мировую войну немцы вступали со страхом и дурным предчувствием, но к зиме 1940 г. прежняя настороженность рассеялась. Мало кого тревожил неуспех Битвы за Англию. Юный пилот Хайнц Кноке пытался передать свой восторг, когда 18 декабря он в битком забитом зале Берлинского дворца спорта (Sportpalast) слушал речь Гитлера: «Мир еще не видел столь блистательного оратора. Его магнетическая личность неотразима. Чувствуешь эманации поразительной воли и мощной энергии. Нас здесь 3000 юных идеалистов. Никогда прежде мы не испытывали столь глубокой патриотической привязанности к нашему немецкому отечеству. Не забыть мне выражение счастья, которое я видел на всех окружавших меня лицах»42.
Но рано радовались. Победы 1940 г. создали гигантскую империю, но, хотя ограбить оккупированные территории победителям удалось, их управление отличалось чудовищной экономической некомпетентностью. Вопреки распространенному мнению, Германия отнюдь не была передовым индустриальным государством – от Соединенных Штатов она отставала лет на 30. В стране все еще господствовал большой аграрный сектор – Британия давно его сократила. Престиж Германии, страх перед ней поселился в сердцах разбитых противников после того, как вермахт и люфтваффе продемонстрировали свои возможности в бою. На самом деле люфтваффе было намного слабее, чем казалось союзникам. Время покажет, что Гитлер не располагал достаточными силами для реализации своих амбиций. Хотя Британия под конец 1940 г. чувствовала себя осажденной, мощь Германии покоилась на куда более зыбких основаниях, чем подозревали43.
Зимой 1940 г. Уинстон Черчилль убедил свой народ в том, что он совершает нечто существенное, героическое, а ведь большинство англичан могло бы и призадуматься, что же они такое делают. «Премьер-министр хвалил в палате общин нас, парней на истребителях, – записал пилот Spitfire Сэнди Джонстоун. – Говорит, мы только что одержали славную победу, хотя, по правде говоря, мы и не заметили, чтобы происходило такое уж крупное сражение»44. Черчилль прославлял победы истребительной авиации и выносливость, с какой народ терпел немецкие бомбардировки. Но пока что он не говорил, как от борьбы с люфтваффе перейти к одолению нацистской империи – просто потому, что сам не знал, как это сделать.
Эдуард Мурроу, американский радиожурналист, 15 сентября сообщил слушателям CBS, что известие о падении бомб на Букингемский дворец не вызвало особого ажиотажа: лондонцы только плечами пожали – пусть, мол, королевская чета разделит общую беду. «Эта война не имеет ничего общего с прошлой – изменились символы, изменилось положение гражданских. Пора понять, что старый мир умирает, гибнут прежние принципы и предрассудки, прежние основания власти и престижа». Мурроу видел то, чего пока не хотела признать часть британской аристократии, кое-кто еще пытался убедить себя, будто сражается за сохранение привычного старого строя. Для привилегированной элиты, как писал принадлежавший к ней Ивлин Во, мировая война была «зловещим нарушением нормальности, массовым движением миллионов людей, из которых немногие подвергались опасности, но большинство было одиноко и праздно; несла разрушение, голод, утраты, рушились здания, тонули корабли, подвергались пыткам и погибали узники, и все это продолжалось без смысла и без конца»45. Мало кто в кругу Ивлина Во понимал, что «нарушение нормальности» произошло раз и навсегда и прежний образ жизни никогда не вернется.
Упорная нацеленность Черчилля на победу сослужила английскому народу прекрасную службу в 1940–1941 гг. Позднее сказалась и ограниченность его позиции. Он хотел сохранить Британскую империю, ее величие и существующий порядок. Большинство соотечественников Черчилля эта цель отнюдь не вдохновляла. Они жаждали общественных перемен, улучшения своего положения – премьер-министру такие вопросы показались бы неуместными посреди борьбы за мировое господство. Домохозяйка из Ланкашира Нелла Ласт сумела трогательно выразить надежды многих таких, как она сама, записав летом 1940 г.: «Порой я никак не могу надивиться, когда думаю, сколько труда, сил и денег тратится сегодня на разрушение, а давно ли не было ни денег, ни работы, и мне кажется неправильным, что деньги и силы всегда находятся, чтобы разрушать и уничтожать, а чтобы строить – нет»46. Миссис Ласт достигла уже среднего возраста, но ее дети и их сверстники были преисполнены решимости: после победы изыщутся деньги и на создание более эгалитарного общества.
Черчилль не пытался называть какие-либо цели войны сверх победы над державами оси. Когда весы склонились на сторону союзников, обнаружилась эта слабость Черчилля, и его популярность в стране резко пошла на убыль. Но в 1940–1941 гг. главной задачей премьер-министра было убедить народ, что войну можно выиграть. Эта задача не упростилась, а скорее усложнилась, после того как удалось одолеть люфтваффе: вдумчивые люди не могли не понимать, что Британия по-прежнему не в силах бросить вызов господству Германии на Континенте. Пилот Hurricane Джордж Барклай запомнил ожесточенный спор между младшими и старшими офицерами в столовой авиабазы в воскресенье 29 сентября 1940 г.: «Англичане все еще пребывают во сне. Они так и не поняли, насколько силен враг, не поняли, что в борьбе придется жертвовать всем. Чтобы бороться против диктатора, нужно установить диктатуру. В конечном счете мы выиграем войну, но усилия потребуются адские, в особенности если мы прямо сейчас не подтянемся»47. Основная и вполне здравая мысль – населению Британии следует вложить всю душу в победу. Впереди еще много разочарований, несчастий и поражений, и сам Джордж Барклай вместе со своим самолетом рухнет и сгорит на погребальном костре посреди пустыни еще до того, как Гитлер ухитрится нажить себе достаточно врагов и тем самым приуготовить свою погибель.
5. Средиземноморье
1. Муссолини рискует
Затевая в 1939 г. войну, Гитлер не собирался переносить боевые действия в Средиземноморье и твердо высказывал намерение не тратить на это ресурсы Германии. Но собрат-диктатор Бенито Муссолини мечтал превратить Средиземное море в «итальянское озеро» и по собственной инициативе предпринял действия, развязавшие конфликт в этом регионе. На протяжении года после падения Франции армии союзников и оси сталкивались только на территории Африки и на Балканах. Даже после того, как Германия в июне 1941 г. напала на Россию, Средиземноморье еще целых три года оставалось основной точкой приложения сил союзников в борьбе против Гитлера. И это стало последствием злосчастного решения Муссолини вступить в борьбу, к которой его народ был совершенно не готов.
Гитлер располагал вермахтом, мощным орудием для осуществления собственных амбиций. Дуче разыгрывал из себя великого завоевателя, стоя во главе армии с некомпетентными офицерами, не желающими сражаться и плохо вооруженными солдатами. Италия была бедной страной, ее ВВП более чем вдвое уступал британскому, а среднедушевой доход – втрое. Стали, к примеру, в Италии производилось в шесть раз меньше, чем в Британии. Во Второй мировой войне Италия мобилизовала свою экономику даже менее эффективно, чем в Первую. В самую идиллическую пору союза Муссолини с Гитлером нацисты относились к южному союзнику с таким презрением, что 350 000 итальянцев, трудившихся в Германии, находились на положении чуть ли не рабов: итальянский посол большую часть своего времени тратил, ходатайствуя за соотечественников и добиваясь улучшения их положения. Сам Гитлер еще сохранял расположение к Муссолини, чьим примером он некогда вдохновлялся, но большинство немцев не доверяли итальянскому лидеру и смеялись над ним. Берлинцы утверждали, будто всякий раз при встрече дуче и фюрера шарманщики играют известную песенку «Не можешь ты верность хранить» («Du Kannst nicht Treue sein»). Ходил анекдот: в 1936 г. какая-то дурочка на светской вечеринке спросила Вернера фон Бломберга, кто выиграет следующую войну, а тот якобы ответил: «Мадам, этого я сказать не могу, одно знаю наверное: проиграет та сторона, за которую выступит Италия»1. В нацистских кругах ходил и другой анекдот: Вильгельм Кейтель (этого прислуживающего и льстящего Гитлеру военачальника именовали Лакейтель) докладывает: «Мой фюрер, Италия вступила в войну!» Гитлер отвечает: «Пошлите две дивизии, этого хватит, чтобы разделаться с ними». Кейтель возражает: «Но, мой фюрер, они воюют не против нас, а за нас», Гитлер говорит: «Это меняет дело: пошлите десять дивизий»2.
В первые месяцы войны немцы и англичане, словно по взаимному уговору, воздерживались от операций на Ближнем Востоке. Общее положение Британии было настолько уязвимым, что ее военачальники ни в коем случае не хотели растрачивать свои силы еще и на этом театре боевых действий. С тех пор как Муссолини присоединился к державам оси, Средиземноморье утратило для союзников ценность в качестве морского пути на Восток, поскольку здесь на воде и в воздухе господствовал их противник. Главнокомандующий сэр Джон Дилл предпочел бы направить людские резервы и излишки оружия на Восток, чтобы укрепить оборону империи против надвигавшейся японской угрозы. Но Черчилль не желал этого допустить: раз не получалось дать немцам бой на территории Европы, он решил сделать это в Африке. Летом 1940 г. драгоценные танки были отправлены в ближневосточные британские колонии к генералу Арчибальду Уэйвеллу. Принимались и другие меры предосторожности – 16 000 жителей Гибралтара были эвакуированы сперва в Северную Африку, а затем в Англию, и лишь 4000 гражданских осталось на Скале. Казалось вполне вероятным, что державы оси попытаются захватить крепость у врат Средиземноморья и к ним мог присоединиться диктатор Испании генерал Франко.
Британия держала в Средиземноморье довольно большой флот, но адмирал Эндрю Каннингем, в отличие от Черчилля, понимал, насколько уязвимы корабли без прикрытия с воздуха. На протяжении двух с лишним лет после того, как Франция вышла из мирового конфликта, а Италия, напротив, присоединилась к нему, британском флоту отчаянно недоставало как авианосцев, так и наземных баз, с которых могли бы подниматься в воздух самолеты. Британские истребители не могли, вылетев с аэродрома на Гибралтаре, Мальте, в Египте или Палестине, пересечь огромные воздушные пространства от берега до берега, а их противники располагали практически неисчерпаемым выбором баз. Удивительно, что при таком неблагоприятном балансе сил и общей стратегической слабости Королевский флот продержался с 1940 по 1943 г. и даже осуществлял некоторые миссии в Средиземноморье. Опыт, отвага и изобретательность Каннингема и его капитанов более чем уравновешивали количественное превосходство итальянских боевых кораблей. Что же касается сухопутных войск, лишь горсточка британских и колониальных дивизий сражалась в североафриканской пустыне, а бόльшая часть армии оставалась дома – отчасти для обороны на случай вторжения, отчасти из-за недостатка оружия и снаряжения и отсутствия кораблей, на которых можно было бы перевезти солдат за море, а потом еще и снабжать их. Сражения в пустыне оказали на исход глобального конфликта едва ли более существенное влияние, чем стычки французских и английских рыцарей в промежутках между основными битвами на исход Столетней войны. И все же битва в Северной Африке завладела воображением западного мира и приобрела огромное символическое значение в глазах британского народа.
Сражение разворачивалось на узкой полосе средиземноморского побережья – порой ширина этой полосы не превышала 60–70 км, – и почва там подходила для перемещения танков. Тридцать два месяца, с сентября 1940 г. по май 1943 г., два войска пытались одолеть друг друга в ряде схваток, и в результате их танки проехали более 3000 км по этой прибрежной зоне. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, и многое определялось расстоянием от базы, откуда поставлялись топливо, боеприпасы, провиант и вода: англичане более всего преуспевали в 1941–1942 гг., когда не слишком отрывались от дельты Нила, а их противник жался к Триполи. Не стоит романтизировать никакие разновидности войны – в любом случае солдат предпочел бы мирно сидеть у себя дома, а не воевать, и погибать в горящем танке под Бенгази ничуть не слаще, чем под Сталинградом. Но по крайней мере пустыни пусты – там не погибали гражданские, не уничтожались дома и города, то есть хотя бы не происходило тех ужасов, которые война принесла в более населенные регионы.
И хотя воевать в пустыне тоже нелегко, в долгие периоды затишья между битвами здесь все же условия существования были полегче, нежели зимой в России или в Азии в пору муссонов. Порой можно слышать утверждение, будто в Северной Африке война шла «без ненависти». Это явный перебор – конечно, здесь тоже был страх, а где страх, там и злоба; нормальные люди в пылу битвы ничего хорошего не думают о тех, кто стремится их убить. Но в Африке обе стороны сумели избежать крайних проявлений жестокости, в том числе расправы с пленными. Итальянцы и немцы, жители Британии, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки выживали и сражались в чуждой им и дикой обстановке, на земле, к которой никто из них не был эмоционально привязан. И более страшным, чем противник, врагом были песок и мухи, жара и жажда.
Осенью 1940 г. Муссолини не терпелось добиться наглядных успехов, которые позволили бы ему претендовать на часть добычи в общей победе государств оси, а в победе уже все были уверены. Ни в сухопутных, ни в морских сражениях его армия опыта не имела, но дуче жаждал иноземных походов и завоеваний, которые придали бы авторитет фашизму и укрепили бы шаткий дух его народа. «Армии нужна слава», – твердил он. Ливия, колония Италии, примыкала к Египту, который англичане контролировали силами всего лишь одной британской дивизии, Седьмой танковой, и двух вспомогательных подразделений – индийского и новозеландского. Вскоре к ним прибыли еще две австралийские дивизии. Англичане пребывали в Египте на птичьих правах: Египет был суверенным государством под властью короля Фарука, англичане же находились на его территории якобы лишь для защиты Суэцкого канала. Каирское правительство официально не вступало в войну вплоть до февраля 1945 г., и большинство египтян отдавало свои симпатии державам оси, мечтая об окончательном освобождении после 70 лет английского господства. Эти взгляды разделяли арабские националисты по всему Ближнему Востоку, и первоначальные успехи Гитлера лишь подогревали их ненависть к британскому владычеству. В августе 1940 г. секретарь Великого Муфтия Иерусалима наведался в Берлин с предложением подготовить восстание в Ираке. Он также предлагал снабжать мятежников в Палестине и Трансиордании – а таковые непременно появятся – оружием, которым вишистская Франция располагала в Сирии. Единственное, что требовалось от нацистов, – гарантировать повстанцам независимость будущих арабских государств.
Однако в 1940 г. германское руководство не проявило особого интереса ни к мусульманским бунтам, ни к арабской свободе. Хуже того – оно передоверило дипломатические игры в этом регионе Италии. Понятно, что свободолюбивые порывы местного населения никак не совпадали с мечтой Муссолини об африканской колониальной империи: во имя этой мечты итальянские генералы уже вырезали многие тысячи ливийцев и абиссинцев. Лишь в 1941 г. немцы завязали самостоятельные отношения с арабскими националистами, особенно в Ираке и Персии. Но их запоздалое и не слишком усердное вмешательство англичане быстро пресекли и укрепили свое господство в регионе.
В сентябре 1939 г. Великобритания напомнила Фаруку о пункте в договоре между двумя странами, согласно которому Египет был обязан в случае войны предоставить «всяческую помощь, в том числе возможность пользоваться гаванями, аэродромами и другими коммуникациями». С этого момента англичане рассматривали страну скорее как свою колонию и распоряжались тут всем через посредство своего посла сэра Майлза Лэмпсона. У берегов Александрии разместился средиземноморский флот, а в феврале 1942 г. английские отряды вошли в Каир и подавили в зародыше восстание. Во время войны среди местного населения еще не раз вспыхивали голодные бунты. Нищенское существование фелахов разительно отличалось от сибаритского образа жизни британских колонизаторов, роскошного отеля Shepheard, спортивного клуба Gezira, от комфортных казарм и отлично снабжавшихся баз в дельте Нила. К «черномазым» англичане относились с чудовищным высокомерием.
Попадавшие в эти места американцы дивились и заносчивости англичан, и имперскому самомнению, им казалось, будто англичане и сражения в западной пустыне считают чем-то вроде мероприятия из спортивного календаря. Не совсем справедливо: на самом деле и сражались всерьез, и погибали, но такова уж традиция британской армии – превращать войну в видимость забавы. Правда и то, что до конца 1942 г. англичане вели кампанию в Северной Африке дилетантски и порой вдохновенно одерживали победу, но чаще глупо проигрывали.
«На бумаге» силы Муссолини были очень велики, и летом 1940 г. казалось вполне вероятным, что итальянцам удастся вытеснить англичан из северной и восточной Африки. Итальянцев в Африке собралось 600 000 человек; под командованием Уэйвелла на Ближнем Востоке, в Кении, Судане и Сомали было менее 100 000 солдат. В августе итальянцы почти без кровопролития захватили Сомали. Черчилль рвал и метал. Сражаться подданные Муссолини отнюдь не стремились, но победы согревали их сердца. В тот краткий период, когда возникла надежда недорогой ценой завоевать Африку, а люфтваффе тем временем увязло в сражениях над Британией, некий итальянский журналист с гордостью и упованием писал (вот уж поистине национальный гений самообмана!): «Мы попытаемся самостоятельно выйти к Суэцу – возможно, мы и войну выиграем вовсе без немцев»3. Но, чтобы успешно проводить столь крупномасштабные операции, Муссолини не хватало ни ресурсов, ни последовательности. С одной стороны, он демобилизовал часть раздутой армии – отпустил крестьян собирать урожай. С другой стороны, пренебрег элементарным правилом сосредотачивать все силы в единый кулак и решил заодно захватить Югославию и Грецию. Приоткрывшуюся ненадолго возможность овладеть Мальтой дуче упустил. Его генералам в Северной Африки недоставало снаряжения и опыта, а главное – решимости. В сентябре 1940 г. военное министерство Италии вернулось к практике мирного времени – заканчивать все дела к двум часам дня. Характерное для итальянских военачальников умение «не замечать» войну.
Итальянский дипломат с отвращением описывал общее настроение Милана: «Все думают только о еде и удовольствиях, спешат богатеть, сочиняют анекдоты о великих и могущественных. Всякий, кто ухитрится погибнуть на этой войне, – жалкий дурачок, а тот, кто снабжает армию ботинками с картонными подошвами, – молодец»4. Молодой итальянский офицер писал родным из Ливии: «Мы все еще рассматриваем эту войну словно колонизаторский поход в Африку, а на самом деле это европейская война, которую европейцы ведут между собой европейским оружием. А мы и в ус себе не дуем, строим каменные форты и живем в роскоши»5.
Предложение Гитлера прислать ему на подмогу две бронедивизии и тем самым обеспечить скорую победу оси Муссолини отверг: ни в коем случае не хотел пускать немцев в собственную ревниво оберегаемую зону влияния. При этом четвертая часть итальянского воздушного флота участвовала в Битве за Британию, воздушное пространство над итальянскими войсками в Ливии было оголено, а тем временем в Албании, захваченной Муссолини еще в 1939 г., собиралась большая армия для вторжения то ли в Югославию, то ли в Грецию – куда дуче скажет. Стратегия и политика итальянцев определялись уверенностью, что они участвуют в незначительных операциях войны, которая уже близка к победоносному завершению. Муссолини боялся, как бы англичане не заключили мир с Гитлером прежде, чем Италия успеет урвать себе кусок, а в итоге Италия окажется единственной из воюющих держав, чьи основные сражения будут разворачиваться в Африке – постепенно итальянцы потеряют там 26 дивизий, половину воздушного флота и все танки, а заодно и свой военный престиж – сколько его еще оставалось.
Летом 1940 г. англичане начали боевые действия с рейдов через ливийскую границу. Маршал Родольфо Грациани выставил около 250 000 солдат против 36 000 англичан, находившихся в Египте, 27 000 (включая территориальную конную дивизию) в Палестине. Этот муссолиниевский маршал прославился разгромом абиссинской армии в 1935 г., когда он без оглядки пускал в ход отравляющие газы. В 1940 г. Грациани показал себя трусом, совершенно не готовым к столкновению лицом к лицу. В сентябре он попытался осторожно продвинуться в Египет, но, существенно переоценив ресурсы Уэйвелла и устрашившись первой же демонстрации сил противника, остановился, врос в землю к югу и к востоку от Сиди Баррани. Один из сподвижников Грациани, Аннибале Бергонцоли, прозванный англичанами Электроус, жаловался, что его артиллеристы чересчур пугливы: во время воздушного налета разбегаются, и их пинками не вернешь обратно к орудиям. На три месяца боевые действия прекратились, к неудовольствию Муссолини, который все еще опасался, как бы война не закончилась прежде, чем он овладеет Египтом, и к неудовольствию также и Черчилля – пришлось дожидаться, пока Уэйвелл соберет силы для контратаки.
19 января 1941 г. генерал-майор Уильям Платт повел небольшую армию из Судана в Эритрею и после затяжного сражения захватил 27 марта крепость Керен, заплатив за победу 536 солдатскими жизнями – преимущественно это были индийцы. Раненых насчитали 3229 человек. Ранее, в феврале, другой британский отряд под командованием генерала Алана Каннингема (родного брата адмирала) выступил из Кении в Сомали, прошел вдоль побережья до Могадишо, затем повернул на север и преодолел 1200 км до Харара. К 6 апреля Каннингем успел захватить Аддис-Абебу, столицу Абиссинии, потеряв всего 501 человека. Местами итальянцы продолжали еще оказывать сопротивление на протяжении полугода, но в целом Абиссинская кампания увенчалась победой британцев, хотя им и пришлось выдержать тяжелые битвы, живя на скудном рационе. Боевые потери были невелики, гораздо больше солдат – 74 550 человек – стали жертвами эпидемии, из них 744 человека умерло. Погибло и 15 000 верблюдов, на которых британскому авангарду подвозили припасы. В плен попало более 300 000 итальянцев.
Гораздо активнее проводились боевые действия в Египте. 6 декабря Уэйвелл отдал генерал-лейтенанту сэру Ричарду О’Коннору приказ приступать к операции Compass, нацеленной на Грациани. Начинали англичане эту операцию осторожно, на многое не рассчитывая, но неожиданный успех побудил их к гораздо более агрессивным действиям. Они вторглись в Ливию, десятки тысяч итальянцев поспешили сдаться. Английский артиллерист описывает одну из «стремительных колонн О’Коннора, груженную всем необходимым для войны в пустыне: провиантом, боеприпасами, бензином и самым драгоценным – четырехгаллонными алюминиевыми флягами с водой. Все это добро перевозят на трехтонных грузовиках Bedford, крытых брезентом. На легких грузовиках Morris Scout едут отдельные офицеры или командующие батарей, стоя на пассажирском сиденье, знамена дивизии вьются на ветру. Парочка двадцатипятифунтовых пушек из конной артиллерии, за грузовиком катятся на двухколесной тележке цистерны с водой. Иной раз пройдет группа легких танков Hussar, гусеницы скрипят и визжат, танки подбрасывает на камнях, дрожат и качаются их длинные и тонкие щупальца-антенны. Машины конвоя держали строй, двигались веером, соблюдая дистанцию 50 м между машинами, песок из-под колес – словно струи дождя»6.
Итальянская оборона тут же рассыпалась в прах. «Удара не держат, – пренебрежительно писал о противнике австралийский солдат. – Не переносят боль (раненые, я видел их сотни, рыдают), не переносят обстрела (дергаются, когда снаряд падает за сотню метров), грохот британских танков повергает их в ужас, а при виде наших штыков они тут же поднимают лапки кверху. Тоже мне, фашисты!»7. Точно так же отзывается об итальянцах австралийский офицер: «Все наши теперь знают, что один кенгуру пятьдесят итальяшек побьет»8. Лейтенант Том Берд прибегает к сравнению из области спорта: «Мне кажется, нам повезло, что мы можем, так сказать, потренировать удар на итальянцах. Воевать против них – сплошное удовольствие»9. Итальянцы и в самом деле словно нарочно себе во всем вредили. Например, отдел пропаганды в Риме задумал снять фильм в доказательство физического превосходства фашистов. С этой целью организовали кулачный бой между экс-чемпионом в тяжелом весе Примо Карнера и захваченным в плен чернокожим южноафриканцем по имени Кэй Масаки. Масаки никогда прежде не занимался боксом, и, едва камеры включили мотор, Карнера сбил его с ног. Однако африканец поднялся и врезал итальянцу так, что тот рухнул без чувств10.
Сторонние наблюдатели были вправе не придавать особого значения триумфам Британии в африканской пустыни. Румынский писатель Михаил Себастиан 7 февраля отмечал в дневнике: «Вся эта война в Африке, пусть захватывающая и драматическая, всего лишь приложение к главному. Основная борьба идет между Британией и Германией, и там все решается»11. Он, конечно, был прав, но для подвергавшихся еженощным бомбардировкам лондонцев эти победы стали отдушиной. К 9 февраля О’Коннор продвинулся на 800 км и захватил Эль-Агейлу. Открывался путь на запад, на Триполи. Но на этом, к изумлению рядовых солдат, стремительное продвижение остановилось: они застряли в песках итальянской колонии и бездействовали. «Каждый день похож на предыдущий, – писал заскучавший артиллерист Дуг Артур. – Суббота могла быть понедельником, пятница – вторником и даже масленичным вторником, поди знай – мы-то не в курсе, что происходит, куда дальше двинемся и что нас там ждет»12.
Они долго стояли и не продвигались дальше по Ливии. Четыре дивизии Уэйвелла, в том числе новозеландскую и значительную часть австралийского контингента, пришлось передислоцировать в Грецию: там ожидалось немецкое вторжение. Позднее послышались голоса, что из-за переброски войск в Грецию англичане упустили уникальный шанс полностью очистить от врага побережье Северной Африки и вернуть себе контроль над южным Средиземноморьем. Утверждение небесспорное: Африканский корпус под командованием генерал-лейтенанта Эрвина Роммеля уже начал высадку в Триполи, поспешая на помощь оплошавшим итальянцам. Для англичан то была малоприятная новость: цепочка снабжения была натянута до предела, танки и грузовой транспорт О’Коннора нуждались в ремонте. Разгром итальянцев придал англичанам уверенности, однако разворачивавшаяся параллельно кампания в Абиссинии отнимала у империи большое количество ресурсов. Даже если бы Уэйвеллу не пришлось ни единого солдата отправлять в Грецию, едва ли у англичан хватило бы сил для покорения Северной Африки.
Но за три месяца до того, как британский натиск в Ливии окончательно выдохся, в феврале 1941 г. успехи англичан дали некий побочный эффект, в тот момент мало кем распознанный, однако весьма существенный по своим последствиям: операция Compass принудила Франко воздержаться от участия в войне. Каудильо стоял перед той же дилеммой, что и Муссолини, однако решение принял диаметрально противоположное. Идеологически и он был близок к державам оси и тоже охотно поучаствовал бы в разделе военной добычи, но опасался подвергать свою страну, изнуренную только что завершившейся гражданской войной, рискам нового конфликта – во всяком случае пока англичане еще способны сопротивляться. С 1939 г. Испания занимала не столько выжидательную, сколько выжидательно-агрессивную позицию: к примеру, испанский министр иностранных дел Серрано Суньер всей душой рвался присоединиться к заведомым победителям. Проницательный посол Португалии в Мадриде Педро Теотонио Перейра 27 мая 1940 г. докладывал в Лиссабон: «Несомненно, в Испании сохраняется ненависть к союзникам. Каждая победа Германии принимается здесь с ликованием»13. Перейра полагал, что почти все испанцы желают окончательного торжества Германии и сожалеют лишь о том, что затруднительное положение их собственной страны не позволяет им немедля принять участие в деле: «Войну они отнюдь не считают дурной затеей, но сами сейчас не готовы в нее вступить».
Франко намеревался все же присоединиться к державам оси, но лишь на собственных жестких условиях. «Испания не будет воевать даром [gusto]», – заявил он Гитлеру при встрече на французско-испанской границе в октябре 1940 г. Секретный протокол к испано-германскому соглашению, подписанному в итоге в ноябре, заявлял о готовности Мадрида примкнуть к Тройственному пакту: «Во исполнение своих союзнических обязательств Испания вступит в текущую войну на стороне держав оси против Англии при условии, что эти державы обеспечат ее необходимыми для подготовки к войне ресурсами. Германия предоставит Испании экономическую поддержку, снабдив ее продуктами и сырьем». Испанское министерство экономики представило довольно-таки пугающую смету: 400 000 тонн топлива, 0,5 млн тонн угля, 200 000 тонн пшеницы, 100 000 тонн хлопка, а также большое количество удобрений.
Генеральный штаб Франко принялся разрабатывать планы захвата Португалии и Гибралтара, но вскоре отношения между Испанией и Германией испортились. Испанского диктатора оскорбил отказ Гитлера уступить ему французские колонии в Африке – Германия все еще рассчитывала сделать своим активным союзником Петена. Также и Муссолини противился планам Франко, поскольку претендовал на те же самые французские колонии и к тому же стремился к безраздельному господству над средиземноморским побережьем. У Гитлера имелся свой список пожеланий: кое-какие колонии Испании пригодились бы ему в качестве заморских военных баз. Он просил Испанскую Экваториальную Гвинею, Фернандо-По и один из Канарских островов. Основным же камнем преткновения стало нежелание каудильо (в этом он нисколько не отличался от дуче) впускать в свою страну большое количество немецких войск. Гитлером он, безусловно, восхищался и питал надежду, что фюреру удастся создать новую европейскую систему, где Испания, давно уже оказавшаяся на обочине мировой политики, вновь займет подобающее ей место. Тем не менее он ни в коем случае не допускал превращения своей страны в придаток нацистской империи.
На повестке дня у Гитлера первым номером значился захват Гибралтара. Не полагаясь на испанскую армию, он обдумывал, как сделать это силами вермахта. Однако для Франко, говоря словами историка Стэнли Пейна, «было вопросом и личной чести, и национального интереса добиться участия испанцев в этой операции»14. Переговоры зашли в тупик: Германия не желала поставлять Испании оружие и припасы для нападения на Гибралтар, а Франко не позволял вермахту пройти через свою территорию. Франко знал, что его народ не готов приносить жертвы ради новой войны. Противились этим планам и генералы Франко, в том числе потому, что британцы платили им огромные взятки (всего $13 млн), лишь бы их страна соблюдала нейтралитет. До тех пор пока немцы не нанесли решительное поражение Британии, Королевский флот в любой момент мог блокировать Испанию, а это означало для страны экономическую катастрофу. Вновь существенным моментом оказалась морская мощь Англии: флот оставался за кулисами событий, но оказывал влияние на ход войны.
Успехи Британии в Ливии и Абиссинии тем более отвратили Франко от поспешных решений как раз в тот момент, когда Гитлер уже собирался посылать войска и солдат на осаду Гибралтара. 7 декабря 1940 г. глава абвера адмирал Вильгельм Канарис явился к Франко в Мадрид просить его согласия на то, чтобы через месяц немецкие войска вошли в Испанию. Франко отказал. 10-го числа Канарис телеграфировал в Берлин: «Испания не желает ничего предпринимать до тех пор, пока сохраняется морская угроза со стороны англичан». Терпение Гитлера лопнуло, и операция Felix – захват Гибралтара – отправилась в долгий ящик. К февралю 1941 г. внимание фюрера окончательно сосредоточилось на восточном направлении. Каждая дивизия требовалась ему для запланированного вторжения в Россию. Интерес фюрера к Гибралтару угас, но поскольку Германия соглашалась уплатить истребованную Испанией высокую цену, то Испания в следующие два года оставалась активным сторонником оси, пока победы союзников в Северной Африке не убедили ее в том, что весы склонились в другую сторону. А до тех пор итальянские самолеты, бомбившие Гибралтар, заправлялись на испанских аэродромах, из Испании в Германию отгружалось всевозможное сырье, включая молибден, в Испании полным-полно было нацистских дипломатов и шпионов, и им оказывалось всяческое содействие в их борьбе против союзников. Франко даже послал дивизию на помощь Гитлеру, когда тот начал наступление на Россию – жест скорее символический, – а разведывательные самолеты люфтваффе взлетали с испанских аэродромов вплоть до 1945 г. Однако официально Испания сохраняла нейтралитет. Гибралтар так и не тронули, и ворота в Средиземное море не захлопнулись перед союзниками.
Если бы Франко вступил в войну, падение Гибралтара было бы неизбежно, а вслед за Гибралтаром была бы обречена и Мальта. Гораздо более сложной – возможно, даже непосильной – стала бы для англичан задача удерживать Ближний Восток. Их престижу в мире и вере в себя был бы нанесен значительный ущерб, возможно, и Черчилль не сохранил бы за собой пост премьер-министра. Не то, чтобы союзники были обязаны за это благодарностью Франко: осмотрительный испанский диктатор руководствовался исключительно собственными интересами и не вмешался в конфликт только потому, что рассчитывал получить за свою помощь больше, чем страны оси готовы были ему предложить. Однако принятое им решение оказалось ко благу и Британии, и самой Испании.
Роммель, уже составивший себе репутацию во время завоевания Франции в 1940 г., 12 февраля 1941 г. прибыл в Африку. Его солдаты, воодушевленные победами в Европе, воспринимали африканскую экспедицию как еще одно романтическое приключение. «Нам всем чуть за двадцать, мы все безумцы, – писал лейтенант мотопехоты Ральф Рингер. – Безумцы, которые добровольно вызвались в Африку и ни о чем другом не могли говорить, только о ночах под южным небом, о пальмах и бризах, туземцах, оазисах и тропических шлемах. И мы скакали как бешеные и обнимались – мы едем в Африку!»15. Лейтенант Пьетро Остеллино, редкий в итальянской армии экземпляр настоящего фашиста, с восторгом писал жене 3 марта: «У нас тут все очень хорошо, возвращение в наши руки захваченной было врагом Киренаики – вопрос дней или даже часов. Спешим на передовую во славу Отечества. Гордись и возноси свои страдания на алтарь дела, за которое твой супруг сражается с энтузиазмом и страстью»16. Три дня спустя он дописывал: «Наш моральный дух высок, и вместе с нашими доблестными союзниками мы готовимся к великим делам. Наше дело свято, и Бог – за нас»17.
Первую атаку на англичан Роммель предпринял 24 марта и без труда захватил Эль-Агейлу на берегу Большого Сирта (Сидра). Британским танкам удалось остановить продвижение Африканского корпуса под Мерса-Брега, но сравнительно небольшая армия под командованием генерал-лейтенанта Филипа Нима вскоре вынуждена была отступить. 4 апреля Роммель снова атаковал и вновь вынудил англичан к отступлению, угрожая перерезать пути снабжения. Многие британские танки нуждались в ремонте. Немцы, не встречая особого сопротивления, продвигались к Тобруку. Для защиты порта был оставлен австралийский гарнизон, основные силы англичан отступили за египетскую границу, практически на исходные позиции, которые занимали перед декабрьским выступлением.
Уэйвелл ставил Ниму задачу: важнее сохранить армию, нежели захваченную территорию, но солдаты не ведали об этой высшей цели и возмущались тем, что приходится драпать. Артиллерист Лен Тутт описал сражение, в котором его батарея двадцатипятифунтовых пушек несколько часов сдерживала вражеские танки. С наступлением темноты раздался приказ отступать. «Что за хреновина? Немного прошли, вроде бы собирались вступить в бой, но не успели даже разведать позицию, как снова приказ отступать. Не поймешь, в каком направлении. Все подразделения движутся одновременно. Вот глупость – так только паника увеличивается. Вскоре мы распознали и признаки опасности: какие-то парни спрыгнули с застрявшего грузовика и побежали к другому, а между тем, повозившись с минуту под капотом, вполне вероятно, смогли бы починить свой. Бросали машины и потому, что в них закончился бензин, хотя по обе стороны дороги двигались трехтонные цистерны с топливом»18. Бои продолжались с переменным успехом, проход Халфая и форт Капуццо несколько раз переходили из рук в руки, но к концу мая немцы и итальянцы прочно завладели всей оспариваемой территорией.
13 мая Пьетро Остеллино писал жене из-под Тобрука: «Мы существенно продвинулись, и теперь это лишь вопрос времени. Жарко, но терпеть можно, и я вполне здоров. Коричневый, как салями, отчасти от солнца, отчасти от песка, который липнет к коже и вместе с потом превращается в слой грязи. Воды вдоволь, но стоит умыться – и четверть часа спустя ты снова чумазый»19. Вскоре, получив известие о вторжении оси в Грецию, он писал: «Вчера пришло письмо от дяди Оттавио из Албании. Он рассказывает об одержанной там большой победе. Вскоре мы сравняемся с ними и выкинем англичан отовсюду»20. Хотя австралийцы продолжали удерживать Тобрук даже после того, как Африканский корпус проследовал дальше, к Египту, стратегическое превосходство, со всей очевидностью, было теперь на стороне Роммеля. А тем временем, как верно заметил Остеллино, англичане потерпели ряд поражений и в других местах.
2. Греческая трагедия
Борьба за Балканы началась с затеянного Муссолини мрачного фарса. Потешившись какое-то время идеей завоевать Югославию, он все же 28 октября 1940 г. переправил 162 000 человек из Албании в Грецию. Находившийся в Северной Африке маршал Грациани узнал эту новость лишь из передачи «Радио Рима». Не ведал ничего и Гитлер: дуче так разобиделся, когда Германия, не поинтересовавшись его мнением, захватила Румынию, на которую претендовала также и Италия, что теперь решил изменить правила игры и представить Берлину свои действия в Греции как уже свершившийся факт. Предлогом послужила поддержка, якобы оказанная греками британцам во время их средиземноморских операций. Никто не ожидал серьезного сопротивления от маленькой страны всего с 7 млн жителей, тем более что оборонительные сооружения Греции защищали ее со стороны Болгарии, но не Албании. Международный договор обязывал Великобританию вступиться за афинское правительство, но поначалу помощь ограничивалась небольшим количеством самолетов и другого вооружения. Муссолини говорил своим офицерам: «Если вы скажете, что нам не побить греков, я откажусь называться итальянцем»21. Министр иностранных дел Чиано, как правило, осторожничавший, на этот раз одобрил очередную войну: Греция представлялась легкой добычей. Достаточно, полагал он, символической бомбардировки, и Афины капитулируют, но для пущей надежности он тратил миллионы лир на подкуп греческих политиков и генералов (неясно, впрочем, попали эти деньги по назначению или посредники-итальянцы все разворовали).
Но вышло совсем не так, как рассчитывали в Риме. За несколько недель до объявления войны итальянская подводная лодка потопила греческий крейсер Helli. Народ Эллады возмутился и на вторжение ответил решительным «Нет». Всюду появлялись граффити: «Смерть макаронникам, потопившим нашу Helli». Нищая Греция сумела мобилизовать 209 000 солдат, 125 000 лошадей и мулов. Диктатор Иоаннис Метаксас, прежде отнюдь не пользовавшийся народной любовью, записал в дневнике, когда обострились трения с Италией: «Теперь все на моей стороне». Крестьянин Ахмет Цапунис направил Метаксасу телеграмму: «Не имею денег, чтобы пожертвовать на национальную оборону, и отдаю свое поле под Барико, в нем 5,5 акра. Смиренно умоляю вас принять его»22. Население Кипра, преимущественно этнические греки, прежде симпатизировало державам оси в надежде, что их победа избавит остров от статуса британской колонии. Но теперь киприот писал: «Превыше всего мы мечтали о поражении армий, ступивших на греческую землю, и чтобы плодом нашей победы стала обещанная Черчиллем свобода».
На глазах у изумленного мира греческая армия не только отбросила итальянцев, но и к ноябрю глубоко проникла в Албанию. Итальянский генерал Убальдо Содду хотел просить у греков перемирия. В Афинах Марис Маркоянни услышал, как маленький мальчик спрашивал: «А что мы сделаем с Муссолини, когда побьем итальяшек?»23 Гитлера греческое фиаско привело в ярость. Он всегда был против вторжения в Грецию и уж никак не желал допустить его до ноября, когда в США проходили президентские выборы: опасался, что очередная агрессия держав оси сыграет на руку Рузвельту. Он требовал, чтобы до конфликта на материке Муссолини закрепил за собой Крит – тогда англичане не смогли бы атаковать оттуда. В письме из Вены от 20 ноября фюрер выразил неудовольствие неудачами итальянцев. Дуче в ответном письме ссылался в свое оправдание на дурную погоду, на нежелание болгар участвовать в войне – это позволило грекам высвободить большие силы для переброски на Запад, – наконец, на отсутствие помощи со стороны албанцев. Муссолини сообщил Гитлеру о своем намерении высадить в Греции еще 30 дивизий «и истребить греков под корень». Те, кто тешил себя иллюзией, будто Муссолини не столь жесток, как Гитлер, с ужасом услышали о распоряжении, отданном итальянскому главнокомандующему Бадольо: «Все города с населением более 10 000 человек уничтожить, стереть с лица Земли. Это приказ».
Осуществить варварский приказ не удалось. Несколько месяцев греческая и итальянская армия удерживали друг друга в горах Албании. Такой скверной зимы старожилы не видели уже полвека. Сержант Диамантис Стафилакас с Хиоса записывал в дневнике 18 января 1941 г.: «Дверь нашей землянки не открывается, ее завалило снегом. Сильный ветер нагреб сюда снег. А сегодня опять хлынул дождь. Мы промокли до костей. Огонь не зажжешь, задохнешься в дыму. Ночью не пристроишься лечь, все тело болит. Я встал, вышел, побродил. Хотел откопать новую землянку и прорыл сантиметров двадцать – тут снова пошел снег, и я сдался»24.
Тысячи солдат страдали от обморожения. Спирос Триантафилос горестно расставался с любимым серым жеребцом – конь надорвался, продираясь сквозь метель: «Голодный, промокший до костей, измученный переходом по каменистой почве, он не мог двигаться дальше. Я вынул свое добро из переметной сумы, чтобы идти, как все, пешком. Погладил его шею, поцеловал. Хоть и животное, но это же мой боевой товарищ. Тысячи раз мы вместе смотрели в лицо смерти, столько пережили незабываемых дней и ночей. Я обернулся: он смотрел мне вслед. Какой это был взгляд, друзья мои! Такая боль, такая тоска! Я готов был заплакать, но слезы не шли. Война не оставляла нам времени для слез. Я подумал, не лучше ли убить его, но духу не хватило. Я оставил его там, и он смотрел мне вслед, пока я не скрылся за скалой»25.
Раздосадованный Гитлер и слушать не стал заверения Муссолини, что-де с Грецией справится сам. 13 декабря была издана директива № 20 об операции Marita: «В свете угрожающей ситуации в Албании нам вдвойне необходимо разрушить планы англичан создать под прикрытием Балканского фронта воздушную базу, с которой они могли бы атаковать Италию и нефтяные скважины Румынии». С того момента, как 12 октября 1940 г. генерал Ион Антонеску сделался премьер-министром Румынии, эта страна, а главное, ее нефтяные ресурсы, оказались под контролем немцев. Большинство жителей Румынии видели необходимость в союзе с Германии для защиты от территориальных претензий Советского Союза.
В январе самолеты люфтваффе уже бомбили английские корабли в Средиземноморье, поднимаясь с аэродромов Сицилии. 29 января внезапно скончался генерал Метаксас. Под давлением немецкой дипломатии Болгария присоединилась к оси, вскоре пошла на уступки и Югославия, хотя дворцовый переворот в Белграде ненадолго привел к власти пробританский режим. Боевой дух итальянцев упал ниже нулевой отметки: стало ясно, что амбиции их лидеров привели к унизительному разочарованию и придется теперь мириться с немецкой гегемонией в Средиземноморье. Полицейский информатор в Милане доносил: «Многие, многие пессимисты видят теперь в Италии протекторат Германии и говорят, раз мы вынесли три войны, большие потери флота, пожертвовали своим сырьем и золотым резервом лишь для того, чтобы в итоге утратить политическую, экономическую и военную независимость, то гордиться такой политикой вроде бы не приходится»26. Зимой цены поднялись, простым людям в Италии приходилось все хуже. Паек риса и спагетти урезали до 2 кг в месяц на человека, в то время как работнику в среднем требовалось 400 г в день. Желание итальянцев повоевать, и так-то хрупкое и кратковременное, так и не восстановилось после поражений 1940–1941 гг. Солдаты, матросы, пилоты Муссолини и рядовые граждане превратились в пленников, печально влекущихся за триумфальной колесницей Гитлера.
6 апреля 33 немецкие дивизии, в том числе 6 танковых, ворвались в Югославию, без труда опрокинув ее сопротивление. Во время бомбардировки столицы с воздуха в Белграде погибло 17 000 человек – эта чудовищная цифра свидетельствует о том, насколько гражданское население было неподготовлено к налету. Шесть дней спустя оккупанты захватили город, и 17 апреля Югославия капитулировала.
Еще в марте Британский корпус численностью 56 000 человек (в основном уроженцы Австралии и Новой Зеландии) приступил к высадке в Греции с намерением закрепиться на северо-востоке страны. Черчилль неизменно настаивал, чтобы войсками из доминионов распоряжалось британское командование, и это, по понятным причинам, отнюдь не устраивало правительства на местах. Теоретически задействовать в боях канадские, австралийские и новозеландские подразделения можно было лишь с санкции их правительств, но в 1940–1941 гг., пока премьер-министры доминионов не начали решительно возражать против подобного нарушения их законодательства и автономии, их одобрение зачастую испрашивали задним числом. Премьер-министр Австралии Роберт Мензис 24 февраля принял участие в заседании британского Военного кабинета, на котором было принято решение отправить армию в Грецию, однако от Роберта и от других премьеров умышленно скрыли точку зрения командующих, в том числе опасения высших офицеров из доминионов. О том, что новозеландцев в декабре 1940 г. перебросили в Грецию, в Веллингтоне узнали спустя несколько недель. Основное бремя трудной и опасной Средиземноморской кампании возлагалось на австралийские и новозеландские войска, причем командовал ими британский генерал. Разумеется, австралийских политиков это отнюдь не радовало.
Сами солдаты по неведению воспринимали ситуацию более романтически. Им впервые предстояло вступить в бой, и, как большинство молодых людей в подобной ситуации, они не думали об опасности, а наслаждались экзотической для них природой, предчувствием чего-то небывалого. Артиллерийский капрал Морри Каллен эйфорически писал родным в Новую Зеландию о том, с каким восторгом он и его товарищи плыли по Средиземному морю: «Никогда я не видывал таких прекрасных оттенков синего цвета, от небесно-голубого до глубокого иссиня-черного, и совершенно ровная вода». Рядовой Виктор Болл описывал в дневнике Афины: «Лучшее место, где нам довелось побывать, жители очень дружелюбны. Оглядел акрополь, руины древних Афин. Квартал борделей намного чище, чем в Каире. Мы напились в стельку, но все же нашли обратный путь»27. Лейтенант Дэн Дейвин позднее вспоминал: «Мы все были воплощением молодости и здоровья. Людям, которые всю жизнь питаются хорошим мясом, присуща естественная отвага». Войска из доминионов шли в первый свой бой с уверенностью и энтузиазмом, но поразительно, в какой мере это настроение им удалось сохранить и в последующих испытаниях. Командующие, правда, смотрели на дело мрачнее. Стоявший во главе Австралийского корпуса генерал сэр Томас Блейми, старый негодяй, по отзывам ближайших подчиненных «трус и никудышный командир», 26 марта уже присматривал на юге Греции подходящие гавани для эвакуации.
Немцы вошли в Грецию 6 апреля 1941 г., одновременно ударив и по Югославии. Присутствие британцев послужило предлогом для оправдания собственных действий: «Правительство рейха отдало своим вооруженным силам приказ изгнать британские отряды с земли Греции. Сопротивление будет беспощадно подавлено. Немецкая армия является не как враг греческого народа, немцы не желают воевать против греков. Удар, который Германия вынуждена нанести по греческой земле, направлен против Англии». Английские войска были чересчур растянуты, собрать силы и отразить вторжение им не удалось. Если немцы где-то встречали сопротивление, а порой такие упрямцы им попадались, они попросту отводили передовые отряды назад, а затем прорывались в другом месте.
Новозеландец Виктор Болл описывал первый этап долгого и тягостного отступления: «Весь день по пятам за нами грохотала канонада – куда бы мы ни пошли, нас поливали огнем. Прямо рядом со мной парня убило, осколок попал в горло, многие потирали ушибы от камней. То и дело налетали самолеты, сбрасывали бомбы, строчили из пулеметов. Это действует на нервы, когда не можешь ответить»28. Другой новозеландец, Рассел Брикелл, описывал переживания при налете пикирующих бомбардировщиков: «Лежишь на брюхе в окопе или канаве, прислушиваясь к визгу падающей бомбы. Секунда полной тишины, когда она врезается в землю, затем грязь взлетает и бьет тебе в морду, и громкий взрыв и осколки со свистом разрезают воздух»29.
Вскоре немецкие войска хлынули через проход Монастир со стороны Югославии и зашли в тыл греческим позициям в Албании. Союзники в беспорядке отступали на юг; враг превосходил их и числом, и умением, от воздушных налетов они не имели никакого прикрытия. Военврач-австралиец запомнил, как всю ночь слушал «топот людских ног и лошадиных копыт»30: греки уже не отступали, а бежали в панике. Войска оси приближались, сея среди мирных жителей горе и страх. Через греческую деревню вели колонну итальянских военнопленных; вдруг начался артиллерийский обстрел, десятки пленников были убиты и ранены. Старуха, чей сын Стати погиб в Албании, при виде такого зрелища зарыдала. Сосед, владелец кафе, посоветовал ей не тратить слез на итальянцев: «Они убили твоего сына». Однако женщина, не прислушавшись к доброму совету, поспешила на помощь к раненному шрапнелью солдатику, который в бреду кричал: «Мама, хлеба!» Она попыталась промыть его раны смоченной в ракии тряпкой, плакала и разговаривала с ним, словно со своим утраченным первенцем: «Не плачь, Стати! Да, это я, твоя мама! Не плачь! Есть у нас и хлеб, и молоко»31.
В зимнем противостоянии итальянцам греческая армия исчерпала свои силы. Для ускоренных маневров не хватало колесного транспорта. Немцы без зазрения совести пользовались своим господством в воздухе, это оказалось особенно выигрышно в стране, где так мало дорог. «Сегодня днем мы узнали, на что способно люфтваффе, – писал капитан Чарльз Кристалл, служивший в австралийском полку. – Налетели 190 бомбардировщиков и лупили, пока все вдребезги не размолотили. Они шли тесными рядами, а мы таращились на них в изумлении, были просто поражены тем, сколько их сразу»32. Хотя австралийцы и новозеландцы продолжали вести упорные арьергардные бои, 28 апреля уже началась эвакуация морем из Рафины и Порто Рафти. Немцы распространились уже и по Пелопоннесу, с оконечности которого, из Навплии и Каламаты, Королевский флот поспешно вывозил британские войска.
Когда мирные граждане облачаются в военную форму, им требуется время, чтобы привыкнуть и уже без прежнего ужаса взирать на чинимые войной разрушения. Во время отступления австралийцам и новозеландцам сильнее всего врезалось в память зрелище опрокинутых, брошенных машин, ружей, складов с боеприпасами, радиоприемников, дальномеров, тысячи тонн неиспользованного оборудования, оставшегося на обочине пелопоннесских дорог. Когда солдаты поднимались на борт, им тоже приказывали бросить оружие, пулеметы и минометы, которые они упрямо волокли за собой во время отступления. Это решение имело определенные последствия и для обороны Крита, время которой настало несколько недель спустя. Уходили британские войска с чувством острого стыда перед местными жителями: те даже сейчас, в общем несчастье, провожали их как близких друзей.
К концу апреля немцы полностью овладели Грецией. Уэйвелл успел эвакуировать примерно 43 000 солдат, остальные 11 000 человек попали в плен вместе со всеми средствами транспорта и тяжелым вооружением. Премьер-министр Александрос Коризис покончил с собой. Греческие солдаты по одному спускались с гор, большинство заранее бросало оружие. «В какой-то момент, – писал очевидец, – я заметил капитана, который поднялся на бугор и обратился к тысячам собравшихся вокруг людей. Он крикнул им: “Друзья, увы, наша страна проиграла войну”. Они ответили ему диким, чудовищным, противоестественным воплем: “Зето!” По-гречески это “Ура”, вернее, “Будем жить!”»33
Но такие проявления чувств могли разве что временно утолить страдания народа под игом жесточайшей оккупации. Некий греческий генерал сказал офицеру ВВС Георгию Цаннетакису: «Георгий, мрачная ночь опустилась на нашу страну!»34 27 апреля в столице Греции немецкий офицер Георг фон Штумме разговаривал с архиепископом Иеронимом. «Первым делом он заявил, что всегда мечтал посетить Афины, ведь он столько читал об этом городе и в школе, и когда учился в военной академии…» Архиепископ перебил его и сказал: «Да, до войны у Германии было в Греции много друзей, и я принадлежал к их числу». Теперь с дружбой было покончено. Грек, узнавший об этом разговоре, писал: «Фон Штумме понял, что в Греции он, быть может, сумеет найти сколько-то квислингов, но друзей ему не сыскать»35.
Три недели спустя, 20 мая, немцы высадили десант на Кипре. Британские и новозеландские подразделения на северном побережье острова сражались отчаянно и в первый день вторжения сумели нанести вражеским парашютистам существенный ущерб. Но 21-го немцы захватили аэродром Малеме, куда начали прибывать основные их силы. Контратака англичан не увенчалась успехом, и за следующие шесть дней обрушившиеся с воздуха десантники смяли оборону англичан и пришли на выручку своим отрядам, засевшим в Ретимноне и Гераклионе. Англичане отступили. «Все страшно устали, боевой дух в войсках угас, – вспоминал Ян Стюарт, батальонный санитар. – Нелегкая выдалась прогулка, по высоким горам, чаще всего ночью, медленно-медленно, слышно только, как фляги звенят, да споткнешься порой о товарища, который сбился с дороги. А лучше всего запомнилась роса на цветах, ароматы Кипра, очень крепкие, такое не изгладится из памяти». Другой офицер заметил: «Этот поход раскрывал в человеке все лучшее, христианское, но и самое скверное в его природе, его эгоизм». Генерал-лейтенант Бернард Фрейберг, новозеландец, возглавлявший оборону, не видел другого выхода, кроме эвакуации. К ночи 30 мая, когда флот вынужден был прекратить дорого ему обошедшуюся спасательную операцию, удалось вывезти 15 000 человек; 11 370 попали в плен, а 1742 человека погибли. Новозеландец слышал, как те, кто оставался на берегу, получили приказ сдаваться. «Наступила глухая тишина. Слышно было, как падает булавка. Каждый оставался во власти собственных мыслей, если, конечно, мог еще размышлять. Время от времени где-нибудь в канаве, вади, раздавался выстрел – какой-то бедолага предпочел покончить с собой. Вскоре я впервые в жизни услышал немецкую речь: “Alle man raus, schnell, schnell” – поднял глаза и увидел солдата, который стоял с винтовкой наготове. Нас погнали обратно в Канею, точно стадо баранов».
Критская экспедиция обошлась адмиралу Каннингему в 3 потопленных крейсера и 6 эсминцев, еще 17 кораблей получили серьезные повреждения – самые большие потери флота в отдельной операции за всю войну. Погибло 6000 немецких парашютистов, что на будущее отвратило Гитлера от попыток проводить крупномасштабный десант. Но пока что завоевателям удалось разбить превосходящие силы союзников, даже несмотря на то, что радиоразведка Ultra обеспечивала их всеми сведениями о планах немцев и даже о намеченном времени операции[8]. Значительная часть ответственности за поражение ложится на Фрейберга как на командующего, но он был скован в своих действиях: не хватало транспорта для передислокации, недостаток радиоприемников не позволял поддерживать связь. Когда началось сражение, Фрейберг не знал толком, что происходит, и не имел возможности передавать приказы в войска. Люфтваффе безраздельно господствовало в воздухе, и англичане теряли не только корабли и солдат, но и свой боевой дух. Энергия немцев, их опыт, тактика, решимость и руководство на всех уровнях превосходили возможности оборонявшихся, и все же на местах им оказывали решительное сопротивление, причем особенно отличились новозеландцы.
Со стратегической точки зрения Гитлеру гораздо выгоднее было бы направить воздушный десант на Мальту. С большой вероятностью ему удалось бы захватить этот остров. От вторжения на Крит с его глубоко враждебным к немцам населением Германия ничего не выиграла. Если бы Фрейберг и сумел удержать остров, британскому флоту было бы очень нелегко снабжать гарнизон провиантом и боеприпасами под непрерывным авиаобстрелом: превосходство люфтваффе в воздухе было неоспоримым. Утратив Грецию, англичане вряд ли могли извлечь какую-то пользу из этого оторванного от материка форпоста. Самолетов для того, чтобы поддерживать с Крита боевые действия в Африке, у них не хватало, и уж тем более не хватало их для того, чтобы предпринимать решительную контратаку с этого острова – так что, лишившись его, они в стратегическом плане даже выиграли.
Разумеется, в июне 1941 г. ни англичане, ни сторонние наблюдатели не рассуждали подобным образом. Остававшийся на родине солдат Лен Ингленд 29 мая писал: «Думаю, народ впервые сообразил, что так можно и проиграть. В целом все время происходит одно и то же: где бы мы ни столкнулись с немцами, нас теснят. Мы проигрываем даже на море, хотя считается, что уж там-то мы господствуем. Быстро распространяется вера в непобедимость Германии»36. Черчилль ранее провозгласил, что Англия намерена удержать Крит, и вот, пожалуйста: гарнизон сдался даже при численном перевесе. И хотя премьер-министр потом еще несколько лет мечтал восстановить Балканский фронт и втянуть в войну Турцию, это оставалось всего лишь фантазией. Балканы были полностью поглощены империей оси – в значительной мере к ущербу самих же агрессоров. Сперва оккупацию региона взяла на себя Италия; она направила сюда полмиллиона солдат и понесла такие потери, каких не понесла и в Северной Африке. Затем явились немцы и тоже поняли, что Греция и Югославия – не приобретение, а тяжкое ярмо на шею. Но это им предстояло узнать позже, мрачным летом 1941 г.
3. Песчаная буря
В качестве утешительного приза за потерю Балкан англичанам удалось добиться двух не очень значительных успехов. Ирак получил независимость еще в 1932 г., однако на основании договора англичане сохраняли право держать в этой стране свой гарнизон для защиты принадлежавших им нефтяных скважин. С начала войны в Багдаде начали бороться за власть иные партии, которых привлекала возможность встать на сторону оси. В апреле 1941 г. в результате военного переворота пост премьер-министра получил националист и сторонник оси Рашид Али. Под впечатлением военных побед Гитлера и не слишком задумываясь о том, как далеко от Багдада до Берлина, он отменил договор, предоставлявший англичанам права пребывания и прохода через страну, и направил войска захватить базу RAF в Хаббании. Самолеты люфтваффе начали снабжать новое правительство, заправляясь на аэродромах в Сирии. Французские (то есть вишистские) власти в Дамаске помогали немцам кое-каким инвентарем и посылали с ними в конвое истребители. Уэйвеллу не хотелось отправлять войска из Египта в Ирак, но Черчилль настаивал. Вспомогательная индийская армия высадилась в Басре и двинулась вглубь страны. К ней присоединилось 1500 солдат Арабского легиона из Трансиордании. Иранская армия не сумела оказать существенного сопротивления. Через месяц осада Хаббании была снята, и стороны заключили перемирие. В Багдаде утвердилось пробританское правительство, которое в итоге решило объявить войну державам оси.
Попытка вишистского правительства внедриться в Ирак и нарастающее германское присутствие в Сирии побудили Черчилля не рисковать и упредить попытку нацистов овладеть Левантом37. Он приказал Уэйвеллу снарядить войска для захвата Сирии, которая с 1920 г. находилась под управлением Франции в качестве подмандатной территории Лиги Наций, объединенной с Ливаном. Черчилль рассчитывал, что при существенном перевесе англичан по численности и вооружению они не наткнутся на сопротивление, однако в июне 1941 г. вишисты сражались упорно. Их отвага в очередной раз продемонстрировала, что Франция толком и не знала, на чьей она стороне – как до капитуляции в 1940 г., так и после. Эта неопределенность сохранялась вплоть до 1944 г. Когда в сентябре 1940 г. англичане вместе со сторонниками де Голля попытались отнять у вишистов Дакар, подводная лодка Beveziers торпедировала британский военный корабль Resolution, нанеся ему значительный урон. Черчилль еще более обозлил французов, наградив орденом коммандера Бобби Бристоу, который во главе отряда добровольцев подплыл к новенькому боевому судну вишистов Richelieu и закрепил на его корпусе четыре глубоководные мины. В отместку за покушение на Дакар вишистские самолеты бомбили Гибралтар.
На встрече Гитлера с маршалом Петеном в Монтуар-сюр-ле-Луар 24 октября 1940 г. имело место комическое недоразумение. Фюрер заявил: «Я счастлив пожать руку французу, который не несет ответственности за эту войну». Слова эти остались без перевода, и маршал, вообразив, будто его любезно спрашивают, как он добрался, ответил: «Bien, bien, je vous remercie»[9]. Даже если маршал не намеревался придать своему ответу столь раболепную интонацию, его режим и на деле, и в пропаганде проявлял крайнюю враждебность к англичанам. Адмирал Рене Годфруа, командовавший французской эскадрой в Александрии, ответил решительным отказом на предложение присоединиться к британскому флоту и 26 июня писал главнокомандующему вооруженными силами в Средиземноморье: «Для нас, французов, существует непреложный факт: во Франции имеется правительство, поддерживаемое парламентом и действующее на неоккупированной территории, то есть это правительство невозможно считать незаконным или низложенным. Следовательно, установление любого другого правительства и поддержка такового правительства являются мятежом».
Французам приходилось выбирать ту или сторону, и враждебность между сторонами только нарастала. На борту французской подводной лодки-миноносца Rubis было проведено голосование, и почти весь экипаж, за исключением двух человек из 44, принял решение сражаться вместе с англичанами. Напротив, в ноябре 1940 г. 1700 офицеров и рядовых французского флота воспользовались правом репатриироваться, которое предоставили им англичане, однако новые друзья, немцы, безо всякого милосердия торпедировали у берегов Франции судно, доставлявшее их домой и шедшее под флагом с красным крестом. Четыреста человек утонуло, но сумевший выплыть коммандер Пол Мартен недрогнувшей рукой писал в Тулон старшему по званию: «Политика Черчилля внушает мне опасение, что вскоре наступит демагогическая катастрофа. Мыслящие англичане страшатся будущего, их тащат на аркане демократы, международные финансисты, евреи. Несомненно, они завидуют той альтернативе, которую нашла для себя Франция»38.
Это уж крайний случай, но антисемитизм и впрямь был широко распространен во Франции: вишистские чиновники и полицейские отлавливали евреев и тех, кто отваживался носить Лотарингский крест, символ Свободной Франции, почти с таким же азартом, как сами немцы. «Боже, что делает со мной эта страна? – восклицала еврейская писательница Ирен Немировски, скрывавшаяся в июне 1941 г. в ненадежном французском убежище. Позже она попадет в Аушвиц и там погибнет. – Она отвергает меня, так будем же относиться к ней с прохладцей, смотреть, как она утрачивает честь и жизнь»39. До июня 1944 г. сопротивление охватывало лишь меньшинство французского народа, а гораздо больше французов относилось к нему враждебно. После освобождения те, кто служил у де Голля, могли этим похваляться, но во время оккупации многие французы относились к приверженцам де Голля как к смутьянам и предателям и сами же выдавали их властям Виши или немцам.
8 июня 1941 г. отряды австралийцев, англичан и Свободной Франции вошли в Сирию и Ливан. Английский десант высадился на побережье, в устье реки Литани наткнулся на ожесточенное сопротивление и понес большие потери – 45 погибших, включая командира отряда, и 75 раненых. Два французских тяжелых миноносца бомбардировали позиции англичан, а затем направили огонь на эскадру английских миноносцев. Одно судно было сильно повреждено. К атаке на военные корабли англичан присоединились бомбардировщики Виши, сопровождавшие их истребители сбили три Hurricane. Военнопленный французский сержант заявил военному корреспонденту Алану Мурхеду: «Вы считали нас трусами, верно? Говорили, что мы не хотим сражаться во Франции. Думали, мы не лучше итальяшек. Вот мы вам и показали»40.
Немалое мужество требовалось человеку, чтобы расстаться с родиной, домом, семьей, сделаться отступником в глазах своего народа и присоединиться к Свободной Франции. Многие поляки в аналогичной ситуации сделали такой выбор, почему же французы не помогали союзникам, воевавшим против завоевателей, оккупантов их страны? Падение Франции породило горечь, требовавшую выхода – поиска козлов отпущения. Многие французы возлагали вину за капитуляцию на англичан: они-де изменили им в июне 1940 г. После того как Королевский флот расстрелял французские корабли в Мерс-эль-Кебир, ожесточение против англичан возросло. По сути дела, французы ненавидели самих себя, и из этой ненависти рождалась агрессия. Вековая ревность к Альбиону обострилась теперь, когда Петен сдался, а Черчилль продолжал борьбу. Оккупантов не любили, но еще менее любили англичан, особенно распространена была неприязнь к ним среди профессиональных солдат, матросов и летчиков.
«Франция не хочет освобождения, – заявил The New York Times бывший премьер-министр Виши, известный коллаборационист Пьер Лаваль. – Она хочет созидать свою мечту в сотрудничестве с Германией». Многие соотечественники разделяли его мнение: Сопротивление набрало во Франции силу только к 1944 г., а по сравнению с партизанским движением в России и Югославии его военное значение было невелико. Мало кто из французов, оборонявших в 1941 г. Сирию, испытывал угрызения совести, убивая англичан, индийцев и австралийцев – вторгшегося на их территорию противника. Продвигаясь вглубь Сирии, англичане находили на стенах брошенных крепостей надписи в таком духе: «Погодите, английские ублюдки, скоро придут немцы, и вы будете драпать еще быстрее, чем мы».
Союзники продвигались к Дамаску. Обстреливавшие их с воздуха истребители Виши ранили одного из высокопоставленных офицеров Свободной Франции. 16 июня торпедные бомбардировщики авиации ВМФ потопили у Бейрута суперэсминец Chevalier-Paul, а позднее была торпедирована вишистская подводная лодка, и на ней погибло 55 моряков. 19-го у Мецце мощная контратака вишистов при поддержке танков вынудила сдаться два индийских батальона и подразделение королевских стрелков. Попытки англичан проявить великодушие и призывы к переговорам отвергались с презрением. Во время налета на французский аэродром эскадрилья Hurricane первый раз, низко пролетая над летным полем, не открыла огонь, потому что увидела, что пилоты Виши, прислонясь к своим самолетам, угощают подружек аперитивами. Зато при повторном заходе с земли открыли огонь, и несколько Hurricane, в том числе самолет знаменитого в будущем писателя Роальда Даля, были повреждены. Французы направили в Левант подкрепления из североафриканских колоний. Среди руин римской Пальмиры подразделения Иностранного легиона девять дней сдерживали натиск англичан с востока, хотя некоторые испанские легионеры, не выдержав идеологического конфликта, сдались без боя.
К 14 июля, когда вишистский генерал Анри Денц смирился с неизбежным и заключил перемирие, он успел потерять более тысячи человек. У союзников потери были несколько меньше: погибло 416 австралийцев. В Виши славили как героя пилота Пьера ле Глоана, аса, сбившего в этой кампании семь британских самолетов. Англичан упорное сопротивление французов возмущало, а жестокость, с которой, как выяснилось, обращались с пленниками, и вовсе вызвала негодование. Роальд Даль впоследствии писал: «Лично я никогда не прощу вишистам этого бессмысленного кровопролития»41.
Уже в процессе мирных переговоров Денц отправил 63 пленных британских офицеров и сержантов в Грецию, чтобы оттуда вывезти их в лагерь в Германию, и только предупреждение англичан, что в таком случае ему и его ближайшим подчиненным будет отказано в репатриации, вынудило генерала возвратить пленных. После этого 32 032 солдата из французских и колониальных войск отправились со своими командирами во Францию, а 5668 человек предпочли остаться на службе у де Голля. Генерал Жорж Катру, заочно приговоренный режимом Петена к смерти за поддержку де Голля, был назначен полномочным представителем Свободной Франции в Леванте. Сирийский народ без особого энтузиазма воспринимал французское правление любой политической окраски, но от господства немцев этот регион удалось обезопасить. Решительные действия Черчилля, вопреки опасениям его генералов, принесли плоды, хотя в руководстве операциями проявлялась порой неумелость, вызывавшая сомнение в компетентности британских военачальников.
Так или иначе, сирийская авантюра увенчалась успехом, существенным в том числе и со стратегической точки зрения. Обезопасить позиции англичан на Ближнем Востоке было важнее, чем удержать Крит. Но уже покоренным или в страхе ждущим нападения народам Европы нелегко было обрести утешение посреди столь наглядных поражений и неудач союзников. 1 июня 1941 г. Михаил Себастиан записывал в Бухаресте: «Пока Британия не сдается, остается надежда»42. Но теперь, когда самолеты оси господствовали в воздухе над Средиземноморьем, престиж британского оружия упал – и ему предстояло упасть еще ниже.
15 июня 1941 г. Уэйвелл, получив подкрепление в виде танков, с большим риском доставленных ему по Средиземному морю, развернул операцию Battleaxe, но 88-миллиметровым пушкам Роммеля хватило двух дней, чтобы отразить нападение и нанести противнику серьезный урон. Главнокомандующему британскими вооруженными силами на Ближнем Востоке эта неудача стоила его должности – его преемником стал генерал сэр Клод Окинлек, который поставил Алана Каннингема, покорителя Абиссинии, во главе только что созданной Восьмой армии. К неудовольствию Черчилля, затем последовало пятимесячное затишье, никаких крупных операций, лишь небольшие схватки в Северной Африке и других местах, хотя широко прославлялась защита осажденного Тобрука австралийцами.
Новая операция в пустыне – Crusader – развернулась 18 ноября. На этот раз Каннингем располагал значительно бόльшими силами, чем Роммель, который не сразу угадал размах и направление британского удара. Восьмая армия поспешила на помощь Тобруку и после ожесточенного сражения сняла с крепости осаду. Контратака Роммеля провалилась, ему пришлось отступить, потеряв 38 000 немцев и итальянцев (англичане потеряли 18 000 человек). Потери танков составили 300 у немцев против 278 у Каннингема. В последние дни 1941 г. армия оси вернулась в Эль-Агейлу, откуда им прежде удалось продвинуться примерно на 800 км вглубь Египта. Англичанам уже казалось, будто они переломили ход войны в пустыне в свою пользу. Черчилль торжествовал, но итальянские и немецкие солдаты считали, что возможен и новый поворот событий.
Лейтенант Пьетро Остеллино 7 декабря писал: «Только теперь я могу взяться за письмо, до сих пор англичане не давали! Два с половиной дня мы находились в окружении, силы противника превосходили наши в сто раз, артиллерия так и колошматила. Но мы продержались до прихода подкреплений, а потом погнали врага. Захватили пленников и бронемашины. Разумеется, мы тоже понесли тяжелые потери. Прошу тебя, не волнуйся, если я стану писать тебе не так часто: почта отправляется не каждый день»43.
Так определился характер войны в пустыне. Немцы удерживали преимущество в воздухе, пусть и не подавляющее, поскольку лучшие самолеты британских ВВС оставались в Англии. Над пустыней против Bf 109 сражались уступавшие им по боевым качествам Tomahawk, Kittyhawk и Hurricane. Не столь развита была у англичан и система взаимодействия земля – воздух, а немцы уже научились использовать самолеты в качестве воздушной артиллерии. Количественный перевес людей и машин был на стороне англичан, однако изъяны командования и тактики и недостаток экипировки сводили это преимущество на нет. Немецкие танки были лучше. Британские танки чаще выходили из строя из-за механических поломок, нежели от вражеских снарядов, а ремонт и восстановление танков в британской армии не были налажены, цистерны с бензином протекали. Армия Каннингема существенно уступала Африканскому корпусу в умении задействовать в бою одновременно танки, противотанковые ружья и пехоту. Вновь и вновь англичане бросали в сражение танки без прикрытия, и танки погибали – так, во время операции Crusader Седьмая танковая бригада лишилась 113 бронированных машин из 141.
«Надо учиться у немцев, – писал австралиец Джон Батлер во время осады Тобрука. – Их батальоны представляют собой полностью укомплектованные боевые единицы: там и противотанковые ружья, и танки, и самолеты, и полевой ремонт, и зенитки, и артиллерия, а когда нам требуется поддержка с воздуха, нужно предупреждать авиацию за 48 часов. Умора – все равно, как если бы требовалось писать в пожарную команду письмо, когда твой дом вспыхнет»44. Структурные изъяны британской армии порождали на каждом уровне офицеров, которым недоставало энергии, воображения и гибкости. Большинство действовавших в пустыне подразделений были плохо обучены, и ими плохо командовали. «В 1941 г. и в начале 1942 г. мораль в британской армии упала очень низко, – писал один из офицеров, лейтенант Майкл Керр. – Требования к подготовке пехотинцев никак не соблюдались: новобранцы не понимали, чего от них хотят, что происходит»45.
Размах операций в Северной Африке был незначителен по сравнению с судьбоносными событиями в России: в тот период Британия обычно выставляла не более шести дивизий против трех немецких и пяти итальянских формирований. Тем не менее за действиями Восьмой армии пристально следили на родине, поскольку лишь в пустыне английские солдаты напрямую сражались с немцами. Роммель пользовался огромной известностью и у своих, и у врагов: яркий, дерзкий, изобретательный военачальник. Мало кто понимал, насколько он пренебрегает логистикой и насколько такое пренебрежение опасно в Северной Африке. Англичане считали командующего Африканским корпусом «хорошим немцем», хотя он преданно поддерживал Гитлера, пока не стало окончательно ясно, что Германия проигрывает войну. Существенным преимуществом союзников была разведка, поскольку они сумели взломать радиокоды держав оси, но в 1941–1942 гг. Роммель тоже был неплохо осведомлен о планах англичан: он перехватывал ежедневные радиосообщения американского военного атташе в Каире, полковника Боннера Феллерса – своего «дружочка Феллерса», как Роммель его ласково именовал. Из радиоперехвата Роммель извлекал большую выгоду, пока Феллерса в июле 1942 г. не отозвали в Вашингтон. Но главным фактором в ту пору оставалось превосходство немецкой армии: этим успехи Роммеля обуславливаются в большей степени, чем гениальным руководством, вопреки тогдашним домыслам британских СМИ и современным легендам.
Сражения на огромных пространствах Ливии, стремительные продвижения и отступления войск, разумеется, поэтизировались. В британской прессе появлялись романтические сочинения о гуманном обращении Африканского корпуса с пленными, о кратких перемириях по взаимному соглашению, чтобы вытащить раненых с поля боя. «Приближался вражеский патруль, – писал рядовой Батлер из Австралии во время обороны Тобрука, – я собирался уже выдернуть чеку [из гранаты], как вдруг из-за бруствера послышался голос: “Стой, динго, у нас тут два твоих приятеля!” Ребята сказали, что немцы их подстрелили, потом, рискуя собственной шкурой, втащили их к себе, перевязали раны, напоили горячим кофе и послали за медиками. Слава богу, рыцарский дух еще не угас»46. Другой участник событий сообщал о затишье, во время которого обе стороны вытаскивали с поле боя раненых: «Солдаты обеих армий стояли под изумленным солнцем. Абсолютная тишина прямо-таки сочилась напряжением. Тишина составляла поразительный контраст прошедшей яростной ночи. Затишье – словно два воина в доспехах остановились, подняли забрала и на миг за железом стали видны человеческие лица»47. После неудавшейся немецкой атаки один из австралийских солдат писал: «Мы сидели на парапете, махали руками, дразнили их. Кто-то выкрикивал: “Хайль Гитлер! Будете пиво?” или: “Попробуйте завтра снова!” – другие выкрики были не столь приветливы»48.
Сержант Сэм Брэдшо разыскивал остатки своего танкового соединения после провала операции Crusader и увидел вражеского солдата, ковылявшего по проложенной в песке колее.
Я подъехал и окликнул его: «Итальянец?» Он на прекрасном английском ответил: «Нет, я не итальяшка, я немец», – само предположение показалось ему обидным. Он был ранен, поэтому я подвез его на танке и дал напиться. Он угостил меня сигаретой Capstan. «Мы перехватили вашу колонну с провиантом», – пояснил он. Примерно в километре впереди мы увидели немецкие бронемашины, и мой немец скатился с танка и захромал к ним. Мой стрелок прицелился в него, но я крикнул в переговорник: «Не стреляй, пусть идет!» Немец обернулся, отсалютовал и нахально крикнул: «Свидимся в Лондоне». В ответ я прокричал: «Лучше в Берлине»49.
Но в рыцарском ведении войны имелась оборотная сторона: если союзники считали свое положение со стратегической точки зрения безнадежным, они были готовы, особо не стыдясь и не опасаясь последствий, сдаться, нежели сражаться до последнего человека или погибать в безводной пустыне. Английских военачальников и в особенности их начальство в Лондоне весьма удручали частые местные капитуляции и в целом отношение к войне как к спорту.
Восьмая армия отличалась пестрым национальным составом. Новозеландская дивизия (впоследствии корпус) считалась образцовой, солдаты проявляли лучшие качества своего народа – надежность и решительность. Высоко ценились также два австралийских дивизиона, особенно после того, как сложилась легенда о стойком сопротивлении «динго» в осажденном Тобруке. Однажды немецкий офицер наорал на пленника: «На хрена вы, австралийцы, явились сюда воевать за гадов-англичан?!»50 Военный корреспондент Алан Мурхед писал о «людях из доков Сиднея и с овечьих ранчо Риверины, этих образцах отваги с тощими грязными лицами, в высоких ботинках, с револьверами в карманах. Большими разлапистыми ладонями они крепко держат свои винтовки и ухмыляются, вечно ухмыляются». Эти ребята, недисциплинированные, зачастую и не имевшие хорошего начальства, безусловно, заслужили свою грозную славу, в особенности ночными вылазками. «Австралийцы считали себя лучшими в мире вояками, – писал английский офицер, – и по праву»51. Он уточнял, что подразделения австралийцев держались на «товариществе», а это для настоящего солдата куда более сильный стимул, чем абстрактная цель войны.
Не столь однозначны были отзывы о южноафриканцах в составе армии Окинлека. В благоприятные дни эта дивизия тоже хорошо сражалась, но в тяжелые времена не слишком хорошо проявляла себя. То же самое можно сказать и об Индийской армии: порой тут тоже демонстрировали замечательное умение воевать, совершали подвиги, но не приходилось рассчитывать на надежные и постоянные результаты. Британцы по заслугам ценили своих любимцев гуркхов, но и в этом подразделении не каждый был героем. И сколько бы белые офицеры ни уверяли себя в том, что их люди преданы королю и главе империи, на самом деле Индийская армия состояла из наемников. Элитой Восьмой армии считались собственно английские подразделения – Седьмая бронедивизия, «Крысы пустыни». С уважительной опаской относились немцы и к британской артиллерии. Но старые конные полки, кое-как пересаживавшиеся с лошадей на танки, были склонны к подвигам бездумной опрометчивости в соответствии с худшими традициями кавалерии.
И еще одна существенная проблема, от которой не удалось избавиться до конца лета 1942 г.: недоверие бойцов к собственному верховному командованию. В особенности парни из колоний полагали, что их жизнями рискуют, а порой и жертвуют во имя плохо продуманных планов и не таких уж важных целей. Досадовали на огромный «хвост», который вел себе привольную жизнь в Египте, в то время как солдаты сражались и погибали в пустыне. Британский артиллерист озлобленно писал: «Я понял, что на каждого из нас, потеющего в грязи и пыли Западной пустыни, приходится двадцать шляющихся по барам и ресторанам, ночным клубам и борделям, спортивным клубам и ипподромам Каира»52. Другой солдат написал циничную песенку от лица этих счастливчиков:
Мы не бывали к западу от Гезиры, Не заходили к северу от Нила, Не проходили мимо пирамид, От сфинкса никуда не уходили. Мы сражались в «Шеперде», в баре «Континенталь» И как вдарим по ланчу в Терф-клубе, Награжденные Африканской звездой.Премьер-министр Великобритании разделял чувства своих солдат. Чтобы содержать армию в стране, где отсутствовали промышленность и развитая инфраструктура, сложная система поставок была необходима, но неужели требуется СТОЛЬКО людей, бушевал Черчилль, чтобы заниматься логистикой и администрированием? На фронт бы их всех!
Сражавшиеся в пустыне испытывали меньше трудностей, чем те, кто попал в Россию, Бирму или на острова Тихого океана, но недостаток воды пугал всех. «С первого часа после рассвета нам начинают досаждать мухи, – писал итальянский офицер. – Песок забивается в рот, в волосы, в одежду, нет никакой возможности избавиться от жары»53. Уже знакомый нам Пьетро Остеллино писал домой в августе: «От одного этого климата можно впасть в безнадежность. Мы целыми днями страдаем от адской жары, от тени нет никакой пользы – дует удушливый ветер. Вся долина превращается в раскаленную печь. К восьми вечера ветер стихает, но тогда мы задыхаемся»54. В танках температура поднималась до 40 и даже 50 градусов. Открывать люки было бессмысленно – внутрь ссыпался горячий песок.
Английские солдаты получали чуть больше литра воды в день, а также вволю чая, который варили в старых бидонах из-под топлива на кострах, где не пойми, чего больше было – бензина или песка. Питались консервированной говядиной, печеньем и фруктами из банок. Немцы старались по возможности захватить обоз Восьмой армии, предпочитая их снабжение собственному, в особенности они радовались сигаретам. «Мы так постепенно превратимся в Томми, – балагурил Вольфганг Эверт во время одной из удачных операций Роммеля. – Наши машины, бензин, еда, одежда – все английское. Я позавтракал двумя банками молока, банкой ананасов, бисквитами и цейлонским чаем»55.
Постепенно обе армии привыкали к мысли, что пустыня – это опасная территория, перемещаться по ней, а тем более сражаться нужно с оглядкой. «Гладкий желтый песок, такой привлекательный с виду, на самом деле смертоносен, – писал английский офицер. – Только небольшие его участки удается проскочить, и то на большой скорости, иначе грузовик увязнет по самую ось. По гальке ехать лучше, но иной раз это лишь предательски тонкий слой, а под ним мягкий песок, и только опытный глаз различит это на подъезде. Местами пустыня гладкая и твердая, словно асфальт для гонок, на много миль во все стороны, местами – засасывает, словно патока»56. Обе стороны использовали захваченные вражеские машины, в результате обе порой обманывались. Неприятный сюрприз для англичан: в приблизившихся к ним английских машинах и танках сидят люди Роммеля. Однажды Болонская дивизия итальянцев в ужасе увидела вблизи английские грузовики, но внутри оказались немцы.
Сражения отделялись друг от друга длинными периодами скуки, тренировок, подготовки. «Основное занятие солдат в военное время – болтаться без дела, но не без цели», – язвил английский солдат57. Бойцы все время копали окопы, устанавливали мины, патрулировали, снайперы охотились друг на друга. Люди страдали от трофических язв, желтухи, дизентерии. Но обе стороны проклинали хамсин – песчаную бурю, во время которой в шаге от себя ничего не разглядишь, желтая пыль набивается во все отверстия машин, оборудования и человеческого тела. Итальянцы прозвали хамсин ghibli. Пьетро Остеллино писал жене: «Кажется неправдоподобным, чтобы на сто метров от столовой до палатки понадобилось два с половиной часа, но так это было. Ночью и то не так темно: останавливаешься на миг протереть глаза и уже не понимаешь, где находишься. Добравшись наконец до палатки, я убедился, что все там покрыто пятисантиметровым слоем песка. Саму палатку ветер срывает и того гляди унесет»58.
В пору затишья между битвами солдат мало что могло развлечь, кроме горячо ожидаемой всеми почты. Многие писали домой ежедневно, ведь больше заняться было нечем. Когда солдат пишет домой, он ощущает связь со своей прежней жизнью и все более дорожит этой связью по мере того, как месяцы разлуки превращаются в годы. Солдаты Восьмой армии изредка получали короткий отпуск в Каир и постепенно проникались ненавистью к этому городу. Оливия Мэннинг, в будущем знаменитый автор «Балканской трилогии» (The Balkan Trilogy), попала в Египет после эвакуации из Греции в апреле 1941 г. «Отчасти ощущение ирреальности создавалось освещением: слишком белый свет, все в этих лучах выглядело плоским. Все обесцвечивалось. Свет ложился на предметы как пыль… бесцветная летняя дельта пугала. Нас шокировала эта нищета и убогость, а еще более – готовность людей смиряться с ситуацией. Мы долго не могли оправиться от отвращения»59.
Мэннинг жила за пределами Англии с 1939 г. и теперь с любопытством присматривалась к соотечественникам-солдатам на улицах: «На лицах сверкает пот, волосы у всех выгорели, одинакового оттенка, розовый английский загар также стирает все отличия. Они и ростом схожи, отнюдь не великаны. Выношенная, истончившаяся, многократно стираная форма цвета хаки морщится от жары. Темные пятна пота проступают между лопаток и подмышками»60. Офицеры могли потешить себя восточным комфортом. «Запоминаются Groppi в Каире и Pastroudi в Александрии, – писал один из завсегдатаев. – Декадентское наслаждение утренним кофе и эклерами среди позолоченных зеркал и роскошной обстановки»61. Нижние чины были знакомы лишь с дешевыми барами и борделями Каира, из-за чего в Восьмой армии многие хворали.
Для воинства Муссолини Северо-Африканская кампания обернулась кошмаром с начала и до конца. Обычные трудности войны сделались для итальянцев невыносимыми из-за недостатка провизии, амуниции, машин, лекарств, а главное – веры в свое дело. Водитель Витторио Валличелла заполнял свой дневник неизбывной повестью горя. Эта война безнадежна, писал он, «не потому, что нам недостает умения или враг так уж храбр, но потому, что другая сторона лучше организована»62. И он с горечью добавлял: «Это война бедняков, фашистские власти отправили нас сюда, а сами сидят себе в безопасности в Риме, в палаццо Венеция».
Валличелла утверждал, будто за все время службы в Африке лишь однажды видел итальянский санитарный автомобиль; он горько жаловался на отсутствие должного руководства на любом уровне – от верховного командования в Риме до собственного взвода: «Сколько раз мы, ветераны, спасали их. Подразделения нашего союзника действуют гораздо агрессивнее, с превосходящей силой и маневренностью, их командиры действительно умеют командовать, а наши офицеры, заболев или после ранения, отправляются домой»63. Итальянских солдат возмущало неравенство их скудного рациона (суп, хлеб, немного варенья, изредка лимон) и офицерского рациона, в который входили вино и минеральная вода прямиком из Италии64. Отрадой для рядовых был любой привет с родины, особенно визиты девушек из Красного Креста, которые доставляли им посылки от соотечественниц: «После двадцати месяцев тут так приятно видеть этих красоток с их полезными подарками»65.
Но главным поставщиком пристойной еды был противник. «Кому повезет вернуться живым из ночного патрулирования, тот радуется трофеям: банкам джема и фруктов, коробкам печенья и чая, мясным консервам, бутылкам спиртного, сигаретам, сахару, рубашкам, брюкам, порой и ботинкам, полотенцам, туалетной бумаге, лекарствам, например аспирину и хинину, сгущенному молоку, свитерам из настоящей шерсти, компасам и всему прочему, что только на свете бывает. У нас ничего подобного никогда не было»66. Заболев малярией, Валличелла молился об ухудшении болезни, чтобы его отправили домой, но ничего не вышло67. И хотя большинство солдат радовались каждому письму из дому, Валличелла с огорчением констатировал, что на родине мало кто понимает, «в какой мы попали ад»68. Он осмелился даже вслух высказать мысль, что без бронетехники и снабжения много не навоюешь, и его чуть было не расстреляли: спасло заступничество командира полка.
Уэйвелл приступил к операции на Ближнем Востоке, располагая 80 000 солдат. К тому времени как его преемник Окинлек развернул в ноябре 1941 г. операцию Crusader, солдат было уже 750 000, но большинство из них оставались в гарнизоне или выполняли снабженческие и вспомогательные функции. Загнав Роммеля обратно в Эль-Агейлу, англичане надеялись получить передышку и начали приводить в порядок танковые подразделения. Однако силы противника, хотя и потерпели поражение, оправились удивительно быстро. После долгой и кровавой мясорубки Crusader Пьетро Остеллино писал: «Я был приятно удивлен, вновь получив свое имущество, которое, как я думал, досталось англичанам. Все привезли на грузовике, вырвавшемся из окружения, и я снова сплю на своей походной кровати. Десять дней я маялся, даже рук помыть не мог, но теперь я избавился от грязи и вшей (самые упорные остались, но с ними поможет разделаться капелька бензина). Теперь я чистенький и словно заново на свет народился»69.
И многие соратники Остеллино чувствовали себя не хуже. 21 января англичан ожидал неприятный сюрприз: Роммель вновь перешел в наступление. За три недели немцы продвинулись почти на 500 км к востоку, пока все те же проблемы с логистикой не вынудили их остановиться. Во главе британской Восьмой армии стоял теперь Нил Ричи, и он постарался укрепить оборонительную линию, так называемую линию Газала, которая состояла из «коробок» бригад, защищенных минными полями и колючей проволокой. По плану Ричи Роммелю пришлось бы потратить свои силы, атакуя эти укрепления, а затем численно превосходящие английские танки погнали бы немцев прочь.
Но эта стратегия не сработала, потому что Ричи не знал своего противника, мастера глубоких проникновений и фланговых атак. 26 мая Роммель атаковал, и тут же выяснилось, что «коробки» находятся слишком далеко друг от друга и не могут оказать взаимную поддержку. Несколько дней бригада Свободной Франции стойко обороняла южный выступ у Бир Хакейма, но потом была вынуждена отойти. Немецкие танки маневрировали с обычным искусством. «Нам не удавалось сделать более двух выстрелов по танку, прежде чем он скрывался в облаке пыли. Немцы все время держались вне радиуса обстрела»70, – писал разочарованный английский танкист. Его отряд бросили в атаку. «Десять к одному – мы сдохнем, – буркнул офицер. Он глянул на мрачное лицо заряжающего, который возился с орудием. – Жаль мне его стало: парень женился за несколько недель перед отбытием из Англии». Они вступили в бой: «Поворачивай влево. Двухфунтовый справа. Прямо вперед. Триста. Огонь!» Они дали залп и тут же, как описывает командир танка:
«Раздался чудовищный грохот. Я почувствовал острую боль в правой ноге, услышал, как стонет наводчик, и приказал: “Водитель, вперед!” Водитель не отозвался: у него в животе взорвался 88-миллиметровый снаряд. Но я сознавал только¸ что двигатель заглох, что сломана внутренняя рация, из труб под высоким давлением выходит воздух, поднимаются тучи ядовитого дыма. Все произошло в одно мгновение. Потом мы выбрались из танка и кинулись к другому. То был танк нашего батальонного командира, который остановился, чтобы подобрать нас. Заряжающий уже забрался на танк, наводчик скрылся в другом, а я все еще скакал на одной ноге, потому что другая отказывалась держать мой вес. Я ужасно испугался, как бы они не уехали без меня. Немцы обстреливали меня, пока я бежал к танку. Взрыв, у меня под ногами разверзлась земля, я покачнулся, но меня не задело. Я свалился в танк, измученный, чуть ли не в обмороке, и мы поехали прочь, в безопасное место. Рядом со мной оказался заряжающий, он весело улыбался, хотя его правая рука до локтя превратилась в кашу, белые кости просвечивали сквозь кровь, пальцы висели на лохмотьях кожи. Он истекал кровью, так что мы быстро сделали перевязку, и я отдал ему свой шприц с морфием. Мы говорили, что теперь отправимся домой».
В полевом госпитале этот офицер очнулся после операции под грохот падающих бомб и душераздирающий вой зениток в Тобруке. «Раненых было так много, что весь пол был заставлен носилками с пациентами, воздух пропитался запахами анестетиков, люди стонали или кричали в бреду, а потом умирали. Жара, духота была невыносимая. Правую ногу мне до самого бедра закатали в гипс, другая была покрыта засохшей кровью. Простынь не было, одеял в обрез».
Обе стороны понесли тяжелые потери в битве вокруг котла в самом центре английской линии обороны, но к 30 мая сделался очевиден перевес немцев. Англичане поспешно отступали. Южноафриканские и индийские войска остались оборонять Тобрук, а остатки Восьмой армии укрылись в Египте. Роммель обошел Тобрук, а 20 июня развернулся и напал на крепость с тыла, где оборона была наиболее слаба, и быстро ее сломил. Командующий, генерал-майор Хендрик Клоппер, родом из Южной Африки, сдался на следующее утро. Более 30 000 пленников достались державам оси, и лишь немногим отрядам удалось прорваться на соединение с Восьмой армией.
Витторио Валличелла в числе первых бойцов оси вошел в порт Тобрука. «Вот сюрприз: три сотни сенегальцев [колониальные французские войска] при виде нашего маленького отряда вскочили на ноги и подняли руки, сдаваясь. Они испугались плохо вооруженных людей, числом гораздо меньше, чем было их самих. Мы с удивлением и почтением взирали на этих чернокожих солдат, служивших богатейке Англии: они пришли издалека, чтобы принять участие в войне, о которой они толком не знали, за кого и ради чего сражаются»71. Обследовав город, итальянцы подивились комфорту английских казарм, с отдельными душами, у каждого офицера на кровати москитная сетка, провиант в изобилии72. Итальянцам досталась всяческая роскошь: консервированные сливы и коробки с тем, что Валличелла поначалу принял за сушеную траву. Сержант объяснил невеже: это чай, напиток богов. Арабов, которые грабили трупы, пристрелили73. Несколько итальянцев погибли, забредя на минное поле. Немцы приставили посты к складам с провизией, на что итальянцы горько обиделись: «Даже тут наши союзники распоряжаются нами»74. Но на какое-то время после взятия Тобрука приободрились не только немцы, но и итальянцы. «Надеюсь, этот кошмар закончился, – писал домой Валличелла. – У всех в голове одна мысль: Александрия, Каир, Нил, пирамиды, пальмы и бабы»75.
В этих сражениях начала лета немцы потеряли всего 3360 человек, а англичане 50 000, правда, в основном это были военнопленные. Большая часть танков Окинлека была уничтожена. Черчилль, который в то время ездил в Вашингтон на встречу с Рузвельтом, от таких новостей рвал и метал. Конец июня 1942 г. застал англичан на линии Эль-Аламейна, то есть снова в Египте. Один из солдат Окинлека писал: «Мы получили приказ: “До последнего патрона, до последнего человека”. Страшные слова. Странно, что эта легендарная фраза все еще звучит. Возможно, таким образом нам хотели внушить железную решимость, но на деле эти слова означали, что надежды для Тобрука нет и мы предоставлены своей судьбе. Брошены и разбиты»76. Удача английской армии на Ближнем Востоке и в целом престиж страны достигли нижней отметки. До сих пор попытки Черчилля перенести поле боя против держав оси в Африку способствовали лишь превращению Роммеля в героя, а мораль и самоуважение британского народа потерпели серьезный ущерб. К счастью, исход войны решался не в пустыне, и события, разворачивавшиеся одновременно в степях России, сводили к минимуму значение этих неудач.
6. Barbarossa
22 июня 1941 г. в 03:15 по берлинскому времени немецкие пограничники подозвали своих русских коллег на мосту через Буг возле Кодена «обсудить важный вопрос» и расстреляли их из пулеметов. К 03:30 немецкие саперы разминировали железнодорожный мост у Брест-Литовска и дали своим сигнал наступать. Диверсантов из полка «Бранденбург», среди которых были говорившие по-русски, заранее забросили на парашютах или иным способом переправили через границу, и они уже занимались уничтожением коммуникаций за линией фронта. 3,6 млн солдат оси начали продвижение вглубь Советского Союза по фронту, растянувшемуся на 1600 км, от Прибалтики до Черного моря, сметая слабую оборону. Советский поэт Давид Самойлов позднее напишет: «Война, которую мы ожидали и о которой сочиняли стихи, началась неожиданно»1. Дивизии и целые армии бесследно исчезали на пути победоносных германских войск. Первые недели кампании отмечены массовой сдачей в плен и распадом Красной армии. Советский командующий записал разговор с товарищем: «Кузнецов с дрожью в голосе уведомил меня, что от 56-й стрелковой дивизии не уцелело ничего, кроме номера»2. И таких катастроф были десятки и сотни.
Вторжение Гитлера в Советский Союз стало главным событием мировой войны, подобно тому, как холокост стал основным преступлением нацизма. Германия попыталась осуществить амбициозный план: изменить исторические границы расселения славян и основать новую империю на Востоке. Нацисты утверждали, что следуют примеру других европейских стран, выкраивая себе жизненное пространство на землях дикарей. Английский историк Майкл Говард писал: «Многие немцы, едва ли не большинство, в том числе и почти все немецкие интеллектуалы, воспринимали Первую мировую войну как битву за выживание культуры против объединившихся сил русского варварства и куда более вкрадчиво-опасной цивилизации Запада уже не в лице французской аристократии, но воплощенной в материалистическом англо-саксонском укладе. Это убеждение целиком вошло в идеологию нацистов и послужило источником их собственной философии»3.
Миллионы немцев с детства воспитывались в убеждении, будто над их народом нависла страшная угроза, которая исходит от Советского Союза. «Для большевиков – самое подходящее время атаковать Европу и попытаться осуществить свои планы мирового господства, – писал ярый наци, пилот люфтваффе Хайнц Кноке в 1941 г. – Заключит ли западный капитализм с его демократическими институтами альянс с большевизмом? Будь у нас развязаны руки на Западе, мы смогли бы сокрушить большевистские орды, и ничего тут Красная армия не поделала бы. Спасли бы Западную цивилизацию»4. Естественно, при такой логике Кноке счастлив был участвовать во вторжении в Россию. И многие командиры разделяли его чувства. Ганс Ешоннек, начальник генштаба ВВС, годом ранее был расстроен неудачной Британской кампанией и считал, что там понапрасну растрачивались вверенные ему боевые резервы. Теперь же ликовал: «Наконец-то снова нормальная война!»
Восемнадцатилетний Генрих Метельманн, слесарь из Гамбурга, ставший водителем танка, позднее писал: «Я усвоил как нечто само собой разумеющееся долг немцев – ради блага всего человечества привить наш образ жизни низшим расам и тем нациям, которые в силу своего ограниченного интеллекта даже понять толком не могли нашу миссию»5. Как многие молодые немцы в тот период войны, он бестрепетно ожидал отправки на Восточный фронт. «Мало кто из нас понимал, на что идет. Эта экспедиция, да и вся война, была для нас великим приключением, возможностью ускользнуть от скуки гражданской жизни, ну и заодно исполнить священный долг перед фюрером и отечеством».
Стратегия Гитлера – в той мере, в какой он вообще что-то планировал, а не хватался за представлявшиеся ему возможности, – проистекала из понимания, что отсрочка играет на руку его врагам: они успеют вооружиться и сплотиться против него. С целью устрашить потенциального противника незадолго до того, как план Barbarossa был осуществлен, германского военного атташе возили из Москвы на новые военные заводы, строившиеся в Сибири. Но доклад атташе произвел действие, обратное желаемому. Гитлер заявил своим генералам: «Вот видите, как много уже они успели. Нужно скорее нанести удар»6. Уничтожение большевизма и порабощение огромного населения СССР издавна были основными целями нацизма, они провозглашались в речах и текстах Гитлера с 1920-х гг. Присутствовало и желание воспользоваться практически неисчерпаемыми природными ресурсами России.
Сталин, вероятно, собирался вступить в схватку со своим грозным соседом, но когда это ему самому будет удобно. Если бы в 1940 г. Германия увязла в затянутой войне на истощение сил против французов и англичан (на это Москва очень надеялась), то русские могли бы ударить Гитлеру в тыл, но при условии, что союзники предложат им крупные территориальные приобретения. Сталинские генералы разработали планы нападения на Германию (впрочем, они рассматривали и другие ситуации), предположительно рассчитанные на 1942 г. Тем не менее в 1941 г. армии Сталина не смогли противостоять в одиночестве удару вермахта. Несмотря на усиленную мобилизацию (действующая армия СССР выросла вдвое между 1939 г. и моментом германского вторжения), Москва еще не приступила к программе перевооружения, по которой предстояло снабдить Красную армию одной из лучших боевых систем в мире.
Итак, с точки зрения Гитлера, операция Barbarossa была, несомненно, оправдана: Германия успевала использовать свое преимущество. Но Гитлер роковым образом заблуждался относительно военной и индустриальной мощи, уже накопленной Сталиным, его нисколько не тревожила мысль о безграничных просторах России, и фюрер безответственно подошел к логистике снабжения на случай, если кампания затянется. Хотя за последний год вермахт был усилен, в том числе несколькими сотнями новых танков, а многие подразделения были укомплектованы оружием и транспортом, захваченным в Чехии в 1938–1939 гг. или во Франции в 1940 г., только бронедивизии адекватно снабжались и транспортом, и оружием. После триумфа на Западе Гитлер и не догадывался, насколько труднее будет совладать с тиранией, подданные которой привыкли к страданиям и жертвам, нежели с демократическими государствами вроде Франции и Британии, с их глубоко укоренившимися добродетелями умеренности и уважения к человеческой жизни.
Офицеры вермахта гордились своей принадлежностью к культурной нации, однако с готовностью согласились и на варварские методы, предусмотренные планом Barbarossa. Предполагалось уморить голодом 30 млн русских, чтобы за их счет прокормить Германию. Автором этой оригинальной концепции был руководитель германского сельского хозяйства Герберт Бакке. На встрече 2 мая 1941 г., где обсуждалась грядущая оккупация Советского Союза, секретариат по вооружению выразил готовность пойти на меры, чрезвычайные даже по понятиям Третьего рейха:
1. Война может продолжаться только при условии, что на третьем году вермахт будет целиком питаться за счет России.
2. Если мы заберем у этой страны то, в чем мы нуждаемся, миллионы ее жителей умрут от голода.
Таким образом, план Barbarossa не сводился к военной кампании – это была также экономическая программа, подразумевавшая смерть десятков миллионов человек – и в этой части программа была практически выполнена. Некоторые военачальники протестовали против приказов, вовлекавших их подчиненных в систематическое истребление коммунистов, но больше было тех, кого смущала гитлеровская стратегия вторжения. Генерал-майор Эрих Маркс, блестящий специалист, отвечавший за предварительное планирование, советовал нанести основной удар к северу от болот Припяти, поскольку русские выставляли оборону южнее. Кое-кто из полководцев высказывал мнение, что милосердное обращение с побежденными сделает их покорными, но поскольку эти соображения основывались не на моральных принципах, а на практическом подходе, то, столкнувшись с жесткими распоряжениями из Берлина, такого рода критики умолкли и принялись добросовестно выполнять людоедские приказы.
План Barbarossa отличался не просто варварством, а варварством индустриализованным. Администраторам на оккупированных территориях Геринг твердил: «Вас послали туда не печься о благе этих народов, но выжать из них все ради жизни германского народа»7. Генерал-полковник Эрих Хепнер, пятидесятипятилетний кавалерист, поставленный во главе Четвертой танковой группы, говорил: «Война с Россией – важнейший этап борьбы за существование германского народа. Это все та же битва германца и славянина, оборона европейской культуры от московско-азиатского потопа, ниспровержение жидобольшевизма. Целью этой войны должно стать уничтожение современной России, и потому вести ее нужно с беспрецедентной суровостью. Каждое столкновение, от замысла до исполнения, должно с железной решимостью направляться к тому, чтобы целиком и полностью истребить противника»8. С июня 1941 г. и далее мало кто из старших офицеров вермахта оставался не замешанным в преступления нацизма.
Советский Союз накануне немецкого вторжения представлял собой наиболее жестко регулируемое идеологическое государство в мире. Механизмы репрессий были здесь гораздо мощнее и к 1941 г. успели перемолоть намного больше собственных граждан, чем погибло в нацистской Германии: 6 млн крестьян погубила сталинская программа насильственной индустриализации, огромное множество верных членов партии пали жертвой паранойи генерального секретаря. Немцы (за исключением евреев) пользовались гораздо большей личной свободой, чем русские. Но для отражения внешнего врага тирания Сталина была отнюдь не так хорошо подготовлена, как для уничтожения собственного народа. Формирования Красной армии возле западной границы были развернуты неудачно, тонкой передовой линией. Многие выдающиеся офицеры погибли в чистках 1937–1938 гг., их заменили некомпетентные прислужники Сталина. Коммуникации не были налажены, не хватало раций и технических навыков, в большинстве соединений отсутствовало современное оружие и оборудование. О новых оборонных сооружениях не позаботились, советская военная доктрина разрабатывала только наступательные операции. На всем лежала грозная рука партии, в зародыше губившая инициативу, продуманные стратегии, эффективные предложения.
Сталин отмахивался от предупреждений своих же военачальников, а также от поступавших из Лондона сведений о скором начале войны. 10 мая заместитель Гитлера Рудольф Гесс прилетел в Британию с целью самостоятельно договориться о мире – это лишь усилило в Советском Союзе страх перед «двуличными британцами»: Черчилль, мол, подпишет сепаратный договор с немцами. Пренебрег Сталин и сообщениями советских агентов из Берлина и Токио. На одном докладе из Берлина, сообщавшем о плане Barbarossa, он начертал: «Можете послать ваш “источник” из штаба Герм. авиации к еб-ной матери. Это не “источник”, а дезинформация. И. Ст.»9. Люфтваффе сыграло свою роль в отвлекающих маневрах Берлина: 10 мая 500 бомбардировщиков совершили налет на Лондон, погибло более 3000 мирных жителей. Через несколько дней те же эскадрильи уже перебрасывались на Восток.
О широкомасштабном движении войск перед началом вторжения сплетничали в европейских кафе и на улицах. Писателю Михаилу Себастиану, жившему в Бухаресте, 19 июня позвонил друг и сказал: «Если прекратится дождь, война может начаться уже завтра»10. Но Сталин запрещал предпринимать любые меры, чтобы не спровоцировать Берлин, и не прислушивался к настойчивым призывам командиров на местах объявить боевую тревогу. Он даже не разрешал обстреливать немецкие самолеты, вторгавшиеся в советское воздушное пространство, а таких случаев за май и начало июня было зафиксировано 91. Сам Сталин всегда неуклонно следовал к намеченной цели, а потому кажущаяся нелепость поведения Гитлера сбивала его с толку. По условиям советско-германского договора Германия получала от России огромную материальную помощь. Поезда отправлялись на Запад вплоть до начала вторжения. Самолеты люфтваффе летали преимущественно на советском топливе, подводные лодки немецкого ВМФ имели право заходить в русские гавани. Британия пока что не была побеждена. Сталин имел все основания сомневаться в том, что Гитлер решится на разрыв с ним, и Сталин лично несет ответственность за то, что нападение немцев, о возможности которого Сталина предупреждали свои же генералы, застало страну врасплох. Георгий Жуков, глава генерального штаба, объявил боевую тревогу поздно вечером 21 июня, но до пограничных постов этот сигнал дошел лишь за час до начала вторжения.
На Западном фронте было сосредоточено около 2,5 млн человек из 4,7 млн, составляющих действующую советскую армию: 140 дивизий и 40 бригад, более 10 000 танков, 8000 самолетов. Гитлер направил против них войска оси численностью 3,6 млн человек – крупнейшие силы вторжения за всю историю Европы, – 3600 танков, 2700 самолетов, более современных и качественных, чем русские. Войска были разделены на три группы под общим руководством фельдмаршала Вальтера фон Браухича. Вопреки советам своих лучших военачальников, предлагавших направить все силы на Москву, Гитлер решил одновременно ударить по Украине, захватить ее заводы и богатые природные ресурсы. Иногда это решение называют роковой стратегической ошибкой, но еще вопрос, обладала ли Германия достаточной экономической мощью, чтобы реализовать восточные планы Гитлера, с какого бы конца он за них ни взялся.
Многих в Германии известие о новой войне повергло в шок. Геббельс писал: «Мы скоро с ними справимся. Мы должны с ними справиться. В народе слегка подавленное настроение. Народ хочет мира, правда, не позорного, но каждый новый театр военных действий означает горе и заботы»11. Молодой переводчик советского посольства Валентин Бережков описал странное событие, произошедшее с ним, когда он и весь состав посольства находились под арестом после начала войны. С Бережковым свел дружбу немолодой офицер СС Хейнеманн и как-то раз пригласил его выпить в кафе, где к ним внезапно присоединилось шестеро эсэсовцев. Чтобы отвести от себя подозрения, Хейнеманн поспешил сказать, что Бережков – родственник его жены и выполняет секретное поручение, которое нельзя разглашать.
Они поговорили о войне, затем эсэсовцы подняли тост «За нашу победу», а Бережков выпил «За нашу победу», не привлекая к себе особого внимания. Хейнеманн отчаянно боялся за сына, только что вступившего в СС, – как бы его не убили в России – и к тому же нуждался в деньгах на лечение жены. Бережков выдал ему тысячу марок из сейфа посольства, понимая, что русским все равно не дадут забрать с собой крупные суммы, когда разрешат им репатриироваться. На прощание Хейнеманн, участвовавший в обмене русских дипломатов на остававшихся в Москве немецких, вручил Бережкову собственную надписанную фотографию. «Возможно, – сказал он, – когда-либо случится так, что мне придется сослаться на эту услугу, оказанную мной советскому посольству. Надеюсь, что это не будет забыто». Больше эти двое друг о друге ничего не слышали, однако Бережков заметил, что немец, даже будучи офицером СС, втайне опасался поражения своей страны в восточном походе12.
Эти опасения не разделялись молодыми солдатами Гитлера, все еще не опомнившимися от триумфов 1940 г. «Мы были преисполнены энтузиазма, счастливы жить в это героическое время»13, – вспоминал Мартин Поппель, в ту пору двадцатилетний десантник. Мысль о сражениях на Востоке приводила его в восторг: «Наша цель – Россия, задача – война и победа… Мы стремимся как можно скорее принять участие в великой борьбе… Ни одна страна не притягивает меня так, как большевистская Россия»14. Удар немцев был направлен из Восточной Пруссии на Литву, из Польши – на Киев и Минск, из Венгрии – на Украину. Почти всюду немцы с презрительной легкостью сокрушали советскую оборону, самолеты уничтожали прямо на земле – 1200 боевых единиц за первые сутки войны.
В республиках Прибалтики немцев приветствовали как освободителей, бросали им цветы, несли угощение. За предвоенные месяцы НКВД во главе с Берией успел произвести там десятки тысяч арестов и превратить во врагов новой власти миллионы эстонцев, латышей и литовцев. По отступавшим русским войскам в довершение паники стреляли и местные снайперы. Многие мирные жители укрывались в лесах, выжидая ухода сталинской армии. «Ныне леса и болота населены гуще, нежели хутора и поля, – писал эстонец Юхан Яик. – Леса и болота принадлежат нам, а хутора и поля захвачены врагом»15. Врагами он называл русских, но те вскоре ушли.
Латыши успели отбить у советских оккупантов три своих города еще прежде, чем явились немцы. К концу 1941 г. эстонские партизаны держали у себя до 26 000 русских военнопленных. На Украине Красная армия также несла потери не только от немцев, но и от партизан из местных. Подросток Стефан Куриляк, украинец польского происхождения, как и многие его соотечественники, радовался изгнанию русских. Одним из последних злодеяний оккупантов в их приднестровской деревне стало убийство лучшего друга Стефана Сташи – пятнадцатилетний мальчишка чем-то навлек на себя их подозрения. Приход немцев горячо праздновали украинцы по обе стороны советской границы. «Никто не сомневался, на чьей стороне будет победа, – писал Куриляк. – Наши… сразу же стали сотрудничать с немецкими “освободителями” …Некоторые уже поднимали правую руку в нацистском салюте»16.
В первые недели вторжения вермахт одержал несколько крупнейших побед за всю историю войны. Ему удалось окружить и уничтожить целые армии, особенно под Белостоком, Минском и Смоленском. Советские солдаты сдавались в плен десятками, сотнями тысяч. Росли потери советского воздушного флота. Двадцатилетний пилот Хайнц Кноке, рьяный наци, описывал радости расстрела с бреющего полета: «Никогда еще я так метко не стрелял. Мои Иваны лежат на земле. Один вскочил и кинулся к лесу. Остальные и не думают подниматься… Пилоты возвращаются, нас встречают улыбками. Давно мы мечтали так расправиться с большевиками. Мы не столько ненавидим их, сколько презираем. Истинное удовлетворение для всех нас – втоптать большевиков в грязь, откуда они вышли»17.
Иван Коновалов, один из тысяч сталинских пилотов, застигнутых бомбардировщиками прямо на аэродроме, писал: «Внезапно раздался невероятный рев. Кто-то крикнул: “Прячьтесь!” – я нырнул под крыло самолета. Все пылало – яростным, страшным огнем»18. Александр Андриевич, офицер снабжения, набрел на советское подразделение, уничтоженное атакой с воздуха: «Сотни или тысячи убитых… Один наш генерал стоял на перекрестке. Он явился принимать войска, был одет в парадную форму. Но его солдаты разбегались во все стороны, а он стоял, покинутый, одинокий, мимо него пробегали люди, а позади высился обелиск в память вторжения Наполеона в Россию в 1812 г.»19. Политрук Пятого полка 147-й стрелковой дивизии повел своих людей в бой с криком «За Родину! За Сталина!» – и пал от первого же выстрела20.
Под ясным небом немцы, закатав рукава, катили на танках и грузовиках пыльными триумфальными колоннами по степям, болотам и лесам – сотни и тысячи километров. «Мы следовали тем же маршрутом, что и Наполеон, – писал позднее генерал-майор Ханс фон Гриффенберг, – но не думали, что события 1812 г. повторятся вновь. У нас были самая современная техника, транспорт, средства связи – мы считали, что с пространствами России можно совладать с помощью железных дорог и моторов, телеграфного провода и радио. Мы безоговорочно верили в план блицкрига»21. Стрелок-танкист в августе 1941 г. писал своему отцу, ветерану Первой мировой: «Эти нелепые орды – обычные уголовники, которых гонит в бой водка да приставленный к затылку ствол… кучка засранцев… Я видел эти большевистские орды и как они живут, это запомнится надолго. Каждый, даже тот, кто до последнего сомневался, теперь видит, что борьба против этих недочеловеков, которых распалили евреи, была не только необходима, но и более чем своевременна. Наш фюрер спас Европу от неизбежного хаоса»22. Командир артиллерийской батареи писал 8 июля: «Мы замечательно продвинулись. Любить можно лишь одну страну, потому что она так дивно прекрасна – Германию. Что в мире сравнится с ней?»23 Вскоре этот офицер погиб, но, будем надеяться, любовь к родине скрасила ему последние дни.
Армия вторжения стремительно продвигалась, города на ее пути пылали, подожженные либо немецким обстрелом, либо отступающими русскими. Полевые госпитали Красной армии были переполнены ранеными, их доставляли на повозках. «Иные сами приползали на четвереньках, покрытые кровью, – вспоминала медсестра Вера Юкина. – Мы делали перевязки, хирурги извлекали осколки и пули, обезболивающие средства давно закончились, и операционная звенела от стонов, криков, воплей о помощи»24. За первые дни войны только в Тарнопольском госпитале, рассчитанном на 200 человек, скопилось 5000 раненых. По всему фронту раненые солдаты, для которых не хватало коек, лежали на голой земле перед медицинскими палатками. Колонны военнопленных брели, растерянные, в наспех сооружаемые концлагеря. Их количество изумляло и тех, кто их захватил, и публику закрытого кремлевского кинозала, где Сталин с приспешниками смотрел трофейные немецкие новостные ролики. Переводчица Зоя Зарубина (ей был всего 21 год) вспоминала: «Когда комментатор назвал число погибших и попавших в плен советских солдат, по залу пронесся отчетливо слышный вздох. Один военачальник ухватился за сиденье в переднем ряду и застыл в шоке. Сталин молчал в оцепенении. А мне навсегда запомнился следующий кадр: снятые с близкого расстояния лица наших солдат. Совсем мальчишки, беспомощные, растерянные»25.
Мир с изумлением, с весьма неоднородными чувствами следил за разворачивавшейся перед его глазами драмой. В Америке архиизоляционист Чарльз Линдберг провозглашал: «Я бы в сто раз охотнее объединил усилия нашей страны с Британией или даже с Германией при всех ее изъянах, нежели с той жестокостью, безбожием и варварством, что царят в Советской России». В дневниковой записи домохозяйки из Варвика Клары Милберн от 22 июня это смешение чувств и лояльностей ощущается вполне явно: «Итак, теперь Россия на своей шкуре ощутит то, что сделала с Финляндией, а может быть, ей придется и гораздо хуже. Мистер Черчилль выступал сегодня по радио и сказал, что мы должны вступиться за Россию. Видимо, должны, так как она теперь тоже против врага рода человеческого. Но как подумаю о ее путях, которые не наши пути, то сожалею, что нам приходится делать это»26. 1 июля в Бухаресте водитель трамвая, заметив в руках у Михаила Себастиана газету, спросил его, как продвигаются немцы. «Уже вошли в Москву?» – «Нет, но завтра или послезавтра – наверняка». – «Вот и хорошо. Тогда мы покрошим жидов»27.
Берлин охватила эйфория. Гальдер, глава генерального штаба вермахта, 3 июля провозглашал: «Полагаю, можно без преувеличения сказать, что кампания… в две недели увенчалась победой». На конец августа Гитлер планировал парад победы в Москве. Те высокопоставленные немцы, кто прежде выражал опасения по поводу этого похода, теперь не уставали дивиться некомпетентности советского командования, той легкости, с какой были уничтожены тысячи вражеских самолетов, явному тактическому превосходству атакующей армии. То же ощущали и непосредственные участники боевых действий: танковый стрелок Карл Фукс восклицал: «Война против этих недочеловеков почти закончена… мы им показали. Они – ничтожества, жалкий сброд, не чета немецкому солдату!»28 К 9 июля группа армий Центр завершила окружение значительных советских сил в Белоруссии. Красной армии очередное поражение стоило 300 000 военнопленных и 2500 танков. За Смоленск русские бились до начала августа, и эта задержка впоследствии окупилась, поскольку вермахт потерял драгоценные летние дни. Сильное сопротивление Красная армия продолжала оказывать и на юге. Но, когда 15 сентября армии Бока и Рундштедта сошлись у Лохвицы, к востоку от Киева, сразу две русские армии попали в ловушку и погибли, унеся с собой полмиллиона солдат. Ленинград оказался в кольце осады, Москва под угрозой.
Вскоре обнаружилась и беспощадная жестокость завоевателей. Во Франции в 1940 г. более миллиона военнопленных находились в лагерях и получали ежедневный паек – в России военнопленных обрекли на голодную смерть. Сначала их были сотни тысяч, затем миллионы, и все они медленно погибали в соответствии с умыслом победителей, да те и не смогли бы разумно распорядиться таким количеством пленников, даже если бы захотели: лагери рейха в совокупности были рассчитаны не более чем на 790 000 человек. Среди пленных началось людоедство. Во многих немецких подразделениях пленных сразу же убивали, чтобы упростить себе задачу и не дожидаться их «естественной» смерти. Генерал Иоахим Лемельзен обратился к верховному командованию с протестом: «Я постоянно сталкиваюсь со случаями безответственного, бесчувственного, преступного расстрела пленных и дезертиров. Это убийство. Скоро русские узнают о том, что наши солдаты оставляют на своем пути бесчисленные трупы, о том, что безоружных, поднявших руки людей приканчивают пулей в голову. Тогда противник начнет прятаться в лесах и продолжит борьбу, а мы потеряем множество товарищей»29.
Берлин не реагировал. Гитлер стремился захватить как можно больше земли и оставить на ней как можно меньше жителей. Он часто приводил в пример американскую историю XIX в.: продвигаясь на Запад, поселенцы уничтожали индейские племена, расчищая себе место. 25 июня генерал-майор полиции Вальтер Шталекер под прикрытием танков вошел в литовский город Каунас со своей айнзатцгруппой (карательным отрядом) А. Литовские коллаборационисты окружили и забили насмерть тысячу евреев у гаражей Литукис, в 200 м от штаб-квартиры немцев. Шталекер отчитывался: «Эти операции самоочищения прошли без осложнений, поскольку армейские власти были заранее извещены и проявили полное понимание».
Другая сторона тоже расстреливала как военнопленных, так и своих политических заключенных. Когда Красной армии пришлось при отступлении оставить госпиталь, где находилось 160 раненых немцев, всех раненых убили, выкинув из окна или разбив голову прямо на койке. Немецкий взвод, сдавшийся при контратаке русских на реке Дубис 23 июня, был обнаружен на следующий день при повторном отступлении противника. Пленные были не просто убиты: над ними надругались. «Глаза выколоты, половые органы отрезаны и учинены другие жестокости, – писал потрясенный немецкий офицер. – То был наш первый опыт такого рода, но далеко не последний. Вечером второго дня войны я сказал генералу: “Эта война вовсе не похожа на то, что происходило в Польше и Франции”»30. Была ли эта история о зверствах правдой – так или иначе войне на Востоке суждено сопровождаться массовыми избиениями.
Сталин предоставил Молотову, который тщетно боролся с заиканием, честь сообщить советским подданным, что они вступили в войну. Государственное радио разнесло эту весть 22 июня в 12:15. В последующие дни Сталин многократно встречался со своими командующими – 29 раз только в день начала войны – и принял ряд ключевых решений, в том числе об эвакуации заводов на восток. НКВД тем временем истреблял и депортировал «ненадежный элемент», среди прочих – множество людей, виновных всего лишь в том, что они носили немецкие фамилии. Были конфискованы личные радиоприемники, так что с этого момента русские могли слушать новости лишь на заводах и в учреждениях «в строго отведенное время». Несколько дней Сталин еще цеплялся за абсурдную надежду, что все это – чудовищная ошибка. Сохранились отрывочные сведения о том, как агенты НКВД в нейтральных странах искали возможности завязать переговоры с немцами, но из этого ничего не вышло.
К 28 июню, когда пал Минск, с этими фантазиями было покончено. Сталин перенес нервный срыв, который вынудил его удалиться на подмосковную дачу. Когда 30-го числа к нему явилась делегация из Кремля во главе с Анастасом Микояном, Сталин встретил ее с явной тревогой: «Зачем пожаловали?» Он, по-видимому, опасался, что приближенные, которых он так подвел своей неверной оценкой ситуации, явились, чтобы его свергнуть, но эти безнадежно запуганные и покорные люди молили своего господина и далее править ими. И наконец, Сталин опомнился: 3 июля он выступил с радиообращением к народу. Выступление разительно отличалось от тех авторитарных интонаций, к которым подданные уже привыкли под властью Сталина. Он начал с прочувствованного призыва: «Товарищи! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Он призывал к «всенародной отечественной войне», распорядился уничтожать на пути врага все, чем тот может воспользоваться, а за линией фронта продолжать партизанскую войну. Подразумевая (хотя и не произнося вслух), что теперь СССР считается союзником Британии, Сталин провозгласил эту войну частью «единого фронта народов, стоящих за свободу». С этого момента он лично входил во все детали подготовки обороны и ведения войны в качестве главы Ставки (генерального штаба), Государственного комитета по обороне и Транспортной комиссии, а также в должности наркома обороны. 8 августа Сталин также назначил самого себя Верховным главнокомандующим Красной армии.
В конечном счете Сталин окажется самым успешным главнокомандующим той войны, однако руководить боевыми операциями он умел не лучше, чем Гитлер, Черчилль или Рузвельт. Он не был знаком со стратегией глубокоэшелонированной защиты и не допускал отступления даже в тактических целях. Приказ Сталина держаться до последнего, даже когда армии грозило окружение, погубил многих его солдат. После первых сражений тысячи офицеров и рядовых были осуждены за некомпетентность или трусость и расстреляны, среди них и командующий Западным фронтом Дмитрий Павлов. На сообщения о массовом дезертирстве и сдаче в плен Сталин ответил драконовскими мерами. Приказ № 270 от 16 августа 1941 г. предписывал расстрел «злостных дезертиров» и арест членов их семей. «Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности», а тех, кто «предпочтет сдаться в плен, – уничтожать их всеми средствами». Приказ № 270 зачитывался во всеуслышание на полковых собраниях.
В ходе войны 168 000 советских граждан были официально приговорены к расстрелу по обвинению в трусости или дезертирстве, и значительно большее их число было попросту расстреляно даже без полевого суда. Всего по различным подсчетам около 300 000 русских солдат погибло от руки своих же командиров – больше, чем англичане потеряли в сражениях за всю войну. Даже те солдаты, которым удавалось избежать плена и добраться до своих, попадали в руки НКВД, и их отправляли в Сибирь или штрафные батальоны – подразделения обреченных, которые начали формироваться несколько месяцев спустя. Когда гитлеровские войска вплотную подошли к Москве, в столице было арестовано более 47 000 «дезертиров», сотни людей тут же казнили по подозрению в шпионаже, дезертирстве или «фашистской агитации». Политруки всех уровней наделялись такими же полномочиями, как строевые командиры, что препятствовало быстрому принятию решений в условиях боя. Сталин лично управлял действиями не только армий, но и отдельных дивизий.
Вторжение пробудило в народе патриотические чувства: в первые 36 часов в Москве записалось в армию 3500 добровольцев, за первый месяц в Курской области по личной инициативе вступили в ряды армии еще 7200 человек. Но многие просто оцепенели от ужаса при виде этой национальной катастрофы. НКВД стали известны слова московского юрисконсульта Израэлита: дескать, правительство «не отразило немецкое вторжение в первый же день, и это привело к огромным потерям самолетов и бойцов и полной разрухе. Партизанщина, к которой призывает Сталин, – совершенно неэффективный способ ведения войны. Это жест отчаяния. А надеяться на помощь Британии и Соединенных Штатов – и вовсе безумие. СССР в беде, и мы не видим выхода»31.
Военный корреспондент Василий Гроссман встретил за линией фронта группу крестьян. «Население. Плачут. Едут ли, сидят ли, стоят ли у заборов – едва начинают говорить – плачут, и самому невольно хочется плакать. Горе!.. Старушка думала в колонне встретить сына, простояла весь день в пыли до вечера. Подошла к нам: “Бойцы, возьмите огурчиков, покушайте на здоровье”, “Бойцы, пейте молоко”, “Бойцы, яблочек”, “Бойцы, творожку”, “Бойцы, возьмите…” И плачет, плачет, глядя на идущих»32.
Евгений Ануфриев развозил резервистам мобилизационные предписания: «Нас удивляло, что многие пытались спрятаться, чтобы не брать предписание. На этом этапе войны энтузиазма было маловато»33. Подавляющее большинство в Красной армии составляли призывники, готовые на жертвы и мученичество ничуть не больше, чем такие же рядовые из Великобритании или США. Многие прибывали на мобилизационный пункт смертельно пьяными, проделав долгий путь из своих деревень. Хотя после революции в стране активно боролись с неграмотностью, многие рекруты не умели читать. Лучшие кадры отбирал себе НКВД, которым руководил Лаврентий Берия, – наркомат разросся в элитный корпус из 600 000 человек. Украинцев, белорусов и жителей Прибалтики считали политически неблагонадежными и не принимали в танковые войска. В результате сталинских чисток в Красной армии отчаянно недоставало опытных офицеров и даже сержантов.
Пехотинцев в первые месяцы войны обучали только маршировать, наматывать портянки – в Красной армии под сапоги вместо носков наматывали длинные куски ткани, – по команде рассыпаться и искать укрытие, рыть окопы и выполнять простейшие приемы с деревянными винтовками. Оружия не хватало, не было казарм, не было транспорта. Самым драгоценным имуществом для рядового была ложка. Ветераны рассказывали, что случалось порой бросить оружие, но только не спрятанную в сапог ложку. Часы имелись только у офицеров. В страшные дни 1941 г. новобранцев зачастую уже через неделю-другую бросали в бой. Полковой комиссар Николай Москвин с горечью писал в своем дневнике 23 июля: «Что я скажу людям? Мы продолжаем отступать. Как удержать их доверие? Как? Сказать, что товарищ Сталин с нами? Что Наполеон был разбит и Гитлер с его генералами тоже найдут здесь свои могилы?»
Москвин старался как мог, но его речи не имели успеха: за ночь дезертировало 13 человек. Еврейский беженец Габриэль Темкин видел, как советские войска движутся к линии фронта под Белостоком: «кто в грузовиках, а по большей части пешком, устаревшие винтовки болтались на плечах. Выношенная форма вся в пыли, лица хмурые, печальные, истощенные, щеки запали»34. Самострелы стали обычным явлением. Военный корреспондент, думая подбодрить своими словами советского генерала, сказал ему, что раненые, прибывающие с поля боя в госпиталь, держатся необычайно мужественно, на что генерал с циничной усмешкой возразил: «Особенно раненные в левую руку»35. Этим уловкам быстро был положен конец: по первому же подозрению стали расстреливать. Помимо драконовских мер наказания за любую провинность Ставка 1 сентября ввела единственное поощрение солдатам, легендарные «сто грамм», или «продукт 61», – ежедневную порцию водки. Это укрепило в солдатах готовность оказывать сопротивление, но вместе с тем способствовало распространению в армии губительной привычки к пьянству.
Огромную роль в противостоянии плану Barbarossa сыграла советская доктрина всеобщей мобилизации, впервые предложенная Михаилом Фрунзе, который занимал пост наркома по военным и морским делам еще при Ленине. Майкл Говард отмечал, что, хотя в июне 1941 г. русские были захвачены врасплох и понесли тяжелые потери, стратегически и психологически они готовились к великой битве против западного капитализма уже с 1917 г. Также не следует преуменьшать размах эвакуации основных заводов и их персонала на восток, необычайную решительность тех, кто осуществлял это переселение, и важные для СССР последствия эвакуации. Всего на восток было переправлено 1523 завода, из них 1360 относились к числу крупнейших и передовых. 15 % предприятий перенесли на Волгу, 44 % – на Урал, 21 % – в Сибирь и 20 % – в среднеазиатские республики. Перевезли 1,5 млн вагонов промышленных грузов. 16,5 млн рабочих оказались в совершенно непривычных для них условиях и трудились по 11 часов в день шесть дней в неделю, поначалу зачастую на станках под открытым небом. Трудно себе представить, чтобы британские или американские рабочие смогли наладить пусковые линии и производить продукцию, столкнувшись с подобными трудностями.
Сталин был вправе утверждать, что лишь осуществленная им в 1930-е гг. насильственная индустриализация – ценой чудовищной нищеты и смерти миллионов согнанных с земли крестьян – теперь дала возможность производить достаточное число танков и самолетов, чтобы отразить Гитлера. Тотальная военная доктрина Фрунзе нашла продолжение в структуре экономики, где безусловный приоритет отдавался тяжелой и в первую очередь оборонной промышленности. Американский дипломат, эвакуированный на Волгу, в Куйбышев, однажды заблудился в нескольких километрах от города и оказался посреди огромной промышленной зоны, которую русские иронически называли «Безымянной». На аэродроме поблизости стояли сотни новеньких самолетов. Эвакуация заводов в 1941 г. стала одним из важнейших факторов победы СССР. Все граждане старше 14 лет подлежали трудовой мобилизации. Поскольку паек по карточкам был сведен к минимуму, многих от голодной смерти спасало только подсобное хозяйство. Народ официально уведомляли, что беличье мясо питательнее свинины, и кому удавалось поймать белку, тот подкреплялся этой пищей.
Хотя на фоне хронического голода стране удавалось производить огромное количество оружия и боевой техники, не следует идеализировать эти успехи: к примеру, на каждый авиамотор в СССР уходило впятеро больше человеко-часов, чем в США. И все же промышленная эвакуация стала примером того, что британский офицер разведки именовал «русским гением внезапных импровизаций»36. Еще одним симптомом тотальной войны стала депортация национальных меньшинств, чья лояльность казалась советскому режиму небезусловной. Сталин соглашался даже отвлекать скудные транспортные ресурсы на вывоз сначала 74 225 «немцев Поволжья» из их крошечной республики в Казахстан. Позднее за ними последовали другие изгнанники, в том числе чеченцы и крымские татары.
А неумолимая машина вторжения все еще катила по западной части России, подминая все на своем пути. В Берлине царило ликование. Гитлер строил планы для новой империи. Оккупация, разумеется, продлится вечно и будет основана на трех принципах: «господствовать, управлять, эксплуатировать». Малейшее проявление недовольства каралось смертью. Уже 31 июля Геринг распорядился подготовить «окончательное решение еврейского вопроса в германской сфере влияния в Европе». Десятки тысяч советских евреев погибали там, где их заставали айнзатцгруппы, следовавшие за передовыми отрядами вермахта. Нацисты планировали переселить на восток 30 млн немецких колонистов. Сотни тысяч молодых женщин вывозили из Украины и республик Прибалтики в рейх в качестве домашней прислуги и сельскохозяйственных работниц. Некоторые ехали даже охотно, спасаясь от голода, который грозил им в разоренных деревнях. 19 августа Геббельс в своем дневнике изумляется проницательности фюрера, который предсказывает внезапный и скорый конец войны: «Фюрер уверен, что наступит момент, когда Сталин запросит мира… Я спросил его, как он поступит в таком случае. Фюрер ответил, что он согласится на мир. Что дальше будет с большевизмом, нас не касается. Без Красной армии большевизм не представляет собой угрозы».
После революции 1917 г. население Советского Союза пережило кошмар Гражданской войны, голод, насильственные перемещения и другие формы угнетения, аресты, насилие и несправедливость. Но план Barbarossa затмевал это все, он нес с собой полную и окончательную гуманитарную катастрофу. 27 млн человек погибло в этой войне, из них 16 млн – гражданские. Солдат Василий Слесарев получил письмо от двенадцатилетней дочери Мани из деревни под Смоленском (письмо передали в войска партизаны): «Папа, наш Валик умер и лежит на кладбище… Папа, немецкие чудовища подожгли нас». Дом сгорел, сын Валерий умер от воспаления легких, когда семья пряталась от оккупантов. Маня пишет: «В соседних деревнях тоже убито много народу. Все только и думают, что об этих кровожадных чудовищах, их и людьми-то не назовешь, грабители и кровопийцы. Папа, бей врага!»37 Разумеется, советская пропагандистская машина цинично использовала такие наивные послания, и все же они отражали подлинные события и страстное негодование жителей тысяч таких деревень и городов по всей России.
30 ноября сержант Виктор Кононов написал своим родным о том, что он перенес в плену у немцев: «Шесть суток фашисты гнали нас в тыл, не давали ни воды, ни хлеба… Лучше смерть, чем плен, решили мы, и через шесть дней при первой возможности убегли. За эти дни нам пришлось видеть, как немцы грабят наших колхозников, отбирая у них хлеб, картофель, гусей, свиней, коров и даже тряпье. Видели повешенных колхозных активистов, расстрелянных и замученных партизан… Они боятся каждого куста, каждого шороха, и в молодом, и в старом колхознике видят тень партизан»38.
Партизанское движение, то есть вооруженное сопротивление на территориях, уже захваченных немцами, началось сразу же в июне 1941 г. и стало одной из наиболее ярких особенностей войны в России. На конец сентября НКВД насчитывал 30 000 партизан только на территории Украины. Оккупанты не могли прочесывать бесконечные леса за линией фронта. С другой стороны, местное население отнюдь не воспринимало как героев этих отчаянных людей, сбивавшихся в шайки и отнимавших еду у голодавших крестьян. Один из партизанских комиссаров, Николай Москвин, записывал: «Неудивительно, что местные жалуются на нас немцам. Мы же грабим их словно обыкновенные бандиты»39. Позднее он сделает эмоциональную приписку: «Хочу, чтобы потомки знали о нечеловеческих страданиях партизан»40. Но такие же нечеловеческие страдания постигли и гражданское население. Чтобы выжить в мире, где практически вся пища контролировалась оккупантами, многие женщины вынуждены были предлагать себя немцам, а мужчины – записываться во вспомогательные войска вермахта Hiwi. 215 000 советских граждан погибли в немецкой униформе. Но партизанские операции имели для Красной армии стратегическое значение: партизаны тревожили немцев с тыла, уничтожали транспортные линии. Ни с чем подобным немцы не сталкивались больше нигде, кроме Югославии.
И несмотря на столь грозные успехи вермахта и его стремительное продвижение, Красную армию отнюдь нельзя было считать разбитой. Кое-кто из сталинских солдат чересчур легко сдавался в плен, а другие продолжали сражаться в самом безнадежном положении. Немцев изумила упорная многонедельная защита пограничной крепости Брест. Рапорт дивизии, бравшей в июне эту крепость, сообщал, что одолеть «отважный гарнизон стоило много крови… Русские сражались с исключительным упрямством… Они показали отличную боевую подготовку и поразительную волю к сопротивлению»41. Имелись у советской стороны и хорошие тяжелые танки. Каждый раз, уничтожив очередную советскую армию, гитлеровские военачальники с изумлением видели перед собой новую. 8 июля немецкая разведка сообщала, что из 164 советских подразделений, участвовавших в схватке, 89 уничтожено. Однако к 11 августу настроение остававшегося в Берлине Гальдера заметно ухудшилось: «Становится все более очевидно, что недооценили русского колосса… Мы полагали, что враг располагает примерно 200 дивизиями. Теперь мы насчитываем уже 360. Эти силы зачастую плохо вооружены и экипированы, отсутствует надежное руководство, но они существуют»42.
Гельмут фон Мольтке, антифашист, служивший в абвере, в письме жене с сожалением признавался, что имел глупость «в глубине души» радоваться этому вторжению. Как у большинства аристократов (так же и во Франции, и в Англии), ненависть к коммунизму пересиливала даже неприязнь к Гитлеру. «Я полагал, что Россия рухнет под действием внутренних сил и мы сможем установить в этом регионе порядок, который устранит всякую угрозу для нас. Но ничего подобного не происходит: русские солдаты продолжают сопротивление, даже оказавшись далеко за линией фронта, борются и крестьяне, и рабочие – в точности, как в Китае. Мы пробудили нечто чудовищное, и это будет стоить многих жертв»43. Неделю спустя Мольтке добавил еще одну мысль: «Одно кажется мне несомненным: к 1 апреля будущего года от Португалии до Урала поляжет больше людей, чем когда-либо прежде в истории, и эти семена дадут всходы. Кто посеет ветер, пожнет бурю, и какова будет буря после такого ветра?»44
Первоначальная оторопь, вызванная внезапностью нападения, быстро сменилась в русском народе ненавистью к захватчикам. Советский истребитель, вернувшись на базу, принес на радиаторной решетке куски человеческой плоти – он сбросил бомбу на немецкий грузовик со снарядами. Командир эскадрильи велел врачу исследовать эти фрагменты тела. Вердикт гласил: «Арийское мясо». Присутствовавший при этой сцене военный корреспондент отметил: «Все хохочут. Да, пришло жестокое, железное время»45.
Гитлер в очередной раз менял планы: по его личному настоянию в июле продвигавшаяся к Москве группа армий Центр приостановилась из-за сильного сопротивления русских, зато последовали удары в северном направлении, на Ленинград, и группа Юг быстро захватила Украину. Под Киевом в очередной раз были окружены значительные силы русских, и победоносные танкисты вновь воспрянули духом. «Невероятное торжество», – писал Ганс-Эрдманн Шёнбек46. Вновь бесконечные колонны обреченных пленников, на этот раз 665 000 человек, побрели на запад в лагеря, где им предстояло умирать от голода. Примерно в это же время, 2 октября, Василий Гроссман и его коллеги, военные корреспонденты, изучали в гостинице в Орле, в 500 км к югу от Москвы, школьную карту Европы: «И мы подходим к этой карте и смотрим; страшно становится, как мы далеко отступили»47.
Через два дня он описывал само отступление:
«Я думал, что видел отступление, но такого я не то что не видел, но даже и не представлял себе. Исход! Библия! Машины движутся в восемь рядов, вой надрывный десятков одновременно вырывающихся из грязи грузовиков. Полем гонят огромные стада овец и коров, дальше скрипят конные обозы, тысячи подвод, крытых цветным рядном, фанерой, жестью, в них беженцы с Украины, еще дальше идут толпы пешеходов с мешками, узлами, чемоданами. Это не поток, не река, это медленное движение текущего океана, ширина этого движения – сотни метров вправо и влево»48.
Описанное Гроссманом бегство было вызвано стремительным продвижением немцев на юг. Тем временем на севере был окружен и блокирован со всех сторон Ленинград. В этот период русские еще не собрались с духом, отчаянно не хватало организации и руководства. Операции срывались из-за отсутствия радио и телефонной связи. Красная армия успела потерять без малого 3 млн человека – по 44 000 в день – в основном в огромных котлах под Киевом и Вязьмой. К началу войны Сталин располагал 5 млн солдат, теперь же их число сократилось до 2,3 млн. К октябрю на контролируемой немцами территории оказалось 90 млн человек, 45 % довоенного населения СССР; было захвачено две трети довоенных производственных мощностей страны.
Иностранные наблюдатели, остававшиеся в Москве, особенно англичане, считали поражение России неизбежным и гадали только, долго ли еще продлится сопротивление. Но солдаты продолжали упорно сражаться. Голодные, плохо вооруженные, порой вовсе без оружия – кто не погибал при первой схватке, тот подбирал винтовку убитого. Не хватало даже коктейлей Молотова, этого примитивнейшего антитанкового оружия, но вскоре женщины на заводах начали заполнять по 120 000 бутылок в день. На каждого убитого немца приходилось двадцать погибших русских, шесть советских танков – на один германский. В октябре страна несла даже более тяжелые потери, чем летом: было уничтожено еще 64 дивизии. Но уцелевшие формирования все еще удерживали свои позиции. Василий Гроссман, поговорив с капитаном Козловым, евреем, командовавшим моторизованным батальоном стрелков на Южном фронте, записал: «Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти и ему все равно, придет к нему смерть сегодня или завтра»49. Вполне вероятно, что Козлов говорил правду.
От окончательного поражения Россию спасли только размеры ее территории и ее армий. Немцы захватили значительную часть страны, однако еще бόльшая часть оставалась свободной. Фронт, длина которого изначально составляла 1700 км, растянулся на 2600 км от Ленинграда до Одессы. Нападавшие перебили сотни советских дивизий, но на смену им всегда являлись новые. Правительство поначалу было напугано тем, с какой готовностью иные подразделения сдавались в плен и как приветливо недавно вошедшие в состав Союза области – Прибалтика, Украина – встречают немцев. Но и немцы были уже не просто удивлены, а встревожены зверским упорством сопротивления. Многие русские бились до последнего, смерть каждого из них стоила вермахту определенных усилий, расходовались боеприпасы и уходило драгоценное время. Юные крестоносцы Гитлера пьянели от восторга, проносясь на своих танках по покоренной земле – сотня за сотней километров, – но и машины устают, не только люди. Снашивались гусеницы, рвались провода, ломались пружины. Занесенный над Россией бронированный кулак слабел: вышли из строя 20 % первоначального боевого состава, две трети танков и других машин. В одном танковом подразделении осталось всего 38 танков, в другом – менее 60. Командир дивизии писал о необходимости сократить потери, «пока мы не запобеждались до смерти»50.
В сентябре казалось – до Москвы рукой подать. Но хотя советские контратаки все еще были неуклюжи, как под Смоленском с 30 августа по 8 сентября, они не ослабевали. За три года по май 1944 г. немцы ежемесячно теряли на Восточном фронте в среднем 60 000 человек, и хотя противник нес значительно бόльшие потери, то была страшная статистика. Вот история одного из стольких тысяч немцев – лейтенанта Вальтера Рубарта, погибшего 26 октября в сражении за Минское шоссе под Москвой. За полтора года до того он, тогда еще в чине сержанта, первым пересек Маас. Червячок сомнения закрался в души его товарищей. «Возможно, это лишь “болтовня”, будто враг сокрушен и никогда не оправится, – писал Ханс-Юрген Хартманн. – Ничего не могу с собой поделать – я в полной растерянности. Неужели война действительно полностью закончится до зимы?»
Но самоуверенность Гитлера не поколебалась ни на йоту. Ленинград был окружен, Украина захвачена: обеспечив безопасность флангов, фюрер готов был возобновить натиск на Москву. В речи 2 октября он назвал Московскую кампанию «последней крупной и решающей битвой этого года», которая «сокрушит СССР». Гельмут фон Мольтке писал: «Если мы не добьемся успеха в этом месяце, мы никогда его не добьемся»51. Но зима была уже слишком близка. Продвижение давалось немцам дорогой ценой: русские выиграли время и успели укрепить свои позиции под Москвой. 29 июля Жуков, самый талантливый из военачальников Сталина, лишился должности главы генерального штаба за то, что настаивал на эвакуации Киева. Затем Жуков был назначен командующим Резервным фронтом, на этом посту быстро показал себя человеком незаменимым, и ему была поручена организация обороны Ленинграда. Теперь Жуков был вызван в Москву и принимал меры для спасения столицы.
Шесть немецких армий – 1,9 млн солдат, 14 000 орудий, тысяча танков, 1390 самолетов – принимали участие в гитлеровской операции Typhoon, «решительном» сражении под Москвой. Вновь германские войска рванулись вперед, и вновь русские понесли тяжелые потери: восемь советских армий отступали, отчаянно обороняясь, многие подразделения были разбиты, еще большее их число оказалось отрезано от основных сил. Майор Иван Шабалин, политрук, пытавшийся вывести множество отбившихся от своих частей солдат из окружения, записывал в дневнике 13 октября, за несколько дней до своей гибели: «Мокро, холодно, мы продвигаемся ужасно медленно – весь транспорт увяз на грязных дорогах… Более 50 машин пришлось оставить на дороге, которая больше похожа на болото, примерно столько же застряло на соседнем поле. В 06:00 немцы открыли огонь – непрерывный обстрел из пушек, мортир и тяжелых пулеметов продолжался весь день… Не помню, когда я в последний раз нормально спал»52. 15 октября немецкий стрелок-танкист Карл Фукс торжествовал: «Отныне русское сопротивление будет незначительным. Все, что от нас требуется, – катить вперед… Нашим долгом было сражаться и освободить мир от коммунистической заразы. Однажды, спустя много лет, мир поблагодарит немцев и нашего возлюбленного фюрера за победу здесь, в России»53.
Но грязь, на которую жаловался Иван Шабалин, оказалась врагом скорее немцев, которые хотели побыстрее продвинуться вперед, чем русских, которые должны были удерживать свои позиции. Осенние дожди для России – обычное явление, но, когда этот сезон начался 8 октября 1941 г., командование победоносного вермахта было захвачено врасплох, что странно, ведь многие офицеры уже сражались в России в Первую мировую войну. И все же они не предусмотрели, как скажутся природные условия на мобильности армии в огромной стране, где было так мало дорог – всего 70 000 км асфальта, менее 90 000 км железнодорожных путей. И вдруг танковые колонны остановились, гусеницы танков беспомощно дергались, увязнув в болотах. Давала сбои немецкая система снабжения – погодные условия ухудшались с каждым днем, и все труднее было доставлять провиант и боеприпасы за сотни километров.
А к Москве перебрасывались подкрепления с Дальнего Востока: советский разведчик Рихард Зорге гарантировал Сталину, что японцы не предпримут нападение в Сибири. Дожди усилились, холодало. «Постоянно слякоть и снег, – жаловался немецкий капеллан Эрнст Тевес. – Наши люди страдают, не удается как следует накрыть машины, зимнее обмундирование еще не прибыло. Мы с огромным трудом продвигаемся по непроезжим дорогам»54. Солдат Генрих Хаапе слезно описывал трудности с перемещением обоза: «Мы тащили их и подталкивали, лошади напрягались, потели – порой нам от полного изнурения требовался отдых минут на десять, а потом мы вновь принимались за дело, проваливаясь до колен в черную грязь, лишь бы заставить колеса вращаться».
Едва ли не каждому человеку, участвовавшему в те дни в сражениях на той или другой стороне, выпадали на долю невероятные испытания. Николай Редькин, двадцатипятилетний пехотинец, 23 октября 1941 г. писал жене: «Здравствуй, Зоя! Я, надо сказать, в последнем бою был на волосок от смерти. Один шанс из ста оставался, чтобы спастись. Представь себе группу бойцов, окруженную со всех сторон танками врага, причем прижатую к берегам реки шириной метров 70. Выход оставался один – броситься в реку или погибнуть. Я выбрал первое и бросился в реку, переплыл ее. Но дотемна из реки выбраться не было возможности, берег сильно обстреливался врагом. Когда стемнело и ушли немецкие танки, меня подобрали колхозники. Отогрели, привели в себя. В течение десяти дней выбирался из тыла врага. А сейчас я опять в своей части и готов к бою. Сейчас немного отдохнем, и опять в бой. Черт нас возьми, если мы немца не заставим так же купаться. Если нам пришлось купаться в воде, то врага заставим купаться в снегу и сидеть заставим не три часа, а загоним насмерть»55. Мечта Редькина в конце концов сбылась, но он до этого не дожил: два с половиной года спустя он погиб под Смоленском.
Немцы оказались в полной зависимости от погоды. Армейский хирург Эрнст Эммерих писал: «Задние колеса одной из повозок в этой растянувшейся на полтора километра колонне проваливаются в глубокую воронку от снаряда, скрытую лужей. Колесо ломается. Оглобля вздымается к небу. Лошади, на которых давит оглобля, пятятся и лягаются. Рвутся постромки. Идущая следом повозка пытается обойти застрявшую слева, но не может пройти по глубокой колее. Ее правое заднее колесо цепляется за левое заднее колесо той телеги. Лошади поднимаются на дыбы и бешено бьют копытами. Ни вперед, ни назад. Порожний грузовик, доставивший на переднюю линию боеприпасы, пытается на обратном пути объехать это месиво, съезжает в канаву и наглухо застревает. Неконтролируемая ярость охватывает всех, все орут друг на друга. Потные, грязные, ругающиеся мужчины набросились на потных, дрожащих, обляпанных грязью лошадей, которые и так уже исходили пеной… И эта сцена повторяется по сто раз на дню»56.
30 октября командир танковой армии генерал-полковник Эрих Хёпнер в отчаянии писал: «Дороги превратились в болота. Все остановилось. Танки не продвигаются. Нам не доставляется топливо, из-за бесконечных дождей и тумана невозможны и поставки по воздуху. – И добавляет: – Господи, пошли нам две недели мороза. Тогда мы окружим Москву!»57 Вскоре его молитва исполнилась – только мороз длился дольше, чем две недели. И низкая температура, и сильные снегопады ничуть не помогли вермахту, зато сыграли на руку его врагам. Замерзали масло в немецких моторах и смазка в оружии, вскоре замерзли и солдаты. Русские оказались гораздо лучше подготовлены к таким условиям.
Вторая неделя октября 1941 г. стала, как потом сделалось ясно, переломной. Жуков был вызван в Кремль. Он застал Сталина, больного гриппом, перед военной картой, раздраженного отсутствием надежной информации. Жуков помчался к оборонительной линии Можайска и там, к своему ужасу, обнаружил огромные прорехи, в которые свободно могли пройти немцы. «По сути дела, – заявил он впоследствии, – все подступы к Москве были открыты. Наши войска были бессильны остановить врага»58.
Жуков позвонил Сталину и отчитался ему. Он откровенно признал, что, если немцы вложат в удар всю силу, столица обречена. Многие члены правительства, а также дипломатические миссии, эвакуировались из Москвы в Куйбышев на Волге, в 900 км к востоку от столицы. В тюрьмах с лихорадочной поспешностью расстреливали «опасные элементы». 3 октября в числе 157 приговоренных расстреляли и нескольких женщин, в том числе Ольгу Каменеву – сестру Троцкого и вдову погибшего в чистках Льва Каменева; майора авиации Марию Нестеренко, 31 года; сорокалетнюю Александру Фибих-Савченко вместе с мужем, генерал-майором артиллерии. Был подготовлен план уничтожения основных заводов и инфраструктуры Москвы. Четверть миллиона человек, в основном женщины, были мобилизованы рыть противотанковые рвы на подступах к Москве. Паника проявилась в массовых грабежах магазинов. Берия улучил подходящий момент и отправился инспектировать систему госбезопасности на Кавказе. И сам диктатор собирался покинуть столицу.
Но вечером 18 октября планы Сталина внезапно переменились. Он остался в Москве, переселившись временно в штаб воздушной обороны на улице Кирова, и объявил в Москве военное положение. Порядок был восстановлен с помощью комендантского часа и обычных жестоких мер. 7 ноября – великолепный пропагандистский прием – отряды, направлявшиеся на фронт, прошли в традиционном параде по Красной площади в честь годовщины Революции. В ту же ночь впервые начался снегопад. Погода сорвала оперативные планы немцев: они не смогли подвезти подкрепления для решительного прорыва и остались стоять перед городом, страдая от все более тяжелых лишений. Гальдер и Бок настаивали на дальнейшем продвижении. Продвинуться действительно удалось: передовые танковые части добрались до конечных остановок трамваев и троллейбусов на окраине Москвы, авиация и артиллерия бомбили город.
Многих соотечественников глубоко тронул призыв Сталина к отчаянным мерам в отчаянных ситуациях. Рабочий московского завода пластмассовых изделий сказал: «Вождь не замалчивает тот факт, что нашим войскам пришлось отступить. Он не скрывает трудностей, которые еще предстоят народу. После такой речи я готов работать еще усерднее. Она мобилизовала меня на великие дела»59. Но не было недостатка и в скептиках. Не стоит преувеличивать сплоченность и уверенность советского общества зимой 1941 г. Московский инженер говорил: «Все эти разговоры о мобилизации народа и организации гражданской обороны лишь показывают, что ситуация на фронте безнадежна. Ясно, что немцы скоро займут Москву и советская власть не продержится». Сходные чувства испытывали и некоторые англичане в 1940 г. На юге, в Курской области, женщина заявила: «Можете меня расстрелять, но окопы рыть я не стану. Окопы нужны коммунистам и жидам. Вот пусть сами и роют. Ваша власть подошла к концу, и мы на вас больше работать не будем»60.
Но вопреки этим оппозиционерам патриоты и бойцы удержали линию фронта и дали отпор захватчикам. К концу ноября немецкое наступление выдохлось. «Фюрер взял командование на себя, – писал Курт Груманн, – но наши войска еле двигались, словно обреченные. Солдаты пытались рыть промерзшую землю, но сильнейший удар пробивает ее не более чем на ноготь. Наши силы убывают с каждым днем»61. Генерал-квартирмейстер Эдуард Вагнер заявил: «Людские и материальные ресурсы исчерпаны». Ситуация с топливом у немцев оказалась настолько критической, что пришлось поставить на якорь практически весь флот. Система снабжения армии не поспевала обеспечивать передовые отряды, оторвавшиеся на 500 км от баз в Смоленске. Среди немецких офицеров ходила мрачная шутка: «Благодаря огромным успехам Восточная кампания растянулась еще на месяц»62.
В Берлине 28 ноября конференция промышленников под руководством рейхсминистра вооружения Фрица Тодта пришла к неутешительным выводам: войну с Россией продолжать невозможно. Быстрой победы Германия не достигла, а для затяжной борьбы не располагает ресурсами. На следующий день Тодт и Вальтер Роланд, отвечавший за производство танков, встретились с Гитлером. Роланд пытался объяснить: как только в войну вмешаются Соединенные Штаты, Германии нечего будет противопоставить промышленной мощи союзников. Тодт, хотя и пламенно преданный нацист, подтвердил: «Эту войну военными средствами выиграть невозможно». Гитлер спросил: «Так как же мне привести ее к концу?» Тодт предложил поискать политические решения, но Гитлер отверг его аргументы. Он волевым усилием уверил себя в том, что со вступлением в войну Японии весы вновь склонятся в пользу оси. Однако ноябрьские записи в дневнике главы генерального штаба армии Франца Гальдера содержат и другие реплики Гитлера, не выражающие абсолютной убежденности в тотальной победе. До конца войны люди, отвечавшие за экономику и промышленность Германии, выполняли свои обязанности, вполне сознавая, что стратегический успех уже недостижим. В декабре 1941 г. Гитлеру представили доклад «Ресурсы, необходимые для победы». По мнению авторов, рейху требовалось $150 млрд, чтобы в ближайшие два года произвести достаточное количество оружия, но эта сумма превышала траты Германии за всю войну. И тут ничем не могла помочь доблесть вермахта: у страны не имелось достаточных средств для победы. Оставалась лишь надежда вынудить противников к переговорам – вместе или по отдельности.
Пройдет еще немало месяцев, прежде чем союзники заметят, что прилив сменился отливом. В 1942 г. страны оси еще ждут блестящие успехи. Но кое-кто из высших чинов Третьего рейха уже в декабре 1941 г. видел, что надежда на победу иссякла, потому что Россию не удалось одолеть с ходу. Некоторые еще надеялись, что Германии удастся заключить выгодный мир, но и эти приближенные Гитлера, а возможно, и сам фюрер в темных глубинах своей души догадывались, что решительный момент упущен. Генерал Альфред Йодль, самый близкий и верный военный советник фюрера, в 1945 г. признавался, что его господин уже в декабре 1941 г. понимал: «победа более недостижима». Но это отнюдь не означает, что Гитлер смирился с поражением: нет, теперь он планировал затяжную войну, за время которой проявится коренная несовместимость советской диктатуры и западных демократий. Гитлер верил, что сумеет добиться достаточных военных успехов, чтобы склонить противников к переговорам, и за эту надежду он цеплялся вплоть до апреля 1945 г. Поскольку западные страны и русские взаимно глубоко и упорно подозревали друг друга в готовности к сепаратному миру, надежды Гитлера были не столь беспочвенны, как может показаться задним числом. Лишь ход истории доказал, что эту битву всем суждено было довести до конца, а разрыв между Западом и СССР, на который уповал Гитлер, хотя в итоге и произойдет, но уже после того, как Третий рейх рухнет.
7. Москва спасена, Ленинград вымирает
Те, кому суждено было дожить до второй половины 1942 г., увидели поворотный момент в войне, когда продвижение японцев в регионе Тихого океана было остановлено, а немцы увязли под Сталинградом и в Северной Африке. Но прежде союзников ожидали долгие месяцы бед и разочарований, и даже вмешательство Соединенных Штатов не положило этому конец. Константин Рокоссовский, самый блестящий и грозный из полководцев Сталина, командовал 16-й армией под Москвой. В середине ноября он сказал военному корреспонденту: «Уверен, скоро немцы начнут выдыхаться. И придет время – мы будем в Берлине»1. Его слова оказались пророческими, но в тот момент мало кто в мире понимал, в какую ловушку загнал себя вермахт. Среди ближайших советников Гитлера были, однако, люди, уже говорившие о том, что с притязаниями Германии на мировое господство покончено.
Немцы продолжали рваться вперед и к северу, и к югу от Москвы, но инерция движения исчерпалась. 17 ноября дивизия вермахта дрогнула и бежала, столкнувшись с новыми советскими танками Т-34. У русских появились на поле боя свежие подкрепления, у немцев же истощались запасы оружия и топлива, человеческие ресурсы и вера в победу. Молодой офицер СС писал: «Шаг за шагом мы приближаемся к нашей цели – Москве. Ледяной холод. Чтобы запустить двигатель, сперва нужно его прогреть, разложив под ним костер. Замерзает и топливо, машинное масло загустело, а антифриза у нас нет. Постоянное пребывание на морозе отнимает последние силы у изнуренных солдат. Автоматическое оружие зачастую отказывает, потому что затвор не двигается»2. Стоило сплюнуть, слюна замерзала, не долетев до земли. В одном только полку насчитывалось 315 случаев обморожения. 3 декабря Хёпнер, командующий Четвертой танковой группой, докладывал: «Боевые силы группы исчерпаны. Причины: физическое и моральное истощение, потеря большого числа командиров, отсутствие зимнего обмундирования. Верховному командованию следует решить вопрос об отступлении».
Вновь и вновь немцы бросались на позиции русских, вновь и вновь их отбрасывали. Георгий Осадчинский видел, как группа немецких танков в сопровождении пехоты остановилась перед железнодорожной переправой и не смогла одолеть ее под артиллерийским обстрелом. Один танк вспыхивал за другим, уцелевшие поспешили отступить. На глазах у Георгия немецкий солдат беспомощно барахтался в снегу, другие неуклюже ковыляли к своим. «Чувство облегчения и счастья охватило всех наших», – писал Осадчинский3. Немцы уже не казались страшными, их можно было побить. Советские стратеги все еще действовали с убийственной неуклюжестью, по личному требованию Сталина посылая солдат в лобовую атаку. Одна из таких атак – на фланг немецкой 9-й армии – закончилась гибелью двух тысяч всадников и коней из кавалерийской дивизии. Стратегическое руководство никуда не годилось. Рокоссовский негодовал на требование Жукова беспрекословно следовать навязанной Кремлем доктрине «ни шагу назад». Рано выпавший снег не скрыл бы всей пролитой русскими крови.
И все же немецкое командование продолжало обольщаться насчет своего противника. Донесение армейской разведки от 4 декабря заканчивалось выводом: «В настоящий момент стоящий перед группой армий «Центр» противник не способен к контратаке, если не получит существенные подкрепления». От внимания разведки ускользнули девять новых армий, подошедших на помощь Жукову: 27 дивизий и дополнительные конные отряды, которые могли пройти по снегу там, где застревали машины. Враг все еще стоял в 40 км от Кремля, передовые отряды подошли к окраине столице ближе чем на 15 км. Но армия вторжения потеряла с начала операции Typhoon 200 000 человек, а цели так и не достигла.
5 декабря русские перешли в наступление, в то время как немцы буквально примерзли к месту. Ставка дождалась подкрепления от генерала Мороза. Температура упала до –30º, и немецкие смазочные материалы затвердели, в то время как у русских оружие и танки оставались боеспособными. Стартер Т-34 работал на сжатом воздухе, поэтому мороз ему был не страшен. Пехотинец Альбрехт Линзен в ужасе описывал, как его батальон драпал от русских: «Из метели выбежали солдаты, рассеялись во все стороны, словно перепуганное стадо. Одинокий офицер стоял среди этой обезумевшей массы, махал руками, порывался вытащить пистолет, а потом предоставил им удирать. Наш взводный даже не пытался остановить людей. Я остановился, гадая, что делать дальше, справа от меня раздался взрыв, я почувствовал острую боль в правом бедре и подумал: “Тут я и умру, в 21 год, в снегах под Москвой!”»4
Русские уничтожили слишком далеко выступившие клинья немцев к северу и к югу от Москвы и двинулись на запад. Немыслимое сделалось реальностью: непобедимый вермахт отступал. «Каждый раз, покидая деревню, мы ее поджигаем, – писал лейтенант Густав Шродек. – Это примитивная мера обороны, и русские ненавидят нас за это. Но такова суровая логика войны: лишить преследующего нас противника убежища в страшный мороз»5. Лейтенант Курт Груманн писал с полевого перевязочного пункта: «Сегодня доставили восемьдесят человек, у половины обморожения второй или третьей степени. Распухшие ноги в волдырях, с виду уже не члены человеческого тела, а бесформенная масса. У некоторых началась гангрена. Ради чего все это?»6 Многие танки и машины пришлось бросить, они вмерзли в снег и лед. «Призрак Великой армии Наполеона нависает над нами, словно злой дух», – писал артиллерист Йозеф Дек.
Десять дней вермахт катился назад по заснеженной равнине, оставляя за собой трупы и почерневшие остовы брошенных машин. Большинство немецких командующих предпочли бы отступить еще дальше, но Гитлер с упорством, достойным Сталина, призывал к «фанатическому сопротивлению». Преданный нацист генерал Вальтер Модель сделался героем, удержав линию фронта. Сталин, вопреки настойчивым советам Жукова, требовал развивать успех. 5 января он распорядился провести контрнаступление по всему фронту. И тут он вновь поступил как Гитлер: пренебрег возможностью сосредоточить все силы против слабого места в обороне немцев и тем самым лишил себя шанса на великую победу. Рокоссовский впоследствии составил скорбный список сделанных ошибок и упущенных шансов. Немцы продолжали яростно обороняться, уничтожая десятки тысяч русских. Советские резервы вскоре исчерпались, и наступление захлебнулось. Модель даже вернул себе часть утраченных позиций, а Жуков обманулся в надежде окружить группу армий «Центр». И все же решающее событие произошло: немцев подвинули – где на 100 км, где и на 250. Москвы они так и не увидели.
Пока решалась судьба советской столицы, к западу от нее совершалась драма не меньших масштабов и причинившая больше несчастий, если несчастья возможно считать или взвешивать. Осенью 1941 г. войска оси двигались друг другу навстречу с северо-запада и юга и сомкнулись под былой столицей России – Ленинградом. Операция Barbarossa предоставила финнам шанс отомстить за поражение 1940 г., и в июне 1941 г. финская армия, перевооруженная за счет Гитлера, присоединилась к нападению на СССР. Немецкие войска продвигались из северной Норвегии и остановились в 50 км от Мурманска. Финны не выразили желания заходить намного дальше своих границ 1939 г., но 15 сентября немцы с их помощью завершили окружение Ленинграда. Блокада прежней царской столицы Санкт-Петербурга, украшенного барочными дворцами и набережными вдоль реки, длилась более двух лет и превратилась в горестный эпос. Немного эпизодов даже той войны сравнится с этим по человеческим потерям и страданиям – здесь погибло больше людей, чем Великобритания и США вместе взятые потеряли во всех битвах.
Советское командование готовилось к обороне города. Десятки тысяч ленинградцев рыли окопы под огнем вражеской артиллерии – «методичным и точным»7, по словам одного ветерана. «Наши солдаты выскакивали из окопов, хватали подростков и женщин, тащили их прочь с дороги, подальше от линии огня. Упала зажигательная бомба. Стадо скота, испугавшись при виде загоревшегося битума, обратилось в бегство, вздымая пыль. В панике животные помчались прямо на минное поле». Детей начали эвакуировать из города, но было слишком поздно: они оказались на пути наступавших немцев, и более 2000 погибло при налете люфтваффе на поезд с беженцами под Лычково.
Авторитет генерала Ворошилова, убеленного сединами старого большевика, которому была поручена оборона Ленинграда, держался исключительно на его лояльности Сталину. Он презирал профессиональных военных и ничего не смыслил в стратегии. Москва снарядила большой обоз с провиантом в помощь осажденному городу, но Ворошилов счел, что признать нужду в такого рода припасах – значит проявить слабость, и перенаправил обоз в другое место, а сам затевал одно за другим сражения, не приводившие ни к чему, кроме бесконечных жертв. Лейтенант Юшкевич в отчаянии писал (это последняя запись в его дневнике перед гибелью): «Наши солдаты вооружены только старыми винтовками, автоматов почти нет. Нет и гранат. Нет врачей! Это не армейское подразделение – мы всего-навсего пушечное мясо»8. Юшкевич описывает, как на его солдат «охотятся, словно на хищных животных… Все время выстрелы, повсюду танки».
8 сентября завершилось окружение Ленинграда, и с этого дня начинается собственно блокада. На следующий день Сталин отрядил Жукова на помощь Ворошилову. Внезапное прибытие Жукова на легком самолете обернулось фарсом: охрана у дверей штаба фронта, расположившегося возле Смольного института, задержала его из-за отсутствия пропуска. «На то и армия», – говорил Жуков, вспоминая этот эпизод впоследствии, но в тот момент он едва ли был столь благодушно настроен. Ворошилова переправили на самолете в Москву, и там он осмелился закатить истерику лично товарищу Сталину: «Ты сам во всем виноват! Ты уничтожил старую гвардию, ты расстрелял лучших генералов». Сталин пытался возражать, и старый революционер схватил поднос с жареным поросенком и шваркнул его об стол[10]. Ему повезло – он уцелел.
Жуков реорганизовал оборону Ленинграда, отменив приказ Ворошилова о выводе остатков Балтийского флота из гавани: в ближайшие годы орудия этих кораблей оказывали существенную поддержку сухопутным силам. Жуков также предпринял несколько контратак, самая мощная из которых состоялась 17 января, обошлась во много тысяч жизней и захлебнулась под артиллерийским огнем. Моряк Николай Вавин описал попытку подвести подкрепления к крепости на острове Орешек посреди Ладожского озера: «У наших парней не было ни единого шанса. Немцы сразу же обнаружили нас с воздуха, и началась бойня. Вражеские самолеты сначала сбрасывали бомбы, а затем расстреливали нас из пулеметов. Из двухсот человек в моей десантной группе до берега добралось только четырнадцать»10. Все возражения офицеров, доказывавших бесполезность такого рода попыток, в особенности атак Невского плацдарма на восточном берегу Невы, Жуков отметал: «Я приказываю атаковать!» Жертвы множились, медицинская помощь раненым практически не оказывалось. За спиной идущих в бой солдат Жуков разместил заградотряды и велел расстреливать тех, кто обратится в бегство. Эта практика быстро прижилась в Красной армии. Из немецких громкоговорителей на обреченных сыпались насмешки: давайте, спешите снова на расстрел, мы вас тут на берегах Невы и похороним. И очередной град пуль обрушивался на русских солдат, которые не в силах были продвинуться ни на шаг.
На протяжении ряда недель советская сторона никак не могла понять, что немцы не собираются ни предпринимать широкомасштабное нападение на Ленинград, ни добиваться капитуляции города. Жуков заметно укрепил свою репутацию в глазах Сталина в качестве спасителя осажденного города, но город-то и не подвергался угрозе захвата. Немецкие штабные в Берлине обсуждали даже фантастическую идею: в качестве жеста великодушия предложить Штатам забрать все 2,5 млн жителей града Петрова к себе. Но Гитлер предпочел уморить их голодом. Профессор Эрнст Цигельмайер из Мюнхенского института питания, один из немалого числа ученых, дьявольски добросовестно консультировавших нацистов, дал практический совет. По его мнению, в решительном сражении необходимости не предвиделось: Советы не смогут обеспечить осажденным более 250 г хлеба в день, а этого слишком мало для длительного поддержания жизни. «Нет смысла жертвовать нашими солдатами. Ленинградцы все равно вымрут. Главное – не пропускать ни единой души через линию фронта. Чем больше их останется в городе, тем скорее они вымрут, и тогда мы войдем в город, не заплатив за это жизнью ни единого немецкого солдата»11.
Гитлер объявил: Петербург – «ядовитое гнездо, откуда издавна разливается по Балтике азиатская зараза» – исчезнет с лица земли. «Город отрезан. Нам остается лишь обстреливать и бомбардировать его, уничтожить источники воды и электричества и лишить населения всего, что необходимо для выживания». Первый массированный воздушный налет уничтожил стоявшие у воды Бадаевские склады, где находились основные резервы провианта. Пожар бушевал несколько дней, по улице текли реки расплавленного сахара. Вскоре горожане догадались, какая участь их ждет. Ленинградка Елена Скрябина писала в дневнике: «Близится величайший ужас. Все одержимы одной мыслью: раздобыть что-нибудь съестное, чтобы не умереть с голоду. Вернулись первобытные времена. Жизнь сводится к одному: охоте за пищей»12.
Корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман описывал в дневнике, как ленинградцы «варят суп из травы, пекут хлеб из нее. Вещь уже почти стандартная – на рынке лепешки из травы имеют стандартную цену»13. Одна спичка стоила рубль, и многие люди научились зажигать бумагу для растопки солнечными лучами с помощью увеличительного стекла. Приятель Бронтмана оказался, вероятно, единственным в Ленинграде человеком, сумевшим сберечь своего пса. Основным видом транспорта сделались велосипеды. Поскольку воду теперь брали из колонок, женщины там же, на улице, стирали белье, а мимо проезжала военная техника. Каждый клочок свободной земли засеивали рассадой, ставили табличку с именем владельца. Катастрофически не хватало топлива: блокада сомкнулась прежде, чем жители успели совершить традиционный осенний выход в лес за дровами.
Немецкие танки отправились на юг для участия в других сражениях. Осаждавшие, отнюдь не столь многочисленные, как защитники города, укрылись на зиму в бункерах, огородились пулеметными установками. На противника и на решавшихся бежать горожан обрушивался испепеляющий огонь артиллерии и пулеметов. Капитан Василий Хорошавин, тридцатишестилетний командир батареи, 25 октября писал жене: «Получил от вас письмо и открытку. Как рад этому, не опишешь. Вот уже шестые сутки сижу в подвале каменной кузницы, куда можно только заползти. Сидишь, работаешь, руководишь огнем, а возле тебя рвутся мины, снаряды, земля постоянно содрогается. Нет возможности выйти за водой. Горячий чай для нас пребольшое удовольствие. Вчера между мной и разведчиком разорвалась мина. Шинель завернуло, на ней несколько дырок, а меня не задело, только противогазом стукнуло по голове…»14 Три месяца спустя судьба не пощадила Хорошавина, и очередной снаряд убил его.
«Все солдаты на фронте выглядят как призраки, истощенные голодом и холодом, – писал один из этих солдат Степан Кузнецов. – Они в лохмотьях, грязные и очень, очень голодные»15. С этого момента Ленинградская битва превращается в сражение мирных жителей города за жизнь – и многие это сражение проиграли. Немецкая артиллерия обстреливала город ежедневно, выбирая часы, когда наиболее вероятно появление людей на улицах, – с 08:00 до 09:00, с 11:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00, с 20:00 до 21:00. Дневной паек хлеба упал ниже того минимума, который профессор Цигельмайер считал необходимым для выживания. Чтобы обеспечить этот рацион, требовалось ежедневно доставлять через Ладожское озеро в город 100 тонн провианта, а с этой задачей не всегда удавалось справиться: например, 30 ноября в город попала только 61 тонна продуктов. Хлеб пекли из отсыревшего зерна, спасенного с затонувшего в гавани корабля, пекли из жмыха, из целлюлозы, пыли, вытряхнутой из мешков и сметенной на полу, из конских каштанов. В октябре и ноябре положение с каждым днем ухудшалось. Немецкие самолеты и пушки бомбили улицы, школы, официальные здания, больницы. Жители голодали, они варили обои, пытаясь извлечь из них крахмал, варили и жевали кожу. Распространялась цинга, для борьбы с ней из хвои изготовлялся экстракт, содержащий витамин С. Деньги утратили смысл, теперь воровали хлебные карточки. С городских площадей исчезли голуби: их ловили и ели, ели ворон и чаек, крыс и домашних животных. Старый профессор академии искусств Ян Шабловский вызвал к себе лучшую ученицу, восемнадцатилетнюю Елену Мартиллу. «Лена, – сказал он ей, – тут дела плохи. Я не надеюсь остаться в живых. Но кто-то должен запечатлеть происходящее. Ты портретист, так рисуй же портреты ленинградцев в блокаду, честные картины, покажи, как они страдали в этом безнадежном положении. Нужно сохранить это для потомства. Будущие поколения должны быть предупреждены об ужасах войны»16.
И Елена Мартилла бродила по улицам, торопливо (подгоняли холод и голод) набрасывая карандашом лица – вытянутые, со впалыми щеками, изнуренные, изуродованные такими лишениями, которые ни одна европейская страна не переносила в ХХ в. в подобном объеме. Елена заметила, что многие взрослые в этой ситуации закрываются, становятся безучастными, уходят в себя, движутся, словно лунатики. А дети, наоборот, были неестественно возбуждены: маленький мальчик развлекал своих перепуганных спутников в бомбоубежище, весело и задорно комментируя действия немецких бомбардировщиков. Елена писала: «Этот мальчик будто состарился за пятьдесят дней на столько же лет; его лицо казалось таким дряхлым, и я видела, что это неестественно быстрое одряхление лишило его детской невинности. Ужасно было наблюдать, как природная детская любознательность подчиняется чудовищным механизмам войны. Я внимательнее всмотрелась в его лицо и увидела пугающий опыт. Это меня потрясло: маленький мальчик казался мудрым, все повидавшим стариком. Посреди нашей агонии рождалось – на краткий миг – нечто незаурядное»17.
Ленинградцы, оставшись без света, тепла и работы, пытались как-то перезимовать среди снега и руин. Их жизнь, все физиологические процессы замедлились и звучали как музыка на старой, заезженной пластинке. В доме Светланы Магаевой старуха по имени Камилла быстро угасала, хотя соседи топили мебелью ее буржуйку, стараясь поддержать уходящую жизнь. Однажды утром старуха внезапно поднялась с постели и принялась лихорадочно обыскивать все шкафы и каждую щель в поисках пищи. Ничего не найдя, она стала вынимать из буфета тарелки и блюдца и швырять их об пол. Затем она опустилась на четвереньки и осмотрела осколки – не прилипла ли где крошка хлеба. Вскоре Камилла умерла18.
В декабре наступили тридцатиградусные морозы. Тысячи и десятки тысяч ленинградцев умирали от голода. Хлебный паек сократился до 125 г. Кто-то все еще продолжал по инерции работать. Пятидесятилетний энтомолог Аксель Рейхардт писал свой главный труд «Фауна Советского Союза» вплоть до того дня, когда его нашли мертвым на матрасе в рабочем кабинете. Саша Абрамов, актер Театра музыкальной комедии, умер в антракте в костюме одного из мушкетеров Дюма. Его коллеги от слабости с трудом передвигались по сцене. Елена Скрябина писала: «Люди так ослабли от голода, что сделались равнодушны к смерти, они умирают, словно проваливаясь в сон. Те полуживые, кто еще не умер, не замечают покойников»19.
Застывшие трупы валялись на улицах, дожидаясь, пока их отвезут на санках и сбросят в воронку от снаряда. Немецкая разведка, с извращенным любопытством следившая за агонией обреченного города, подсчитывала: за три месяца умерло не менее 200 000 человек.
Однако имелась в городе и элита, которую эти страдания не затронули. Жукова отозвали в Москву, когда стало ясно, что битва не состоится, а Ленинград остался в руках партийных бюрократов, которые продолжали отменно питаться и во время блокады.
Поразительная черта этой русской войны: привилегии и коррупция сохранялись даже тогда, когда вокруг миллионы сограждан умирали. Часть функционеров эвакуировали самолетами, вывезли по воздуху и самого знаменитого ленинградца, композитора Дмитрия Шостаковича. Уже в эвакуации он завершил Седьмую симфонию, посвященную страданиям и стойкости ленинградцев. Остававшиеся в Ленинграде советские чиновники не нуждались ни в хлебе, ни в сахаре и ежедневно получали котлеты и другую готовую пищу в столовой Смольного института, совмещенной с закрытым обогреваемым кинозалом. О бесстыдных злоупотреблениях партийцев ходили легенды. Анонимный агитатор, именовавший себя Мятежник, разбрасывал на улицах листовки: «Граждане! Долой власть, которая нас заставляет умирать с голода!»; «Нас обворовывают подлецы, заставляя умирать с голода»; «Граждане, идите в райкомы, требуйте хлеба. Долой вождей». НКВД усердно разыскивал «бунтовщика» и в декабре 1942 г. выбил признание у пятидесятилетнего рабочего Сергея Лужкова, и тот был приговорен к расстрелу[11].
Под конец 1941 г. озеро Ладога замерзло, и у города появилась более устойчивая связь с внешним миром: усилиями 30 000 гражданских было выстроено шестиполосное ледяное шоссе. Вскоре 4000 грузовиков устремились по этой Дороге жизни, но опять же из 700 тонн провианта в день лишь малая доля попадала в руки рядовых граждан. По распоряжению Сталина вновь была предпринята попытка прорвать немецкое оцепление – и вновь неудача и огромные людские потери. Николай Никулин, в ту пору радиооператор на располагавшемся к востоку от города Волховском фронте, писал: «Только теперь я узнал, что такое война… В одну сравнительно тихую ночь я сидел в заснеженной яме, не в силах заснуть от холода. Чесал завшивевшие бока и плакал от тоски и слабости… Под утро стал рыскать по пустым немецким землянкам, нашел мерзлую, как камень, картошку, развел костер, сварил в каске варево и, набив брюхо, почувствовал уверенность в себе. С этих пор началось мое перерождение. Появились защитные реакции, появилась энергия… Я стал добывать жратву… Однажды миной убило проезжавшую мимо лошадь. Через двадцать минут от нее осталась лишь грива и внутренности, так как умельцы вроде меня моментально разрезали мясо на куски. Возница даже не успел прийти в себя, так и остался сидеть в санях с вожжами в руке»20. При попытке освободить Ленинград полегло 20 советских дивизий, а единственным успехом стал захват 9 декабря железнодорожного узла Тихвин к северо-востоку от Ленинграда, что позволило доставлять припасы до станции на окраине города.
Голод свирепствовал. 13 января, отстояв многочасовую очередь на снегу, Елена Кочина получила свой жалкий паек, и тут же стоявший за ней мужчина выхватил хлеб, сунул себе в рот и попытался проглотить. В слепой ярости женщина бросилась на человека, отнявшего еду у ее детей: «Он рухнул наземь. Я сверху. Лежа на спине, он пытался целиком запихнуть кусок себе в рот. Одной рукой я ухватила его за нос, свернула его набок. Другой я старалась вырвать у него изо рта хлеб. Мужчина сопротивлялся, но очень слабо. Наконец мне удалось отобрать все, что он не успел проглотить. Люди молча наблюдали за нашей борьбой»21.
У Лидии Охапкиной украли карточки. Это несчастье угрожало ее маленькой семье смертью, ведь только крошечный паек отделял жизнь от небытия. В ту ночь, впервые в жизни, женщина встала на колени и обратилась с молитвой к Богу, отмененному сталинским режимом: «Господи, смилуйся над моими невинными детьми!» На следующее утро в дверь постучали. Явился незнакомый Лидии солдат и доставил посылку от ее мужа, который сражался в нескольких сотнях километров от нее: килограмм манки, килограмм риса и две упаковки печенья. И это спасло Лидию и ее детей22. Другим ленинградцам повезло меньше. В первые десять дней января НКВД зарегистрировал 42 случая каннибализма: находили тела с отсеченными грудями и бедрами. Хуже того: ослабевших стали убивать не ради обесценившейся собственности, но чтобы съесть. 4 февраля, человек, заглянувший по делу в городской штаб, видел там с дюжину женщин, арестованных за людоедство. Ни одна из них не раскаивалась в своем преступлении. Одна изнуренная, отчаявшаяся женщина призналась: когда ее муж изнемог от голода и усталости, она отрубила ему ногу, чтобы питаться самой и кормить детей. Арестованные плакали, понимая, что их казнят23.
Февраль оказался еще тяжелее, чем предыдущие месяцы: ежедневно умирало 20 000 человек, ослабевшее население косила дизентерия. К колонкам с водой выстраивались очереди, повсюду вспыхивали пожары, и нечем было их гасить. Театр музыкальной комедии закрылся, в городе кончились гробы. Те, у кого еще оставались силы читать, взялись за «Войну и мир» – единственную книгу, хоть как-то передававшую их положение. Чтобы выжить, требовались не только твердая воля, но и жесткий режим: заставить себя мыться, есть с тарелок и даже продолжать ученые занятия. Рассматривалась возможность вывозить жителей на грузовиках, возвращавшихся порожняком по Ладожскому озеру. Скольких-то матерей с детьми таким путем вывезли, и многие погибли в дороге, но от полномасштабной эвакуации Сталин отказывался по соображениям престижа. Страдания Ленинграда следовало обратить в пример стойкости – стойкости, которую лишь тираны способны требовать от своих подданных. И, вероятно, лишь русские способны на такую стойкость.
Англичане и американцы все еще опасались, что 1942 г. станет годом окончательного поражения Советского Союза: потери и неудачи армии вторжения были пока не столь очевидны. Однако зимой 1941/42 г. два миллиона немецких солдат, использовавших вместо теплого белья газеты и солому под летние мундиры, оказались не в лучшем положении, чем их противник. Ханс-Юрген Хартман писал из Харькова: «Я часто пытался себе представить, каким будет это Рождество, и всегда выбрасывал из этой картины войну или по крайней мере сдвигал ее куда-то подальше. Я перебирал заветные слова: “Рождество, родина, радость, надежда”. Эти слова, искренние, сердечные, кажутся мне теперь такими странными, хотя и драгоценными. Они пробуждают в душе нечто вечное, прекрасное, но в условиях Восточного фронта в это уже с трудом верится. Какой жестокой сделалась эта война! Тотальная война против женщин, детей и стариков – вот в чем величайший ужас»24.
Франц Петерс зашел с несколькими товарищами в церковь в небольшом городке. Алтарь был выкорчеван еще при коммунистах, но немцы обступили отверстие на месте алтаря и запели рождественские гимны. «Никогда я не слышал, чтобы “Тихая ночь, святая ночь” пели с таким чувством. Многие из нас были тронуты до слез»25. Карл-Готфрид Вирком прочел товарищам вслух рождественскую открытку от матери из Германии. «Когда я закончил, все замерли в глубоком молчании. Вдали от этой страшной катастрофы, какую никто не мог себе вообразить, когда мы входили в Россию, все еще существовало нечто иное. Так, значит, у них там Рождество, люди обмениваются подарками, наряжают елку, идут к полуночной мессе?»26
В Берлине подобным сентиментальностям не предавались, да и выглядит это, пожалуй, гротескно: те же немецкие солдаты, что пели рождественские песни и оплакивали свою участь, творили в России систематические зверства. Фюрер, озлобленный неудачей под Москвой, сместил Вальтера фон Браухича и сам себя назначил главнокомандующим. Моделю он повторил людоедский приказ не уступать ни пяди земли. Генерал Хепнер, один из сторонников стратегического отступления, писал: «Тяжело для нервов бороться разом и с противником, и с собственным верховным командованием»27. Через несколько дней и Хепнер вслед за Рундштедтом и Гудерианом лишился своего поста на Восточном фронте как не проявивший железной хватки.
Модель, грубый «солдатский генерал» и преданнейший наци, энергично и успешно взялся за дело и переломил ситуацию. К середине января продвижение Красной армии остановилось, 21 января, к изумлению павших духом немецких офицеров, Модель осуществил контратаку на фланг противника к западу от Москвы. Подчиненные спрашивали, на какие резервы он рассчитывает. «На самого себя», – гордо ответил Модель, и этого в самом деле оказалось достаточно. Он импровизировал, носился из дивизии в дивизию под огнем, заставил сначала прекратить отступление, а потом и нанести ответный удар. Принимались все меры, чтобы сохранить боеспособность на морозе ниже 40°: устраивались отапливаемые убежища, где солдаты могли отогреться, – снаружи нельзя было оставаться более двух-трех часов подряд, – вокруг самолетов строились иглу, за ночь их прогревали, и воздушные войска вновь участвовали в сражении. На рубеже января – февраля части Моделя неоднократно наносили русским тяжелые поражения, прорываясь к Ржевскому выступу.
Тяжко страдали обе стороны. Военный корреспондент Василий Гроссман повстречал крестьянина, который нес в мешке промерзшие отрубленные ноги: собирался оттаять их у печи и снять сапоги. Фриц Лангканке из дивизии СС «Рейх» повествует о том, как окоченевший труп советского солдата прилип к колесам его бронемашины: «Я взял пилу, заполз под кузов и принялся отпиливать его руки. Наши лица оказались вплотную друг к другу, и вдруг его тело задергалась в такт ходу пилы. Я замер в ужасе. Я сам пилой вызвал это движение, но на миг мне показалось, будто мертвый укоризненно качает головой»28.
Вольф Дозе, надзиравший за работой русских военнопленных под Ленинградом, с мрачной отрешенностью описывает участь одного из них, который свалился, собирая хворост возле землянки: «Какое-то время он пролежал на снегу, на 20° мороза. Потом пришел в себя, приподнялся, но холод странно на него подействовал – он рывком перебросил себя в землянку с такой силой, что упал прямо на очаг и остался лежать, оглушенный, кожа у него загорелась. Его оттащили, уложили на землю. Голова его покоилась на собранном им хворосте, обгоревшая рука спаялась с одной из веток. Он тихо стонал. Кто-то попытался поднять несчастного на ноги. От этого резкого движения его кишки опорожнились, штаны вздулись и лопнули. Я увидел его тощий пах, растянутую залитую кровью кожу, экскременты, остатки одежды… Глаза его глядели в пустоту. Лицо приобрело странный сине-зеленый оттенок… Остается лишь надеяться, что пуля положит конец его мучениям»29.
По обе стороны люди привыкали к подобным зрелищам, поскольку более всего каждого волновало, как самому выжить. «Россия – жестокая страна и нуждается в жестоком обращении», – подытоживает Дозе. Красная армия пыталась вернуть себе инициативу, но эти попытки ни к чему не привели. Стальная воля и профессионализм вермахта отнюдь не были сломлены. Генерал Готхард Хейнрици полагал, что русские повторили первоначальную ошибку немцев: попытались наступать широким фронтом. Жуков был того же мнения. Какую бы тактику советские войска ни избрали в ту зиму, едва ли им хватило бы сил и умения сразу же нанести решительное поражение немцам, однако вмешательство Сталина, столь же бессмысленное, как и приказы Гитлера, лишило армию даже малого шанса. 29-я армия, отрезанная от основных сил к западу от Ржева, сражалась до последнего человека. Массовая капитуляция, как летом, больше не повторялась, в том числе и потому, что солдаты Жукова знали, какая участь ждет их в плену. По немецким подсчетам, в битве за Ржев погибло 26 000 советских солдат – столько же, сколько Великобритания потеряла за три года Северо-Африканской кампании. Свидетельства тому валялись повсюду. «Мы шли по следам резни, замерзшие трупы звенели, точно фарфоровые»30, – писал в изумлении немецкий офицер Макс Кунерт. Но русских не смущали потери, главное – линия фронта отодвинулась на 300 км от Москвы. С 22 июня 1941 г. по 31 января 1942 г. Германия потеряла около миллиона солдат – четверть всего состава, первоначально участвовавшего в операции Barbarossa. Остаток зимы армия вторжения провела, удерживая захваченную территорию и восстанавливая танковые подразделения.
Доктрина блицкрига сложилась и развивалась во время кампаний 1939-го и 1940 г., в Польше и Франции, но именно войну против России Гитлер объявил блицкригом и собирался молниеносно сокрушить эту страну. На долгий поход у немецкой армии и немецкой экономики попросту не хватало сил. Успех операции Barbarossa всецело зависел от того, удастся ли разбить войско Сталина к западу от линии Днепр – Двина. По мере того как сражения продвигались вглубь вражеской территории, становилось все труднее снабжать немецкую армию: железных дорог в России было мало, грузовиков у завоевателей имелось недостаточно, к тому же драгоценный бензин расходовался на доставку провизии и боеприпасов. Основные битвы Французской кампании разворачивались в нескольких часах езды от немецкой границы, а теперь вермахт на тысячи километров оторвался от основных баз.
Мало кто из немцев, переживших зимнюю кампанию 1941 г., сохранил веру в свое руководство, подорванную в те страшные месяцы. Русские солдаты шли в атаку на лыжах, в теплых зимних комбинезонах, а у немцев ничего подобного не имелось. Смазка в немецком оружии и в машинах замерзала, а у противника все оставалось на ходу. Стратегия сталинской армии во многом уступала немецкой: русские воевали числом и полагались на готовность своих солдат к самопожертвованию. Но советская артиллерия была очень сильна, и постоянно нарастала мощь воздушного флота. Только что появившаяся ракетная установка «Катюша» и Т-34, лучший танк той войны, напугали немцев и ободрили русских – правда, когда «Катюши» выстрелили в первый раз, с перепугу в бегство обратились солдаты с обеих сторон. Офицер вермахта Гельмут фон Харнак писал: «Тот факт, что мы не завершили кампанию и не захватили Москву, стал для нас тяжелейшим ударом. Разумеется, сказалась и погода, но главное – мы катастрофически недооценили противника. Русские проявили силу и выдержку, на которые мы не считали их способными. Мы даже не догадывались, что подобная стойкость возможна для человека»31.
Личное вмешательство Сталина в командование приводило в 1941 г. к катастрофам, порой, казалось, уже необратимым. Приказ не отступать привел к потере 3,35 млн солдат, попавших в тот год в немецкий плен. Однако народ проявил готовность сражаться и умирать – готовность, имевшую мало общего с идеологией, порожденную скорее крестьянским терпением, нутряной преданностью России-матушке и закрепленную репрессиями. Солдат Борис Баромыкин рассказал о казни сослуживца из среднеазиатской республики, обвиненного в том, что он без разрешения оставил позицию: «Бедняга стоял в паре метров от меня и спокойно жевал кусок хлеба. По-русски он знал всего несколько слов и совершенно не понимал, что происходит. Вдруг майор, возглавлявший военный трибунал, зачитал приказ: “Дезертирство с передовой линии, расстрел на месте” – и выстрелил ему в голову. Парень упал прямо передо мной. Это было ужасно. Что-то во мне умерло при виде этого»32.
Но, откровенно описывая хаос отступления – «точно перепуганное стадо», – Баромыкин добавляет: «Единственное, что удерживало нас вместе, – страх, что командиры расстреляют нас, если мы осмелимся бежать». Солдат, застреленный товарищами при попытке дезертировать, проклял их, умирая: «Они вас всех перебьют»33. Заметив политрука Николая Москвина, он и ему крикнул: «Тебя первым повесят, кровавый комиссар!» Москвин выхватил револьвер и прикончил умиравшего. В дневнике он записал: «Парни поняли: собаке собачья смерть». Для предотвращения дезертирства в Красной армии разработали новую тактику: высылали в сторону немецких позиций группу людей с поднятыми руками, и те, приблизившись, забрасывали противника гранатами. В результате немцы стали стрелять и в тех, кто в самом деле хотел сдаться34.
Беспощадность советского строя сыграла ему на руку в борьбе с Гитлером. Ни одна демократия не смогла бы выстроить ту жестко рациональную иерархию распределения ресурсов, которую установил Сталин: больше всего припасов на фронт, гражданским служащим и рабочим меньшие пайки, нахлебникам, в том числе старикам, – ниже физиологической нормы. Более 2 млн человек умерло за время войны от голода на территории, контролируемой советским же правительством. Военные успехи Советов в 1941–1942 гг. разительно отличались от никудышных действий западных союзников во Франции в 1940 г. Красной армии недоставало оружия, подготовки, тактики, командиров, но сам советский строй сплотил эту армию, и она отражала удары вермахта с решимостью, совершенно чуждой изнеженным гражданам демократических стран.
«Это не джентльменская война, – признавался в письме родным лейтенант вермахта фон Хейл. – Все чувства немеют. Человеческая жизнь не стоит ни гроша, дешевле лопат, которыми мы сгребаем снег с дороги. Вы там и представить себе не сумеете, до какого состояния мы дошли. Мы убиваем не людей, а врага, который для нас не человек, а в лучшем случае животное. И они точно так же обращаются с нами»35. Умиравшие с голоду военнопленные теряли человеческое обличие, и это способствовало тому, что немцы утратили даже инстинктивное сострадание к ним. Солдат вермахта писал: «Они ползали и стонали перед нами. Люди, в которых уже не осталось ничего человеческого»36.
На фоне немецкого изуверства жестокости собственного режима казались советскому народу уже не столь страшными. Вторжение объединило десятки миллионов людей, чуждых друг другу расово и религиозно, разобщенных идеологически, озлобленных чистками, голодом, несправедливостью и бестолковостью системы. Провозглашенная Сталиным Отечественная война сделалась реальностью и сплотила народ, подняла его дух, как никакое другое событие со времен революции 1917 г. Даже эсэсовцы невольно проникались уважением к тому, как в СССР умеют вдохновлять солдат. Если в Берлине еще питали какие-то иллюзии, то на поле боя каждый немецкий солдат уже осознал, на какую тяжелую, едва ли посильную задачу замахнулся его фюрер. Командир танка Вольфганг Пауль признавал: «Мы по глупости забрели в чуждые места, которые нам никогда толком не освоить. Здесь все холодно, враждебно, все против нас»37. Другой солдат писал домой: «Даже если мы возьмем Москву, едва ли это положит конец войне на Востоке. Русские готовы сражаться до последнего человека, до последнего метра своей обширной страны. Поразительные упрямство и решимость. Мы ведем войну на уничтожение, и остается лишь надеяться, что в конечном счете Германия победит»38.
Последнее письмо, полученное из России жившими в Гамбурге родными лейтенанта-артиллериста, датировано 21 января 1942 г.: «У 40 % наших людей мокнущая экзема и гнойники по всему телу, особенно на ногах. Дежурство длится по двое суток с двумя-тремя часами на сон, и то не подряд. Передовая линия настолько слаба, двадцать-тридцать человек на два километра фронта, что нас бы смели, если бы мы, артиллеристы, не сдерживали натиск вдесятеро сильнейшего нас врага»39. После очередной атаки русских солдатам пришлось на руках отнести лейтенанта в бункер: «Я пролежал 48 часов на снегу, в тридцатипятиградусный мороз, не чувствовал ни рук, ни ног и не мог стоять». Несколько дня спустя Монкебург погиб.
Генерал Готхард Хейнрици, вызванный в Берлин в феврале, поразился тому, с каким равнодушием Гитлер воспринимает рассказы свидетелей о страшной трагедии на Востоке. Фюрера интересовали только технические вопросы: например, система противотанковой обороны. Один лишь раз он заговорил о русской зиме, и то полушутя: «К счастью, ничто не длится вечно, и это утешительная мысль. Если сейчас люди там превращаются в глыбы льда, когда пригреет апрельское солнце, в эти пустынные места тоже возвратится жизнь». Немецкий солдат Вольфганг Хуфф писал 10 февраля под Синявино: «Наступили сумерки. Слышен треск артиллерийского огня и над лесом поднимается белый дым. Жестокая реальность войны: резкие выкрики команд, тащим снаряжение по снегу. И вдруг странный вопрос: “Ты видел закат?” И я подумал: “Как посмели мы нарушить мир и покой этой страны?”»
На всем протяжении февраля Красная армия по приказу Сталина вновь и вновь атаковала германские позиции и вновь отступала, неся тяжелые потери. Советская система снабжения была близка к коллапсу, многие солдаты голодали. В сражениях уже погибло 2,66 млн русских. Но и немцам этот поход уже стоил почти миллиона солдатских жизней, 207 000 лошадей, 41 000 грузовиков и 13 600 пушек. 1 апреля немецкое верховное командование сочло, что только восемь из 162 находившихся на Восточном фронте дивизий могут участвовать в сражениях. На 16 танковых соединений приходилось всего лишь 160 боеспособных танков. Но предсказание Гитлера сбылось: с наступлением весны его армии вновь двинулись вперед и одержали новые победы. Но роковое для немцев событие уже произошло: им не удалось разгромить Советский Союз в первый год Восточной кампании.
Под Тулой старуха поделилась с Василием Гроссманом и его спутниками картошкой, солью и дровами на раскопку. Ее сын Ваня был на фронте. Она сказала Гроссману: «Ох, и здорова я была, конь!» И сообщила: «Черт ко мне вчера приходил ночью, вцепился когтями в ладонь. Я стала молиться: “Да воскреснет бог и расточатся враги его” – а он внимания не обращает. Тут я его матом стала крыть, он сразу ушел.
А позавчера Ваня мой приходил, ночью. Сел на стол и в окно смотрит. Я: “Ваня, Ваня!” – а он все молчит и в окно смотрит»40. И Гроссман пишет: «Если мы победим в этой страшной, жестокой войне, то оттого, что есть у нас такие великие сердца в глубине народа, праведники великой, ничего не жалеющей души, вот эти старухи – матери тех сыновей, что в великой простоте складывают головы “за други своя”, так просто, так щедро, как эта тульская старуха, нищая старуха отдала нам свою пищу, свет, дрова, соль. Эти сердца, как библейские праведники, освещают чудным светом своим весь наш народ; их горсть, но им победить»41.
Как я уже упоминал, простые англичане, пораженные стойкостью русского сопротивления, признали в них союзников, причем с энтузиазмом, смутившим и даже напугавшим правящие классы. В народе это чувство выражалось, к примеру, словами немолодого лондонского кокни: «Я никогда не верил, что русские так черны, как их малюют. Глядишь, многие из них получше нас будут. Выпьем за них!»42 В интеллектуальных кругах превозносились достоинства выстроенного Сталиным общества – этому способствовало и отсутствие в прессе любых упоминаний о преступлениях режима. В США Уэнделл Уилки, кандидат от Республиканской партии на выборах 1940 г., писал в книге «Единый мир» (One World): «Во-первых, Россия – эффективное общество. Оно работает. Оно оказалось способно выжить. Во-вторых, в этой войне Россия – наш союзник. Русские, подвергшиеся еще более страшным испытаниям, чем даже британцы, блестяще это испытание выдержали. В-третьих, нам предстоит сотрудничать с Россией после войны. Без этого прочный мир недостижим»43. Английский академик сэр Бернард Пэрс писал в Spectator о том, как его страна с благодарностью видит «сколь тяжкое бремя несет этот великий и храбрый народ в нашей общей битве против сил зла, и чувствует искреннее желание сохранить и после войны эту взаимную дружбу, без которой невозможен мир в Европе»44.
Пэрс приветствовал описание советского общества, опубликованное американским поклонником СССР: «Перед нами обычные, склонные к заблуждениям люди, которые учатся на своих ошибках и, преодолевая неимоверные трудности, пытаются построить в одной из самых отсталых европейских стран новое человеческое общество, где государство будет заботиться обо всей массе населения». Многие читатели охотно проглатывали эту чушь: дескать, война выявила превосходство социалистической системы. Английский солдат Генри Нови услышал от друга: «Им не удалось посрамить коммунизм: никакая другая страна не показала бы себя так, только страна коммунистов, где народ поддерживает власть»45.
Вероятно, и в самом деле только русские могли перенести и осуществить все то, что они перенесли и сделали, когда разразилась катастрофа 1941 г. Но не следует приписывать это совершенствам коммунистической системы. До операции Barbarossa Сталин действовал заодно с Гитлером, хотя и преследуя при этом собственные цели. Даже когда Советский Союз оказался в лагере демократии и вместе с западными странами боролся против нацизма, Сталин не забывал свою основную задачу: укреплять советскую империю, давить и угнетать сотни миллионов людей. Эту задачу он и осуществлял весьма целенаправленно и успешно. Нельзя преуменьшать заслуги и жертвы народа, боровшегося с захватчиками, но цели Сталина и в пору войны оставались столь же эгоистичными и враждебными по отношению к человеческим правам и свободам, как и устремления Гитлера. Советский Союз не сравнялся с нацистами жестокостью лишь потому, что на его счету не оказалось единого акта чудовищного варварства, как холокост. Тем не менее западным союзникам следовало поблагодарить русских, которые своими страданиями и жизнями спасли от гибели сотни тысяч английских и американских солдат. Пусть Советский Союз вступил в эту войну не ради высоких принципов, и всего лишь соперничество между двумя людоедами превратило Россию в основное поле боя, но здесь Третий рейх столкнулся с силами, которые смогли привести его к гибели.
8. Америка вступает в войну
Соединенные Штаты 27 месяцев следили за происходившими в Европе событиями со смешанными чувствами изумления, ужаса и презрения. Герой современного этим событиям романа Дж. Маркванда «Так мало времени» (So Little Time) говорит: «На время можно было забыть о войне, однако ненадолго, потому что она была во всем, даже в солнечных лучах. Во всем, что ты говорил и думал. Ты ощущал ее вкус в пище, слушал ее в музыке». Многие считали, что этот конфликт и торжество наци отражают общий упадок и вырождение Европы. Особой вражды к странам оси по ту сторону Атлантики не отмечалось, а этнические немцы даже активно поддерживали Гитлера. Опрос, проведенный в Принстоне 30 августа 1939 г., показал, что 68 % американцев не считают допустимым для граждан США записываться добровольцами в вермахт, но 26 % предпочли бы сохранить право на такой выбор1. И почти никто из американцев не хотел, чтобы его страна ввязывалась – не важно, на какой стороне, – в кровопролитие, от которого ее отделял океан. В сентябре 1939 г. другой опрос уточнял, какую позицию США следует занять по отношению к воюющим державам. 37 % респондентов предложили не становиться ни на ту, ни на другую сторону, но торговать со всеми, лишь бы платили; 23,6 %, напротив, возражали против торговли с воюющими странами, всего 16,1 % предлагало смягчить строгий нейтралитет и все же помочь Британии и Франции, если те окажутся на грани поражения. Сторонники вмешательства распределялись главным образом по южным и западным штатам.
С момента прихода Гитлера к власти президент Франклин Рузвельт неустанно напоминал своему народу о грозящей также и Америке опасности и сокрушался, что никто толком его не слушает. 30 октября он писал послу США в Лондоне Джозефу Кеннеди: «Несмотря на значительные шаги к национальному объединению, совершенные тут у нас за последние шесть лет, мы все еще не разбираемся в международных географических связях и не понимаем, как быстро исчезают пространства и локальные экономики»2. Но привычка к изоляционизму по-прежнему была сильна, и с 1939 по 1941 г. президенту приходилось оказывать помощь Британии с оглядкой на общие сомнения и даже недовольство. Тем не менее этот умелый политик сумел овладеть общественным мнением, причем в стране, где, по словам одного из его помощников, это мнение «отличалось величайшей неустойчивостью». Один из частых гостей Белого дома Роберт Шервуд писал: «Пока в Западной Европе не разразилась катастрофа и у руля не встал Уинстон Черчилль, дело союзников не казалось особенно привлекательным даже тем, кто ненавидел фашизм со всеми его зверствами»3.
Писатель Джон Стейнбек весной 1940 г. несколько недель ходил под парусом вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки и 26 марта писал с пути другу: «Мы не слышали новостей из Европы с тех пор, как отплыли, да и не очень-то жаждем. На берегу мы встречаем людей, которые даже не знают о существовании Европы, и от этого только выиграли. В этой поездке мы обретем образ мира, где нет места Гитлеру и Москве, а существует нечто более живое и сильное, чем они оба»4. Стейнбек разделял мнение многих либералов: Америке придется рано или поздно вступить в схватку – но ни малейшего энтузиазма эта перспектива у него не вызывала. «Если б не надвигающаяся война, я мог бы рассчитывать на несколько лет спокойной и приятной жизни», – писал он 9 июля5.
В то утро в апреле 1940 г., когда немецкие солдаты вошли в Норвегию, репортеры столпились в кабинете Франклина Делано Рузвельта, вопрошая, не приближает ли это событие вступление Штатов в войну. Президент ответил, тщательно подбирая слова: «Скажем так: события последних двух суток, несомненно, побудят многих американцев задуматься о вероятности войны». Изначально Рузвельт не хотел избираться на третий срок в 1940 г. и говорил друзьям, что изменить решение его побудил общемировой кризис, в особенности падение Франции. «Вопрос о том, выдвинет ли Рузвельт свою кандидатуру, – писал 15 мая того же года один из близких к Рузвельту людей Адольф Берле, – решается на берегах Мааса»6. Но, возможно, слова о нежелании участвовать в выборах были только словами, поскольку Рузвельт, как и большинство правителей, не был равнодушен к власти. Следующие поколения признают, что именно этот человек из всех американцев был призван провести народ через величайшие в мировой истории катаклизмы, но довольно активное меньшинство соотечественников, в том числе деловое сообщество, в ту пору противилось новому избранию Рузвельта. Дональд Нельсон, впоследствии отвечавший за промышленную мобилизацию страны, писал: «Кто из нас, кроме президента США, вполне осознавал, какая предстоит работа? Люди, с которыми я встречался и беседовал, даже члены генерального штаба, военные, моряки, офицеры высшего ранга, видели в программе обороны лишь средство не допустить врага на берега Америки»7.
Перевооружение началось в мае 1938 г. Биллем об увеличении состава флота было выделено $1,15 млрд на оборонные расходы, а затем в ноябре последовал Билль о торговле, модифицировавший Акт о нейтралитете таким образом, чтобы Франция и Британия могли приобретать американское оружие. Рузвельт созвал в Белом доме совещание руководителей всех армейских подразделений и велел им готовиться к войне, в первую очередь существенно наращивая численность вооруженных сил. В 1940 г. он протолкнул через конгресс Акт об ограниченной воинской повинности, предусматривавший обязательную военную службу для определенных категорий призывников. В бюджете появилась новая строка: $15 млрд на программу перевооружения. Президент лично обратился к законодателям и объяснил одну из задач: ежегодно производить 50 000 самолетов. На это начальники штабов отреагировали запиской, которую подписал адмирал Гарольд Бетти: «Мистер президент, ВЕЛИКОЛЕПНО! Бетти (за всех нас)». За два года с сентября 1939 г. армия США численно выросла – с 140 000 человек до 1,25 млн, однако начальники штабов понимали, что инфраструктура и люди не готовы к большой войне. Не только гражданские, но и многие кадровые военные не были уверены в том, что их стране следует ввязываться в войну, и многие все еще не понимали неизбежность этого.
Молодые люди, оказавшиеся в силу Акта о воинской повинности в лагерях боевой подготовки, томились. «Какая скука служить в мирное время, – писал в романе, датированном 1941 г., Карсон Маккалерс. – Что-то происходит, но то же самое повторяется вновь и вновь. Скука усиливается благодаря изолированности от мира, благодаря безопасности и безделью, ведь в армии нет другой заботы, кроме как шагать в ногу»8. Журналист Эрик Сиварейд описывал, как Рузвельт «постепенно собирал упиравшихся, недоумевающих, недовольных людей в армию. Никто из гражданских лидеров не смел называть этих людей “солдатами”, как будто в самом этом обозначении было нечто постыдное, и мало кто отваживался напомнить, что призывников обучают убивать»9.
Укрепление армии предусматривало также покупку 20 000 лошадей. «Армия США слишком поздно начала всерьез готовиться ко Второй мировой войне, – писал Мартин Блуменсон. – В результате программа подготовки, разработка оружия и все остальные вопросы решались впопыхах и на ходу, непоследовательно и весьма неудачно, во весь тот короткий и напряженный период мобилизации и организации военного производства непосредственно перед и после Пёрл-Харбора»10. Подполковник Дуайт Эйзенхауэр, командовавший пехотным батальоном в форте Льюис, штат Вашингтон, сказал своим подчиненным: «Нам предстоит война. Страна вступит в войну, и я хочу, чтобы сражались в этой войне люди обученные»11. И за такие речи он удостоился насмешливого прозвища Айк-паникер.
Многие интеллектуалы рассматривали европейскую войну как схватку двух делящих мир империализмов. Это мнение отражено в трактате Квинси Хоува «Англия ожидает, что каждый американец исполнит свой долг» (England Expects Every American to do His Duty, 1937). Они бы предпочли, чтобы Америка в одиночестве предприняла крестовый поход против фашизма, лишь бы не вступать в союз с дряхлыми нациями Европы. В особенности нестерпима была мысль, что США поспособствуют сохранению британской, а также французской и голландской колонизационной системы: связь с этими империалистическими державами марала доблесть и честь Соединенных Штатов. Можно ли вообще считать достойной и праведной войну в союзе с английскими тори?12 Издание левых Partisan Review восклицало: «Вступив в войну под лозунгом “Остановить Гитлера!” мы добьемся лишь немедленного распространения тоталитаризма в нашей стране!»
Казначей Гарвардского университета заявил ректору: «Гитлер победит! Лучше с ним не ссориться». Роберт Шервурд отмечал, что многие бизнесмены, в том числе Роберт Вуд, Джей Хормел и Джеймс Муни, были убеждены в победе Гитлера и советовали иметь дело с ним, а не с союзниками. На встрече в посольстве США в Лондоне 22 июля дипломаты пришли к заключению, что у Великобритании есть шанс продержаться до 30 сентября, но особой уверенности в их голосах не прозвучало: с равной вероятностью остров, отстаиваемый Черчиллем, мог к тому времени оказаться и полностью захвачен. В сентябре 1940 г. в Atlantic Monthly появился манифест Кингмана Брюстера и Спенсера Клоу, издателей студенческих газет Йеля и Гарварда: от имени всех студентов они заявляли, что молодежь не собирается спасать Европу от Гитлера.
Понятно, с каким чувством читали подобные декларации англичане. Их премьер-министр возлагал все надежды на победу в США сторонников войны, а летом 1940 г. к возмущению по поводу недостаточной помощи со стороны Америки присоединилось и более серьезное сомнение: а можно ли вообще доверять иным вашингтонским политикам? 17 июля Черчилль письменно возражал против того, чтобы американцам сообщали важную военную информацию: «Я бы не торопился выдавать наши секреты, пока Америка не выразит гораздо большую готовность вступить в войну, чем она выражает сейчас. Полагаю, всё, что мы сообщаем различным службам США, где числится немало немцев, живо попадает в Берлин»13. От этого подхода Черчилль отказался лишь тогда, когда стало ясно, что лишь полная откровенность с этим пока еще ненадежным союзником обеспечит Британии американские поставки.
Рузвельт, со своей стороны, сумел получить санкцию и на помощь Великобритании, и на перевооружение, воспользовавшись аргументом генерала Джона Першинга, самого знаменитого американского участника Первой мировой войны: эти меры не втягивают Америку в конфликт, а, напротив, способствуют тому, чтобы война не затронула западный берег Атлантики. Поначалу англичане расплачивались за все поставки наличными, однако их валютные и золотые запасы вскоре исчерпались и во второй половине 1941 г. вступили в силу правила ленд-лиза. В сентябре 1940 г. Америка одобрила предложенную Рузвельтом сделку с англичанами, основанную на принципе «истребители в обмен на военные базы». Даже изоляционистская Chicago Tribune приветствовала «любое соглашение, которое предоставит США морские и воздушные базы в регионе, где должна распространяться зона оборонительных интересов Америки. Это триумф». Черчилль также прислушивался к постоянным настойчивым требованиям Вашингтона не разглашать подробности своих отношений с президентом до выборов 1940 г., и этот совет также подразумевал, что после выборов Америка примет более активное участие в европейском конфликте.
Поражение люфтваффе в Битве за Англию существенно повлияло на настроения американцев: хотя большинство по-прежнему не рвалось вступать в бой, по крайней мере появилась надежда, что народ Черчилля продержится. В сентябре военный министр Генри Стимсон записывал в дневнике: «Любопытно наблюдать, как общественное мнение склонилось в пользу вероятной победы В. Б. Рассеялась господствовавшая двумя месяцами ранее атмосфера пессимизма. Отчеты наших наблюдателей на том берегу изменились, сделались более оптимистичными». Тем временем вступил в силу Тройственный пакт Германии, Италии и Японии, и американцы начали понимать, что это общий и угрожающий всему миру враг: едва ли с дюжину демократических стран оставались еще неоккупированными. Октябрьский опрос мнений показал, что уже 59 % американцев выступают за снабжение Великобритании оружием, даже если тем самым страна рискует быть втянутой в войну.
Однако во время президентских выборов 1940 г. изоляционизм был еще заметной политической силой, и хотя кандидат от республиканцев Уэнделл Уилки в глубине души склонялся в пользу вмешательства, пока что он выступал с пацифистскими речами. Рузвельт опасался, как бы его собственная позиция – предполагалось, что он настаивает на скорейшем вступлении в войну, – не привела к провалу на выборах. Генерал Хью Джонсон, писавший колонки для изданий синдиката Scripps-Howard, сообщал: «Любой осведомленный человек в Вашингтоне знает, что стоит нам проголосовать за мистера Р. и он при первой же возможности втянет нас в войну, а если подходящей войны не будет, он ее сам затеет»14. Опрос журнала Fortune 4 ноября 1940 г. показал, что 70 % американцев допускают как минимум 50 %-ную вероятность вступления Америки в войну, но при этом 41 % соглашается предоставить Великобритании всевозможную материальную помощь и только 15,9 % одобряют непосредственное участие в боях. Конгрессмен Линдон Джонсон, представитель Демократической партии, поддерживавший администрацию во всех вопросах внутренней политики, добился для родного Техаса большой доли казенного пирога, раз уж военный бюджет так раздулся, – и все равно выступал против вмешательства США в военные действия в Европе. В июне 1940 г. он сказал своим избирателям: «Умение американцев мыслить здраво и действовать в критических обстоятельствах разумно убережет нас от войны»15. Его мнение удалось изменить лишь летом 1941 г., когда англичане потерпели ряд поражений в Средиземноморье: стало ясно, что США не могут примириться с победой оси.
Однако давление изоляционистов побудило Рузвельта сделать в одной из предвыборных радиопередач крайне рискованное и неоднозначное заявление: «Обращаясь к отцам и матерям, хочу заверить вас еще раз – я уже говорил это, но готов повторить вновь и вновь: ваши мальчики не будут сражаться в иноземных войнах». Многих эта реплика возмутила, в том числе супругу президента, и в собственной газетной колонке «Мой день» (My Day) она поспешила сделать существенное уточнение: «Никто не может гарантировать вам ныне мир дома или за рубежом. В человеческих силах обещать только одно: сделать все возможное, чтобы предотвратить вступление нашей страны в войну». Было ясно, что в данном случае президент проявил уклончивость, если не откровенно солгал. И все же ни Черчилль, ни американский народ в 1940–1941 гг. не могли до конца разгадать одну загадку: добился бы Рузвельт вступления Штатов в войну, если бы действия стран оси не вынудили Америку сражаться?
На выборах 5 ноября 1940 г. действующий президент получил 55 % голосов – 27,2 млн против 22,3 млн у соперника. Посол США в Ирландии, родной дядя Рузвельта, описывал реакцию англичан на этот успех: «Всегда по-джентльменски сдержанный диктор BBC начал сегодня утром восьмичасовую программу словами: “Рузвельт победил!” Его голос выдавал облегчение и торжество». Но выборы показали также и силу оппозиции. Миллионы американцев разделяли мнение Джорджа Фиска из Корнеллского университета: «Ни одна война не приводит к желанной цели». В декабре Рузвельт вновь просил британское правительство держать в тайне все подробности о поставках оружия, «по внутренним американским причинам, а не по соображениям безопасности».
Американский писатель Джо Диз в январе 1941 г. сообщал из Нью-Йорка другу-англичанину: «Все разговоры – о помощи Англии. Американцы хвалят стойкость англичан, гордятся их успехами в Албании и Ливии, встревожены самоубийственным упорством Ирландии [соблюдающей нейтралитет], боятся сами воевать, но готовы помочь всем, чем можно»16. Вместе с тем и Диз, анализируя широкое разнообразие противоречивых мнений в Штатах, позднее в том же году писал: «Кое-кто из моих друзей хотел бы призвать Рузвельта к более решительным мерам: снаряжать боевые конвои из американских судов и т. д. Они считают, что ФДР отстает от народного движения, а не возглавляет его. Но я думаю, он гонит нас так быстро, как мы допускаем. “Мы” – это 130 млн человек, включая множество выращивающих пшеницу, кукурузу и скот жителей Среднего Запада, которые сентиментально настроены против нацизма, но полагают, что через океан немцы не переберутся, а если бы и перебрались, не сумели причинить нам вреда. Я бы не назвал американское общество неосведомленным – вполне оно обо всем осведомлено, – однако ему недостает того энтузиазма, который побуждал людей умирать за Испанскую Республику и вступать в Свободную Францию»17.
Необходимость помогать Великобритании Рузвельт подкреплял теми же самыми аргументами, которыми вскоре западные союзники будут отстаивать необходимость поддержать Советский Союз: лучше предоставить англичанам материальные ресурсы и сберечь жизни американцев (а предпочтительно, чтобы русские проливали кровь, а не англичане и американцы). В марте 1941 г. был принят Закон о ленд-лизе, санкционировавший поставки в кредит. В тот год лишь 1 % полученного Черчиллем оборудования проходил по ленд-лизу, но затем эта программа обеспечивала большую часть поступавшего в Англию провианта и топлива, значительную долю танков, транспортных самолетов и снаряжения для десантных операций. На своем острове англичане производили боевые самолеты, оружие и транспортные машины. Начиная с 1941 г. они оказались в полной зависимости от предоставленного американцами кредита: платить за военные поставки им было нечем.
Черчилль изо всех сил уговаривал президента США вступить в войну, однако до Пёрл-Харбора этого не случилось – и к счастью. Если бы даже Рузвельт взял верх в конгрессе и США объявили Германии войну (на что надежды, в общем-то, не было), народ не поддержал бы президента. Вплоть до декабря 1941 г. большинство населения выступало против вооруженного конфликта с Гитлером. Зато суровые меры против японцев одобряла гораздо большая доля населения: в частности, поддержали принятое в июле 1941 г. решение заморозить японские активы и ввести эмбарго на любой экспорт в Японию. Собственно, эти недружественные меры и побудили Токио напасть на США, поскольку 80 % нефтепродуктов страна получала из Штатов и из Голландской Ост-Индии. Эмбарго в США сочли вполне уместным, в отличие от все более масштабного участия кораблей США в Битве за Атлантику. Рузвельт расширял роль военно-морского флота в этом конфликте, конвои сопровождали британские суда все дальше через Атлантический океан и порой вступали в перестрелку с подводными лодками.
Каковы бы ни были личные желания президента, конгресс сдерживал его наступательную политику до тех пор, пока Берлин и Токио все не решили сами. Историк Дэвид Кеннеди высказывал предположение, что Рузвельт лучше послужил бы интересам своей страны, если бы предотвратил войну с Японией и полностью сосредоточил усилия на уничтожении нацизма, главного врага демократии: «Незначительный компромисс (обычное дело для дипломатии) принес бы богатые плоды»18. А вот побив Гитлера, продолжает Кеннеди, удалось бы унять и амбиции японских милитаристов, причем ценой гораздо меньших материальных затрат и человеческих жертв: они бы сами сдались перед угрозой неодолимого натиска союзников. Но как бы Рузвельт убедил свой народ сражаться с Германией при отсутствии какой-либо провокации с той стороны? Гитлер избегал подавать Америке повод к войне.
И даже когда в декабре 1941 г. война была объявлена – и вплоть до конца этой войны, – в Штатах не отмечалось по отношению к немцам враждебности, сколько-нибудь напоминающей ненависть многих американцев к японцам. Тут сыграл роль не только расовый фактор, но и горячее сочувствие китайцам, которые уже пострадали и продолжали страдать под варварским игом японцев. И хотя большинство американцев сокрушалось и о тех бедствиях, которые причинял миру Гитлер, они бы не поддержали идею направить армию в Европу – более того, они бы решительно выступали против такой затеи, если бы Гитлер сам не вынудил Америку.
27 мая 1941 г., после падения Греции и Крита, 85 млн американцев приникли к радиоприемникам и выслушали речь Рузвельта о той угрозе, которую несет им всем очередное торжество нацистов. По словам одного историка, народ бы «напуган, разозлен и повержен в смятение»19. В завершение своей речи президент объявил чрезвычайное положение. Никто толком не знал, что это будет за чрезвычайное положение, ясно стало одно: война приближается вплотную, исполнительные власти облекаются дополнительными полномочиями. Во многих местах, особенно на юге страны, благодаря военным и военно-морским заказам начался экономический бум, однако профсоюзные войны все еще раздирали нацию: в глазах части промышленных рабочих государственные интересы Америки совпадали с интересами эксплуататоров, а им были чужды, как мы помним, подобные настроения царили и в некоторых слоях английского пролетариата. Например, шахты никто и не думал приводить в порядок, и только за 1940 г. в них погибло 1300 рабочих и многие покалечились. Страсти накалялись, забастовки переходили в драки: например, в 1941 г. во время стачки в округе Харлан (Кентукки) стычки привели к гибели четырех человек, а еще двенадцать были изувечены в драке.
Страна отказывалась принимать беженцев, даже жертв нацистского режима. В июне 1941 г. был запрещен въезд в США всем, у кого в Германии остались родственники. Изоляционисты гнули свою линию. Имелось влиятельное ирландское лобби, самым известным представителем которого стал отец Чарльз Кофлин – автор памфлетов, часто выступавший по радио. 19 мая 1941 г. Рузвельт писал одному из приверженцев Кофлина, конгрессмену от штата Монтана Джеймсу О’Коннору, ревностному изоляционисту: «Дорогой Джим! Когда же вы, ирландцы, избавитесь от ненависти к Англии? Помните: если Англия падет, Ирландия не устоит. Шансы Ирландии на полную независимость будут значительно выше, если уцелеет демократия, чем при гитлеризме. Загляните ко мне, и мы все это обсудим, и прошу вас отказаться от древних предрассудков и закоснелой ненависти и мыслить завтрашним днем. Искренне ваш»20.
Сенатор от штата Айдахо Ворт Кларк, еще один изоляционист, в июле 1941 г. предложил провести посреди океана границу – пусть американцы остаются по свою сторону этого рубежа, спокойно охраняя собственную половину мира, включая Канаду и Южную Америку: «Мы бы назначали марионеточные правительства, которые блюли бы наши интересы, а не германские и не какой-либо другой нации». В странах оси высказывания сенатора радостно подхватили: вот оно, доказательство неугомонного империализма янки! Немецкая разведка предсказывала скорое вмешательство США в войну с большей уверенностью, чем это делали англичане и даже многие американцы. Еще 1938 г. рейхсминистр финансов Шверин фон Крозиг предвидел такой оборот дела: борьбу «не только оружием, но также экономическую, широчайшего масштаба». Фон Крозиг с тревогой сопоставлял экономическую слабость Германии и почти неисчерпаемые ресурсы потенциальных противников. Гитлер предполагал, что к противникам Германии присоединится в 1942 г. и Америка. Он предпочитал не дразнить США раньше времени, однако его не смущала вероятность и этого конфликта, отчасти потому, что сам Гитлер почти ничего не смыслил в экономике. И учитывая отсутствие единого мнения в США, сомнения и уклончивость политиков, нужно сказать, союзникам повезло, что решение, вовлекшее США в войну, принималось в Токио, а не в Вашингтоне.
Роковой шаг военные лидеры Японии сделали в 1937 г., приступив к вторжению в Китай. Тем самым они навлекли на себя ненависть многих народов, а в итоге эта оккупация оказалась величайшей стратегической неудачей. Территория Китая чересчур велика, и все военные успехи японцев не приводили к сколько-нибудь осязаемым результатам. Японский солдат в отчаянии нацарапал на стене разбомбленного дома: «Сражение и смерть повсюду, и я тоже ранен. Китай безграничен, мы здесь – словно капли воды в океане. Война бессмысленна. Я никогда не увижу свой дом»21. Хотя в войне против коррумпированного режима генералиссимуса Чан Кайши и его плохо вооруженных армий японцы одерживали победу за победой, их потери были слишком велики: 185 000 погибших на конец 1941 г. Несмотря на тотальную мобилизацию (вплоть до 1945 г. в Китае пребывал миллион японских солдат), не удалось нанести окончательное поражение ни националистам, ни коммунистам под руководством Мао Цзэдуна. Фронт растянулся на 3500 км.
На Западе война с Японией обычно рассматривается в свете кампаний на Тихом океане и Юго-Восточной Азии. Однако именно действия японцев в Китае привели в итоге к окончательному их поражению. С 1937 по 1939 г. происходили крупные сражения, которых в Европе как бы и не замечали. По большей части японцы брали верх, но ценой тяжелых потерь. Если бы японцы ушли с материка в 1940 г. или хотя бы в 1941 г., это могло бы предотвратить войну против США, поскольку японская агрессия и возведенная в принцип жестокость по отношению к населению (60 000 мирных жителей вырезано только в Нанкине) породила в американском обществе ответную враждебность и даже ненависть. Более того, пусть даже китайские армии оказались бессильны отразить нашествие, Япония растратила в этом походе слишком много жизненно важных ресурсов. Проклятие токийского правительства заключалось в господстве в нем милитаристов, числивших самурайской доблестью войну ради самой войны. Опьяненные верой в свое мужество и превосходство, они просто не понимали трудности и даже безумия войны против Соединенных Штатов, величайшей индустриальной державы мира, к тому же недоступной для прямого нападения.
Из-за побед Японии в 1941–1942 гг. западные державы были склонны переоценивать силу ее армии. Их представления о возможностях японской армии были бы гораздо точнее, если бы на Западе знали о вооруженном столкновении, произошедшем несколько ранее, которые обе стороны предпочли скрыть. Летом 1939 г. постоянные стычки между японской и советской армией на границе, отделяющей Манчжурию от Монголии, переросли в полномасштабный конфликт, который на Западе именуют Номонганским инцидентом, а в СССР – боями на Халхин-Голе22. С самого начала ХХ в. влиятельные силы в Японии выступали за экспансию в Сибирь. После большевистской революции 1917 г. какое-то время японские войска находились в Сибири, и даже появилась надежда предъявить территориальные претензии, однако западные державы предпочли поддержать объединившийся и вернувший себе стабильность СССР, а потому японцы вынуждены были уйти из Сибири. В 1939 г. Токио вновь счел русских слабыми и уязвимыми и направил к границе армию, чтобы испытать силу их сопротивления.
Для Японии эта авантюра обернулась катастрофой. Георгий Жуков провел блестящую контратаку при мощной поддержке танков и самолетов и одержал убедительную победу. Полагаться на официальные данные о потерях не стоит, однако даже по приблизительным оценкам они составляли не менее 25 000 с каждой стороны. Мир был заключен в октябре на условиях, устраивавших Москву. Последствия этого столкновения повлияли на ход Второй мировой войны: Япония отказалась от прежней нацеленной на север стратегии, опасаясь вновь ввязываться в конфликт с Советским Союзом. В 1941 г. Токио подписал с Москвой договор о нейтралитете. В японском руководстве большинство выступало за соблюдение этого соглашения, поскольку колонии западных держав в Юго-Восточной Азии представлялись Японии более легкой добычей. Япония рассчитывала на полное завоевание Европы Германией, а сообщения военных атташе из Лондона и Стокгольма, предупреждавших, что Германии не под силу осуществить вторжение в Британию, начальство в Токио не принимало во внимание, поскольку эти трезвые советы расходились с их мнением. Немецкая экспансия в Европе послужила спусковым механизмом для японской экспансии в Азии: Токио никогда бы не решился ввязаться в войну, не считай он окончательную победу Гитлера в Европе неминуемой.
27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией. Участницы пакта обязались защищать друг друга в случае, если одна из них подвергнется нападению государства, не вовлеченного в общеевропейскую войну. Основной задачей пакта, очевидно, было воспрепятствовать давлению на Японию со стороны США, но как раз эту задачу осуществить не удалось: Америка, крайне возмущенная японской агрессией в Китае, продолжала применять все новые санкции против этой страны. И тогда японцы приняли новую стратегию – удар на юг. Они решили провести ряд молниеносных операций, захватить слабо защищенные форпосты Запада на юго-востоке и вынудить Америку отказаться от противостояния и вывести свои войска из западной части Тихого океана.
К середине 1941 г. японский генштаб составил план под оптимистическим названием «Операционный план по завершению войны с США, Великобританией, Нидерландами и Чан Кайши». Первоначально японцы намеревались «дождаться подходящей ситуации на европейском фронте, а именно коллапса Великобритании, завершения германо-советской войны и успехов нашей политики в Индии». Император Хирохито, изучив план, заметил: «Вижу, после Малайи вы намерены заняться Гонконгом. А как насчет иностранных концессий в Китае?»23 Его величество заверили, что владения европейцев непременно будут захвачены. Однако Токио не удалось оттянуть нападение до окончательной победы Германии в Европе, и эта ошибка в расчетах сыграла роковую роль, как и неумение японцев разгадать характер будущего противника. Японцы (за исключением немногих образованных офицеров, к числу которых принадлежал знаменитый адмирал Исороку Ямамото, главнокомандующий ВМФ), считали американцев выродившимся и невоинственным народом: дескать, достаточно нанести им несколько основательных ударов, и они запросят мира.
И все же до нападения на Пёрл-Харбор поведение японцев оставалось непоследовательным, выдавало колебания. В 1940 г. Токио снарядил войска и воздушные силы во Французский Индокитай, вырвав у Виши на это согласие. Поставки в Китай через Индокитай были перекрыты, давление на Чан Кайши усилилось. В первую очередь японцев на юго-востоке Азии интересовала нефть Восточной Индии, но голландское правительство в изгнании (в Лондоне) отказывалось допустить их в свои владения. Некоторое время японские генералы обдумывали вариант нападения на европейские колонии, не затрагивая зависимые от США Филиппины, однако в начале 1941 г. японские флотоводцы убедили сухопутное командование в том, что любой удар в южном направлении заведомо вызовет конфликт с США. Токийские стратеги пересмотрели свои планы и предложили нанести ряд быстрых ударов, смести слабую оборону Малайи, Бирмы, Филиппин и Голландской Ост-Индии в расчете на то, что США не решатся на полномасштабную войну и большие жертвы в попытке изменить новый статус-кво.
Расчеты японских милитаристов были окрашены самообманом, фатализмом под девизом «Сиката га най» («Ничего не изменишь») и отсутствием реальных сведений о других народах. Японские солдаты были чрезвычайно физически выносливы и готовы к самопожертвованию; армия располагала надежной поддержкой с воздуха, но существенно недоставало танков и артиллерии. Научная и промышленная база страны была слишком слаба, чтобы обеспечить длительную войну против США. Япония не согласовывала свои цели и стратегию с Германией, отчасти потому, что, кроме задачи разбить союзников, эти две страны ничего не связывало, отчасти потому, что они и географически были далеки друг от друга. Расовая идеология Гитлера препятствовала его сближению с японцами, он лишь нехотя признал их союзниками в этой войне. Если бы Япония нанесла удар на Запад, по России, вскоре после того, как немцы в июне 1941 г. вторглись в эту страну, это нападение могло бы изменить баланс сил, способствовать победе стран оси, а столкновение Японии с США, вероятно, состоялось бы позже или вовсе не произошло бы. Министр иностранных дел Ёсуке Мацуока отстаивал именно такой план и ушел в отставку, когда коллеги отвергли его предложение.
И хотя победы Японии в Азии в 1941–1942 гг. потрясли и напугали страны Запада, все захваченное нетрудно было вернуть, если бы удалось сокрушить Германию. В Лондоне и Вашингтоне понимали, что война с Японией окажется длительной и трудной, в том числе и из-за больших расстояний, но серьезные стратеги (и уже упомянутый адмирал Ямамото) не сомневались, что в конечном счете Америка одержит верх, если только воля народа не ослабеет при первых же неудачах. Поскольку японцы не могли осуществить вторжение в Штаты, у страны, чей промышленный потенциал вдесятеро уступал возможностям США и само существование которой зависело от импорта, не имелось ни малейшего шанса одолеть мощь Америки.
В качестве предварительного шага перед вторжением в Малайю Япония в июле целиком оккупировала соседний регион Индокитая, не встретив ни малейшего сопротивления со стороны Виши. 9 августа Токио принял окончательное решение не вступать в войну с Россией, по крайней мере в 1941 г. В сентябре планы японцев в очередной раз изменились в связи с нефтяным эмбарго. Решение было принято президентом Рузвельтом и вполне отражало его твердое желание сократить японские запасы нефти и тем самым военную активность агрессора, однако некоторые данные указывают, что сотрудники президента неправильно его поняли и вместо частичного эмбарго установили абсолютное, тем самым ускорив развязку. Теперь у Токио оставалось лишь два пути: либо принять ультиматум США (однако смириться с требованием уйти из Китая они никак не могли), либо нанести удар – и как можно скорее. Император Хирохито хотел, чтобы его правительство испробовало дипломатический путь, и премьер-министр принц Коноэ предложил организовать личную встречу с президентом Рузвельтом, но Вашингтон отверг эту инициативу, видя в ней лишь попытку затянуть дело. 1 декабря на совещании у императора в Токио было принято решение сражаться. Военный министр генерал Хидэки Тодзё (с 17 октября он занимал должность премьер-министра) заявил: «Наша империя стоит на пороге славы или забвения». Столь категорично понимали японские милитаристы представившуюся им альтернативу: либо править всей Азией, либо погибнуть. Но даже Тодзё сознавал, что одолеть США военной силой невозможно: его расчет, как и расчет его коллег, строился на том, чтобы одержать достаточное количество побед и вынудить США к переговорам.
Удар по Пёрл-Харбору и нападение на Юго-Восточную Азию Япония предприняла 7 декабря 1941 г., через сутки после того, как русские перешли в контрнаступление, спасшее в итоге Москву. Пройдет еще немало времени, прежде чем западные союзники поверят, что СССР способен уцелеть в этой войне, но, если бы японские эмиссары в Берлине сумели распознать изменившееся настроение, если бы не были ослеплены своим преклонением перед нацистами и поняли, что Германия основательно завязла на Востоке, может быть, правительство Тодзё и не рискнуло бы нанести удар. Задним числом понятно, как неудачно японцы выбрали момент для нападения: шанс использовать слабость своего противника уже был упущен. Губительной для Японии стала ложная уверенность ее руководства, будто, ввязавшись в конфликт, страна сможет регулировать свое участие в нем, то есть борьба между Германией и СССР никак не затронет Японию. На самом деле, начав военные действия, Япония превратила европейский конфликт в общемировой, унизила западных союзников и теперь оставалась лишь самая примитивная альтернатива: либо полная победа, либо столь же полное поражение. Соображения, побудившие Японию к роковым действиям, даже для националистического государства были чересчур интроспективны, зациклены исключительно на собственных интересах, да и в вопросах географии японское руководство проявило изумительное невежество.
С другой стороны, задним числом кажется странным и поведение Америки, не укрепившей свои тихоокеанские базы. Уже в ноябре намерения Токио сделались вполне очевидными, они подтверждались главным образом перехваченной и расшифрованной диппочтой; единственное, чего в Вашингтоне и Лондоне не знали в точности, это куда именно придется удар. Мнение теоретиков заговора, будто президент Рузвельт сознательно отдал Пёрл-Харбор на растерзание, отвергается всеми серьезными историками как заведомо абсурдное. И все же странно, как это правительство и начальники штабов не позаботились о защите Гавайев и других расположенных недалеко от Японии баз. 27 ноября 1941 г. Вашингтон телеграфировал всем тихоокеанским базам: «Это сообщение рассматривать как боевую тревогу. В ближайшие дни ожидается агрессия Японии. Примите соответствующие меры безопасности». Но местное командование оказалось вопиюще неготовым эффективно реагировать на это предупреждение. В Пёрл-Харборе 7 декабря ящики с зенитными снарядами все еще не были распакованы и ключи от них находились у дежурных офицеров.
Впрочем, в той войне подобная ситуация повторялась вновь и вновь: жертвы нападения оказывались захвачены врасплох стремительным развитием ситуации. Англичане и французы в мае 1940 г., русские в июне 1941 г. и даже немцы в Нормандии в июне 1944 г. имели все основания ожидать вражеского нападения, однако не успели адекватно подготовиться. Много было случаев такого же рода, но меньшего масштаба. Командиры, не говоря уж о младших офицерах и рядовых, никак не могли переключить свои разум и поведение на боевой режим, пока сражение из отдаленной угрозы не превращалось в непосредственную реальность, пока бомбы не обрушивались прямо им на головы. Генерал Хазбенд Киммел и генерал-лейтенант Шорт, командовавшие соответственно морскими и сухопутными силами в Пёрл-Харборе, проявили вопиющую небрежность, с этим не поспоришь, однако их поведение отражало общую проблему всей американской иерархии вплоть до Белого дома – недостаток воображения, – а в результате американский народ перенес тяжелое потрясение.
«Мы были сокрушены этим кошмаром, – писал матрос с борта авианосца Enterprise (этому судну посчастливилось не попасть под японский налет, оно вошло в гавань под вечер 8 декабря). – Один боевой корабль, Nevada, лежал поперек узкого пролива, носом к берегу, авианосец едва протиснулся мимо него. На воде пятна нефти, все еще не затухали пожары, корабли осели в придонной грязи, надстройки их сломались и обвалились. На месте взорвавшихся артиллерийских погребов зияли огромные отверстия, дым клубился повсюду». Для моряков, привыкших считать эти огромные суда непобедимыми, подобное зрелище стало величайшим потрясением: «Мы словно плакальщики на королевских похоронах»24.
Нападение на Пёрл-Харбор с ликованием приветствовали в державах оси. Японский лейтенант Изумийя Тацуро с восторгом записывал «славное известие о воздушном налете на Гавайи»25. Муссолини, не отличавшийся дальновидностью, был счастлив: американцев он, как и Гитлер, считал дураками, их страну – «нацией негров и евреев»26. Но, к счастью для союзников, уязвимости американцев на Гавайях вполне равнялась робость японцев, и в сражениях на Тихом океане все время воспроизводилась одна и та же схема: японский флот добивался заметных успехов, но каждый раз ему не хватало то ли воли, то ли ресурсов, чтобы закрепить этот успех. Адмирал Тюити Нагумо словно сам растерялся при виде успеха своего воздушного флота, уничтожившего за один налет воскресным утром пять боевых кораблей США. Много спорили о том, намеренно ли адмирал упустил возможность нанести второй удар, по цистернам с горючим и ремонтным докам. Если бы он уничтожил доки и цистерны, американский Тихоокеанский флот, вероятно, вынужден был бы отойти к западному побережью США. Однако недавние исследования показали, что адмирал тут не виноват: зимний день оказался слишком коротким, самолеты не успели бы сделать повторный вылет и возвратиться, и во всяком случае японские бомбы не имели достаточно разрушительной силы, чтобы уничтожить доки. А если бы им и удалось поджечь нефтяные цистерны, запас горючего американцы могли пополнить, направив на Гавайи танкеры из Атлантики. В итоге Нагумо сумел этим нападением испугать, травмировать и возмутить американцев, но отнюдь не подорвал их боевую мощь. Иными словами, эта операция не принесла японцам выгоды, но сильно навредила.
Много месяцев Уинстона Черчилля тревожила перспектива нападения Японии исключительно на европейские колонии в Азии: тогда Британии пришлось бы иметь дело с новым врагом, а США так и не стали бы полноценным ее союзником. Гитлера преследовал аналогичный страх, что Америка вступит в войну против Германии, а Япония останется нейтральной. Он считал, что после уничтожения России ему предстоит сражаться с Рузвельтом. В декабре 1941 г. Гитлер предоставил Японии действовать и даже надеялся, как это ни странно, что флот Хирохито сокрушит ВВС Америки. Через четыре дня после Пёрл-Харбора Гитлер довершил свою глупость, объявив войну Соединенным Штатам и тем самым избавив Рузвельта от головной боли: президент опасался, что конгресс не поддержит его желание открыто действовать против наци. Джон Стейнбек писал другу: «Это нападение, даже если оно принесло противнику тактический выигрыш, обернулось для него поражением, поскольку страна объединилась против общего врага. Но мы потеряли много кораблей»27.
В 1941 г. Ladies Home Journal опубликовал поразительную серию портретов американцев всех социальных слоев под общим заголовком «Как живет Америка»28. Вплоть до декабря отдаленная угроза войны практически не затрагивала существование этих людей. У кого-то были финансовые проблемы, некоторые даже считали себя бедными, но большинство было вполне довольны своей участью, и тем страшнее стало потрясение, когда после Пёрл-Харбора все привычные правила были сметены, мечты разрушены, семьи разлучены. Издательница этого журнала Мэри Карсон Кукмен написала в декабре послесловие ко всей серии, напомнив о более ранних очерках и о новых обстоятельствах, в которых оказалась страна: «Война меняет условия жизни повсюду. Но народ Соединенных Штатов – замечательный народ: просто удивительно, насколько люди нетребовательны. Они дорожат тем, что у них есть, а ради того, о чем мечтают, готовы упорно работать, не ждут и не просят, чтобы им это дали даром. Мы довольствуемся тем, что имеем, но улучшения должны наступить, обязаны наступить – и они наступят»29.
Как ни банально ссылаться на американскую мечту, но, кажется, Мэри Кукмен точно уловила основное настроение в стране в тот момент, когда Соединенные Штаты вступали в войну. Война обойдется Соединенным Штатам не так дорого, как остальным участникам конфликта, и вызовет экономический бум: из войны Америка выйдет гораздо более богатой, чем вступала в нее. И все же многим американцем казалось это несправедливым: чужая злоба и алчность вторглась в их добропорядочную жизнь, все порушила. Теперь и они, как прежде сотни миллионов европейцев, с тревогой и скорбью провожали родных на фронт и страшились за их участь. Миссис Элизабет Шлезингер описывала уход своего сына Тома в армию: «После Пёрл-Харбора я понимала, что это неизбежно. Я не позволяла себе относиться к этому чересчур лично. Я – лишь одна из миллионов матерей, которые любят своих сыновей и провожают их на войну, мои чувства – такие же, как у всех, а не только мои. Я приняла то, с чем мне придется жить долгие месяцы, если не годы. Том сказал: “А я думал, ты будешь переживать, провожая меня”. Он не знает ни глубины моей тревоги, ни тех бесчисленных мыслей, которые одолевают меня сейчас»30.
Большой вопрос, когда Соединенные Штаты решились бы наконец на активные действия и решились бы вообще. Говоря словами Джона Мортона Блума, «эта война не была крестовым походом. Судьба навязала ее нам в качестве жестокой необходимости»31. Население Штатов никогда не видело врага воочию. На его долю не выпали те несчастья, которые обрушились на Европу и Азию, и ни у кого не было желания разделить эти несчастья с другими народами. И хотя Day of Infamy исторг у американцев множество бурных деклараций патриотизма, в большинстве своем американцы негодовали, если им приходилось терпеть хоть малую часть тех лишений, которые выпали на долю большинства народов мира. В начале 1942 г. Артур Шлезингер инспектировал на Среднем Западе армейские базы по поручению Управления военной информации. «Мы только и слышали, что нытье по поводу рационирования бензина, довольно противно это было слышать. Многие открыто критикуют правительство»32.
Но, к счастью для союзников, руководство Соединенных Штатов проявило в этом кризисе и силу воли, и твердый разум. На встрече Рузвельта с Черчиллем в Вашингтоне в конце декабря США было подтверждено предварительное обещание, данное на переговорах между военачальниками обеих стран: США вступят в войну с Германией. С 1939 г. стратегия США как для сухопутных, так и для морских сил предусматривала вместо прежнего «Оранжевого плана» «Радужный план», в дальнейшем – «Радужный план–5» (Rainbow 5). «Радужные планы» разрабатывались на случай войны на два фронта. В армии раздавались благоразумные голоса: такую войну невозможно выиграть одними только морскими силами, понадобится сформировать и переправить за океан крупные сухопутные подразделения. Адмирал Гарольд Старк 12 ноября 1940 г. писал главе военно-морского министерства: «В одиночку Британская империя не располагает достаточным количеством людей и ресурсов, чтобы одолеть Германию. Потребуются могущественные союзники, которые могли бы поддержать ее и людьми, и боеприпасами и другими поставками». Старк предвидел вероятность того, что в случае нападения японцев англичане потеряют Малайю. Он предлагал начать блокаду Японии, которая полностью зависела от импорта и в этом отношении была крайне уязвима, а затем вести ограниченную войну на Востоке, направив на Запад достаточные наземные и воздушные силы.
Американские начальники штабов понимали, что основная угроза исходит от Германии. Хотя японцы и создали впечатляющих размеров армию и фронт, они не могли напасть на саму Америку или на Англию. Из всех англоговорящих стран в радиус потенциального действия японцев попадала только Австралия, и правительство Австралии возмутил отказ метрополии послать им существенные силы на защиту. В итоге, хотя в общем и целом США действовали согласно принципам, изложенным Старком, главенствующая роль России в победе над вермахтом (чего в декабре 1941 г. никто не предвидел) несколько изменила структуру военных приоритетов Америки. Хотя США и направили в конце концов в Европу достаточно большую армию, она оказалась намного меньше той, которую пришлось бы снарядить, если бы главную роль в одолении Германии вынуждены были играть западные союзники. Соответственно, когда к 1943 г. стало ясно, что Россия выживет и одолеет врага, американское командование сочло возможным направить крупные силы в регион Тихого океана скорее, чем собиралось прежде. Это было удобно не только стратегически, но и политически: в Америке ощущалась гораздо бόльшая ненависть к Японии, чем к Германии.
Джеффри Перрет отмечал, что Соединенные Штаты оказались не готовы к Пёрл-Харбору33, но к войне они были готовы. Это верно по крайней мере в области крупного судостроительства, которое началось заранее: через неделю после налета со стапелей американских верфей сошло 13 новых военных кораблей и 9 торговых. То были первые суда огромной армады, которая уже была запланирована и будет полностью укомплектована в ближайшие два года. Одновременно строилось 15 линкоров, 11 авианосцев, 54 крейсера, 193 эсминца и 73 подводные лодки. Тем не менее правительства Великобритании и США понимали, даже если этого не видели их народы, что придется еще долго ждать того времени, когда сухопутные силы союзников смогут сразиться с германскими армиями на Континенте. А до тех пор на протяжении многих месяцев и даже лет бремя кровавых сражений с вермахтом Россия будет нести почти в одиночестве. И если бы даже союзники отважились на высадку во Франции в качестве отвлекающего маневра, чего требовали американские начальники штабов, все равно до 1944 г. этот десант оставался бы малочисленным.
В конце концов Рузвельт и Черчилль, в отличие от части военачальников, смирились с необходимостью вести второстепенные операции, преимущественно в Средиземноморье, чтобы поддерживать в своих народах ощущение напряженной борьбы. С каждым вступающим в строй самолетом усиливаются бомбардировки Германии. Но Восточный фронт остается основным театром войны, и приоритетной задачей считается материальная помощь России. Вплоть до 1943 г. объем отгружаемых СССР ресурсов был не так уж велик, но и Вашингтон, и Лондон готовы были на любые меры, лишь бы Сталин не заключил сепаратный мир. Страх, как бы русские не потерпели поражение или не вступили в переговоры с Гитлером, преследовал союзников вплоть до конца 1942 г.
Тем временем на востоке Япония перехватила инициативу и развернула превосходящие силы на земле, на море и в воздухе. «Мы, японцы, – обращалась ко всем солдатам Хирохито брошюра, выдаваемая им перед отправлением на войну против западных империй, – наследники 2600 лет славного прошлого, ныне отблагодарим за доверие, оказанное нам Его Величеством Главнокомандующим, поднявшись на борьбу за свободу азиатских народов и свершив великое и благородное дело, которое изменит ход мировой истории. На наши плечи ложится долг свершить реставрацию Сёва[12], дабы сбылась воля его Императорского Величества даровать мир всему Дальнему Востоку и освободить Азию». Японцы уничтожили часть американского Тихоокеанского флота и наконец-то осуществили свою давнюю мечту – вырвали у американцев Филиппины и смогли овладеть богатыми природными ресурсами Голландской Ост-Индии (современной Индонезии), британских колоний Гонконга, Малайи и Бирмы. За пять месяцев они сломили довольно слабое сопротивление на местах и основали собственную империю. То была самая кратковечная империя в истории, и все же японцам удалось, пусть ненадолго, завладеть огромными пространствами азиатского материка и тихоокеанских островов.
9. Краткое торжество Японии
1. «Уверен, вы справитесь с этими недомерками»
Многие японцы приветствовали вступление своей страны в войну, видя в этом единственную возможность «вырваться из вражеского окружения». Писатель Осаму Дадзай, например, «так и рвался искрошить бесчувственных, зверских американцев»1. Однако даже общество, в котором жил Осаму Дадзай, не было монолитно единым в своих убеждениях. Генерал-лейтенант Курибаяси Тадамити – может быть, потому, что он провел два года в Соединенных Штатах – в письме жене выражал глубокую озабоченность вступлением Японии в войну со столь сильным противником: «Промышленный потенциал у них огромный, народ энергичный, изобретательный. Нельзя недооценивать боевую мощь Америки». Восемнадцатилетний Хатиро Сасаки поверял свои сомнения дневнику: «Сколько человек погибает на этой войне действительно трагической смертью? Уверен, под маской трагической смерти зачастую прячется смерть комическая. Комическая смерть – не жизнерадостная, но страдание безо всякого смысла»2. Хатиро сразу осознал свою обреченность и записался в пилоты-камикадзе, не желая бежать от судьбы. Да и не убежишь – «сиката на гай». Этот молодой человек, глубоко презиравший японских милитаристов, перед тем как уйти на смерть, уговорил младшего брата поступить на факультет естественных наук: будущих ученых не призывали, и таким образом хотя бы у этого мальчика оставалась надежда на спасение.
Таким же фаталистом и противником войны был Хаяси Тадао. Его дневник полон записей, не скрывающих отвращения к собственной стране. «Япония, почему я не могу любить и уважать себя? – задается вопросом Хаяси. – Я должен разделить судьбу своего поколения, сражаться и умереть. Мы отправляемся на поле боя без права выразить свое мнение, критиковать, взвешивать за и против и анализировать эту великую трагедию»3.
Поскольку в 1941–1942 гг. Япония без особого труда преодолевала слабое сопротивление европейских колоний, у обеих сторон сложилось преувеличенное представление о военной мощи армии Хирохито. Как у Германии не хватило бы сил одолеть Советский Союз, так и Япония не смогла бы осуществить завоевания в Азии, если бы союзники не допустили ее первых побед. Но это, как многое другое, становится ясно задним числом, а не тогда, 70 лет назад, в разгар японских побед.
До декабря 1941 г. европейские события не отражались на привычном образе жизни колониальной Азии, ленивой, разморенной и избалованной. На Филиппинах, подмандатной территории США, военфельдшер лейтенант Ирлин Блэк, как и тысячи ее соотечественников, наслаждалась светской жизнью и комфортом в окружении множества слуг: «По вечерам мы переодевались к ужину в длинные платья, а мужчины в смокинги с камербандами[13]. Жили по строгому этикету. Даже в кинотеатр надевали вечерние платья»4. Другая медслужащая, двадцатипятилетний лейтенант Хетти Брэнтли из Техаса, и вовсе не приняла войну с японцами всерьез: «Это казалось шуткой; старшая медсестра говорила в столовой: “Ешьте печеньице, девочки, подкрепляйтесь, пока до нас японцы не добрались!” И мы веселились, мы были счастливы и не думали о войне»5.
Также и в принадлежащем британцам Сингапуре европейские резиденты уподоблялись в глазах чешского инженера Вала Кабуки «современным помпеянцам»6. Война шла уже два года, а 31 000 белых среди 5-миллионного китайского и малайского населения продолжали тешить себя имперскими иллюзиями. Приезжим леди для изучения необходимого минимума местных слов предлагался разговорник под названием «Малайский для госпожи» (Malay for Mems). Разговорник состоял из команд для прислуги: «Натяните теннисную сетку», «Проводи госпожу», «Стреляй в этого человека». В 1941 г. новоприбывшие солдаты, особенно австралийцы, возмущались тем, что их в это колониальное общество не включают. Индийцев и вовсе не пускали в один вагон с британцами и тем более не принимали в клубы. Хайдарабадский полк взбунтовался из-за того, что вступившего в связь с белой женщиной офицера-индийца хотели отправить домой. Офицера оставили в покое, а историю замяли, но взаимное недовольство нагнеталось7. Леди Дайяна, жена британского министра Даффа Купера, с аристократическим презрением писала о претенциозности британских колонистов – «вульгарных, легкомысленных и мужицки-помпезных»8. Но и ее восторги по поводу живописности Сингапура звучат не слишком-то уместно, когда с севера уже надвигалась катастрофа: «На каждой улице прямо у вас перед глазами разворачивается трудовая жизнь китаез – варят кофе, раскрашивают фонари, главным же образом кого-нибудь бреют. Не устаю бродить и наслаждаться».
В Малайе и британское военное командование, и правители проявили полную бездарность. Империя, похоже, обладала неисчерпаемым резервом военачальников, непригодных для военного времени. Главнокомандующим на Дальнем Востоке и вице-маршалом ВВС назначили шестидесятитрехлетного сэра Роберта Брук-Попэма, в недавнем прошлом – губернатора Кении. Генерал-лейтенант Артур Персиваль, командовавший армией, был штабным офицером, а весь его опыт боевых действий сводился к подавлению Ирландского восстания. Губернатор Малайи сэр Шентон Томас 8 декабря, когда японцы начали высадку на севере, обратился к генералам со словами: «Уверен, вы справитесь с этими недомерками».
Наверное, его презрение к японцам только возросло бы, если бы генерал почитал инструкцию солдатам, отправляемым на Малайю: им давали интимные советы, как избежать запора и изжоги, как с помощью дыхательных упражнений уберечься от морской болезни. «Помните, что в темном, раскаленном трюме корабля армейские лошади не жалуются на свою участь». И к японскому солдату был обращен призыв: «Когда высадишься на сушу и вступишь в бой, вообрази себя мстителем, который наконец-то сошелся лицом к лицу с убийцей своего отца».
Хотя британские и колониальные войска были дислоцированы в северной Малайе как раз в ожидании японского десанта из Сиама, здесь вторжение оказалось таким же потрясением и сломом привычных представлений, как и Пёрл-Харбор. Любое общество, захваченное докатившейся до него волной насилия, поначалу не верит, что такое могло произойти, даже если очевидная логика вопиет о неизбежности нападения. Когда перед рассветом 8 декабря первые бомбы упали на Сингапур, австралийский механик машинного зала Бил Рив спал на койке на борту стоявшего в порту миноносца Vendetta. Судно только что отбыло свою вахту, несколько месяцев тяжелых боев в Средиземноморье. Услышав взрывы, Рив подумал, что ему снится кошмар о недавних сражениях: «Я сказал себе: “Повернись на другой бок, придурок!”»9 Но тут рядом так грохнуло, что моряк осознал реальность. И все же, пока бомбы падали на город одна за другой, фонари на улицах горели как ни в чем не бывало.
Черчилль принял жестокое, хотя, видимо, неизбежное решение сосредоточить лучшие силы империи на Ближнем Востоке. На защиту Малайи было отряжено всего 145 самолетов – 66 Buffalo, 57 Blenheim и 22 Hudson. И беда не столько в том, что большинство этих моделей успели устареть, а в безусловном превосходстве японских пилотов, с чьим проворством и боевым опытом пилоты союзников не могли и равняться. Когда японцы начали высадку у Кота-Бару, реакция защитников совершенно не соответствовала ситуации. Прошло несколько часов, прежде чем местные командиры ВВС осознали необходимость нанести ответный удар по вражескому флоту. Когда же британские и австралийские самолеты поднялись в воздух, они вместе с береговой артиллерией причинили противнику существенный урон – более тысячи японцев выбыло из строя. И не все десантники показали себя героями. Один японский офицер описывал, как группа нижних чинов инженерных войск запаниковала под английскими бомбами10. Не дожидаясь приказа, они ринулись в моторные лодки и удрали в открытое море по направлению к Сайгону.
Но под конец первого дня сражения британский воздушный флот в северной Малайе сократился вдвое, примерно до 50 боеспособных самолетов. Многие старшие офицеры, а также наземные бригады действовали неэффективно: пилоты истребителей Buffalo, которые поднялись наперехват атакующим японцам, с ужасом обнаружили, что начальники оружейного склада не позаботились зарядить их пулеметы. С аэродрома в Куантане сотни техников бежали в панике. «Как же так? Они же сахибы», – с изумлением вопрошал своего командира индиец-водитель из Королевского Гарвальского полка11. Они застали пустые здания аэродрома, повсюду было разбросано оборудование, личные вещи, теннисные ракетки, мусор. Юный лейтенант гневно отрезал: «Не сахибы, это австралийцы». Но чистокровные британцы тоже бежали. Некоторые индийские подразделения смешались в панике, командира сикхского батальона, вероятно, прикончили его собственные подчиненные, прежде чем обратиться в бегство. «Мы познали, на что способен противник, – с презрением писал японский офицер. – Мы боялись одного: достаточно ли он оставит нам боеприпасов и много ли успеет разрушить перед отступлением»12.
И сразу же начались расправы. Трое английских летчиков совершили вынужденную посадку в Сиаме и были арестованы местной жандармерией. Их выдали японцам, и японский вице-консул сказал сиамскому судье, что эти люди «виновны в убийстве японцев и уничтожении японской собственности». Всех троих отвели на ближайший пляж и обезглавили. Прежде, особенно в Русско-японскую войну 1905 г., японцы проявляли милосердие к побежденным, однако новая власть воспитала в армии культ беспощадности, мало чем отличавшийся от первобытного варварства. Еще в 1934 г. военное министерство опубликовало брошюру, в которой война воспевалась как «отец творения и мать культуры. Для государства так же естественно и необходимо сражаться за первенство, как человеку – бороться с трудностями». Только теперь западные союзники узнали, как это новое немилосердное мировоззрение сказывается на участи пленных.
Легкий линкор Repulse покидал гавань Сингапура вместе с линкором Prince of Wales, отправляясь на поиски японских десантных кораблей. На корме большого судна организовали танцы. Это зрелище напомнило Диане Купер легендарный бал у герцогини Ричмонд накануне битвы при Ватерлоо: «Словно вновь вижу бал в Брюсселе»13. Отойдя от берегов восточной Малайи, капитан Уильям Теннант сказал экипажу: «Мы двинемся на север, сделаем, что сможем, врежем, кому сумеем. Будьте начеку… Наша старая галоша себя покажет… Всем надеть или иметь при себе спасательные жилеты, хотя я и не думаю, что с кораблем что-нибудь приключится – мы же везунчики». И ровно в полдень 10 декабря японские самолеты потопили Repulse и Prince of Wales, а с ними ушел на дно и престиж Британской империи в Азии. Единственное утешение англичанам – мысль, что обреченные погибли как герои. Уилфрид Паркер, новозеландец, капитан Prince of Wales, оставался со своими людьми, отказавшись бежать и спасаться. Британский пилот, наблюдавший с воздуха, как сотни моряков цеплялись за обломки в залитой нефтью воде, писал с восхищением: «Они все махали мне, оттопырив большой палец, словно купались в Брайтоне. Я видел тот дух, который выигрывает войны»14. Правда, немногие спасенные потом признавались, что грозили летчикам кулаками, выкрикивая дразнилки: «ВВС – Вовсе не Видно Сук!» («RAF – Rare As Fucking Fairies!»).
В джунглях на севере Малайи британские подразделения все чаще перехватывались быстро перемещающимися японцами. Первый (он же Четырнадцатый) Пенджабский полк, укрывавшийся в машинах во время тропического ливня, внезапно атаковали вражеские танки – не было времени даже разгрузить противотанковые орудия. «Вдруг я увидел, как мои грузовики несутся прочь по затопленной дороге, услышал адский грохот сражения, – писал командир отряда, лейтенант Питер Грир. – Шум был ужасный, и почти сразу же мимо меня с ревом проехал средний танк. Я едва успел укрыться. Двух минут не прошло, и следом прикатило еще с дюжину средних танков. Они прорвались прямо сквозь наш передовой отряд. Я видел один из своих бронетранспортеров, его хвост горел, а второй номер палил из легкого пулемета по танку в двадцати метрах от меня. Несчастный сукин сын»15.
Немногие уцелевшие пенджабцы разбежались, и собрать их вновь не удалось. Та же участь постигла батальон гуркхов-новобранцев: 30 человек погибло в первом же бою, всего 200 человек спаслось, сохранив оружие, большинство попало в плен. Офицеру запомнился «хаос и полная растерянность, небольшие группы индийцев и гуркхов, одни, без командиров, палили во все стороны, никто не понимал, что происходит, и снаряды британской артиллерии часто ложились среди своих»16. Некоторые подразделения, в особенности батальон шотландцев из полка Аргайла и Сазерленда, покрыли себя славой, но эти индивидуальные подвиги не могли спасти положение, поскольку японцы, столкнувшись где-либо с сопротивлением, тут же обходили противника с флангов, просачиваясь сквозь джунгли, которые англичане считали непроходимыми.
Дафф Купер, британский министр-резидент на Дальнем Востоке, в письме Черчиллю так отзывался о командующем вооруженными силами в Малайе Артуре Персивале: «Хороший, достойный человек… спокойный, рассудительный, даже умный. Но общая перспектива ускользает от него, он ведет себя как на учениях в Олдершоте: выучил правила, добросовестно им следует и все ждет свистка судьи, сигнала прекратить огонь – ему главное, чтобы на тот момент его войска оказались в безупречном порядке и его за это похвалили»17. Помимо ограниченного мышления Персиваля неблагоприятными для британской обороны факторами стали плохо налаженная коммуникация и уже знакомый нам недостаток организованности. Радио смолкло, телефонные кабели были перерезаны, и во многих подразделениях вернулись к сигналам рожка. Японцы почти безраздельно господствовали на море и в воздухе. Наткнувшись на упорное сопротивление в центре Малайи, в Кампаре, генерал Томоюки Ямасита попросту провел еще один десант с моря и таким образом обошел позиции британцев. Англичане не знали, как обороняться от дерзких японских танков – не имелось под рукой даже коктейля Молотова. Три дивизии Ямаситы, сражаясь с превосходящими силами противника, проявили такую энергию и такой агрессивный напор, на который их оппоненты не были способны. Торжествующий генерал сочинил стихотворение:
В этот день солнце сияет вместе с луной, Стрела покинула лук, С ней мой дух летит на врага, С нами сотни мильонов душ, Мой восточный народ. В этот день нам светит луна, И солнце тоже светит.Черчилль оправдывался тем, что война в джунглях гораздо привычнее для японской армии. Три дивизии Ямаситы действительно приобрели боевой опыт в Китае, но в Малайе они впервые вошли в джунгли. В Китае они использовали конный транспорт, а теперь пересели на велосипеды. В каждой дивизии помимо 500 машин появилось 6000 велосипедов. На жаре шины часто лопались, и потому в каждой роте трудилась команда из двух человек, менявшая в среднем по двадцать шин ежедневно. Если пехоте преграждали дорогу, она шла в обход, пересекала на машинах и велосипедах реки и джунгли. Японские солдаты по двадцать часов в день жали на педали, у каждого на багажнике груз весом четверть центнера. Даже старый подполковник Ёсуке Йокояма, командир инженерного полка, ехал на велосипеде – приземистый, полный, катил, обливаясь потом, вслед за передовыми отрядами пехоты, проверял, что британцы успели разрушить, и чинил переправы – специально с этой целью армия везла с собой передвижные лесопилки. Захваченные ими запасы провианта японцы называли «поставками Черчилля».
«Рубеж Джитры каких-нибудь 500 человек прорвали за пятнадцать часов»18, – пренебрежительно сообщал полковник Масанобу Цудзи. В этом бою, согласно его отчету, японцы потеряли только 27 человек убитыми и 83 ранеными. Противник отступил, оставив победителям богатые трофеи: с полсотни полевых орудий, столько же тяжелых пулеметов, 300 грузовиков и бронемашин и провиант всей дивизии на три месяца. «3000 человек, в панике побросав оружие, пытались укрыться в джунглях… по большей части это были индийские солдаты».
Подразделения быстро теряли боевой дух, в особенности утратив командиров, а многие офицеры-британцы погибли при первых столкновениях. Репутация Индийской армии в Малайе серьезно пострадала, стало очевидно полное отсутствие энтузиазма в наемных войсках. Японцы с успехом применяли тактику запугивания, поднимая шум в тылу врага и вынуждая противника отступать, а то и бежать без оглядки. Мобилизация в Индийскую армию в связи с войной проводилась поспешно, английских офицеров направляли в нее после шести месяцев обучения вместо обычных тридцати, они не успевали освоить урду и, соответственно, не могли объясняться с подчиненными. Британские войска сдались – и тут обнаружилось чудовищное несовпадение двух цивилизаций. Сдавшиеся рассчитывали на милосердное обращение, как в Европе, где в этом побежденным не отказывали даже нацисты, но, к их ужасу, победители тут же приканчивали раненых, которые не могли передвигаться сами, а зачастую убивали и здоровых солдат, а также гражданских. Одному офицеру-шотландцу, прятавшемуся в джунглях, приносила еду дочка китайского учителя. Однажды она оставила ему записку на английском: «Они схватили моего отца и отрезали ему голову. Я буду кормить вас, пока смогу»19. На этой ранней стадии войны в некоторых частях армии Персиваля дисциплина рухнула. Дезертиры разграбили Куала-Лумпур. Контратаки, без которых невозможна устойчивая оборона, не имели успеха. Индийские части в основном состояли из молодых, плохо обученных солдат. Однако, хотя многих других качеств подчиненным Персиваля недоставало, они проявили отвагу и стойкость, что подтверждается большим процентом потерь среди британских офицеров: личным примером они пытались поднять дух индийских войск. Но даже такой ценой удержать солдат под ружьем не удавалось: одна индийская бригада просто целиком испарилась под вражеским натиском.
И не все чисто британские подразделения действовали лучше. 18-я дивизия явилась в Сингапур в качестве запоздалого подкрепления и тут же осрамилась. Один батальон, 6-й Норфолкский, за первые трое суток потерял шестерых младших офицеров и капитана. Хотя Ямасита располагал не такими уж крупными силами, его три дивизии числились в японской армии среди лучших, они быстро перемещались и, даже неся потери, не прекращали атаковать. Кодекс бусидо научил их относиться и к самим себе столь же беспощадно, как к врагу. Японский пилот, совершивший аварийную посадку в Йохоре, расстрелял по окружившим его из любопытства малайцам все патроны, кроме последнего, который приберег для себя.
Даже в бегстве англичане цеплялись за расовые предрассудки империи, бесстыдно бросая на произвол судьбы своих подданных-туземцев. В Пинанге глава администрации запретил пожарникам-малайцам входить в европейские кварталы для тушения пожаров после воздушных налетов и наложил вето на предложение снести несколько принадлежащих белым домов для создания противопожарной бреши. Когда с острова эвакуировались, «цветных» не пускали на корабли. Китайского судью, поднявшегося на борт, силой свели на берег, между тем погрузили автомобиль коменданта крепости. Женщина-беженка с острова говорила потом, что «невозможно ни простить, ни забыть»20 то, как эвакуировались британцы. Британский полицмейстер в Сингапуре заверял своих подчиненных-сикхов, что останется с ними до конца, – и бежал; колонисты, покидавшие Кэмерон Хайлендз, уговаривали азиатских членов местных отрядов обороны оставаться в строю – разумеется, те немедленно уволились. В Куала-Лумпур «белые» врачи оставили госпиталь на попечение коллег-азиатов. В Ипохе, центре добычи олова, молодой актер китайского театра со сцены заявил зрителям: «Британцы обращаются с империей как с собственностью и передают ее в чужие руки, словно заключив сделку»21.
Поведение британской общины в Малайе, а затем в Бирме было вполне оправданным постольку, поскольку в Юго-Западной Азии уже распространился слух об оргии изнасилований и убийств, которой сопровождалось в конце декабря падение Гонконга. Но зрелище белых господ, бегущих в панике, в одночасье разрушило миф о благом и патерналистском империализме. Расизм и эгоистический интерес правили бал. Когда на легком крейсере Durban взбунтовались китайские стюарды, капитан Питер Казалет с раскаянием писал: «Мы дурно обращались с китайцами в мирное время. И как можем теперь рассчитывать на их преданность?»22 Один из бунтовщиков выразил желание присоединиться к японской армии. Очевидец бомбежек в Сингапуре отмечал, что жертвы среди гражданских разделены и в смерти: европейцев и азиатов сваливали в разные могилы. Высокомерное отношение правителей как нельзя лучше выражает реакция губернатора Малайи на гибель верного слуги – японская бомба сразила его позади Дома правительства. Шентон Томас записал в дневник: «Очень жаль моего боя. Такая была преданная душа». Другие члены «британской семьи» не спешили принимать беженцев из Юго-Восточной Азии. Австралия изначально разрешила въезд только 50 белым и такому же количеству китайцев; Цейлон установил иммиграционную квоту 500 человек, преимущественно своих же граждан. Эти ограничения были сняты с опозданием, когда катастрофа уже разразилась.
31 января была взорвана дамба, соединявшая Малайю с островом, на котором расположен Сингапур. Ректор колледжа Раффлз – естественно, британец – услышав грохот, спросил, что там происходит, и молодой китаец Ли Кван Ю, как он впоследствии хвастался, ответил: «Это конец Британской империи»23. На протяжении 55 дней японцы продвигались в среднем на 20 км в сутки, они 95 раз вступали в бой и восстановили 250 мостов. Боеприпасы у них заканчивались, и уцелевшие британские войска (числом 70 000) человек более чем вдвое перевешивали силы Ямаситы. Но британский генерал допустил очередную ошибку: рассредоточил свои силы на защиту 120 км береговой линии Сингапура. Боевой дух этой армии был ниже низкого, когда же инженеры принялись рушить доки, паника охватила и местное население. Только теперь запоздало попытались переправить беженцев в Голландскую Ост-Индию. В гавани происходили отвратительные сцены, порожденные хаосом, паникой и насилием: дезертиры пытались прорваться на корабли. В итоге 5000 гражданских отплыли, но едва ли 1500 из них добрались до надежного убежища в Индии или Австралии. Все корабли, покидавшие Сингапур или приближавшиеся к нему, подвергались японскому обстрелу с воздуха. Пехотинец из Нортумберлендского полка описывал состояние человека, запертого в трюме корабля под огнем: «Ты словно сидишь в консервной банке, по которой колотят палками»24.
Ямасита начал высадку на остров 8 февраля под прикрытием темноты. Собранный с бору по сосенке флот из 150 лодок перевез первым заходом 4000 человек, а всего две дивизии. Англичане не позаботились установить прожектора, их артиллерия почти не потревожила десантную группу. Зато японская артиллерия сразу же сумела перебить кабель и прервать телефонное сообщение с передовыми линиями, где оборонявшиеся дрожали под проливным дождем, съежившись в окопах. Японцы стремительно рванулись вперед, и деморализованные австралийские соединения отступили. Стало ясно, что Сингапур обречен. Комендант морской базы вице-адмирал Джек Спунер с горечью писал: «В нынешних обстоятельствах виновны AIF [Australian Imperial Forces = австралийские войска], которые сразу же показали тыл, удрали и предоставили японцам возможность продвигаться, не встречая сопротивления».
Генерал-майор Гордон Беннет, командующий Восьмой Австралийской дивизией, горестно признавался одному из своих офицеров: «Мне кажется, наши люди не хотят сражаться»25. Сам он точно не хотел и поспешил сесть в самолет, который через 12 дней доставил его на родину. И если австралийцы осрамились, то ничуть не лучше зарекомендовали себя и британские части – воли к сопротивлению недоставало всем войскам под командованием Персиваля. Капитан Норман Торп из Дербиширского территориального полка, служивший с «Шервудскими лесничими», описывал странное чувство отрешенности от разворачивавшейся вокруг катастрофы: «Я был лишь самую малость взволнован и не ощущал, что это как-то затрагивает меня лично»26. Торп повел своих людей в контратаку, но обнаружил, что приказу повиновалась лишь меньшая часть солдат, и контратака сразу же захлебнулась. Командир одного австралийского подразделения наткнулся на дезертиров, которые в беспорядке бежали с передовой: они отказались подчиняться и заявили, что с них довольно. Надежды на милосердие победителей у трусов было ничуть не больше, чем у тех, кто сопротивлялся до конца. Капрал Томиносуке Цучикаге с удивлением смотрел на противника, думавшего спасти свою жалкую жизнь бездействием: «Некоторые солдаты, утратив мужество, скорчились в ужасе, присели на корточки и не вступали в рукопашный бой, дожидаясь, словно праздные зрители, его исхода. Их тоже без сожаления пристрелили или закололи штыками»27.
Черчилль обратился с патетическим посланием к только что назначенному командующему союзными силами в регионе Уэйвеллу, требуя, чтобы Сингапур отстаивали до последнего: «На этом этапе не следует думать о спасении войск или о защите населения. Борьбу следует самой дорогой ценой довести до развязки. Командующие и старшие офицеры обязаны погибнуть вместе с рядовыми. На кону честь Британской империи и британской армии. Я прошу вас не проявлять ни слабость, ни милосердие в каком бы то ни было виде. Когда русские так отважно сражаются и американцы держатся на Лусоне, репутация нашей страны и репутация нашего народа полностью зависят от вас».
Это воззвание премьер-министра наглядно отражает принципиальную разницу в мировоззрении участников конфликта и, соответственно, в том, как они сражались: Черчилль потребовал от сингапурского гарнизона такого же упорства и такой же готовности к самопожертвованию, какие чуть ли не ежедневно проявляли немцы, японцы и русские, но те действовали под страхом жестокой кары. Пусть Малайя потеряна, Черчилль хотел по крайней мере создать вдохновляющую на подвиги легенду о том, как защитники колонии бились до конца. Но западная демократия не взращивает подобную самоотверженность. Вечером 9 февраля командир австралийской бригады заявил Персивалю: «По гражданской профессии я врач. Когда я вижу, что руку не спасти, я ее ампутирую, но, если болезнь распространилась на весь организм, не поможет никакая операция – пациент умрет. Так обстоит дело и с Сингапуром. Нет никакого смысла сражаться, чтобы продлить агонию»28. Некоторые английские, индийские и австралийские солдаты показали примеры личного мужества, защищая Малайю, но эти подвиги не могли предотвратить общего распада. И мало кто из офицеров счел нужным призывать своих людей к жертвам: ведь и так было понятно, что на этот призыв никто не откликнется.
В Сингапуре, как ни на каком другом участке боев, проявилось разительное несовпадение двух концепций войны: героического видения премьер-министра, призывавшего империю сражаться до последнего человека, и характерного для рядовых отсутствия веры. Солдаты Персиваля не ждали ничего хорошего ни от своих командиров, ни от самих себя. Если бы Черчилль лично явился к ним, они могли бы ему сказать, что прежде, чем призывать их гибнуть за Малайю, следовало бы подобрать компетентных офицеров и снабдить части в Малайе оружием получше, прислать им на помощь пару сотен современных истребителей, отдыхающих на британских аэродромах. А так – пусть Черчилль сражается не на живот, а на смерть, они умирать не хотят. И доминионы также не собирались пускать в ход крайние меры для восстановления дисциплины в своих войсках. Несколько австралийских дезертиров с оружием в руках пробились на борт отплывавшего корабля. В Батавии их арестовали; британское командование настаивало на расстреле. Премьер-министр Австралии Джон Кёртин тут же напомнил Уэйвеллу, что смертный приговор гражданам Австралии должен быть санкционирован Канберрой и что Канберра на это не пойдет. Даже в этот тяжелейший для империи момент англичане проявляли ту щепетильность, которая входит в плоть и кровь человека, воспитанного на «западных» ценностях, но сейчас она лишь осложняла положение союзников.
В Сингапуре сентиментальные хозяева часами стояли в очередях к ветеринару, чтобы гуманно усыпить своих питомцев, прежде чем спасаться самим. Над городом висел черный дым, горели нефтеналивные баки, военная полиция прикладами ружей отгоняла обезумевших пьяных солдат от последних отбывавших кораблей. В рапорте британского командования вся вина возлагалась на австралийцев: «Они вели себя как скоты»29. Но это скорее попытка найти козлов отпущения. На последней встрече Уэйвелла с губернатором Малайи – перед тем как Уэйвелл вылетел на самолете в Батавию, – он повторял беспрестанно, молотя себя кулаком по колену: «Этого не должно было произойти»30. Японцы приближались к городу, убивая, насилуя, увеча – их злодеяния сделались рутиной. В госпитале Александра двадцатитрехлетний пациент слышал, как враги движутся к его палате, расстреливая, добивая штыками, и успел подумать: «Двадцати четырех мне никогда не исполнится. Бедная мама». Он оказался в числе четырех выживших, поскольку при виде залитого кровью тела японцы решили, что с этим солдатом покончено. 320 мужчин и одна женщина погибли в той больнице, многих медсестер изнасиловали. Группа из 22 австралийских медсестер успела бежать из города, но уже на одном из принадлежавших голландцам островов попала в плен. Их вывезли в открытое море, чтобы там расстрелять из пулеметов, и единственная уцелевшая из этих женщин запомнила последние слова своей начальницы Ирэны Драммонд: «Выше голову, девочки! Я вами горжусь и всех вас люблю»31.
Персиваль капитулировал и сдал Ямасите Сингапур 15 февраля. Фотография английского майора Уайлда в мешковатых шортах, в шлеме набекрень, который вместе с генералом плелся под британским флагом на переговоры к японцам, стала одним из символов той войны: символом косорукой и тупоголовой некомпетентности тех самых людей, которым была вверена восточная часть Британской империи. Вместе с Сингапуром Персиваль сдал репутацию британской и индийской армии, о чем и предупреждал его Черчилль. Японцам понадобилось всего десять недель на эту грандиозную победу, и обошлась она им лишь в 3506 погибших, причем половина жертв пришлась на битву за Сингапур. Британская армия потеряла 7500 убитыми, 138 000 человек попали в плен, среди них половину составляли индийцы. Один из индийских офицеров, капитан Прем Сагхал, после того как на его глазах убили белого командира подразделения, пришел к выводу: «Падение Сингапура окончательно убедило меня в том, что британцев постигло вырождение»32. Сагхал счел, что поведение имперских властей лишило их права претендовать на лояльность индийцев. Другой индийский офицер, Шахнаваз Кхан, возмущался тем, что его люди были переданы японцам будто скот33. Японцы сразу же начали вербовать пленных в создаваемую ими Индийскую национальную армию, и добровольцы нашлись. Авторитет империи держался на мифе о ее непобедимости, но этот миф рухнул.
Другой военнопленный, лейтенант Стивен Эббот, описал захваченный Сингапур, через который его и его товарищей провели по пути в наспех построенный концентрационный лагерь: «Повсюду картины чудовищного разрушения. Перевернутые грузовики, велосипеды, коляски, мебель – все это валялось в глубоких воронках от бомб или просто на проезжей дороге и на тротуарах. Зияющие дыры в стенах зданий обнажали перед всем миром трагическое нутро брошенного жилья. Голые тела и гротескно искореженные части тел покоились там, где настиг их свинец. Влажный воздух был пропитан омерзительным запахом. Туземцы – китайцы, малайцы, индийцы – стояли, ошеломленные, перед своими разбомбленными домами, детишки в страхе цеплялись за юбки матерей. С каждого здания, сохранившего хоть какие-то очертания, красным шаром свисал японский флаг… Я всматривался в японских солдат, мимо которых нас вели. Это с ними мы сражались и теперь они стали нашими господами? В своих лохмотьях вместо мундиров они выглядели неухоженными детьми, но эти дети взяли над нами верх и были весьма склонны поиздеваться над побежденными»34.
Для сингапурцев, вдруг убедившихся – после ста лет колониального режима – в непрочности имперского правления, в одночасье все переменилось. Восемнадцатилетний сын китайского аристократа Лим Кин Сью писал: «Перед нами открылся новый мир. Из легкой, ленивой, легкомысленной жизни нас вдруг бросило в безумные кувырки и перевороты, от которых нам долго не опомниться»35. Другой восемнадцатилетний китаец, студент колледжа Раффлз Ли Кван Ю, думал примерно о том же, глядя, как солдаты империи шагают в плен: «Три дня подряд они ковыляли по дороге мимо нашего дома, бесконечный поток растерянных людей, не понимающих, что произошло и почему и зачем они вообще явились в Сингапур»36.
Торжествуя победу, генерал-майор Имаи, глава штаба императорской гвардейской дивизии, заявил попавшему в плен генерал-майору Индийской армии Билли Кею: «Мы, японцы, покорили Малайю и Сингапур. Скоро мы завладеем Суматрой, Явой и Филиппинами. Австралия нам не нужна. По-моему, Британской империи пора соглашаться на компромисс. Что вам остается?» Кей дерзко ответил: «Мы сумеем вас прогнать. А потом мы захватим вашу страну. Вот что мы сделаем». Японец счел это пустой похвальбой, поскольку в Малайе британские войска так плохо показали себя. Ямасита и его приближенные отпраздновали победу, расстелив белую скатерть и выставив дары императора – сушеную каракатицу, каштаны и вино.
Полковник Масанобу Цудзи, один из самых ярых милитаристов в японской армии, с презрением взирал на британских и австралийских пленников – на солдат, которые так быстро смирились с поражением: «Они усаживались на обочине, курили, болтали, довольно громко кричали. Как ни странно, они не проявляли враждебности даже взглядом, скорее спокойное признание неудачи, словно они проиграли спортивный матч. Эти солдаты выглядели как люди, отработавшие за приличное жалованье по контракту, а теперь они отдыхали после боевых тревог»37.
Член парламента Гарольд Николсон записал в дневнике: падение Сингапура «стало тяжелым ударом для всех нас, и причина не только в непосредственной угрозе: страшит мысль, что мы с недостаточным энтузиазмом сражаемся против тех, кто фанатично идет до конца». Это опасение вполне разделял и Черчилль. Слабое сопротивление британцев в Малайе возмущало его не только потому, что любое поражение оскорбительно, но и потому, что японцы ценой малых жертв захватили огромную территорию. 20 декабря 1941 г. он добавил к стратегическому предписанию для англо-американского руководства слова: «Принципиально важно, чтобы победы не доставались врагу по дешевке, чтобы он вынужден был вкладываться в каждое свое завоевание и расходовать силы на продвижение, пока не исчерпает все ресурсы». И то, что свои же войска не выполнили этот приказ, точило и уязвляло гордость премьер-министра. «Нам не раз уже приходилось усомниться в боевых качествах наших солдат, – писал генерал сэр Джон Кеннеди, руководитель операций Военного министерства. – Они проявляли меньшее упорство, чем немцы и русские, а теперь их превзошли и японцы!.. Мы, как народ, оказались мягче всех наших противников, за исключением итальянцев… Современная цивилизация демократического образца не укрепляет в народе жесткость и жестокость, а мы чуточку дальше продвинулись от стадии варварства, чем Германия, Россия и Япония»38.
Масанобу Цудзи, который впоследствии написал несколько книг о великих победах Японии, был главным вдохновителем террора и геноцида в Малайе. Порой высказывается мнение, что смертный приговор, вынесенный после победы союзников Ямасите за военные преступления, был не вполне справедлив, но при этом генералу даже не вменили систематическое истребление китайцев – а это происходило в Сингапуре в пору его военного правления. Ямасита как-то раз произнес речь, в которой заявил, что его сородичи произошли от богов, а европейцы – от обезьян. Британский расизм теперь вытеснялся в Юго-Восточной Азии японским. Новый режим, установленный Токио, отличался чудовищной жестокостью, на которую изгнанные империалисты, при всех их недостатках, были не способны.
Отношение к военнопленным определилось с самого начала и дальше становилось только хуже. Гонконг пал в Рождество 1941 г., захватчики отпраздновали победу оргией насилия и резни, терзали медсестер и монахинь, раненых на койках пронзали штыками. Такие же точно сцены разыгрывались на Яве и Суматре, крупнейших островах Голландской Ост-Индии, которые после падения Сингапура достались японцам. И на этих новых территориях японская армия продолжала ту брутальную традицию, которую установила в Китае, – извращение всех понятий о мужественном и воинственном духе, тем более отвратительное, что японцы возвели беспощадное насилие в принцип. Солдаты всех наций на любой войне совершают преступления против человечности, но главный вопрос в том, считается ли варварская жестокость нарушением устава и норм или же она поощряется и даже провоцируется начальством. Японская армия принадлежала ко второй категории.
На Яве подполковник Эдуард Данлоп, хирург из Австралии, построил своих людей для инспекции. Досмотр проводил лейтенант Сумийя. Это было 19 апреля:
«Я приблизился к японскому офицеру и взял под козырек. К моему изумлению, он размахнулся и врезал мне в челюсть. Я чуть не грохнулся, хорошо, успел слегка голову отвернуть и ослабить удар. Лейтенант Сумийя выхватил меч и тигриным прыжком метнулся к моему горлу. Рефлексы боксера помогли мне уклониться от острия, но рукоять меча с тошнотворным чавканьем врезалась мне в горло, так что я не мог сделать вдох, не то, что заговорить. Солдаты возмутились и двинулись мне на помощь. Охранники взяли винтовки наизготовку, нацелили штыки на безоружных людей. Запахло резней. Левой рукой я подал своим людям сигнал: “Ни с места!” – и, обернувшись к напавшему на меня офицеру, холодно и формально поклонился. Я так и остался стоять по стойке смирно, и ярость полностью затмила во мне страх, когда Сумийя взмахнул мечом у меня над головой – аж ветер засвистел в ушах – и громко завопил»39.
Данлопу и его людям предстояло еще не раз переносить избиения и другие издевательства. За годы в плену тысячи британцев умерли от голода и болезней. Австралийский хирург в эти страшные годы стал героем, праведником в мире. И если бы защитники Малайи могли предвидеть, какую цену они заплатят за поспешную капитуляцию, может быть, эта локальная война приобрела бы иной оборот.
Сразу же после захвата Сингапура японцы ринулись в Ост-Индию, к нефтяным месторождениям, которые и были основной стратегической целью этой кампании. С острова Палау флот отчалил к Сараваку, Борнео и Яве. Десантников прикрывали многочисленные военно-морские силы, а войска западных союзников были слабы, деморализованы и плохо организованы. В воздушных боях над Явой 19 февраля японцы уничтожили 15 вражеских истребителей. 27-го числа союзная эскадра в составе двух тяжелых и трех легких крейсеров, а также девяти эсминцев под командованием голландского адмирала Карела Доормана попыталась атаковать приближавшийся к Яве конвой с десантом. Конвой прикрывали два тяжелых крейсера, два легких и четырнадцать эсминцев. В 16:00 противники заметили друг друга и открыли огонь. Первые залпы не причинили особого ущерба ни той, ни другой стороне: наводка была неточной. Из 92 торпед, выпущенных японцами, цели достигла только одна, потопившая голландский эсминец. Осколок попал в котельное отделение крейсера Exeter, и судно поспешило укрыться в гавани Сурабайя. В 18:00 американские эсминцы вышли из боя, расстреляв все торпеды.
Второе столкновение, после наступления темноты, обернулось для союзников катастрофой: от прямого попадания торпед затонули голландские крейсеры De Ruyter и Java, адмирал Доорман погиб вместе со многими своими подчиненными. Perth и Houston ускользнули, но сутки спустя основной флот вторжения захватил их в Зондском проливе и расправился с обоими кораблями. 1 марта Exeter и два сопровождавших его эсминца попытались прорваться к Цейлону, попали в ловушку и тоже погибли, а один голландский и два американских эсминца пропали на пути к Австралии. Так за неделю на дно океана отправилось десять кораблей и более 2000 моряков. От флота союзников в регионе Ост-Индии практически ничего не осталось. Голландские и английские сухопутные войска продержались еще неделю, а затем японцы полностью овладели Ост-Индией. На какой иной исход можно было рассчитывать, когда японцам удалось развернуть здесь заведомо превосходящие противника силы?
2. «Белый путь» из Бирмы
Раззадоренные своим триумфом в Малайе, завоеватели, не теряя времени, ринулись в британскую Бирму – отчасти чтобы захватить нефть и природные ресурсы, отчасти с целью перекрыть проходивший через Бирму путь в Китай. Первые бомбы упали на столицу Бирмы Рангун уже 23 декабря. В маленьком домике на Спаркс-стрит сын индийского машиниста Касмира Рего играл на скрипке «Тихая ночь, святая ночь», его сестренка Лина клеила гирлянды из цветной бумаги, а родители отправились на рождественские закупки. Внезапно на эту предпраздничную идиллию обрушился грохот пикирующих самолетов и пулеметного огня. Взрывались бомбы, взметнулось пламя пожаров, началась паника40.
Акушерка-бирманка Доу Сейн позднее вспоминала, что, хоть и слышала о большой войне, толком не знала, кто с кем воюет, а тут ее муж вбежал в кухню и закричал: «Пошли! Скорее! Надо выбираться отсюда!»41 Они выбежали из дома и пробежали полпути до вокзала, прежде чем женщина осознала, что она полураздета. Муж оторвал подол своей юбки-лоунджи и отдал ей, чтобы она могла прикрыть грудь. В таком виде они влезли в первый же поезд на Моулмейн (Моламьяйн). Поезд был забит такими же беженцами. Проехав сколько-то километров, он остановился и несколько часов стоял, а внутри томились люди – грязные, потные, голодные, отчаявшиеся. Наконец вдоль путей прошел какой-то человек, прокричал: «Моулмейн уничтожен! Бомбы падают повсюду! Поезд дальше не пойдет». Короткий возбужденный спор – и Доу Сейн с мужем двинулись пешком на север по дороге в Мандалай.
В следующие дни воздушные налеты продолжались, а продовольственное снабжение прекратилось. Многие жители Рангуна превратились в мародеров, они проникали в брошенные дома в поисках съестного. Однажды после визита мародеров семья Рего недосчиталась младшего сына Патрика. Старшие братья бросились на поиски. Прочесывая улицы, они наткнулись на фургон, груженный трупами и отрезанными конечностями. Из-под этого завала какая-то женщина кричала: «Я жива! Вытащите меня!»42 Но сверху на нее навалили еще трупы, и фургон укатил. Откуда ни возьмись, вернулся Патрик, целый и невредимый, но эта женщина, придавленная горой трупов, долго еще мерещилась им.
В Бирме империя рассыпалась так же быстро и бесславно, как и в Малайе. Многие индийцы ушли в джунгли или двинулись на запад, в их числе были и принадлежавшие к низшей касте уборщики, которые чистили туалеты своих белых владык и подметали улицы. Губернатор, сэр Реджинальд Дорман-Смит, с огорчением убедился, что без этих всеми презираемых людишек сахибам приходится несладко: «От уборщика зависит наша жизнь. Пока это смиреннейшее из человеческих существ делает свое дело, мы сохраняем чистоту и здоровье, без него падем жертвами грязи и болезней»43. Гражданская администрация рухнула сразу же, не сильно отстала от нее и военная: за февраль – март японцы полностью овладели страной. Рядовой 7-го гусарского полка Роберт Моррис, высадившись в Рангуне, попал в хаос: «Мы ничего не видели, кроме огней пожара – горела разлитая нефть. Большое количество оборудования, даже самолеты с маркировкой “Ленд-лиз в Китай из США”, лежали в ящиках, дожидаясь, чтобы их собрали. Мы изумились при виде бесконечного ряда грузовиков, приготовленных для отправки в Китай. Порт был покинут и разграблен»44.
Дорман-Смит оказался еще одним образчиком выродившихся проконсулов. Он горестно изумлялся: как это после столетнего британского правления в Бирме не привилась любовь к империи, подобная той, которая якобы существовала у других покоренных народов. На этот вопрос служащий гражданской администрации Джон Клэг не затруднился ответить: «Мы, европейцы, жили в мире, где большая часть населения никак не присутствовала в наших мыслях и чувствах. Ни один бирманец не состоял членом джиканы [спортивного клуба] в Моулмейне. Их никогда не приглашали ни к ужину, ни к завтраку»45. И теперь было отдано распоряжение приберечь эвакуационный транспорт только для белых, индийцев и бирманцев не брать.
Главнокомандующий британскими силами на Дальнем Востоке сэр Роберт Брук-Попэм вполне разделял пессимизм Дормана-Смита. Более того, он докладывал, что многие туземцы откровенно выражают свои симпатии к японцам: «Весьма огорчительно после стольких лет управления Бирмой, когда благодаря нашим усилиям здесь достигнут существенный прогресс, обнаружить, что большинство населения предпочло бы от нас избавиться… Полагаю, что в связи с этим имеет смысл присмотреться к трем обстоятельствам. Во-первых, среди англичан наблюдается тенденция [sic] кичиться заведомым превосходством перед всеми представителями цветных рас, не давая себе труда подумать, всегда ли это превосходство обосновано. Во-вторых, мы не достигли взаимопонимания и взаимной симпатии с бирманцами… В-третьих, большинство англичан, находящихся в Бирме не по службе, куда более интересовались собственным обогащением, чем благом туземцев»46.
Пожалуй, и сами бирманцы не сумели бы красноречивее изложить пункты обвинения. Из трех бирманцев, занимавших должность премьер-министра с момента отделения этой колонии от Индии, двое были арестованы англичанами за попытки сближения с Токио. Была выявлена группа студентов-националистов, проходивших обучение у японцев и заранее строивших коллаборационистские планы. Если бы кому-нибудь пришло в голову провести в Бирме референдум, предоставив электорату выбирать ту или иную сторону в конфликте, со всей очевидностью больше голосов набрала бы Япония. Генерал-майор сэр Джон Смит, только что назначенный командующим 17-й Индийской дивизией, базировавшейся к югу от Моулмейна, позднее вспоминал, с какой готовностью бирманцы помогали противникам англичан: «[японцы] не только получали информацию о любом нашем передвижении – их снабжали проводниками, плотами, пони, слонами и всем прочим, чего нам никто не давал по дружбе и лишь с огромным трудом удавалось раздобыть это за деньги»47.
Ми Ми Кхаин, двадцатипятилетняя бирманка, учившаяся в Рангунском университете, с горечью писала о том, как ее народ ввергли в чужую для него войну, даже не удостоив притвориться, будто интересуются его мнением. Ее страна, писала Ми Ми, всего за полвека до того утратила суверенитет и еще не успела получить взамен какие-то современные формы управления – люди чувствовали, что они «по случайности оказались на пути изголодавшегося монстра – войны»48. Случайно вышло так, что бирманский премьер-министр У Со в тот самый момент, когда произошло нападение на Пёрл-Харбор, находился в США. Зрелище охватившей страну растерянности и истерии лишь усилило презрение этого бирманца к представителям белой расы. По возвращении в Бирму У Со, как выяснилось из расшифровки радиопереговоров, делал японцам авансы – и за это был выслан в Восточную Африку. На таком фоне утверждение британцев, будто они защищают в Бирме демократические свободы, выглядело несколько парадоксальным.
Завоеватели тоже были несколько удивлены столь теплым приемом, особенно со стороны молодежи. Один из офицеров связи писал: «Мы воочию убедились, как сильна их тяга к независимости. Бирманские крестьяне толпились вокруг японских солдат, предлагали воду и сигареты. Они пытались расспрашивать солдат на английском, поскольку других иностранных языков не знали. Чаще всего интересовались, захвачен ли нами Сингапур»49. Лейтенант Тацуро рассказывал: «Я с гордостью отвечал: “Да, Сингапур наш”»50.
Первые же бомбы, упавшие на Мандалай, угодили в клуб «Верхняя Бирма», где собирались колонисты. Гость, присутствовавший на ланче, вспоминал: «Мы не успели понять, что это было. Только что мы сидели за столом, и вдруг обрушилась крыша, а стулья, еду и нас самих разметало по комнате»51. От бомбардировок начались пожары, значительная часть города выгорела. Долго лежали неубранные трупы, и тем сильнее становилось в народе презрение к беспомощным британцам. Символичной показалась и гибель цветов, насаженных белыми, – символичной и в то же время вполне объяснимой: садовники сбежали. Хозяева «Корпорации Бирма» умыли руки и заявили, что ничем не могут помочь своим туземным работникам.
Просили прислать подкрепление, но Уэйвелл, находившийся на Яве, 22 января телеграфировал в Рангун: «У меня нет резервов. Не понимаю, почему с вашими силами вы боитесь не удержать Моулмейн. Уверен, у вас все получится. Сам характер страны и ее ресурсов препятствует продвижению японцев». Японцы высадили в последние дни января десант из Сиама, всего две дивизии. Некоторые индийские части оказали мужественное сопротивление, однако местное ополчение – Бирманские стрелки – тут же и рассыпалось. Ни артиллерией, ни воздушным флотом колония не располагала, так что Джон Смит мог лишь яриться в бессильном гневе на вышестоящее начальство, требовавшее удержать беззащитный Моулмейн. Первая катастрофа в этой кампании произошла перед рассветом 23 февраля у реки Ситаун в 130 км от города. Заслышав в темноте приближение японцев, британские инженеры взорвали мост, и две бригады оказались отрезанными на восточном берегу. Спаслась лишь жалкая горсточка солдат, почти все вынуждены были сдаться. Это был тяжелый удар для бирманской армии и со стратегической точки зрения, и с моральной.
Лейтенант Джон Рэндл из Белуджийского полка занимал позицию к западу от реки Салуин. Японцы зашли с тыла. «Я послал гонца, трубача нашего взвода, к командиру, предупредить, что нас окружают японцы. Они уже подошли вплотную, и мы услышали, как наш трубач закричал, когда его убивали штыками и мечами. Японцы перебили всех раненых»52. В этой схватке батальон Рэндла потерял 289 человек убитыми и 229 пленными. Рэндл осознал: «Мы презирали япошек, считали их людьми третьего сорта, кули. Господи боже, горько же нам пришлось поплатиться за свое высокомерие. Японцы сражались отважно и свирепо. Мы-то понятия не имели, как вести войну в джунглях – ни тебе брошюр с инструкциями, ни тебе военной доктрины. Мы и так-то не были обучены, а тут еще совершенно неординарная задача»53.
К марту Рангун превратился в город-призрак. Немногочисленные оставшиеся полицейские и маленький гарнизон пытались как-то бороться с мародерами. Какой-то отпор воздушным налетам давали только американские пилоты-истребители из группы добровольцев Клэра Шенно – их перебросили в Бирму из Китая. Долго продержаться такая оборона не могла. Британский офицер связи У. Эбрахамс рапортовал из Рангуна: «Невозможно передать общую атмосферу поражения в Рангуне. По сравнению с этим даже атмосфера штаб-квартиры в Афинах перед эвакуацией покажется веселой»54. Уэйвелл, возмущенный «пораженчеством» своих генералов, сместил и бирманского главнокомандующего, и Смита, больного, пытавшегося повести остатки своей дивизии в бой, который он считал заведомо проигранным. Британское правительство обратилось к премьер-министру Австралии с просьбой вернуть два австралийских подразделения, которые только что были отпущены с Ближнего Востока домой, и направить их в Бирму. Кертин отказал и был, разумеется, прав: даже эти опытные и храбрые солдаты не смогли бы переломить ход уже обреченной кампании.
Уэйвелла терзали воспоминания о том, как Черчилль в 1941 г. бросил ему в лицо обвинение в недостатке веры, в пораженчестве, а затем сместил его с поста главнокомандующего войсками на Ближнем Востоке. Теперь в Юго-Восточной Азии он хотел показать себя «человеком из стали» и от подчиненных требовал того же. «Боевой дух бирманских войск недостаточно высок, – доносил он в Лондон. – И причина, как я совершенно убежден, в отсутствии поощрения и вдохновения свыше». Свыше или не свыше, но британские войска на Дальнем Востоке находились в столь запущенном и деморализованном состоянии, что в разгар японского вторжения остановить распад уже не представлялось возможным. В очередном рапорте в Лондон Уэйвелл, по-видимому, признает этот факт: «Меня удручает отсутствие боевого духа в войсках: они не проявили его в Малайе и до сих пор не обнаруживают и в Бирме. Ни британцы, ни австралийцы, ни индийцы словно бы не обладают ни физической, ни душевной выносливостью. Корни этой проблемы глубоки, они уходят в прошлое по меньшей мере на 20 лет: недостаточно жесткая подготовка в мирное время, расслабляющее влияние климата и атмосферы Востока». Уэйвелл зачастил в Рангун. Один историк сравнил его с «врачом с Харли-стрит, навещающим при смерти больного, черный портфель зажат под мышкой»55.
5 марта генерал-лейтенант сэр Гарольд Александер явился принять командование. Все, что мог сделать «Безупречный Алекс», любимый командир Черчилля, это осенить своим неизменным личным шармом и ясностью духа уже привычную рутину поражения. Первым делом он запретил англичанам отступать, через 24 часа понял, что Рангун не спасти и согласился на эвакуацию. Завоеватели упустили редкую возможность поймать всю британскую армию в ловушку: один из японских офицеров снял преграждавшую англичанам путь заставу – он неверно понял приказ и решил, что должен вместе со всеми подойти к Рангуну для решительного сражения. Этот возникший по ошибке путь к отступлению позволил армии Александера уйти на север, а самому генералу избежать плена.
В отчаянии Уэйвелл принял посланные ему Чан Кайши две дивизии китайских националистов с приданными ими вспомогательными войсками. Китайцы действовали отнюдь не из чистого альтруизма: в северной Бирме продвижение японцев перекрыло «Бирманский путь», по которому в Китай поступало снабжение из США, и Китай был кровно заинтересован в восстановлении этого маршрута поставок. Уэйвелл сомневался, принимать ли помощь от Чан Кайши, главным образом потому, что эти войска не имели собственной системы снабжения и собирались жить за счет местного населения. Кроме того, требовалось решить вопрос, кому эти дивизии будут подчиняться. Американский генерал Джозеф Стилуэлл считал себя их главнокомандующим, на что китайский генерал Ту Луминь в разговоре с губернатором Бирмы Дорман-Смитом возразил: «Американский генерал лишь воображает, будто он командует, а на самом деле ничего подобного. Мы, китайцы, поняли: единственный способ иметь с американцами дело – позволить им покомандовать на бумаге. Особого вреда они не причинят, ведь всю работу выполняем мы!»
Стилуэлл, заклятый англофоб, после первой встречи с Александером 13 марта так и кипел. В дневнике он записал с характерными для него ошибками и столь же характерной горечью: «Удивился, что я, жалкая личность, чортов америкашка, командую китайскими дивизиями. Вазмутительно! Смотрел на меня словно на червяка!» Стилуэллу придали конный отряд британских пограничников для разведывательных операций. Командир этого отряда капитан Артур Сэндмен из Центрально-Индийского кавалерийского полка, стяжал сомнительную славу, став последним британским офицером, погибшим в кавалерийской атаке. Наткнувшись на японских пулеметчиков, капитан выхватил саблю, велел трубачу просигналить к бою и ринулся на врага, обрекая себя и своих спутников на неизбежную гибель.
Вмешательство китайцев побудило японцев также усилить армию вторжения, состоявшую до тех пор всего из двух дивизий, и послать морем в Рангун подкрепление. Британские войска были реорганизованы в корпус под командованием Уильяма Слима, умного и практичного офицера гуркхов, который в итоге оказался лучшим британским генералом за всю войну. 24 марта японцы нанесли китайцам сильный удар на севере. Чтобы отвлечь на себя силы противника, британцы попытались перейти в наступление, но японцы взяли верх на обоих фронтах. Бирманский корпус, погибавший на восточном берегу Иравади, звал тех же китайцев на помощь. Стилуэлл имел все основания выплеснуть на англичан свое презрение. 28 марта он записывал: «Британские солдаты взбунтовались в Енанджауне. Уничтожают нефтяные поля. ГОСПОДИ БОЖЕ. За что мы воюем?» Но, к изумлению и Стилуэлла, и англичан, китайская дивизия во главе с одним из лучших своих командиров Сун Личеном добилась пусть и маленькой, но существенной победы, потеснив японцев. И хотя войска Британской империи были почти истреблены в боях на Иравади, Слим после этой битвы проникся величайшим уважением к солдатам Личена, благодаря которым Бирманский корпус был спасен от полного уничтожения.
Тем не менее удерживать долее Бирму союзники не имели возможности. Японцы убедились, что китайцы сражаются храбрее и энергичнее колониальных войск, но и китайцы вынуждены были вскоре начать отступление на север, до самого Китая: преследовавшие их японцы на границе остановились. Стилуэлл, весьма дурно обращавшийся с состоявшими под его номинальным командованием китайцами, теперь их бросил и отправился на запад с горсточкой американцев, в том числе корреспондентов, взяв с собой всего двух китайцев. Они две недели продирались сквозь джунгли, пока не добрались к 20 мая до Имфала в принадлежавшем британцам Ассаме. Здесь, в безопасности, Стилуэлл писал: «Нам задали адскую трепку. Это было адски унизительно. Нужно понять, отчего так вышло, и вернуться». Слим к 30 апреля переправил своих людей через Иравади, а затем отступил на запад по следам дезертиров и мародеров, успевших изрядно запугать местное население. 3 мая Бирманский корпус начал под огнем японцев переход через реку Чиндуин – границу между Бирмой и Индией. Взвод бирманских стрелков, охранявших штаб-квартиру Слима, погиб в эту ночь. Большую часть войска удалось переправить, однако почти весь транспорт и крупные орудия – «2000 грузовиков, 110 танков и сорок пушек» – пришлось оставить на восточном берегу. А на той стороне уцелевших ждал не слишком теплый прием. «Отношение [в Индии] к нам, вышедшим из Бирмы, было чудовищное, – вспоминал капрал Уильям Норман. – Всю вину за поражение свалили на нас»56.
Японцы прошли Бирму насквозь за 127 дней, преодолели 2700 км со средней скоростью 50 км в день, провели 34 сражения. Англичане потеряли 13 000 человек убитыми, ранеными и пленными, а японцы – всего 4000. По масштабам эта катастрофа уступала малайской, тем более что Слим руководил отступлением достаточно умело. Тем не менее теперь к японцам перешли все владения англичан в Юго-Восточной Азии, и они стояли у врат Индии. Один житель тех мест изумился при виде белых военнопленных, принужденных работать наряду с туземцами: «Мы всегда смотрели на белых снизу вверх, но японцы открыли нам глаза: вот они метут пол рядом со мной, босиком»57. Однажды сделав это открытие, азиатские страны его уже не забудут. И еще одна потеря: почти на три года закрылся путь в Китай через Бирму.
Насильственное переселение мирных жителей стало еще одной жуткой приметой этой войны в разных уголках мира, который яростно выдирали друг у друга воюющие армии. Мало кто из бирманцев бежал от приближавшейся японской армии: в большинстве своем туземцы не страшились завоевателей, а напротив, рассчитывали на их милости. Когда только что набранная Армия обороны Бирмы промаршировала через Рангун под благосклонным взглядом мобилизовавших эти отряды японцев, один из горожан с восторгом писал: «Какое прекрасное зрелище – бирманские солдаты и офицеры в форме и с разнородным оружием, какое кому досталось, с трехцветными повязками на рукавах, с торжественным выражением лиц»58.
Однако в Бирме проживал без малого миллион индийцев – одни господствовали в торговле, другие выполняли грязную работу, столь необходимую сахибам, но отвратительную на взгляд бирманцев. Местные националисты индийцев не любили и боялись. Удирая от победоносных японцев, британцы и пальцем не шевельнули, чтобы помочь сотням тысяч полностью зависевших от них людей. Разумеется, белые господа были слишком озабочены собственным спасением. Но, так или иначе, англичане вновь поступили вопреки подразумеваемому «кодексу империи»: покоренные народы в обмен на служение белым господам рассчитывали на их защиту и покровительство. Беженцы побогаче покупали авиабилеты или бронировали каюты на отправлявшихся в Индию кораблях. Бирманские индийцы с горечью прозвали путь по реке Чиндуин «белой дорогой», потому что ею фактически пользовались только англичане и евразийцы. Пыхтя вверх по реке, пароходы проплывали мимо плывших вниз по реке трупов – несчастных индийцев, погибших на «черном пути» по суше.
Те, кто не мог купить себе билеты на пароход – спасение за деньги, – брели по дорогам и тропам на север и на запад, в Ассам. Май – сезон муссонов, дождь и грязь преграждали путь и счастливчикам в автомобилях, и босоногим беднякам. По дороге их грабили, зачастую насиловали. За крошку еды они платили вдесятеро. Они умирали от дизентерии, малярии, лихорадки. На паромах и контрольно-пропускных пунктах алчные полицейские вымогали последние рупии. Никто не считал, сколько индийцев погибло весной и летом 1942 г. на пути в Ассам, но жертв было не менее 50 000, а возможно, и намного больше. Их скелеты белели вдоль дорог еще долгие годы к стыду англичан, которые вернулись в страну и вновь проходили тем же путем. У Таргум Хилл на пути в Ледо офицер в поисках отставших солдат набрел на мертвую деревню:
«На росчисти кривились обветшалые хижины, где ютились и умерли вместе целые семьи. Я обнаружил мертвого ребенка в объятиях мертвой матери. В другой хижине – труп еще одной женщины, погибшей в родах, дитя так и не вышло из ее чрева. Более 50 человек умерло только на этой росчисти. Некоторые набожные христиане втыкали в землю маленькие деревянные кресты на том месте, где остались умирать, другие скелеты сжимали в костяных пальцах фигурки Девы Марии. А вот скелет солдата в пилотке: его хлопчатобумажный мундир истлел, но шерстяная пилотка все так же браво сидит на ухмыляющемся черепе. Прожорливые джунгли успели поглотить часть хижин, скрыли скелеты, обратили их в прах и плесень»59.
Среди беженцев было много католиков смешанной расы из португальского Гоа. Таможенный офицер Жосе Салдана много дней шагал через джунгли с семнадцатилетним сыном Жорже (остальных членов семьи удалось отправить на корабле, забитом насмерть перепуганными беженцами). По пути отец и сын терпели чудовищные лишения, а однажды, на привале в джунглях, пережили райские мгновения: девушка по имени Эмили Крус пела им, «ее голос, прекрасный и чистый, плыл в тишине ночи, распевая “Бледно-голубое платье” (Alice Blue Gown)»60. Потом Жорже одолела дизентерия. Он попросил отца идти дальше, оставив его под деревом в джунглях. Несколько часов спустя юноша заметил поблизости женщину из племени Нага – охотников за головами. Страх помог ему превозмочь слабость, и Жорже вновь пустился в путь. Он брел на северо-запад, поддерживая в себе силы ягодами: поскольку эти ягоды ели обезьяны, мальчик решил, что они безвредны и для человека. Однажды Жорже увидел стаю бабочек чудесной красоты – очарованный, он подошел ближе и с омерзением понял, что они питаются жидкостью, сочащейся из разложившегося трупа. В конце концов Жорже повезло: он перешел границу, оказался в безопасности, нашел родных. Далеко не все оказались такими счастливчиками. В долине Хуконг мальчики из католической школы наткнулись на тело своего директора Лео Менензеса: слабое сердце не выдержало долгого перехода.
Но и добравшись до Имфала, остававшегося под контролем Британии, беженцы-индийцы, как и индийские солдаты, не могли рассчитывать ни на размещение в человеческих условиях, ни на медицинскую помощь. Располагая богатейшими ресурсами субконтинента, власти не считали нужным позаботиться о самых элементарных нуждах жертв войны. Даже племена качин и нага больше сделали для беженцев, чем англичане. Служащий пароходной компании на реке Иравади, добравшись до лагеря в Ассаме – пришлось переваливать через горы, – услышал от распоряжавшегося там британского офицера, что ему как человеку смешанного англо-индийского происхождения полагается питаться в отведенной для индийцев столовой. В больницах беженцев ожидали чудовищные условия. Англичанка, инспектировавшая госпиталь в Ранчи, с горечью писала подруге в Англию (подруга была замужем за министром Р. Э. Батлером): «Это напоминает кадры из “Унесенных ветром”: несчастные лежат на циновках вплотную друг к другу, тщетно молят хоть о капле воды, их рвет – и так повсюду. Это страшное преступление, и да поразит Господь вечным проклятием Восточное командование»61. В нескольких лагерях уже свирепствовала холера.
Разбитая армия Александера восстанавливалась медленно и без энтузиазма; понадобится два долгих года, чтобы она смогла взять верх в столкновении с японцами. Самого Александера между тем перевели командовать британскими силами на Ближнем Востоке. Воспоминания о страшной бирманской весне и о жертвах того поражения глубоко засели в душе каждого, кто стал свидетелем этих событий. Лидер партии Индийского конгресса Джавахарлал Неру, сидя в индийской тюрьме, куда заточили его англичане, с презрением отозвался о капитуляции Бирмы и бегстве колониальных чиновников, бросивших сотни тысяч соплеменников Неру на произвол судьбы: «Несчастье Индии в этот переломный исторический момент заключается в том, что она не только состоит под чужеземным правлением, но и это правление некомпетентно и неспособно должным образом организовать оборону страны и позаботиться о безопасности и основных потребностях людей»62. Справедливый приговор. Крах британского могущества в Юго-Восточной Азии стал для империи не только поражением, но и позором. Уинстон Черчилль хорошо это понимал.
10. Маятник фортуны
1. Батаан
«Мы не сможем победить в этой войне, пока она не превратится в общенациональный крестовый поход во имя Америки и американской мечты»1, – писал репортер The New York Times Джеймс Рестон в книге «Прелюдия победы» (Prelude to Victory), ставшей бестселлером. Война уже сделалась в полном смысле мировой, но реакция американского народа, оказавшегося внезапно втянутым в этот конфликт, была поначалу очень похожа на поведение англичан в сентябре 1939 г.: благие намерения и путаница в головах. Многие с энтузиазмом записывались на курсы первой помощи, наиболее популярное пособие на эту тему разошлось тиражом 8 млн экземпляров, старшеклассники вырезали из дерева и клеили модели вражеских самолетов для уроков военной подготовки. Граждане сдавали кровь и собирали металлолом, отели Майами и Атлантик-сити размещали рекрутов. В этот суровый для отечества час решено было на время отказаться от охоты и рыбалки, а также от производства мячей для тенниса и гольфа. Процветали гадалки, выросла продажа шашек, карт мира и кулинарных книг. Залы кинотеатров были набиты битком, в том числе и потому, что у людей завелась свободная денежка в кармане: в 1942 г. число зрителей вдвое превысило аудиторию 1940 г. Даже заключенные Сан-Квентина вызвались работать на победу, и им поручили изготавливать заградительные сети против подводных лодок.
Экономическая мобилизация Америки ошеломляла наблюдателей из более бедных и не склонных к такому размаху стран. Особенно сказывалось участие крупных индустриальных компаний. Даже наиболее образованные британцы не догадывались, насколько велики, можно сказать, неисчерпаемы ресурсы Соединенных Штатов. «Разворачивается масштабная мобилизация, – писал английский маршал авиации Джон Слессор из Вашингтона начальнику генштаба ВВС сэру Чарльзу Порталу в апреле 1941 г. – Сейчас они набрали уже два миллиона и планируют призвать еще столько же. С кем они собираются сражаться такими силами, как будут переправлять такое количество солдат, я понятия не имею и сомневаюсь, стали бы они вести себя подобным образом, если бы внимательно проанализировали всю совокупность своих оборонных мероприятий и стратегических планов»2.
Но скептики были посрамлены событиями, происходившими с 1942 по 1945 г. После Пёрл-Харбора генерал-лейтенант Фредерик Морган, основной разработчик планов Дня «Д» с британской стороны, отзывался об американцах так: «Они твердо решили, что это будет величайшая и наилучшим образом осуществленная кампания»3. Примерно о том же писал другу в Госдепартаменте секретарь Американо-Азиатской ассоциации: «Война будет долгой и тяжелой, но, когда она завершится, о Дядя Сэме будет говорить весь мир»4. Федеральный бюджет США взлетел с $9 млрд в 1939 г. до $100 млрд в 1945 г., и за тот же период ВВП вырос с $91 млрд до $166 млрд. Уровень промышленного производства вырос на 96 %, появилось 17 млн новых рабочих мест; 6,5 млн женщин пополнили трудовую армию США в период с 1942 по 1945 г., а средняя зарплата у них выросла более чем на 50 %; удвоился объем продаж женской одежды. Директивы, принимавшиеся во имя этой широкомасштабной мобилизации, играли на руку крупным корпорациям и магнатам промышленности, и те процветали. Антимонопольное законодательство было на время отменено под давлением военных нужд: на долю ста основных компаний Америки, которые в 1941 г. производили 30 % всего национального продукта, к 1943 г. приходилось 70 % ВНП. Правительство забыло свою неприязнь к монополистам: лишь бы поставляли танки, самолеты, корабли.
Шла величайшая в мире война, и все менялось в соответствии и пропорционально этим событиям: в 1939 г. в Америке было всего 4900 супермаркетов, но в 1944 г. – уже 16 000. К концу 1944 г. личные накопления среднего американца почти удвоились по сравнению с декабрем 1941 г. Предметы роскоши, напротив, оказались в дефиците, и потребители толком не знали, как потратить возросшие доходы. «Люди ошалели от денег, – рассказывал ювелир из Филадельфии. – Им все равно, что купить. Покупают, лишь бы деньги израсходовать»5. К 1944 г. производство потребительских товаров в Британии сократилось на 45 % от довоенного уровня, а в США меж тем оно возросло на 15 %. Во многих регионах недоставало жилья, подскочила арендная плата, потому что миллионы людей, направленные для работы на военные заводы или мобилизованные, не знали, где разместиться.
«Миф о Славной войне, – писал Артур Шлезингер, работавший в ту пору в Управлении военной информацией, – воспевает счастливую пору общенационального единства во имя благой цели. Большинство американцев признавали необходимость этой войны, однако и от низменных мотивов не отступались. Мы в Вашингтоне наблюдали изнанку Славной войны. Видели, как жадные собственники заводов противились переходу на оборонную продукцию, а потом уступали настояниям правительства, рассчитывая получить после войны какие-либо привилегии. По нашим сведениям, каждая восьмая компания нарушала Закон о предельных ценах. Мы нагляделись на то, что малоизвестный сенатор от Миссури [Гарри Трумэн] назвал проявлениями “алчности, мошенничества, халатности, грабежа”. Война от всех требовала жертв, но зараза “кидалова” распространялась повсюду. Тыловая жизнь представляла собой довольно-таки постыдное зрелище, в то время как молодые американцы погибали в разных уголках мира»6.
Одно из самых подлых мошенничеств, раскрытых в ту пору: крупнейший военный подрядчик, Кливлендская национальная компания алюминиевых и бронзовых сплавов (National Bronze and Aluminum Foundry Company of Cleveland), сознательно продавала металлолом под видом двигателей для истребителей. Четверо руководителей компании угодили за решетку. Американская компания по производству патронов в Сент-Луисе (US Cartridge Company of St Louis) выпускала миллионные партии бракованных боеприпасов – солдатам на фронте это мошенничество могло стоить жизни. Гражданское население приобретало недоступные законным образом товары на черном рынке, многие компании ускользали от ценового контроля. Один американец с горечью замечал, что Европа оккупирована, Россия и Китай сражаются с вражескими полчищами, Британия подвергается бомбежкам, а США, единственная страна среди великих держав, «ведет войну только в своем воображении». Пёрл-Харбор, давнишний расизм и слухи о японских жестокостях способствовали тому, чтобы американцы возненавидели своего азиатского противника, но вплоть до конца войны американцы не чувствовали той вражды к немцам, которая была так свойственна европейцам, – они даже на Гитлера не могли толком рассердиться за преследования евреев. Военный историк Форрест Пог позднее с изумлением отзывался об армии Брэдли во Франции: «Эти ребята не проявляли желания воевать. Их никак не расшевелить было, пока немцы не подстрелят кого-то из их товарищей»7. Профессор Норман Майер из Мичиганского университета – бихевиорист, известный наблюдениями над крысами, – считал, что более эффективным стимулом сражаться для американцев будет лишение бензина, шин и гражданских свобод, апелляция же к идеалам тут не поможет8. Но это уж чересчур цинично – многие люди проявили в ту пору искренний патриотизм, да и мужество многих американцев подтверждалось на поле боя. Однако верно и то, что из-за отдаленности Соединенных Штатов от основных театров войны, отсутствия угрозы непосредственного нападения на страну или даже серьезных для нее трудностей, в народе не вспыхивала та страсть, которая воспламеняла граждан других государств, страдавших в оккупации или под бомбежками.
После Пёрл-Харбора политическое и военное руководство США сознавало, что им, как прежде британцам, придется пройти через поражения и унижения, прежде чем народ соберется с силами и даст отпор японскому милитаризму. О враге знали и понимали очень мало даже те, кому предстояло сойтись с ним лицом к лицу. «Внезапно до нас дошло, что мы абсолютно ничего не знаем о япошках, – вспоминал Фред Мирс, служивший на авианосце. – Мы слыхом не слыхали об их самолетах Zero. Какого уровня их авиация, их пилоты? Насколько силен японский флот? Какие сражения нам предстоят и где? Мы были до ужаса неподготовленными»9.
Многие американцы давно уже поняли необходимость вступления в войну. Но так происходит в любом конфликте: пока не засвистят пули, не начнут тонуть корабли и погибать близкие или по крайней мере боевые товарищи, даже профессиональные вояки не распаляются гневом и нетерпением. «Поразительно, как много времени нам понадобилось, чтобы сориентироваться и начать реагировать быстро и по делу, – вспоминал американский моряк Элвин Кернан. – Постепенно мы осваивали войну – прежде всего как состояние духа, а потом уж как все остальное»10. Эрни Пайл на собственном опыте убедился: «Очевидно, такой стране, как Америка, требуется примерно два года, чтобы полностью втянуться в войну. Нужен переходный период, когда мы прощаемся с прошлой жизнью и начинаем жить новой, военной, живем ею так долго, что она превращается для нас в норму»11.
Тем удивительнее, что уже через полгода после Пёрл-Харбора американский флот одерживал победы, изменившие ход войны в Азии. Германия к тому времени четыре года господствовала в Западной Европе, но японский периметр удалось к осени 1942 г. продавить. Продвижение американцев в регионе Тихого океана вскоре выявило неисцелимую слабость противника. Однако сначала американцам пришлось перенести тяжелые удары. В недели после 7 декабря 1941 г. японцы успели захватить Уэйк – правда, при первом натиске атаковавшие понесли тяжелые потери. Генерал Дуглас Макартур, возглавлявший оборону Филиппин, остановил командиров своего воздушного флота, которые предлагали нанести ответный удар. За десять часов после налета на Пёрл-Харбор ответные меры не были приняты – и японцы уничтожили прямо на земле без малого 80 американских самолетов.
На следующий день Макартур начал запоздалую подготовку к эвакуации американских и филиппинских частей на Лусон (полуостров Батаан), который, как представлялось, было бы удобнее оборонять. Однако быстро перебросить большие запасы провианта и боеприпасов было непросто. До начала боевых действий генерал отвергал подобные предложения, считая их проявлением «пассивности». Теперь армия спешно закупала рис у китайских торговцев, а на местных консервных заводах – столько тушенки и фруктов, сколько удавалось раздобыть. 12 декабря Макартур, также с опозданием, уведомил президента Кесона о предстоящей дислокации, а 22-го приступил к исполнению плана. Врачи предупреждали, что на Батаане свирепствовала малярия, поскольку там обитали комары – переносчики этого заболевания, однако лекарствами запасаться не стали. Манила каждый день подвергалась бомбардировкам на протяжении часа, ровно с полудня до 13:00; американские офицеры вынуждены были перенести время ланча на 11:00.
Макартур ожидал, что японцы высадятся на южной оконечности залива Лингаен, и соответственно разместил свои войска, однако японские силы вторжения смели плохо обученный и толком не вооруженный заслон филиппинцев и высадились у залива. К 22 декабря 14-я армия генерал-лейтенанта Масахару Хомма в количестве 43 110 человек укрепилась на надежном плацдарме. Из-за неисправности торпед лишь одной американской подлодке удалось провести успешную атаку на перевозившие десант корабли. Еще 7000 японцев, не встретив сопротивления, высадились в Леймон-бэй, в 350 км к юго-востоку от основной группировки. Филиппинская армия вскоре рассыпалась. Командующий воздушным флотом генерал Льюис Бреретон, лишившись большой части самолетов, благоразумно перебазировался в Австралию. Макартур в своем коммюнике фанфаронил: «Мои доблестные дивизии мужественно обороняются, отражая врага от священных берегов Филиппин. Мы нанесли противнику серьезный урон, и ему нигде не удалось надежно закрепиться. Завтра мы сбросим его в море».
На самом деле японцы продвигались к Маниле, не встречая серьезного сопротивления. В Вашингтоне главы штабов благоразумно отказались от самой идеи посылать подкрепления. Только в одном Макартуру повезло: японцы хотели первым делом захватить столицу и потому не помешали его отступлению на Батаан. Фотограф Карл Миданс 2 января наблюдал из отеля Bay View, как японцы входили в Манилу: «Они въехали на бульвары в предрассветной дымке со стороны залива – на велосипедах и крошечных мотоциклах. Двигались, не переговариваясь, стройными колоннами, в затихшем городе только и раздавался казавшийся смешным треск одноцилиндровых мотоциклов»12. Неделю спустя Хомма провел первую атаку на линию обороны американцев и филиппинцев, проходившую поперек полуострова Батаан. Оборонявшиеся без особого труда отразили и это, и последующие нападения, хотя и несли большие потери от бомбежек с воздуха. Они также страдали от жары и голода, ведь на довольствии оказалось 110 000 человек: 85 000 американских и филиппинских солдат и 25 000 гражданских. Инженерный корпус направили в поля собирать и обмолачивать рис. Неподалеку от берега ловили рыбу ставными неводами, но неприятельская авиация их уничтожила. Резали скот. Как и предупреждали врачи, разразилась эпидемия малярии. Медсестра Рут Страуб писала в дневнике: «Мы все живем как военнопленные – стараемся выжить, и больше ничего»13.
Но у защитников Батаана энергии и предприимчивости оказалось больше, чем у британской армии в Малайе: все попытки японцев высадить десант в тылу противника заканчивались полным уничтожением этих отрядов. Одно такое подразделение было отброшено на утесы Кинауана. «Десятки японцев, разрывая на себе мундиры, с воплями прыгали вниз на берег, – записал капитан Уильям Дайесс. – Пулеметный огонь взрывал песок в поисках всего, что движется»14. Японская пехота прорвала периметр обороны и захватила два выступа возле Туола и Котара, но 26 января в кровопролитной контратаке американцы восстановили свою линию обороны. Бомбардировка причинила на удивление мало вреда американским артиллерийским позициям. Когда у кавалерийских лошадей закончился корм, они сами пошли в пищу обороняющимся. Почти вся фауна и флора Батаана отправилась в котел; собирали манго, бананы, кокосы и папайю, динамитом глушили морскую рыбу.
За февраль и март японцам не удалось продвинуться ни на шаг, но и защитники Батаана слабели от голода, к тому же закончилось основное лекарство от малярии – хинин. Макартур на патрульном торпедном катере бежал в Австралию вместе с семьей и приближенными, согласно приказу Рузвельта предоставив в последние недели обреченного сопротивления руководить генералу Джонатану Уэйнрайту. Под конец марта в больницу еженедельно поступало до тысячи заболевших малярией. В лагерях беженцев за периметром, по отзыву лейтенанта Уолтера Уотероуза, условия были «самые кошмарные, какие мне доводилось видеть, с чудовищным уровнем смертности»15. Бомбардировки уничтожили практически все постройки на крепости-острове Коррехидор, тысячи раненых и больных прятались в тоннеле Малинта.
Для тридцатилетней медсестры из Техаса, лейтенанта Берты Дворски, самым страшным в ее работе оказалось личное знакомство с людьми, которых доставляли к ней тяжело раненными: «Это были парни, с которыми мы общались в офицерском клубе, наши друзья. Тяжелейшее испытание для чувств. Никогда не знаешь, кого доставят следующим»16. Раненые часто спрашивали, выживут ли они, и врачи обсуждали, следует ли говорить в таких случаях правду17. Врач Альфред Уэйнстейн записывал: «Дискуссия продолжалась бесконечно, правильного решения никто не знал. По большей части мы выбирали средний путь: уклонялись от прямого ответа, но, если видели, что пациент не жилец, звали капеллана, чтобы тот совершил обряды, написал письмо близким, взял у умирающего то, что тот хотел оставить родным на память. Обычно говорить напрямую ничего и не приходилось»18.
Осаждавшие оказались не в лучшем положении, чем осажденные: среди них тоже свирепствовала малярия, а также бери-бери и дизентерия – более 10 000 заболевших к февралю. В Токио нарастало недовольство и упорством американцев, и тем, как в США «сага о Батаане» превращается в орудие пропаганды. 3 апреля Хомма, получив подкрепление, всей мощью обрушился на филиппинцев, проведя предварительно массированную бомбардировку. Филиппинцы в панике бежали от японских танков, при каждой попытке высунуться их громили с воздуха, многие так ослабли от голода, что едва могли выбраться из окопов. Японцы неуклонно продвигались вперед, прорывая одну линию обороны за другой. 8 апреля генерал-майор Эдуард Кинг по собственной инициативе решил сдать полуостров и направил к противнику парламентера под белым флагом. Из укрытий, обустроенных в джунглях по всему Батаану, уцелевшие группы оборонявшихся пробирались на остров Коррехидор, где еще держался Уэйнрайт.
Утром 9 апреля Кинг встретился с полковником Мотоо Накаяма, командовавшим оперативным отделом генерала Хоммы, и подписал капитуляцию. «С нашими людьми будут хорошо обращаться?» – спросил Кинг напоследок. «Мы не варвары», – напыщенно отвечал полковник. 11 500 американцев и 64 000 филиппинцев попали в руки врага. Путь этих измученных людей в концлагеря вошел в историю как Батаанский марш смерти. Филиппинцев убивали десятками ради забавы, на них отрабатывали штыковые удары. Американский солдат видел, как его ослабевшего товарища столкнули под танк. Блэр Робинетт сказал: «Теперь мы поняли, если кто раньше не догадывался, что нас ждет»19. Сержант Чарльз Кук видел, как пленных насаживали на штык, если они пытались подойти к воде. Старший сержант Гарольд Фейнер подытожил: «Упадешь – готово, ты покойник»20. Более 300 пленных филиппинцев перебили в ущелье возле реки Пантинган. Убийцы заявили, что они бы обошлись с пленными милосердно, если бы гарнизон сдался раньше, а так «мы понесли тяжелые потери, вы уж нас извините». Согласно подсчетам, марш смерти унес жизни 1100 американцев и более 5000 филиппинцев.
Теперь японцы сосредоточили артиллерийский огонь на Коррехидоре – острове, размером не больше Центрального парка в Нью-Йорке. 3 мая Уэйнрайт докладывал уже прибывшему в Австралию Макартуру, что все строения на острове сровнены с землей и уничтожена даже растительность. Условия в нагретом, вонючем тоннеле Малинта, битком набитом перепуганными людьми, сделались невыносимыми. В ту ночь подводная лодка Spearfish эвакуировала последнюю партию, которой суждено было добраться до Австралии – всего 30 женщин и 12 мужчин. Несколько часов спустя японцы бросили морской десант на штурм Коррехидора. В полдень 6 мая, после двух дней боев, Уэйнрайт подписал капитуляцию от имени всех остававшихся на Филиппинах американских войск, предварительно сообщив в Вашингтон: «С глубоким сожалением и с величайшей гордостью за мои отважные войска я отправляюсь на встречу с японским командованием. Прощайте, господин президент». Находившийся в американском гарнизоне корабельный врач Джордж Фергюсон сел и заплакал «от такого разочарования в наших добрых славных Штатах»21. Однако физическое и эмоциональное истощение было слишком велико, и многие солдаты радовались тому, что сражение наконец-то закончилось. Лишь позднее они узнали, что для 11 500 военнопленных американцев главное испытание только начиналось.
Батаан и Коррехидор продержались целых четыре месяца. Погибло 2000 американцев, японцы потеряли 4000 человек. Оборона так затянулась главным образом из-за неопытности нападавших: армия вторжения была немногочисленна и не могла сравниться подготовкой и боевым опытом с теми дивизиями, которые Ямасита повел на Малайю. Если бы Хомма и его подчиненные действовали энергичнее, филиппинская сага закончилась бы раньше – в этом смысле недовольство Токио действиями своей армии было оправдано. Однако все эти соображения не умаляют героического мужества гарнизона и доблести Уэйнрайта, который исполнил свой долг куда убедительнее, чем Макартур. Уэйнрайт и его солдаты создали ту легенду, которой могла гордиться Америка и которой готов был позавидовать Черчилль. Попросту говоря, американские защитники Батаана и Коррехидора оказались более стойкими, чем британские колониальные войска в Малайе и Сингапуре, хотя тоже сражались за обреченное дело.
Бригадный генерал Дуайт Эйзенхауэр, имевший несчастье послужить под командой Макартура несколькими годами ранее, писал в дневнике: «Бедный Уэйнрайт! Он сражался, а вся слава достанется Макартуру. Как публика может принимать за чистую монету его тирады, которые мы всегда считали верхом идиотизма? Но он – герой! Так-то»22. В США комментаторы и радиоведущие выжимали из Батаанской саги каждую капельку национальной гордости, прославляли схватки на море и начавшую в Америке пока еще довольно вялую мобилизацию. Но там, на Тихом океане, никто не обманывался. Каждый солдат, матрос и летчик союзников видел, что во всех уголках этого театра войны невозбранно господствует противник. Лейтенант Роберт Келли из Третьей эскадры мотокатеров – той самой, которая эвакуировала Макартура с Коррехидора, – сказал: «В новостях изображают так, словно мы выигрываем войну. Нас от этого тошнит. Мы-то навидались этих побед. Их у нас было предостаточно – и все японские. Но, если нам удавалось хотя бы отразить атаку, заголовки газет вопили: “Победа!”»23
Келли, как и Эйзенхауэр, недооценивал важность легенды и даже мифа для поддержания духа нации в пору несчастий. Умелая пропаганда затушевывала поражения, поддерживая в гражданском населении уверенность в победе. В конечном счете Тихий океан значил для США гораздо меньше, чем для Британской империи, а созданные Рузвельтом и СМИ Батаанский эпос и культ Макартура были для народа полезны и даже ценны. Этот генерал был скорее тщеславным ничтожеством, чем достойным командиром, и особой любви не заслуживал, но его бегство с Коррехидора едва ли достойно более сурового осуждения, чем бегство британских командующих из обреченных крепостей и городов, в том числе эвакуация Уэйвелла из Сингапура. В последующие годы образ Макартура, символа американской борьбы в юго-западном регионе Тихого океана, весьма способствовал повышению боевого духа на родине, хотя реальный его вклад в поражение Японии был не столь велик. Со стратегической точки зрения оборона Филиппин не имела смысла: небольшими силами, в отрыве от своих баз, американцы не могли удержать острова. Если бы гарнизон продержался дольше, под давлением общественного мнения, быть может, была бы предпринята заведомо безнадежная попытка послать подкрепление, чтобы снять осаду с Батаана. Для американского флота помощь Уэйнрайту обернулась бы катастрофой: японцы господствовали и на море, и в воздухе. Коррехидор сдался как раз вовремя, чтобы избавить Вашингтон от этой головной боли.
С этого момента сражения в Тихоокеанском регионе редко достигали масштабов европейских. Здесь в боях участвовало сравнительно мало солдат, но в войну были вовлечены огромные пространства и большие флотилии. Основная часть сухопутной японской армии оставалась в Китае. До той поры завоевания в Азии и на островах Тихого океана давались Токио усилиями небольших подразделений, действовавших чуть ли не на половине земного шара. США, Австралия и Британия, со своей стороны, пытались отстоять свое господство на островах и в непроходимых джунглях силами двух или трех дивизий, в то время как на территории России бились сотни таких подразделений. Ключевым фактором в каждом сражении на Тихом океане было наличие поддержки с моря и с воздуха. Солдаты и моряки на обеих сторонах знали, что их пот и кровь прольются напрасно, если противник захватит господство в воздухе и перекроет морские пути поставок. В войне с Японией главной силой сделался флот Соединенных Штатов.
2. Коралловое море и Мидуэй
В январе 1942 г. японцы захватили Рабаул на острове Новая Британия и использовали его как морской и воздушный оплот. Эйфория от первых побед – «болезнь победителей», как именовали это состояние скептики в окружении Хирохито, – побудила их распространить экспансию в южном регионе Тихого океана на Папуа, Соломоновы острова, Фиджи, Новую Каледонию и Самоа. Флот уговорил армию расширить периметр империи, захватив атолл Мидуэй и Алеутские острова на севере – их также предстояло отбить у американцев. Тем самым у японцев появились бы базы, с которых можно было бы перерезать морские пути, связывавшие западных союзников с Австралией, которая оставалась теперь основным форпостом Британии и Америки в войне на Дальнем Востоке.
Еще прежде падения Коррехидора американцы осуществили операцию, которая напугала и обозлила их противников, напомнив Японии о том, как она уязвима, и тем побудив ее к еще большей агрессии. 18 апреля подполковник Джеймс Дулитл во главе эскадрильи из 16 бомбардировщиков В-25, поднявшихся в воздух с авианосца Hornet примерно в 1100 км от Японии, совершил воздушный налет на Токио. Материальный ущерб был невелик, но этот почти символический поступок имел огромное моральное значение – приободрил союзников в годину поражений. Черчилль тоже отдавал дань подобного рода театральным жестам. Японцев же этот налет убедил в необходимости как можно скорее завладеть Мидуэем, западным форпостом США в Тихом океане, который принадлежал Америке с 1867 г. Только бы адмиралу Исороку Ямамото разместить на Мидуэе свою базу – и конец подобным авантюрам.
Конечно, Япония ставила себе задачи не по силам, и в конце концов это привело к катастрофе, но Токио не видел иного способа лишить американцев возможности накопить резервы для ответного удара. Ямамото и его коллеги понимали, что Японию ждет неминуемое поражение, если она хоть на миг ослабит давление на Штаты. Единственно разумной стратегией казалось наносить западным союзникам удар за ударом, пока Вашингтон не признает превосходство японской армии и не пойдет на мирные переговоры. Главная задача ставилась перед императорским флотом: истребить американские линкоры и эсминцы.
Прежде чем напасть на Мидуэй, японцы двинулись на Папуа – Новую Гвинею и Соломоновы острова. В начале мая 1942 г. три эскадры под мощным прикрытием и с конвоем, в который входило три авианосца, направились к Порт-Морсби. Вице-адмирал Сигеёси Иноуэ, руководивший этой операцией, надеялся, что американский флот попытается его перехватить, и тогда он разделается с американцами. Десант, направлявшийся на остров Тулаги в нескольких километрах от Гуадалканала (южная оконечность Соломоновых островов), достиг цели без помех 3 мая. На следующий день эскадрилья, поднявшаяся с борта авианосца Yorktown, нанесла удар по стоявшим на рейде японским кораблям, уничтожив линкор и два меньших судна. Не такой уж и существенный ущерб, учитывая, что американцам в воздухе никто не мешал.
5 мая американский флот (в нем имелся также небольшой австралийский контингент) во главе с вице-адмиралом Фрэнком Флетчером, получив от Ultra информацию о намерениях японцев, на полной скорости двинулся навстречу основным силам Иноуэ. На рассвете 7 мая Флетчер отрядил линкоры, которыми командовал английский вице-адмирал Джек Крейс, на перехват вражеского транспорта. О местонахождении противника Флетчер имел неверные сведения: американские летчики, не обнаружив японских авианосцев, наткнулись на десант Иноуэ. Транспортные суда японцев поспешно отошли, чтобы на безопасном расстоянии дожидаться исхода боя. Крейс, поняв, что бороздит опустевший океан, также отступил. Самолеты с Lexington одержали маленькую победу, потопив небольшой авианосец Shoho. Тем временем группа авианосцев Флетчера спаслась благодаря чуду: японцы отстали от него на 300 км, собственные самолеты вылетели на задание, и в это время вражеская авиация потопила американский танкер и эсминец из конвоя, которые шли в кильватере его группы судов. Если бы бомбардировщики Иноуэ полетели дальше, они бы застигли оставшиеся без защиты американские авианосцы. Но в тот день оба адмирала наносили удары вслепую.
На следующее утро, 8 мая, с восходом солнца – в 06:55 – американские и японские матросы, томившиеся в душных трюмах авианосцев, по очереди приникали к щелям в люках и вентиляционным отверстиям, пытаясь глотнуть воздуха, а самолеты, волна за волной, взлетали с палубы. Коммодор Боб Диксон, тот самый, который накануне возглавил воздушный налет на Shoho, отличился вновь, первым обнаружив японский флот. Он завис над ним, ведя наблюдение, двигатель переключил на минимум, чтобы сэкономить топливо – для летчиков, тем более морских, это была постоянная головная боль.
Первая волна американских самолетов налетела на авианосец Shokahu. Нанесенный ущерб был значителен, но судно держалось на плаву. Большая часть торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков промахнулась мимо цели. Атака была плохо скоординирована. Пикирующие бомбардировщики столкнулись с серьезной проблемой: телескопы и ветровые стекла затуманивались при быстром снижении с 5000 до 450 м. Пилотов раздражала малая скорость их самолетов и недостаточная огневая мощь по сравнению с японской. Коммандор Билл Олт сбился с курса на обратном пути – ошибка, нередкая во время полета над безбрежным океаном и роковая для пилота. Он отправил лаконичное прощальное послание перед тем, как его поглотил океан: «Окей, ребята, прощевайте. Мы все же грохнули тысячефунтовый подарочек им на голову»24. Но Shokaku уцелел после такого подарочка. Коммодор Пол Струп, штабной офицер на борту Lexington, с огорчением признавал: «Не очень-то мы эффективно сработали»25.
Пока американцы пикировали на корабли Иноуэ, японцы нанесли гораздо более мощный удар по кораблям Флетчера. Радар предупредил о приближении вражеских самолетов, и капитаны американских авианосцев отдали приказ увеличить скорость до максимума 25 узлов и начали маневрировать, пытаясь уклониться от целой стаи торпед, от проливного дождя бомб. В Yorktown попала одна бомба, убив более 40 моряков, а от пришедшегося чуть в стороне взрыва винт двигателя на мгновение выскочил из воды. Капитан запросил машинное отделение, нужно ли снизить скорость, и услышал бойкий ответ: «Какого черта, мы справимся». Но Lexington не спас даже полный разворот через корму: авианосец водоизмещением 40 000 тонн получил несовместимые с плавучестью повреждения. «Жутко было смотреть, как японцы бросают торпеды, а потом пролетают низко-низко, проверить, что с нами делается, – вспоминал Пол Струп. – Им было любопытно, они чуть ли нам нос не показывали, а мы стреляли в них из новеньких двадцатимиллиметровок и ни в кого не попали»26. Вспыхнул пожар, древесины для него нашлось вдоволь, прекрасно горели окрашенные «противопожарной» краской переборки и деревянная мебель, которую никогда больше не станут использовать на американских военных кораблях. Полуголые матросы страшно обгорели. «Кожа буквально стекала с их тел». Это был также последний раз, когда американский экипаж обнажался перед боем. Всего через 13 минут японские бомбардировщики скрылись, и вернувшиеся с задания пилоты Флетчера застали лишь оставленные противником хаос и разрушения.
Героический экипаж Lexington пытался справиться с огнем. Милтон Риккеттс, единственный человек, уцелевший после бомбового удара в команде борьбы за живучесть, тоже был смертельно ранен, однако развернул шланг и заливал пламя, пока не рухнул мертвым. Однако вскоре, как пишет Струп, «огонь окончательно рассвирепел, и мы услышали взрывы, словно по ангарной палубе носился грузовой поезд. По периметру грузоподъемника взметнулась стена пламени»27. Просочившиеся пары бензина вызвали массированный взрыв в трюме, боеприпасы нагрелись до критической температуры, и было принято решение оставить судно. Командир, адмирал Фитч, спокойно прошел по взлетной палубе в сопровождении ординарца, который нес его мундир и корреспонденцию. Его подобрала лодка с эсминца. Следом десятками и сотнями стали прыгать в воду матросы. Спасатели действовали эффективно, и из 2735 человек личного состава пропало лишь 216, но огромный, дорогостоящий авианосец погиб безвозвратно. Yorktown также был серьезно поврежден, однако сумел принять самолеты сразу после заката. В сумраке погибших похоронили в море и стали готовиться к новому бою.
Однако на том сражение и завершилось: оба флота повернули обратно. Флетчер потерял 543 человек, 60 самолетов и три корабля, в том числе Lexington. Иноуэ лишился более тысячи человек и 77 самолетов: эскадрилья авианосца Zuikaku понесла тяжелые потери. В целом преимущество осталось на стороне японцев: их самолеты были лучше и использовались более эффективно. И все же Иноуэ отменил операцию против Порт-Морсби и ушел, оставив стратегическую победу за американским флотом. Вновь проявилась присущая японцам нерешительность: цель экспедиции была у них, можно сказать, в руках, но они не сумели воспользоваться положением. Больше им не представится такая возможность утвердить свое господство на Тихом океане.
В ходе войны американский флот проявил себя наиболее боеспособным из всех видов войск США, но и ему пришлось пройти долгий и жестокий курс обучения. Кое-кто из командовавших на первом этапе оказался недостаточно компетентен, не умел проводить операции с авианосцами, а именно такие маневры сделались основой Тихоокеанской кампании. Американские летчики никогда не давали повода усомниться в своей отваге, но поначалу их действия были менее эффективными, чем налеты противника. В Пёрл-Харборе (правда, обстреливая неподготовленную и неподвижную «мишень») японцы добились рекорда, угодив в цель 19 торпедами из 40. Этот результат не удалось превзойти никакой другой эскадрилье. Когда 3 мая 1942 г. 22 бомбардировщика Douglas Devastator, почти не встретив сопротивления, атаковали якорную стоянку у острова Тулаги, им удалось всего лишь одно попадание. Напав двумя днями позднее на авианосец Shokaku, ни один из 21 Devastator не сумел причинить ему ущерб: японцы потом свидетельствовали, что американские торпеды падали слишком далеко от судна, а в воде перемещались так медленно, что не составляло труда разминуться с ними.
Среди авиационных систем, состоявших на вооружении ВМС США, только глубинный бомбардировщик Dauntless, как показала битва в Коралловом море, вполне соответствовал требованиям современной войны: надежная и пригодная для долгих полетов машина. Devastator мало того, что был, по выражению летчиков, «индюшкой», так еще и потреблял немерено топлива. Хуже всего были воздушные торпеды Mk 13 и морские Mk 14 – ненадежные, не взрывавшиеся даже при попадании в цель. Почему-то именно в этой области американцы проявили нехарактерное для них нежелание учиться на собственном опыте, и этот недостаток, существенно снижавший эффективность операций как самолетов, так и субмарин, не был окончательно устранен вплоть до 1943 г.
Война на море, по статистике, гораздо менее опасна, чем сухопутная, для всех заинтересованных лиц, за исключением экипажей самолетов и подводных лодок. На море конфликт становится безличным: моряк почти никогда не видит лица противников. Главным образом судьба корабля зависит от умелого руководства капитана и от удачи. Матросы всех наций страдали от тесноты и спертого воздуха кубрика, изводились скукой, но опасности подвергались лишь изредка, именно что «налетами». От человека и здесь требовалось мужество и преданность, но выбор между достойным поведением и бегством рядовому не предоставлялся: то была привилегия командующих, отдававших приказы о маневрах отдельных кораблей или целого флота. Подавляющее большинство моряков, выполнявших технические функции на борту огромных боевых машин, вносили крошечный, почти незаметный вклад в общее дело истребления противника.
Операции авианосцев представляли собой самую сложную и самую ответственную разновидность войны на море. «Взлетная палуба – огромный боевой танец всех цветов, – писал моряк с борта Enterprise. – Прислуга с орудийной палубы в красных матерчатых шлемах и красных футболках подносит ленты к пулеметам, вставляет фитили в бомбы, запускает торпеды. У других свои цвета: коричневые у техников, по одному на каждый самолет; зеленый у гидравликов, которые отвечают за катапульты и стопорные механизмы; желтый у палубного диспетчера и его команды, отвечающей за сигнализацию, лиловый у владык топлива. Все это носилось со страшной скоростью, уклоняясь от стремительно вращающихся, норовящих перемолоть невнимательного пропеллеров». Американскому флоту предстоит до совершенства отточить искусство использования авианосцев, но в 1942 г. американцы были еще даже не подмастерьями в этом ремесле: их самолеты уступали по боевым качествам японским, командование еще не научилось верно определять, какое сочетание истребителей, пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев будет оптимальным для конкретной задачи. После операции в Коралловом море капитаны жаловались на недостаточное количество палубных истребителей Wildcat. И не была поставлена на должную высоту борьба за живучесть – навык, которым впоследствии более всего славились американцы.
Хотя американский флот гордился боевыми традициями, экипажи 1942 г. набирались еще в мирное время из людей, которые по большей части просто не нашли себе мирной профессии. Морской пилот Элвин Кернан писал:
«Многие матросы, как я сам, попали сюда потому, что после Великой депрессии в Америке не было рабочих мест… Мы бы не позволили считать себя людьми низшего сорта, да такого деления якобы и не бывает в Америке (если забыть, что черных и азиатов принимали во флот только стюардами и коками)… Зубы у всех были ужасные – тоже последствие Депрессии. Далеко не все получили школьный аттестат, в колледже ни один не учился. Все в прыщах, сквернословы, на берегу напивались и шумели. Я думал порой: “Что ж мы все такие тощие, с плохой кожей, низкорослые и волосатые?”»28
Сесил Кинг, главный писарь на борту Hornet, вспоминал: «У нас имелась небольшая группа никчемников, не то чтобы гангстеров, но эти ребята всегда оказывались замешаны в любое дурное дело, играли в азартные игры, занимались рэкетом». Одного из них ночью выбросили за борт»29. Для большинства моряков военная служба означала долгие годы скуки и тяжкого труда, и лишь короткие, яростные схватки вносили какое-то разнообразие. Мало кому нравилась жизнь на борту авианосца, но Кинг принадлежал к числу таких исключений: «В море я чувствовал себя в своей стихии. Мне казалось: вот ради чего стоило пойти во флот! Я бродил по кораблю, особенно под вечер, и просто наслаждался пребыванием там. Подходил к подъемнику на краю палубы, стоял, смотрел, как колыхается вокруг океан. Я был чуть ли не самым счастливым человеком на свете – родился вовремя, чтобы успеть сразиться за мою страну во Второй мировой войне. Вообще жить в такую эпоху казалось мне настоящей привилегией»30.
Расширение состава офицерского корпуса увеличило привлекательность службы в этом роде войск и нашлось немало людей, полюбивших жизнь на море и круг обязанностей моряка. Однако рядовые моряки, особенно новобранцы военного времени, пусть и выполняли свои обязанности с честью, не получали от этого никакого удовольствия. Некоторые не выдерживали: матрос с Hornet забрался на главную мачту и повис в 50 м над морем, собираясь с духом, чтобы спрыгнуть, но его отговорили капеллан и корабельный врач. Парня отправили в Штаты на психиатрическую экспертизу, а оттуда вернули на борт Hornet как раз вовремя, чтобы он утонул, разделив с товарищами ту участь, которой так страшился31.
Участники первых сражений на Тихом океане видели слишком много неудач, потерь и поражений. Ужасы, всегда сопутствующие гибели корабля, усугублялись роковым промедлением, пока удавалось найти и спасти уцелевших. Тихий океан очень велик, и многих, упавших в него – даже с борта огромного военного корабля, – так и не удалось отыскать. Когда поврежденный легкий крейсер Juneau затонул на пути к ремонтной базе на острове Святого Духа – взорвался пороховой склад, – помощник пулеметчика Аллан Хейн оказался среди тех, кому пришлось бороться в волнах за жизнь: «На воде плавала густая пленка бензина, толщиной не меньше 5 см, повсюду были рассеяны кальки, документы, рулоны туалетной бумаги. Никого разглядеть я не мог. Я подумал: “Ого, да я тут единственный живой”… Потом я услышал чей-то крик, посмотрел – а это был помощник боцмана… Он сказал, что плыть не может, ему ногу оторвало. Я помог ему забраться на плот… Ночь выдалась тяжелейшая, многие были тяжело ранены, умирали в мучениях. Тут никто никого узнать не мог, разве что на борту с ним тесно дружил»32. За три дня число выживших сократилось со 140 до 50, и всего лишь 10 моряков дотянули до девятого дня, когда их подобрали эсминец и аэроплан Catalina. Порой вместе с судном погибал весь экипаж; для подводных лодок это стало нормой.
Японцы развязали войну на море, подготовив целый корпус опытных моряков и летчиков, взяв на вооружение торпеду Long Lance – самое эффективное оружие этого рода в мире. Их радарные установки были слабы, а на многих кораблях радар вовсе не устанавливали. Хромала у японцев и разведка, зато они превосходили всех по части ночных операций, а в перестрелке поначалу оказывались более меткими, чем американцы. Великолепные истребители Zero могли дольше продержаться в воздухе – их вес был значительно снижен за счет отказа от бронированной спинки кресла пилота и от протектированных (способных затягивать пулевые пробоины) баков. Тем удивительнее на фоне такого превосходства японской морской авиации в 1942 г. показался исход следующей фазы борьбы на Тихом океане.
Адмирал Ямамото во исполнение своего стратегического плана настойчиво стремился к решающему столкновению. Не прошло и месяца после не принесших выгоды ни той, ни другой стороне действий в Коралловом море, как он уже нацелился на атолл Мидуэй, собрав 145 боевых кораблей для сложной амбициозной операции, задачей которой было расколоть американские силы. Небольшая японская эскадра должна была пойти на север, к Алеутским островам, а основной удар Ямамото собирался обрушить на Мидуэй. Предполагалось, что четыре авианосца из флота Нагумо (Zuikaku и Shokaku еще ремонтировались после инцидента в Коралловом море) приблизятся к острову с северо-запада, быстроходные линкоры Ямамото будут следовать в 500 км за ними, а транспортная флотилия подойдет с юго-запада и доставит 5000 десантников.
Ямамото был, вероятно, умным и даже симпатичным человеком, но план захвата Мидуэя обернулся поистине эпическим провалом, и стала очевидна непреодолимая ограниченность этого военачальника. Прежде всего этот план требовал разделения имевшихся в распоряжении Ямамото сил, и, что хуже, в нем проявилась типичная для японцев «гибрис» – погибельная гордыня: к примеру, им в голову не пришло, что американцы могут о чем-то догадаться. Но адмирал Честер Нимиц, главнокомандующий американского Тихоокеанского флота, знал о приближении противника. Это была одна из самых успешных операций разведки за всю войну: коммандер Джозеф Рошфор, находившийся в Пёрл-Харборе, на основании частичных дешифровок, полученных Ultra, сообразил, что основной целью операции Нагумо будет Мидуэй. 28 мая японцы изменили систему кодов, и шифровальщикам Рошфора пришлось биться неделями, пока они взломали и эти коды. Однако, к счастью, смена кодов произошла слишком поздно: команда Рошфора успела осуществить свой блистательный прорыв, и планы Ямамото уже не были загадкой.
Не менее поразительной оказалась и отвага Нимица: он решился поставить все на предложенное Рошфором истолкование японской тайнописи. Японская разведка, как всегда, неточная, доносила своему командованию, что Yorktown покоится на дне Кораллового моря и что два других авианосца США, Hornet и Enterprise, ушли к Соломоновым островам. Но героические усилия 1400 рабочих верфи Пёрл-Харбора вернули Yorktown в строй, хотя и с временной заменой летной палубы. Нимиц таким образом получил возможность снарядить две группы для прикрытия Мидуэя: одну повел Флетчер, возглавлявший всю эту операцию, а вторую – Рэймонд Спрюэнс. Предполагалась операция преимущественно с участием авианосцев, чьей мишенью станут тяжеловесы из флотилии Нагумо, а старые медленные корабли оставили в гаванях Калифорнии. Главной ударной силой назначалась морская авиация.
Почти столетием ранее величайший американский писатель-маринист Герман Мелвилл писал: «Есть в морском сражении нечто, принципиально отличающееся от сухопутного. В океане нет ни рек, ни лесов, ни берегов, ни городов, ни гор. В спокойную погоду это сплошная равнина. Здесь неприменимы стратагемы обученных армий, никаких индейских засад: все открыто, очевидно, текуче. Сама стихия, удерживающая на своей поверхности противников, подчиняется малейшему капризу ветерка. Благодаря такой простоте сражение двух боевых кораблей более похоже на описанный Мильтоном поединок архангелов, нежели на гораздо более грубые схватки на суше»33.
В 1942 г. лирическое видение Мелвилла все еще оставалось понятно и близко и морякам нового века, но два обстоятельства существенно изменили картину морской битвы. Во-первых, благодаря новым средствам связи и перехвата появилась возможность для «стратагем» и засад, в том числе и тех, которые были пущены в ход в битве за Мидуэй. Местоположение противника удавалось установить и перехватить его прежде, чем, фигурально выражаясь, его паруса покажутся в виду. Важным преимуществом американцев перед японцами как раз и стал более совершенный радар. А с появлением авиации – это второй фактор – море перестало быть таким уж «открытым, очевидным, текучим»: порой удар обрушивался с воздуха, когда два вражеских флота все еще разделяли сотни километров. Но все равно знание о противнике оставалось неточным: в огромных просторах океана не так-то легко было обнаружить корабль или даже целый флот. Вице-адмирал Фрэнк Флетчер говорил: «После сражения толкуют о том, как грамотно принимались решения, но на самом деле все это делалось впотьмах и на ощупь»34. События в Коралловом море подтвердили его правоту: несмотря даже на замечательные достижения коммандера Рошфора, случай тоже сыграл свою роль в битве за Мидуэй.
Это сражение началось всего через полгода после Пёрл-Харбора, когда у американского флота все еще было меньше авианосцев, чем у британского, но зато на палубах американских кораблей размещалось намного больше самолетов. Две американские боевые группы находились чересчур далеко друг от друга и не могли обеспечить даже минимальную поддержку или эффективно скоординировать операции в воздухе. 3 июня произошло первое столкновение: в 14:00 девять «Летающих крепостей» B-17 наземного базирования предприняли малоэффективный налет на японские десантные суда. Утром того же дня японский самолет подверг тяжелой бомбардировке Алеутские острова. К ночи десятки тысяч людей готовились принять свою участь: гарнизон Мидуэя хотел лишь подороже продать свою жизнь, памятуя о том, какая участь постигла от рук японцев защитников других островов. На американских авианосцах, находившихся в 500 км к северо-востоку, экипажи самолетов собирались с духом перед сражением, которое вполне могло оказаться для них последним. Один из пилотов, лейтенант Дик Кроуэлл, отрешенно произнес за ночной игрой в карты на Yorktown: «Судьба Соединенных Штатов ныне находится в руках 240 пилотов»35. Нимиц с удовлетворением наблюдал за тем, как сражение разыгрывается в точности по предвиденному им сценарию. Ямамото опасался, что не сумеет обнаружить американский Тихоокеанский флот, но не подозревал, что авианосцы могут приблизиться к Нагумо.
Перед рассветом следующего дня – теплого, сырого, туманного – американские и японские пилоты получили свой завтрак. На Yorktown одобряли «одноглазые сэндвичи» – гренки с жареным яйцом, выглядывающим из отверстия в тосте. Пилоты Нагумо подкрепились рисом, супом из соевых бобов, соленьями и сушеными каштанами, а затем выпили в честь грядущей битвы горячего саке. В 04:30 к Мидуэю устремились 72 японских бомбардировщика и 36 истребителей. В 05:45 патрульный аэроплан Catalina подал сигнал о приближении неприятеля, а затем обнаружил и авианосцы Нагумо. Флетчеру понадобилось три часа хода на всех парах, чтобы подойти на расстояние, с которого он мог вступить в бой. Располагавшиеся на Мидуэе морские и армейские торпедные и обычные бомбардировщики сразу же поднялись в воздух вместе с истребителями Wildcat и Buffalo. Последним Zero нанесли тяжелейший ущерб: все 27 Buffalo, за исключением только трех, были уничтожены или так сильно повреждены, что не подлежали восстановлению. Но и японцы потеряли треть участвовавших в этой атаке самолетов.
Начавшаяся в 06:35 атака бомбардировщиков Нагумо причинила заметный ущерб, но не достигла основной цели: аэродромы Мидуэя не были уничтожены. Командир этой эскадрильи передал флоту сигнал: «Необходим повторный удар». С этого момента все у японского адмирала пошло вкривь и вкось. Первую ошибку в тот день он допустил, отправив на поиски американских военных кораблей лишь жалкую горсть самолетов, причем гидросамолет с тяжелого крейсера Tone вылетел позже других, а именно он направлялся в сектор, где на всех парах неслись авианосцы Флетчера. Таким образом, Нагумо все еще понятия не имел об угрозе со стороны американской морской авиации, когда получил этот сигнал от собственных самолетов, находившихся поблизости от Мидуэя. В 07:15 он распорядился перевооружить 93 торпедоносца Kate, которые уже стояли готовые к взлету на палубах: вместо торпед их снабдили фугасными бомбами с мыслью возобновить налет на остров. И на время, пока самолеты переоснащали, их убрали вниз, освобождая посадочную палубу для бомбардировщиков, возвращавшихся после первой атаки. Пока выполнялась эта команда, прозвучал сигнал воздушной тревоги: с 07:55 до 08:20 небольшие эскадрильи базировавшихся на Мидуэе американских самолетов волнами атаковали флот Нагумо. Они шли без прикрытия истребителей и были беспощадно уничтожены огнем зениток и Zero, не успев нанести ни единого удара. Огонь их пулеметов стих, гул моторов немногих уцелевших замер, удаляясь. Тем временем уже поднялись в воздух торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики Спрюэнса, и они с дальней дистанции приближались к японскому флоту. Самолет-разведчик Tone разглядел наконец американские корабли, но лишь в 08:10 пилот доложил о том, что видит среди них и авианосец. В штабе Нагумо это известие вызвало ожесточенные споры о том, как следует реагировать, и этот вопрос еще не был решен к тому времени, как завершилась безуспешная атака американской эскадрильи с наземных баз.
Единственная польза от атаки с Мидуэя (и какой ценой был куплен этот результат!) – был нарушен график взлетно-посадочных операций на японских авианосцах. Нагумо во что бы то ни стало требовалось вернуть отправленные к Мидуэю самолеты, прежде чем развернуть атаку против Флетчера, поскольку у его бомбардировщиков заканчивалось топливо, а еще он распорядился поменять заряды на убранных в ангары Kate и вновь оснастить их торпедами. На данном этапе операции было бы гораздо разумнее отвернуть обратно и увеличить расстояние до противника, чтобы выгадать время на организацию воздушных сил и подготовиться к сражению. Однако Нагумо с характерной для японцев инертностью продолжал движение по заданному курсу. В 09:18, когда на японских палубах все еще продолжалась суета, в баки самолетов спешно заливалось горючее, патруль истребителей подал очередной сигнал тревоги и начал выпускать маскировочную дымную завесу. Приближались передовые самолеты Флетчера, и навстречу им рванулись Zero.
Перед вылетом коммандер Джон Уолдрон, крепкий, жесткий, чрезвычайно уважаемый уроженец Южной Дакоты, возглавлявший отряд торпедоносцев на Hornet, сказал своим пилотам, что грядущее сражение «станет историческим и, надеюсь, славным событием». Командир эскадрильи Wildcat Джимми Грэй писал: «Мы все понимали, что попали на центральный ринг всего мира»36. Коммандер Юджин Линдси, глава 6-го отряда торпедоносцев, пострадал несколькими днями раньше: он еле выскочил из самолета после вынужденной посадки. Из-за ран на лице ему было больно надевать очки, но в утро сражения возле Мидуэя он настоял на своем праве участвовать в бою. «Для этого меня готовили», – упрямо сказал он и вылетел навстречу своей смерти.
Американские самолеты волнами атаковали японский флот. Джимми Грэй писал: «Увидеть по ту сторону облачности белые перья, появлявшиеся в кильватере судов на большой скорости и понять, что вот они, как на ладони, те самые японцы, впервые, после того как семь месяцев подряд они так зверски нас колотили, – мало кто за целую жизнь испытает подобное чувство». Двадцать Wildcat эскорта летели высоко, а Devastator по необходимости атаковали в нижнем эшелоне. Сквозь щелчки радиосвязи доносились аргументы и контраргументы пилотов истребителей и торпедоносцев: они продолжали спорить о тактике даже на подлете к противнику. Wildcat держали высоту, им бы не хватило запаса топлива, чтобы надолго зависнуть над вражеским флотом. В результате, когда на Devastator накинулись японские Zero, началась бойня. Двенадцать торпедоносцев 3-го отряда летели единым строем на высоте 800 м и до цели им оставалось еще 26 км, когда их перехватили японцы. Последовало несколько жестких схваток. Один из немногих уцелевших пилотов, Вильгельм Эсдерс, писал: «Когда примерно в миле от авианосца наш ведущий начал заходить для атаки, его самолет сбили, он, полыхая, рухнул в море. На моих глазах только пять самолетов успели сбросить торпеды»37. Devastator Эсдерса тоже был подбит, радист смертельно ранен, в кокпите взорвался баллон кислорода, под брюхом проходили трассы зенитного огня, поливали из пулеметов Zero. Экипажу Эсдерса еще повезло: вражеские самолеты преследовали их всего 20 минут, а затем повернули обратно.
Devastator упорно шли на цель на максимальной скорости сто узлов, и один самолет за другим, разбившись вдребезги, падал в океан. Пулеметчик на бомбардировщике услышал по радио голос Уолдрона, который вел свои самолеты в бой: «Джонни-один Джонни-два! Как я иду, Доббс?.. Атакуйте немедленно! Два истребителя уже в воде… Мои ведомые сбиты!» Уолдрона в последний момент видели, когда он пытался выскочить из объятого пламенем самолета. Встретив первую волну самолетов, командир группы Zero хладнокровно отчитался: «Все 15 вражеских торпедных бомбардировщиков сбиты». Многие самолеты второй волны погибли в тот момент, когда маневрировали, выбирая угол атаки – японские авианосцы резко поворачивали, избегая удара. В отчаянии американский пулеметчик, чье орудие заклинило, разрядил в преследующий его Zero 45-миллиметровый автоматический пистолет.
Джордж Гэй, вылетевший с Hornet на одном из Devastator, имел в своей эскадрилье репутацию хвастуна, однако в итоге только он один из всей команды и уцелел. Упав в море – сам раненный пулей, два других члена экипажа мертвы, – он целый день болтался в воде, наслушавшись историй о том, как японцы приканчивают сбитые экипажи. Лишь с наступлением ночи он рискнул надуть спасательную шлюпку, и ему вновь неслыханно повезло – наутро его подобрал патрульный самолет-амфибия.
На авианосцах Нагумо команде пришлось выдержать час величайшего напряжения, пока к ним сквозь шквал зенитного огня прорывались Devastator. Но большая часть торпед упала вне радиуса поражения, и эти снаряды (Mk 13) двигались в воде так медленно, что японские корабли прекрасно успевали выполнить маневр и уйти с их пути. «Я не заметил или не почувствовал, как были сброшены торпеды»38, – признавался один из стрелков на Devastator. Он предположил, что мог этого не заметить, потому что в тот момент пилот пытался увильнуть от огня. «Несколько дней спустя я спросил его, где он сбросил бомбы. Он ответил, что сбросил, когда понял, что мы остались совершенно одни и что шанса доставить торпеду на нормальное расстояние для поражения нет». Я в тот момент не понял, что он хотел сделать, а по нам вовсю били зенитки, и я заорал в переговорное устройство: “Пора убираться к чертям!” – и мой крик, вероятно, подтолкнул его к этому решению».
Сразу после 10:00 атакующие отстрелялись, ни разу не попав в цель. В тот день в воздух поднялся 41 американский торпедный бомбардировщик, а вернулось лишь шесть, из 82 членов экипажа выжили только 14, но даже их самолеты были в многочисленных пробоинах. Раненый пулеметчик Ллойд Чайлдерс услышал слова своего пилота: «Мы не вытянем». Их Devastator долетел до корабля, но не смог сесть на палубу Yorktown, развороченную бомбой. Пилот нырнул в море, и Чайлдерс успел еще похлопать исчезавший в волнах хвост самолета в благодарность за то, что верная машина доставила его к своим. Но многие среди уцелевших были в ярости: их принесли в жертву безо всякого смысла, собственные истребители не прикрывали их роковой вылет. Стрелка с одного из Devastator, чей самолет благополучно приземлился на Enterprise, пришлось удерживать силой, чтобы он не избил пилота Wildcat.
У американских истребителей в тот день было немного удач. Один из сбитых самолетов – на счету Джимми Тэча, которому предстоит стать одним из лучших тактиков в морской авиации той войны. Тэч, по его словам, сорвался, когда увидел, как японский самолет прошил очередями идущую с ним рядом машину: «Я обозлился, потому что мой бедняга ведомый никогда прежде не бывал в бою, стрелковая подготовка у него была никакая, а этот Zero разнес его в клочья. Я решил поливать его огнем, идя на сближение, пусть он отвернет, а не я, и так оно и вышло, причем он разминулся со мной лишь на пару метров, а из днища у него било пламя. Так крутые парни гонят свои авто лоб в лоб, проверяя, кто первый струсит, только мы еще и стреляли»39.
На американцев обрушивалась катастрофа за катастрофой, такая цепочка неудач грозила дурным исходом всего сражения. Но судьба внезапно переменилась: Нагумо дорого заплатил за то, что не сумел нанести удар по Спрюэнсу, когда вражеский флот оказался вблизи (хотя, разумеется, это упущение оказалось вынужденным). Многие Zero находились в нижнем эшелоне, и у них заканчивалось топливо, когда вслед за последней атакой торпедоносцев высоко в небе вновь загудели американские самолеты.
Пикирующий бомбардировщик Dauntless оказался единственной эффективной машиной на вооружении американской морской авиации по состоянию на 1942 г., и буквально за несколько минут ход Тихоокеанской кампании переломился в пользу США. Эскадрилья Dauntless налетела на авианосцы Нагумо. «Я увидел мерцание со стороны солнца, – вспоминал Джимми Тэч. – Это было так красиво, словно серебристый водопад: заходили на позицию пикирующие бомбардировщики. Мне казалось, будто каждая бомба ложится точно в цель»40. На самом деле первые три бомбы, сброшенные на Kaga, пролетели мимо, но четвертая угодила в судно, и послышался отрадный для нападавших звук взрывавшихся на авианосце орудийных складов. Та же участь постигла Soryu и Akagi41. Пилот Wildcat Том Чик оказался еще одним восторженным зрителем устроенного бомбардировщиками представления. «Я оглянулся и увидел, как Akagi буквально развалился надвое. Сперва на взлетной палубе между островной надстройкой и кормой взметнулось ярко-оранжевое пламя взрыва. Затем сразу же бомба взорвалась у миделя, а возле кормы поднялся фонтан брызг от едва разминувшейся с нею бомбы. Почти одновременно взлетную палубу Kaga изуродовали взрывы и языки пламени. Я все еще не отрывал глаз от Akagi, и тут взрыв на уровне ватерлинии словно бы выпотрошил корабль – выглядело это словно катящийся изжелта-зеленый шар света. Здорово попало и Soryu. Все три корабля начали рыскать, за ними уже не тянулась ровная пенистая струя в кильватере. Я медленно кругами уходил вправо, совершенно ошеломленный».
Такое же изумление, но еще больший ужас переживал коммандер Мицуо Фучида, герой Пёрл-Харбора, а теперь – беспомощный зритель на палубе Akagi: «Чудовищные разрушения были причинены нам за считаные мгновения. В палубе сразу за грузоподъемником на миделе появилось огромное отверстие… Палубные пластины гнулись, принимая гротескные формы. Самолеты пикировали вверх хвостами, изрыгая сизо-багровое пламя и черный дым. Невольно по моим щекам покатились слезы»42.
В результате налета пикирующих бомбардировщиков два японских авианосца затонули сразу же, а с пылающего корпуса третьего в тот же день пришлось эвакуировать экипаж. Для американцев то было замечательное достижение, особенно если учесть, что два эскадрона пикирующих бомбардировщиков вместе с эскортировавшими их Wildcat были направлены не в ту сторону и не приняли участия в схватке. Все десять истребителей из эскадрильи Hornet растратили топливо и приводнились, так и не обнаружив противника, а 35 бомбардировщиков с того же корабля приземлились на Мидуэе, не попав к месту сражения.
Японцев обозлила потеря авианосцев, и свою досаду они срывали на всех попавшихся под руку американцах. Двадцатитрехлетний пилот бомбардировщика, чикагский уроженец Уэсли Осмус был замечен с палубы эсминца, извлечен из воды, и взвинченный японский офицер тут же подверг его допросу, угрожая саблей. Ближе к закату японцы утратили интерес к пленнику, отвели его на ахтерштевень и принялись рубить пожарным топориком. Истекая кровью, несчастный цеплялся на поручень, пока ему не перебили и пальцы, и тогда он свалился в море. Культ жестокости в японском флоте усвоили ничуть не хуже, чем в сухопутной армии Хирохито.
Поздним утром единственный уцелевший авианосец Нагумо Hiryu нанес ответный удар по Yorktown под командованием Флетчера. Американские радары засекли приближающиеся бомбардировщики за 80 км и истребители поднялись в воздух. Wildcat сбили 11 бомбардировщиков Val и три Zero, а еще с двумя Val расправились зенитным огнем; три бомбы все же попали в Yorktown, но благодаря энергичной борьбе за живучесть авианосец смог принять заходившие на посадку бомбардировщики, пока экипаж боролся с огнем. Флетчер перешел на крейсер Astoria, а общее командование поручил Спрюэнсу.
В 14:30 волна японских торпедоносцев с Hiryu обрушилась на Yorktown, и вновь с авианосца поднялись на перехват истребители. Младший лейтенант Мильтон Тутл только успел оторвать свой Wildcat от палубы, как уже вплотную приблизился атакующий противник. Тутл развернулся под огнем собственных зениток, сбил вражеский самолет и сам был подбит Zero – бой продолжался едва ли минуту. Молодому офицеру повезло: из воды его подобрали товарищи. Удалось сбить еще несколько японских самолетов, но четыре торпедоносца все же успели сбросить свой груз, и две торпеды попали в судно. В пробоины хлынул океан, корабль заметно накренился. Около 15:00 капитан отдал приказ покинуть Yorktown. Возможно, это решение было преждевременным, и авианосец удалось бы спасти, но в 1942 г. искусство борьбы за живучесть еще не было освоено американским флотом на таком уровне, какого ВМФ достигнет спустя два года. Эсминцы спасли всех членов экипажа, за исключением тех, кто погиб непосредственно во время бомбардировки.
В 15:30 Спрюэнс нанес очередной ответный удар, выслав 27 пикирующих бомбардировщиков, в том числе десять из эскадрильи Yorktown – они приземлились на палубах других судов, когда их родной авианосец подвергся атаке. Почти ровно в 17:00 эти бомбардировщики достигли Hiryu. Моряки на борту японского судна как раз угощались рисовыми шариками. У Hirui оставалось еще 16 самолетов, в том числе десять истребителей, но в воздухе находился лишь один патрульный самолет, а радара, чтобы предупредить о приближении американцев, у японцев не оказалось. Четыре бомбы поразили авианосец, вспыхнуло несколько пожаров. Коротышка адмирал Тамон Ямагучи, старший офицер на этом корабле, взобрался на ящик из-под печенья, чтобы с этого постамента произнести обращенную к подчиненным прощальную речь. Затем он вместе с капитаном удалился, каждый в свою каюту, для свершения ритуального самоубийства, а уцелевших моряков тем временем снимали с горящей палубы их соотечественники. Погибающее судно затопили с помощью торпед – теперь уже четыре из шести авианосцев, участвовавших в нападении на Пёрл-Харбор, оказались на дне морском. На американской стороне вновь пострадал злосчастный Hornet: раненый летчик, с трудом сажая самолет на палубу, случайно нажал на гашетку и снес пятерых человек, стоявших на надпалубной надстройке. Вернувшиеся летчики с ужасом подсчитывали потери, но, по словам Джимми Грэя, «слишком устали, чтобы почувствовать что-то, кроме тупой боли в сердце».
Действительно, жертвы были велики, но наградой за них стала победа. Адмирал Нагумо настаивал на отступлении, однако Ямамото отдал иной приказ: провести ночную атаку. Из этого, однако, ничего не вышло: Спрюэнс отвел свои корабли, полагая, что все возможное флот уже сделал. И это оказалось правильным решением: с севера на большой скорости приближалась эскадра Ямамото, о местоположении которой американцам ничего не было известно. Спрюэнс добился огромного перевеса для своих, и теперь ему в первую очередь следовало удерживать это преимущество, всячески оберегая два уцелевших у него авианосца. Ямамото увидел, что атака не удастся, и отдал приказ об отступлении. Тогда Спрюэнс в свою очередь развернулся и преследовал его: итогом очередной воздушной атаки стали гибель одного японского тяжелого крейсера и серьезные повреждения на другом. На том сражение практически и закончилось, если не считать инцидента 7 июня, когда японская подлодка, наткнувшись на выгоревший, влачимый буксиром Yorktown, отправила его на дно. Не такой уж тяжелый удар на фоне громадных японских потерь.
И Нимиц, и Спрюэнс проявили гораздо более трезвый подход к операциям на море и воздухе, чем наделавшие столько ошибок Ямамото и Нагумо. Повторная атака, в результате которой был уничтожен Hiryu, была всецело заслугой Флетчера. Отвага и ловкость американских пилотов-бомбардировщиков затмили все прежние неудачи и разочарования. Для американского флота настал час торжества. Нимиц с присущим ему благородством послал личный автомобиль за коммандером Рошфором, чтобы вместе отпраздновать эту победу в Пёрл-Харборе. Перед всем штабом главнокомандующий объявил: «Этому офицеру причитается бóльшая часть похвал за победу при Мидуэе». Удача, благоволившая в первые месяцы войны японцам, с момента морского сражения на Тихом океане отвернулась от них и переметнулась к американцам. Но, говоря об удаче, не следует преуменьшать заслуги Нимица и его офицеров.
Японский флот еще многие месяцы оставался грозной боевой силой и нанес несколько сильных ударов по противнику на Тихом океане. Однако главное американский ВМФ уже совершил, проявив в критический момент свои отменные качества. Слабость японской промышленности не позволяла быстро компенсировать понесенные под Мидуэем потери. Один из наиболее существенных просчетов оси заключался в отсутствии резерва, из которого ВВС могли бы черпать подготовленных пилотов, восполняя потери. Американцы в скором времени располагали уже тысячами прекрасно натренированных экипажей, летавших на великолепных новых истребителях Hellcat. Авианосцев Нимицу недоставало вплоть до середины 1943 г., но затем американская производственная программа поставила впечатляющее количество новых боевых судов. Правила игры на Тихом океане определились: основные сражения разворачивались на море, а сухопутные силы крайне редко вступали в соприкосновение. Эскадрильи на борту авианосцев зарекомендовали себя в качестве основной боевой единицы, и вскоре Штаты научатся применять эту технику более эффективно и в гораздо больших масштабах, чем любой другой народ в мире. Марк Митчер, капитан Hornet, опасался, что его карьере придет конец, поскольку его эскадрилья как раз и не отличилась при Мидуэе. Согласно широко распространенному мнению, он внес подложные записи в бортовой журнал, указав иной курс самолетов, чем на самом деле, и таким образом скрыл собственный промах, из-за которого эскадрилья не приняла участия в бою. В итоге Нимиц и Спрюэнс вместе с летчиками авианосцев Yorktown и Enterprise сделались героями Мидуэя, но Митчеру еще предстояло стать капитаном самого прославившегося из американских авианосцев.
3. Гуадалканал и новая гвинея
Следующий акт тихоокеанской драмы характеризуется действиями более рациональными и вместе с тем большей свободой импровизации. США, верные своему обязательству в первую очередь вести борьбу против Германии, планировали направить основную часть войск в Северную Африку. У Макартура не хватало в Австралии резервов для казавшегося ему желанным нападения на Рабаул. Австралийские войска, к которым постепенно прибывали американские подкрепления, должны были сдерживать продвижение японцев вглубь обширного, заросшего джунглями острова Папуа – Новая Гвинея. От северной оконечности Австралии этот остров отделяло морское пространство шириной всего 370 км, и там разворачивалось одно из самых жестоких сражений этой кампании.
Тем временем в тысяче километров к востоку, на Соломоновых островах, японцы, уже занявшие остров Тулаги, перебрались оттуда на соседний Гуадалканал и начали строить аэропорт. Если бы им удалось достроить его, их воздушные силы захватили бы господство в регионе. Чтобы предотвратить это, американцы приняли мгновенное решение начать высадку Первой дивизии морской пехоты. Это вполне отвечало горячему желанию американского флота, выраженному в Вашингтоне адмиралом Эрнстом Кингом: вступать в схватку всюду, где удастся застичь врага. Морскую пехоту переправляли через новозеландскую столицу Веллингтон, куда именно – начальство еще не вполне определилось. Прозвучал приказ: подняться на борт, привести суда в боевую готовность. Работники дока отказались трудиться под проливным дождем, и моряки все сделали сами. В начале августа 1942 г. они отплыли на Гуадалканал. Многие по наивности думали, что им предстоит воевать в тропическом раю.
7 августа 19 000 американцев высадились сперва на внешних островках, а затем и на самом Гуадалканале. Сопротивления они почти не встретили, поскольку заранее подвергли берег основательному обстрелу с моря. «Мутный рассвет, мерцает лишь несколько огней, словно на городской помойке, освещая наш путь в историю»43, – писал морской пехотинец Роберт Лекки. Австралийский разведчик капитан Мартин Клеменс следил за высадкой американцев из укрытия в джунглях и приветствовал ее в дневнике цитатой из «Алисы в Стране чудес»: «О славнодоблестный денек!»44 На берегу моряки, счастливые уже оттого, что высадились без потерь, разбивали кокосовые орехи и пили молоко, невзирая на предупреждения, что плоды могли быть отравлены японцами. Затем десант двинулся вглубь острова, обильно потея и страдая от неутолимой жажды. Японская разведка вновь прокололась и даже не предупредила вовремя о прибытии американцев. Захват аэропорта, названного «базой Хендерсона» в честь отличившегося над Мидуэем пилота морской авиации, стал, вероятно, решающим событием войны на Тихом океане. Заодно десантники «освободили» вражеские склады провианта, в том числе изрядный запас саке, которого им хватило на несколько веселых ночек. Так закончилась приятная часть кампании, и начался один из самых мучительных эпизодов войны в этом регионе: кровавые сражения на берегу, столкновения боевых судов в море.
Через два дня после высадки флот США потерпел унизительное поражение поблизости от Гуадалканала. Флетчер просигналил Нимицу, что находящиеся в этом регионе воздушные силы японцев представляют собой угрозу трем его авианосцам, и предложил отвести их подальше. Не дожидаясь согласия командующего, он изменил курс и направился на северо-восток. Контр-адмирал Келли Тернер, командовавший движением в прибрежной зоне, откровенно заявил, что, по его мнению, авианосцы покинули боевой пост, и репутации Флетчера был нанесен тяжелый ущерб. Но современные историки, в особенности Ричард Фрэнк, считают решение Флетчера абсолютно верным, поскольку безопасность этих авианосцев была на тот момент основной стратегической задачей.
Еще до рассвета следующего дня, 9 августа, союзный флот был застигнут врасплох, и стала очевидна как некомпетентность его командования, так и прискорбное отсутствие навыков ночного боя. Японский вице-адмирал Гунъити Микава повел эскадру тяжелых крейсеров в атаку на якорную стоянку, охранявшуюся одним австралийским тяжелым крейсером и четырьмя американскими, а также пятью миноносцами. Эта вражеская эскадра была обнаружена накануне австралийским самолетом Hudson, но сообщение с самолета не было принято базой Фолл-Ривер на Новой Гвинее, потому что радиостанция была выключена во время воздушного налета45. Но и после того как Hudson приземлился, прошло еще несколько часов – непростительная задержка, прежде чем предупреждение было передано на суда, находившиеся в море.
Американцы развернулись боевым порядком возле острова Саво и ожидали нападения японцев, но в темноте кильватерная колонна Микавы незамеченной миновала линию радаров на эсминцах. В 01:43, через три минуты после того, как американцы с опозданием заметили Chokai, шедший первым во главе японской эскадры, австралийский крейсер Canberra разнесли по меньшей мере 24 снаряда, которые, по словам одного из немногих уцелевших, рвались «с жутким зеленовато-оранжевым дымом». В машинном отделении погибли все, судно оказалось обезоружено и обездвижено. В следующие часы, вплоть до полной эвакуации экипажа, Canberra не смогла сделать ни единого выстрела. Предполагается (хотя эта гипотеза оспаривается), что в крейсер также угодила торпеда американского эсминца Bagley, метившего в японцев.
Эсминец Patterson находился в идеальной позиции для прицельного огня, но оглушительный грохот пушек помешал офицеру, командовавшему торпедными орудиями, расслышать приказ капитана выпустить торпеды. В 0:47 две японские торпеды поразили Chicago. Взорвалась только одна – та, которая угодила в нос, однако этого оказалось достаточно, чтобы вывести из строя противопожарную систему. Astoria дала тринадцать безрезультатных залпов: кораблей Микавы она разглядеть не могла, а система радаров на борту работала неточно. Японцы расстреляли крейсер из пушек с расстояния 5 км, и на следующий день, понеся большие потери, экипаж покинул судно.
Сильный урон потерпел и Vincennes, судно уже горело, когда наконец дало ответный залп. Командир капитан Фредерик Рифкол далеко не сразу сообразил, что подвергся вражескому нападению: он считал, что в него по ошибке стреляют свои. Когда прожектора Микавы поймали его судно в перекрестье лучей, Рифкол по радио громко потребовал выключить свет и занялся спасением своего корабля, которого три торпеды и 74 снаряда превратили в полыхающий малоподвижный каркас. Наконец, капитан сообразил, что виновники несчастья – японцы, и отдал эсминцам приказ атаковать, без всякого, впрочем, успеха. Осветительные снаряды Quincy оказались бесполезны, поскольку взорвались над низко нависавшей тучей, в то время как японский гидросамолет выпустил трассеры позади американской эскадрильи, высветив силуэты кораблей, и пушкари Микавы получили возможность четко разглядеть свои мишени. Злосчастный капитан Quincy погиб, едва успев отдать приказ выброситься на берег, – в итоге судно затонуло, унеся с собой 370 офицеров и рядовых. В Chokai попал только один снаряд, разрушивший штурманскую рубку.
В 02:16 японцы прекратили огонь: всего за полчаса они сокрушили противника. На мостике японского флагмана завязался спор, следует ли развить успех и напасть на оставшиеся без защиты транспортные суда американцев, находившиеся дальше по курсу, в стороне от Гуадалканала. Микава решил, что уже не успеет перестроить свою эскадру, провести атаку и до рассвета покинуть радиус действия самолетов с американских авианосцев: он ошибочно полагал, будто авианосцы находятся поблизости. Под вспышками молний тропического ливня японцы повернули в обратный путь, оставив американцев в состоянии хаоса и растерянности. Хаос продолжался еще несколько часов, и уже на рассвете американский миноносец расстрелял «вражеский» крейсер, слишком поздно сообразив, что то была и без того пострадавшая Canberra. Несчастный крейсер решено было затопить. Американские миноносцы выпустили по нему еще 370 снарядов и, наконец, вынуждены были пустить в ход торпеды, чтобы положить конец затянувшейся агонии. Единственное утешение для союзников – американская подлодка ухитрилась потопить один из тяжелых крейсеров Микавы, Kako, перехватив его на обратном пути.
Адмирал Тернер продолжал разгрузку припасов для морской пехоты с якорной стоянки у Гуадалканала до полудня 9-го, а затем, к негодованию остававшихся на берегу американцев, увел свои суда и отказался возвращаться, пока не получит прикрытия с воздуха. О катастрофе у острова Саво он писал: «Флот все еще одержим идеей своего технического и умственного превосходства над противником. Несмотря на множество доказательств боевых качеств противника, большинство наших офицеров и рядовых позволяют себе относиться к противнику с пренебрежением и заведомо рассчитывают выйти победителями из любого столкновения… Последствие этого заблуждения – роковая летаргия ума… Мы не были морально готовы к серьезному сражению. Полагаю, что этот психологический момент сыграл в нашем поражении более значительную роль, чем фактор внезапности»46. Американский флот усвоил урок и больше до конца войны не подвергался подобному разгрому. А японцам пришлось осмыслить собственную психологическую проблему: вновь их адмирал ради вящей осторожности лишил себя шанса развить победу в крупный стратегический успех. Погибшие крейсеры американцы могли заменить, высадившиеся на берегу отряды смогли зацепиться за базу Хендерсона, поскольку десантные суда не пострадали и вскоре вернулись в залив Лунга. Саво американцы тоже вновь отобьют у противника.
Японцы далеко не сразу осознали, какое значение американцы придают Гуадалканалу и с каким упорством намерены удерживать эту позицию. Японцы направляли туда подкрепления небольшими партиями и бросали их в лобовые атаки; всякий раз натиск оказывался недостаточно сильным, чтобы смять охраняемый морской пехотой плацдарм. Но и для американцев на базе Хендерсон и в примыкавших к ней тропических джунглях началась нескончаемая пытка. Видимость в этом переплетении лозы и вымахавшего в рост человека папоротника, среди гигантских деревьев, густо оплетенных ползучими растениями, не превышала одного-двух метров. Даже когда стихал огонь, хватало других мучений: пиявки, гигантские муравьи, малярийные комары взимали с людей свою дань. При высокой влажности распространялись грибковые и накожные заболевания. Моряки, впервые попавшие в джунгли, пугались каждого шороха, а джунгли не умолкают и ночью. «Птицы ли это верещали, или какие-то пресмыкающиеся, или лягушки, понятия не имею, – вспоминал один из участников экспедиции, – но мы всего страшились, тем более что японцы, как нам говорили, окликая друг друга, подражают голосам птиц»47.
Под непрерывным тропическим дождем американцы пытались разбить лагерь в грязи – грязь была главным проклятием всей этой кампании наряду со скудным рационом и дизентерией. Нервы были взвинчены до такой степени, что люди часто по ошибке стреляли друг в друга. Постоянно приходилось эвакуировать в госпиталь жертв военного невроза. Если во взводе четыре человека впадали в состояние глубокой истерии, командир считал такой процент «выбраковки» (15 %) нормальным. Варварские расправы японцев провоцировали такое же зверство со стороны американцев. Десантник Оре Марион описывал сцену после ожесточенного ночного боя: «На рассвете несколько наших парней, заросшие бородами, грязные, исхудавшие от голода, в рваной одежде, получившие незначительные штыковые ранения, приволокли три отрубленные головы и выставили их на кольях лицом к япошкам, которые засели на том берегу реки. Командир полка обругал их, заявил, что так ведут себя только животные, и грязный, провонявший паренек возразил ему: “Верно, полковник, мы и есть животные: мы живем как животные, едим как животные, с нами обходятся как с животными, так какого дьявола вы от нас ожидали?”»48
Ожесточенные сражения происходили на реке Тенару, где обе стороны несли тяжелые потери: японцы атаковали вновь и вновь с самоубийственной отвагой и без малейшего представления о тактике. Роберт Лекки описывал эти сцены, освещаемые зеленым сигнальным огнем японцев: «Какофония, яростный шум, дикое неистовство, грохот, вопли, визг, свист, разрывы, колебания земли, оглушительные звуки. Попросту ад. Миномет – звук лопающегося пузыря при выстреле и треск при падении; грохот пулеметов и более частый скрежет автоматических винтовок Browning, молотом бьют пулеметы 50-го калибра, сокрушительный удар 75-миллиметрового противотанкового орудия прямо в бензобак противника – каждый звук что-то сообщает привычному уху». После многочасового боя на рассвете проступали очертания множества вражеских трупов и горсточки уцелевших»49. Но то же самое повторялось ночь за ночью: бесконечные атаки и контратаки, изнурявшие американцев.
«Боевой дух упал очень низко, – вспоминал удостоенный военно-морского креста лейтенант Пол Мур. – Но так уж устроена морская пехота: когда нас посылали в атаку, мы всегда пытались прикончить врага»50. Переплывая со своим взводом через реку Матаникау, этот молодой офицер поднял голову и увидел, как над головой пролетают мины и гранаты, «пули осыпали нас дождем». Мур, который за несколько месяцев до того учился в Йеле, был ранен пулей в грудь в тот момент, когда швырнул гранату, чтобы заткнуть пасть японскому пулемету. «Через отверстие в легком входил и выходил воздух. Я решил, что я покойник, прямо сейчас умру. Дышал я не ртом, а через эту дыру. Как воздушный шарик – надувается, сдувается, пшшш. Я сказал себе: “Я умираю”. Поначалу это казалось абсурдным, учитывая мое происхождение: как я смолоду думал, что буду жить богато, в роскоши и так далее, и вот я умираю на каком-то тропическом острове, лейтенант морской пехоты. Вроде как это и не я. Вскоре ко мне подполз замечательный санитар, сделал мне укол морфия, за ним еще двое с носилками и вытащили меня оттуда».
Три года Тихоокеанской кампании продолжались по образцу, заданному на Гуадалканале: противники боролись за гавани и аэродромы, устраивали стоянки для кораблей и воздушные базы посреди безликой водной пустыни. Японцы так и не смогли компенсировать ошибки, совершенные в самом начале, когда они недооценивали силы и волю американцев. Любая операция на островах по стандартам европейских фронтов казалась незначительной: в самый разгар битвы на Гаудалканале в ней участвовало не более 65 000 человек с обеих сторон на суше и еще 40 000 на боевых и транспортных кораблях. Однако эта кампания оставила одно из самых страшных воспоминаний за всю войну как из-за напряженности и жестокости этих сражений, так и из-за окружающих условий: американцы и японцы каким-то образом поддерживали свое существование среди болот, под тропическими ливнями, терпели жару, болезни, укусы насекомых, угрозы крокодилов и змей, голодали на скудном рационе. Битва за Гуадалканал превратилась в жуткую и нелепую повседневность:
«Все было организовано, налажено словно бизнес или работа, – вспоминал с изумлением и отвращением капрал Джеймс Джонс, который прибыл на Гуадалканал в составе пехотных подразделений на помощь десанту. – Самая обыкновенная работа. Но в основе этого бизнеса была кровь – кровь, увечья и смерть. Берег буквально кишел людьми, все куда-то перемещались, казалось, будто берег живет своей жизнью, вот как если бы на него выбросилась масса медуз или крабов. Эти людские потоки пересекались, все двигались неупорядоченно и очень торопливо. Одеты кто во что, многие скорее раздеты, чем одеты. Самые неожиданные головные уборы – домашние, самодельные, а иной, трудившийся в воде, торчал там в чем мать родила – на всем теле ни единой нитки, только медальон на шее»51.
С августа до ноября численный перевес на Гуадалканале оставался за японцами, но постепенно американские подкрепления и японские потери выровняли баланс в пользу американцев. Бесконечные лобовые атаки разбивались об упорную оборону. Японцы так и не смогли вырвать у американцев базу Хендерсон: американцы превосходили противника и в воздухе, и мощью артиллерийского огня. Однако это преимущество мало чем могло помочь, когда в дело вмешался японский флот. В ходе войны союзникам редко приходилось испытывать на себе такой обстрел с моря, какому Королевский флот и ВМФ США регулярно подвергали противника, однако на Гуадалканале американцы несли существенные потери от залпов с борта японских боевых судов. Четыре октябрьские ночи подряд час за часом: сперва 900 залпов 14-дюймовыми снарядами с линкоров, затем еще 2000 залпов с тяжелых крейсеров. «Ничего более потрясающего я за всю свою жизнь не видел, – вспоминал потом морской пехотинец. – Поблизости был большой бункер: туда угодил снаряд и прикончил всех разом. Мы попытались откопать их, но поняли, что проку в этом нет»52. Корреспондент писал: «С трудом верится, что мы еще здесь, еще живы, еще ждем врага и готовы к бою». Многие самолеты на базе Хендерсон были повреждены, взлетная полоса на неделю вышла из строя.
Японцы с запозданием стали понимать, что эта битва будет в первую очередь испытанием воли. «Нужно предусмотреть возможность того, – писал офицер императорского генштаба, – что битва за Гуадалканал… перерастет в решительное сражение между Америкой и Японией». Тем не менее защитники Гуадалканала порой чувствовали себя забытым отрядом. «Было так одиноко, – писал Роберт Лекки. – Эдакое до тошноты сентиментальное ощущение: сироты мы, сироты. Всем наплевать, думали мы. Миллионы американцев живут изо дня в день своей жизнью, ходят в кино, женятся, посещают лекции и деловые собрания, сидят в кафе, газеты горячатся насчет вивисекции, выступают политические ораторы, на Бродвее премьеры и провалы, таблоиды заполнены скандалами в высшем свете и убийствами в трущобах, актами вандализма на кладбище и актами религиозного покаяния знаменитостей – все та же, все та же, все та же неизменная повседневная Америка, и все эти люди живут, совершенно не вспоминая про нас».
Но миф о непобедимости японской армии был сокрушен именно там, на острове размером всего сто километров на пятьдесят, где корпус морской пехоты США, численность которого возросла многократно – с 28 000 до войны до 485 000 личного состава, – впервые показал себя главной боевой силой Америке на суше. И напротив, стали ясны изъяны японской армии, в первую очередь отсутствие компетентного командования. Даже в победоносную для Японии пору, пока Ямасита умело и ловко проводил операции в Малайе, некоторые детали бирманской и филиппинской операций наводили на мысль, что коллеги этого полководца не способны на инициативу. При защите позиции принцип безоговорочного подчинения приказам еще имеет смысл, но в атаке командирам не хватало сметки и гибкости. Японские солдаты были агрессивнее западных союзников и лучше приучены переносить трудности. Британский генерал Билл Слим с высокомерием белого человека именовал противника «величайшим бойцовым насекомым на свете». Вплоть до 1945 г. подданные Хирохито проявляли поразительное умение сражаться в ночной темноте. Но, несмотря на такие личные свойства японских солдат, в совокупности японская армия не могла равняться ни с вермахтом, ни с Красной армией, ни с корпусом морской пехоты США. С поразительной способностью к самообману японское командование после первых ошеломляющих триумфов предложило оставить на островах немногочисленные гарнизоны, а большую часть войск направить в Китай, который они считали основным театром войны. За неимением обученных кадров для операций в Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах они выскребывали остатки резервистов: затянувшаяся Китайская кампания ослабила и деморализовала японскую армию еще до Пёрл-Харбора, а уж после Пёрл-Харбора японским генералам приходилось мобилизовать всех подряд и отправлять новобранцев в бой после в лучшем случае трехмесячной подготовки. Стратегия японцев проистекала из убеждения, что американцам хватит небольшой трепки и они запросят мира, когда же эта надежда не оправдала себя, японской армии пришлось до конца войны оборонять раздувшуюся империю, не располагая для этого ни достаточным количеством солдат, ни новейшими технологиями. В ходе Тихоокеанской кампании американцы и австралийцы неизбежно овладевали каждым островом, на который они претендовали. Лишь Бирму и Китай японская армия удерживала вплоть до последней фазы войны.
Битва за Гуадалканал разворачивалась не только на островах: с такой же кровавой беспощадностью происходила она и на море. Схватка у острова Саво стала лишь первой в ряду драматических морских сражений, обусловленных главным образом попытками японцев высадить на берег подкрепление или снабдить свои войска боеприпасами и помешать аналогичным действиям американцев. Эсминцы «Токийского экспресса»[14] пытались переправлять по ночам людей и припасы через Слот, узкий подход к Гуадалканалу. Австралийские береговые наблюдатели, прятавшиеся с радиопередатчиками в джунглях на островах, еще занятых японцами, играли в этом противостоянии ключевую роль: они успевали предупредить ВВС о передислокации вражеских кораблей. Эскадры авианосцев, линкоров, крейсеров, эсминцев маневрировали в темноте, стараясь занять наиболее выгодное положение, словно два боксера, кружащих по огромному рингу. Выигрывал тот, кто первым обнаруживал врага и успевал дать залп. Потери обе стороны несли чудовищные: 24 августа сражение у Восточных Соломоновых островов стоило японцам авианосца и многих самолетов, а они в свою очередь успели подбить Enterprise; неделю спустя авианосец Saratoga был подбит торпедой и вынужден, покинув театр войны, укрыться в американском ремонтном доке. Американцы нанесли противнику значительный ущерб у мыса Эсперанс в ночь с 11 на 12 сентября, но 15-го японская подлодка затопила авианосец Wasp и повредила новый линкор North Carolina.
Вице-адмирал Уильям «Бык» Хэлси, возглавивший 18 октября морские операции в регионе, как раз подоспел к одной из самых тяжелых морских битв за всю войну. 26 октября возле Санта-Крус японцы потеряли более 100 самолетов, а американцы – 74, больше, чем немцы и англичане, вместе взятые, в любой день Битвы за Британию. Американцы лишились авианосца Hornet и на протяжении нескольких недель все вылеты морской авиации осуществлялись только с палубы подбитого Enterprise. В ночь на 12 ноября вице-адмирал Хироаке Абе повел эскадрилью, главную боевую силу которой составляли два линкора, бомбардировать Гуадалканал, но столкнулся с американскими крейсерами. Хотя ему удалось нанести противнику серьезный ущерб, потопив шесть кораблей и потеряв всего три, он со свойственной японским командующим осторожностью предпочел отступить после длившейся меньше получаса схватки. Никакой выгоды он из этого не извлек: на следующее же утро один из его линкоров был уничтожен американцами с воздуха.
Два дня спустя пилоты морской пехоты из «Кактусов» (Cactus Air Force), как именовали воздушные силы базы Хендерсон, застигли японский конвой на пути к Гуадалканалу и практически уничтожили его, потопив семь транспортных судов и один крейсер, а три крейсера существенно повредив. В ту же ночь произошла эпическая битва между основными судами американского и японского флота. Адмирал Уиллис «Чинг» Ли выпустил девять залпов 16-дюймовых снарядов по линкору Kirishima, и тот пошел ко дну – потеря, равная линкору South Dakota, которого лишился американский флот. На рассвете за берег зацепились лишь жалкие остатки японского десанта с четырех выбросившихся на берег транспортных судов из погибшего конвоя. Вся их тяжелая военная техника ушла на дно. Ночью 30 ноября пять американских крейсеров атаковали неподалеку от Тассафаронги восемь японских эсминцев, которые пытались доставить своим наземным силам припасы и оборудование. Один американский крейсер затонул, три были повреждены торпедами, а японцы недосчитались лишь одного эсминца.
Так разворачивались эпические сражения. Обе стороны вовлекали всё бόльшие морские силы и шли на крупные жертвы: в сражениях у Соломоновых островов японцы и американцы потеряли в совокупности около 50 крупных боевых кораблей. Участники боевых действий привыкали к долгому напряженному ожиданию, чаще всего в темноте, когда операторы радаров, истекая потом, приникали к мониторам, опасаясь пропустить появление врага. Многие моряки познакомились и с леденящим ужасом, который охватывает находящихся на палубе, когда они попадают в перекрестье лучей вражеских прожекторов и понимают, что сейчас последует залп. Вновь и вновь они вступали в эти граничащие с безумием схватки, когда суда на близкой дистанции обмениваются орудийными и торпедными залпами, и продуманная архитектура палуб, надстроек, орудийных башен, машинного зала в мгновение ока превращается в хаос исковерканного железа и огня.
Участники боев видели, как матросы десятками, сотнями бросаются с тонущих судов в море. Кому-то удавалось спастись, но далеко не всем. Когда взорвался крейсер Juneau, Томас Салливан и его супруга из города Ватерлоо, штат Айова, потеряли разом пятерых сыновей. Пилоты, поднимавшие бомбардировщики с палуб авианосцев, понимали, что за сотни километров от них в эту минуту, скорее всего, взлетают самолеты противника – вернувшись с задания, смогут ли они приземлиться на ту же палубу или она уже будет разворочена взрывом? Только обустроив базу Хендерсон, американцы смогли компенсировать потерю авианосцев и полностью использовать свои воздушные силы. Сражение на море и в воздухе у Гуадалканала во второй половине 1942 г. стало самым длительным и жестоким из морских сражений за весь период этой войны.
В конце концов победителями из него вышли американцы. После ноябрьских столкновений адмирал Ямамото, несмотря на успехи своих эскадр, пришел к выводу, что японскому флоту такие потери не под силу. Он известил командование императорской армии о намерении прекратить поддержку наземных сил, остававшихся на Гуадалканале. Это было величайшее достижение американского флота, и в стране его праздновали как личный триумф Хэлси. Американский десант сыграл немаловажную роль в этой победе: он продержался, защищая свой плацдарм и месяцами отражая ожесточенные атаки японцев. В декабре на смену измученным морским пехотинцам явились наконец армейские части. Японцы теперь снабжали свои потрепанные наземные силы только с подводных лодок. В конце января американцы перешли в наступление и загнали противника на узкий плацдарм в западной части острова. Тогда вернулись эсминцы и за ночь эвакуировали 10 652 уцелевших японских солдат.
За то, чтобы захватить и удержать Гуадалканал, американская армия, флот и корпус морской пехоты заплатили жизнями 6700 рядовых и офицеров – не слишком высокая цена за ключевой успех. Японцы понесли значительно бόльшие потери на суше, на земле и в воздухе: всего из строя вышло 29 990 человек, по большей части это были невозвратные потери, причем 9000 японцев умерло от тропических заболеваний из-за неадекватного состояния своей медицины. Славу победы по праву разделяли все виды американских войск. И воздушные войска, и пехота, удерживавшая плацдарм, и морские экипажи проявляли решимость, в которой японцы высокомерно отказывали своему противнику. Потери американского флота удалось быстро восстановить, а японская промышленность с аналогичной задачей не справлялась. В дальнейшем флот Ямамото будет все реже добиваться успеха, в то время как мощь и сноровка американского тихоокеанского флота станут только возрастать. Уже под конец 1942 г. американские пилоты отмечали, что решимость и профессионализм противника в воздухе заметно снизились. Японский штабной офицер отрешенно замечал, что битва за Гуадалканал стала той развилкой, после которой путь ведет либо к победе, либо, как он полагал вслед за Ямамото, к поражению, куда и устремилась семимильными шагами его нация.
Пока морская пехота билась за Гуадалканал, на Папуа – Новой Гвинее, крупнейшем после Гренландии острове Земли, разворачивалась самая затяжная боевая операция в истории Тихоокеанской кампании. Японцы еще в марте 1942 г. высадили на восточном берегу острова небольшой контингент, замышляя нападение на Порт-Морсби, столицу этой управлявшейся Австралией территории. Порт-Морсби находился в 350 км к юго-востоку от места высадки японского контингента. Первоначально японцы планировали атаку морского десанта на Порт-Морсби, но события в Коралловом море нарушили их план, а успехи американцев на Мидуэе месяцем позже и вовсе лишили японцев надежды стремительно овладеть Новой Гвинеей, напав с моря. Командовавший японскими войсками полковник Цудзи лично принял решение овладеть островом более трудным путем продвигаясь по суше – и подделал приказ из императорского штаба, якобы санкционировавший эти действия. Макартур, возглавлявший союзные войска в юго-западном регионе Тихого океана, развернул свои малочисленные силы в надежде воспрепятствовать плану японцев.
Австралийские части начали продвигаться к северному побережью Папуа в июле 1942 г., но японцы первыми захватили там плацдармы и уже собирались с силами для того, чтобы перевалить через хребет Оуэн-Стэнли и подойти к Порт-Морсби. Сражения за единственный доступный проход – Кокодский тракт – были не очень значительны по масштабам, но для каждого участвовавшего в них солдата это был кошмарный опыт. Посреди густых зарослей, карабкаясь по отвесным тропам, влача за собой неподъемный вес снаряжения и припасов, люди бились за каждый шаг. Провиант им поставляли далеко не каждый день, зато ливень хлестал непрерывно, укусы насекомых и болезни усугубляли и без того тяжкое положение.
«Я видел, как люди стояли по колено в грязи на узкой горной тропе и с отчаянием глядели на еще менее доступный гребень, нависавший у них над головами, – писал австралийский офицер своему старому школьному учителю. – И так одна вершина за другой, гребень за гребнем, изнурительный, безнадежный, бессмысленный какой-то ландшафт»53. Все припасы и амуницию пришлось тащить за собой, тем самым битва за Кокодский тракт превращалась в физически непосильную экспедицию – каждый солдат нес на себе от 25 до 40 кг груза. «Как такую тяжесть тянуть за собой вверх, по жидкой грязи? – писал австралийский капрал Джек Крэг. – Земля уходила из-под ног, люди все время падали. Упадешь и думаешь: не вставать бы вовсе. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так выбивался из сил»54. Мучительные страдания солдатам причиняли кровоточащие геморроидальные шишки, хватало и более опасных тропических болезней.
Что же до противника, некоторым расправа с японцами давалась без труда. «Прикончить такое отвратительное животное – вовсе не убийство»55, – пожимал плечами один австралиец. Но его товарищ, которому офицер приказал добить смертельно раненного врага, писал позднее: «Так произошло самое страшное, что может случиться в сражении: и до сих пор меня преследует затравленный взгляд его глаз». Молодой капеллан, находившийся во втором эшелоне того же фронта, писал:
«Не думаю, чтобы с трудностями, лишениями и немыслимыми испытаниями, которые выпали на долю участников этой кампании, сравнится какое-либо другое сражение. Люди прибывают с передовой раненые, заразившиеся ужасными тропическими инфекциями, вымотанные до смерти, в лохмотьях, с отросшими, свалявшимся от грязи волосами и бородами, неделями не мывшиеся, лежавшие в грязи, сражавшиеся с озлобленным и варварски жестоким противником, которого они даже не видели, изнуренные малярией или речной лихорадкой, и мне кажется, что для этих людей следовало бы не пожалеть ничего на свете! Я навидался здесь столько страданий и боли, что окончательно осознал трагедию войны и героизм наших воинов»56.
Подобные наблюдения изливаются из сердца и вполне естественны для человека, который не имел возможности сравнить эти события с муками тех, кто сражался в России, в центральной части Тихого океана, в Бирме или на других фронтах, где ситуация была еще тяжелее. Разумеется, незнакомая и враждебная природа, полное отсутствие удобств и сколько-нибудь привычных условий причиняли солдатам дополнительные муки по сравнению с теми, что приходилось терпеть воинам в Северной Африке или на северо-западе Европы. Однако многомесячные непрерывные стычки, страх, хроническое недосыпание, гибель товарищей, разлука с домом, близкими и привычной жизнью – все это терзало каждого солдата на передовой, где бы ни проходила эта передовая. Многие, особенно в Тихоокеанском регионе, думали, будто противнику приходится легче. Союзники считали, что японцы от рождения приучены к маневрам в джунглях, которые белым были вовсе незнакомы. Однако солдаты Хирохито передают свой опыт примерно в тех же выражениях, что и австралийцы, англичане и американцы, против которых они воевали.
Японцам удалось отбить у австралийцев Кокодский тракт, и они неумолимо преследовали отступавших, то нападая с флангов, то расставляя им засады. Многие погибли в этом отступлении. «Смятение – главная причина, – писал сержант Клайв Эдвардс. – Никто не знал в точности, что происходит, но, когда спереди донеслись звуки боя, нам сказали, что там наши ребята пытаются прорваться. Жалкое зрелище: проливной дождь, длинная колонна вымотавшихся вусмерть людей, напрягающих последние силы в попытке сразить раненого врага и вместе с тем уберечься самим. Растерянность на всех лицах, длинная колонна споткнулась, остановилась, и те, кто оказался сзади, разволновались и стали кричать: “Вперед, вперед, на нас япошки набросятся!”»57 В итоге австралийцы отступили почти до самого Порт-Морсби.
К счастью, удалось предотвратить еще одну угрозу, нависшую над союзными войсками на Папуа. Ultra расшифровала японский план высадки в заливе Милн, на юго-восточной оконечности острова, и туда была поспешно отряжена австралийская бригада. Высадившись в ночь 25 августа, японцы нарвались на сильное сопротивление, и 4 ноября немногие уцелевшие были эвакуированы. Тем не менее у Порт-Морсби сохранялась критическая ситуация. Макартур позволял себе с презрением отзываться о боеспособности австралийцев, но лишь потому, что представления не имел о состоянии Кокодского тракта и условиях, в которых австралийцам пришлось сражаться. Теперь же японцы беспрестанно атаковали удерживаемый австралийцами плацдарм, и надвигалась катастрофа. Предотвратить капитуляцию удалось главным образом благодаря действиям воздушных сил: американские самолеты разбомбили чересчур растянутую линию снабжения противника, и положение японцев заметно ухудшилось, когда же часть их сил переправили с Новой Гвинеи на Гуадалканал, местному японскому командованию было приказано отвести войска на северное побережье Папуа. Австралийцы вновь начали подъем по Кокодскому тракту через хребет Оуэн-Стэнли, и хотя теперь они напирали, а противник отступал, мучения эта экспедиция причиняла всем участникам ничуть не меньшие, чем первая неудачная попытка. «Наши войска сражаются в ледяном тумане на высоте 2000 км, – писал австралийский корреспондент Джордж Джонстон. – Они бьются отчаянно, ведь им остается всего пара километров до вершины, а тогда уж они смогут наносить удары сверху вниз. Это – заветная цель для солдат, прошедших чудовищный путь шаг за шагом, похоронивших на нем стольких товарищей и проводивших в тыл еще большее их число, сраженных недугом или изувеченных осколками, пулями, гранатами. Как поредели ряды бойцов – и этой ценой куплены несколько сотен метров дикой, суровой, совершенно чуждой человеку горы… Люди заросли бородами до самых глаз, их форма представляла собой пестрый набор из любых вещей, способных защитить от холода и укусов насекомых… В зеленоватом полусумраке окруженная вонью гнилой грязи и разлагающихся трупов длинная цепочка одетых в хаки австралийцев устало ползет по горной тропе – кто видел это, тот навсегда запомнит тягостную картину немыслимого ужаса войны в джунглях»58.
В ноябре Макартур высадил на побережье два американских полка с задачей захватить Буну. Зеленые новобранцы, не имевшие ни малейшего представления об условиях, в которых приходилось сражаться на Папуа, показали себя не с лучшей стороны. Австралийцы же выложились до последнего предела на Кокодском тракте. По обе стороны фронта тысячи солдат тряслись в приступах малярии. И все же к началу января 1943 г. Буна пала, а три недели спустя остров был полностью очищен от остатков вражеских войск. Японцы потеряли почти две трети от первоначального контингента в 20 000 человек, австралийцы похоронили 2165 своих товарищей, американцы – 930. Генерал-лейтенант Роберт Эйчелбергер, командовавший американской дивизией, писал: «Странное, коварное сражение, ничего похожего на массированные, громыхающие операции в Европе, где танковые батальоны шли против танковых батальонов и армии численностью с население иного города величественно перемещались и маневрировали. На Новой Гвинее в сезон дождей раненые тонули в грязи прежде, чем до них добирались санитары с носилками. Такое случалось неоднократно. Не бывает хороших войн, и смерть не ограничивает себя тем или иным ландшафтом. Но мы все – и я, и мои солдаты – пребывали в уверенности, что в умеренном климате и погибать приятнее»59.
Операция на Папуа существенно осложнялась разногласиями между союзниками и грубым вмешательством Макартура. Взаимное презрение и претензии австралийцев и американцев порождали ожесточенность, и запоздалый успех под Буной уже никому не доставил радости. Тяжелые бои продолжались и в 1943 г., передовая постепенно смещалась на север по огромному острову. После поражения на Гуадалканале японцы с тем большим ожесточением цеплялись за Новую Гвинею и перебрасывали сюда подкрепления. Но в марте в битве на море Бисмарка им был нанесен сокрушительный удар. Пятая авиаэскадрилья Джорджа Кенни, вовремя предупрежденная Ultra, предприняла ряд налетов на японский конвой, потопив восемь транспортных судов и четыре эсминца на пути из Рабаула, уничтожив таким образом большую часть спешившего на Папуа – Новую Гвинея подкрепления.
После многих месяцев сухопутных боев с переменным успехом произошел решающий прорыв, когда Кенни сумел втайне построить авиаполосу, с которой его истребители долетали до основных вражеских авиабаз в Веваке. В августе 1943 г. они совершили мощный налет и практически уничтожили воздушные войска Японии в этом регионе. После этого перешли в широкомасштабное наступление и сухопутные силы, состоявшие к тому времени из одной американской дивизии и пяти австралийских. К сентябрю 1943 г. в руки союзников перешли основные плацдармы противника, а 8000 уцелевших японцев начали отступать на север. К декабрю удалось очистить от врага полуостров Хуонг, и превосходство союзников в этой кампании сделалось очевидным. Ultra установила местоположение еще остававшихся на острове японцев, что позволило Макартуру провести ставшую знаменитой операцию: обойдя вражеские войска и высадившись 22 апреля 1944 г. в Холландии (Нидерландская Новая Гвинея), союзники отрезали японцам путь к отступлению. Сражения на острове продолжались до конца войны, основные силы союзников здесь составляли австралийцы. В августе 1945 г. из джунглей вышли и сдались 13 500 еще остававшихся на Папуа японцев.
Кампания на Новой Гвинее до сих пор остается предметом оживленных споров. Страдания всех участников этих событий были ужасны, и в необходимости таких действий, особенно на последних этапах войны, возникали сомнения. В течение нескольких недель перед сражениями в Коралловом море и у Мидуэя имелись опасения, что Папуа может стать для японцев трамплином для прыжка на Австралию, но к июню 1942 г. об этом уже не было и речи. В некотором смысле с того времени эта кампания превратилась в тихоокеанского двойника британских операций 1942–1943 гг. в Северной Африке и Бирме. Как только американскому морскому флоту и ВВС США удалось захватить стратегическое превосходство, японцы столкнулись с непреодолимыми трудностями: как снабжать свои войска и посылать им подкрепления на столь большие расстояния по морю? С точки зрения союзников, стратегический смысл этой кампании заключался главным образом в том, что на этом театре войны боевые действия велись в не слишком широком масштабе: сухопутные силы англичан и американцев сковывали противника, но были в ту пору слишком слабы, чтобы нанести решающий удар.
Основные операции против Японии оставались уделом американского флота, который постепенно овладевал центральной частью Тихого океана. Месяц за месяцем на этом раскинувшемся на тысячи квадратных километров поле боя американские самолеты, корабли и субмарины уничтожали морские силы Японии, без которых становилось немыслимым поддержание растянутых цепочек снабжения. В 1942–1943 гг. союзникам требовались аэродромы на Папуа – Новой Гвинее, они вступили в битву за эти аэродромы и победили. Но в 1943–1944 гг. едва ли имелась необходимость проводить дорогостоящие операции с целью изгнать японцев с северного побережья, ведь к тому времени их воздушные и атакующие силы были уничтожены. Однако кампания на Папуа – Новой Гвинее, как и многие другие, набрала темп и подчинялась уже собственной логике. Когда десятки тысяч солдат брошены в сражения, понесены потери, поставлены на карту репутации полководцев, становится все труднее смириться с любым исходом, кроме победы. В итоге единственным командиром высокого ранга, укрепившим свою репутацию в ходе кампании на Папуа – Новой Гвинее, оказался Кенни, один из действительно выдающихся офицеров воздушного флота.
Через год после Пёрл-Харбора продвижение японцев в Азии и на Тихом океане было остановлено и началось отступление. Участь Токио была решена, хотя и после того, как надежды Японии на молниеносную победу рухнули и стало совершенно ясно, до какой степени американцы нацелены на победу, народ Хирохито продолжал сражаться с тем же слепым упорством. Японская стратегия проистекала главным образом из уверенности в торжестве немцев на Западе, но под конец 1942 г. эта уверенность уже никак не подкреплялась реальностью. С этого момента, казалось бы, Токио следовало предпочесть мир на любых условиях и даже безоговорочную капитуляцию неизбежной каре от рук американцев. Но в Японии, как и в Германии, не появилось ни одной партии, которая проявила бы готовность и способность увести свой народ с погибельного пути. «Сиката га най» – «Ничего не изменишь». Жалкая отговорка для тех, кто посылал миллионы на смерть, уже не надеясь получить в результате никакой выгоды для своей страны. Но это исторический закон: народ, развязавший войну, обычно не находит в себе мужества положить ей конец.
11. Королевский флот
1. Атлантический океан
Роль английской армии в борьбе против нацизма оказалась намного меньше роли России. Так же невелик будет и вклад сухопутных сил США. После поражения 1940 г. основная стратегическая задача Великобритании, сверх ее значения символа, олицетворяющего упорное сопротивление Гитлеру, сводилась к роли морской базы – по сути дела, вся страна превратилась в гигантский авианосец, с которого взлетали устремлявшиеся на Континент бомбардировщики. Основная же борьба в 1940–1943 гг. выпала на долю Королевского флота: он охранял морские пути в колонии, обеспечивал снабжение островов, доставлял солдат к заморским полям сражений и пробивался с боеприпасами и провиантом в Россию. Морская мощь не в состоянии была нанести решающее поражение Германии, не сумела даже защитить восточную часть Британской империи от японцев. В этом и заключалась фундаментальная для обоих западных cоюзников проблема: морские державы не могли разгромить сильную сухопутную армию, это бремя ложилось в первую очередь на плечи России. Но если бы старания немцев перерезать морские коммуникации увенчались успехом, народ Черчилля умер бы с голоду: 23 млн тонн припасов – половина довоенного импорта – доставлялись ежегодно через Атлантический океан. В море эти корабли перехватывали вражеские рейдеры, под водой таились субмарины.
Оборонять этот поток транспорта было трудным и опасным делом. ВМФ Великобритании пострадал от разоружения в межвоенную эпоху не меньше, чем другие виды войск. На строительство большого корабля уходят годы, и даже на строительство небольшого конвойного суда – месяцы. Британские верфи дурно управлялись, трудились на них несгибаемые члены профсоюзов, которые начали всерьез работать лишь тогда, когда Советский Союз перешел на сторону союзников и коммунисты стали поддерживать борьбу против немцев. Строительство и ремонт судов в Британии затягивались намного дольше, чем в США, хотя и обходились существенно дешевле. За американской скоростью производства англичане никак не могли угнаться. Более всего в первые годы войны ВМФ недоставало конвойных судов.
Непросто было и сосредоточить превосходящие силы против крупных боевых кораблей врага: пусть этих кораблей было и немного, но каждый из них представлял собой грозную силу, а находились они в море на расстоянии сотен километров друг от друга. В первые годы войны немецкие рейдеры причиняли британскому флоту не меньше проблем, чем подводные лодки: конвоям приходилось делать большой крюк, обходя наиболее опасные зоны; нес потери и торговый флот Великобритании. В период с 1939 по 1943 г. немецкие вылазки не раз завершались драмой, приковывавшей внимание всего мира: так, карманный линкор Graf Spee потопил девять торговых кораблей, прежде чем столкнулся с тремя британскими крейсерами и вынужден был удирать по реке Ла-Плате навстречу своей гибели. Пятидесятишеститонный Bismarck успел уничтожить крейсер Hood, прежде чем довольно неуклюже организованная охота нескольких британских эскадр 17 мая 1941 г. увенчалась гибелью немецкого судна. Народ Черчилля вознегодовал, когда Scharnhorst и Gneisenau прорвались в Вильгельмсхафен из Бреста через Ла-Манш 21–22 февраля 1942 г., получив лишь незначительный ущерб от мин, а все попытки флота и ВВС перехватить эти линкоры оказались тщетными. Присутствие Tirpitz во фьордах Северной Норвегии сковывало прохождение арктических конвоев и вплоть до 1944 г. влияло на размещение кораблей Флота Метрополии[15]. А еще море бороздили многочисленные итальянские корабли, когда же в войну вступила Япония, Королевский флот понес немалые потери и от этого противника.
Большинство английских кораблей были старыми, неповоротливыми, на них не удавалось разместить тяжелое современное оборудование для управления огнем. Лучшей системой наведения в ту пору считалась стабилизированная по трем осям установка Hazemeyer – новинка голландского флота была принята на вооружение Королевским флотом в 1940 г. Однако эта система тоже оказалась хрупкой и ненадежной, собственная же британская версия поступила в массовое производство только в 1945 г., а до тех пор системы артиллерийского и зенитного огня оставались малоэффективными. Вплоть до 1943 г. в составе британского флота имелось больше авианосцев, чем у США, но и их не хватало: они требовались одновременно в разных местах, к тому же они не могли доставлять к месту назначения крупные эскадрильи. Пилоты морской авиации отличались отвагой, но особого успеха не добились ни в воздушных схватках, ни в операциях против морского флота, а ВВС, педантично выполнявшие поставленную перед ними задачу – бомбить города на Континенте, – отказывались отвлекать ресурсы для поддержки морских операций. Всю войну Королевский флот демонстрировал высочайший уровень смелости, верности долгу и профессионализма, но вплоть до 1943 г. ему приходилось выполнять слишком много задач недостаточным числом кораблей, подвергавшихся опасности воздушных налетов.
Полномасштабная военная кампания, развернутая по настоянию Черчилля в Северной Африке, вынудила флот проводить операции в Средиземном море с минимальным прикрытием с воздуха, притом что эскадрильи оси взлетали с аэродромов в Италии, на Сицилии, в Ливии, на Родосе, в Греции и на Крите. Матрос первого ранга Чарльз Хатчинсон описал воздушный налет на крейсер Carlisle в мае 1941 г.:
«Бомбардировщики пикировали на нас волна за волной. Они словно бы наметили наше судно, выделив его среди всех, и предприняли массированную атаку – и вертикальную, и с разных углов. Здоровенная бомба взорвалась в воде поблизости от нашей пушки. Тонны воды обрушились на нас, утащили прочь от пушки, разметали как солому. Я подумал, что нас смоет за борт. Одна мысль мелькнула в мозгу: “Господи, это конец”. Так протекла вечность, а потом мы кое-как пришли в себя, надули спасательные жилеты и сбросили обувь, готовясь покинуть судно. Однако нам тут же пришлось снова стрелять, потому что воздушный налет не закончился. Повсюду валялись большие осколки шрапнели. Над центральной палубой поднимался широкий столб дыма, второе орудие было уничтожено прямым попаданием – уже не орудие, а кусок спекшегося металла… Погиб почти весь орудийный расчет, парней задавила опрокинувшаяся пушка. Жуткое зрелище. Полтора года мы жили как одна семья, спали рядом, смеялись, ссорились, шутили, вместе сходили на берег, обсуждали личную жизнь… Бедняга Боб Силви так и остался лежать под пушкой. Я его видел, но вытащить его не мог»1.
Мальта, единственный морской плацдарм в центральном Средиземноморье, с которого удавалось перехватывать снабжение войск оси в Северной Африке, выдержала три года осады. Из-за постоянных воздушных налетов с соседней Сицилии остров порой «выходил из строя» и не мог служить приютом для подводных лодок и кораблей, но здесь до конца проявилась упорная воля Британии сопротивляться и не капитулировать. Гитлера раззадорило неудачное покушение на Мальту в 1941 г., и с тех пор он не жалел усилий и жертв, пытаясь все же овладеть островом. В период с июня 1940 г. до начала 1943 г. западные союзники были практически лишены торговых путей через Средиземноморье, однако Черчилль настаивал на заметном военном присутствии в регионе, и английский флот использовал любую возможность, чтобы потрепать врага, в особенности итальянцев. Эти сапфировые воды сделались местом самых ожесточенных сражений и могилой многих британских кораблей. Державам оси все труднее было сохранять морскую связь с Северной Африкой, но все же путь с юга Италии до Триполи недалек, и только к середине 1942 г. потери кораблей и недостаток топлива начали сказываться на положении армии Роммеля.
Основным полем морских сражений стал Атлантический океан, всегда славившийся свирепостью. Сигнальщик Ричард Батлер описывал обычный для этих широт шторм: «Ничего не видно за вращающейся водяной воронкой. Ветер воет, сотрясая надстройку. Мы словно по кипящей воде плывем, ветер срывает с волн пену, и она летит горизонтально, белая, дымящаяся, прямо в лицо и в глаза. Иногда удается разглядеть какой-нибудь из больших торговых кораблей: они перекатываются на высоких валах и то взметнутся к покрытому тучами небу, то рухнут»2. Эсминец Батлера Matchless пытался подойти к гражданскому судну, у которого волной была расколота верхняя палуба, расползалась щель шириной в четыре метра. Одного из матросов с эсминца смыло за борт. Капитан принял отважное и глупое решение – развернуться и попытаться обнаружить несчастного. Батлер думал: «Капитан свихнулся, он рискует жизнями двухсот человек ради придурка, не сообразившего вовремя уйти с верхней палубы». Через несколько минут бесполезные поиски прекратились. Позднее выяснилось, что погибший был товарищем Батлера, ел с ним за одним столом: «Я был огорчен и потрясен, глубоко сожалел о своих эгоистических помыслах… “Снежка” все любили и посмеивались, такой он был обжора. Больше мы не услышим, как он жизнерадостно осведомляется за обедом: ‘Какая-нибудь фигня осталась?”»
На корветах, этих рабочих лошадках конвоя, условия существования были намного хуже – «чистый и беспощадный ад»3, по словам служившего там моряка. «Даже доставить горячую еду из камбуза на боковую надстройку – тяжелейшая проблема. Столовая палуба, как правило, вся завалена, а уж как мы уставали, физически и морально. Но мы были молоды и крепки, в каком-то смысле мы гордились своими испытаниями и переносили их легко. Никому и в голову не приходило спросить, сильно ли все это помогает победе над Гитлером. Достаточно проснуться утром живыми и уповать, что в порту нас ждет жратва и возможность проветриться».
И не приходилось забывать о существовании врага. Немецкие линкоры контролировали основные маршруты и наносили некоторый ущерб конвоям, но гораздо бόльшую угрозу представляли собой подводные лодки и самолеты оси. Они были укомплектованы опытными и храбрыми бойцами. В самом начале прославились подводные лодки, потопившие в Скапа-Флоу старое боевое судно Royal Oak и распугавшие беззащитные торговые суда. Черчилль еще в должности первого лорда Адмиралтейства подсчитал, что в 1939 г. импорт в метрополию упал на 30 % именно из-за необходимости снаряжать конвои. Торговые суда неделями дожидались, пока соберется очередной конвой. Через океан они продвигались мучительно медленно, по прибытии их дополнительно задерживали британские докеры, работавшие неторопливо, подчас умышленно саботировавшие погрузку и разгрузку. Многие корабли, в мирное время перевозившие товары, теперь были мобилизованы, и на них кружным путем, чтобы избежать скоплений вражеских самолетов и субмарин, переправляли войска, технику и оружие. Так, весь груз, предназначавшийся Египту, совершал путешествие вокруг мыса Доброй надежды. Путешествие до Суэцкого пролива вместо прежних 5000 км растянулось на 23 000 км, а до Бомбея суда преодолевали уже не 10 000 км, как в предвоенное время, а 19 000 км.
Вплоть до 1943 г. Королевскому флоту заметно недоставало конвойных судов и эффективных технологий для охоты на подводные лодки. Англичане потопили 12 подводных лодок в 1940 г., с сентября того же года по март 1941 г. – всего три: разведка и грамотное распределение маршрутов сыграли в борьбе против адмирала Дёница куда большую роль, чем специализированный конвой. Командование флота долго не желало видеть, какой опасности подвергаются торговые суда на подходе к Африке: в 1941–1942 гг. хватило всего лишь двух подводных лодок дальнего действия (тип IX), чтобы нанести торговому флоту существенный ущерб. Этому способствовал и строго соблюдаемый субмаринами режим радиомолчания, а также недостаток ресурсов для обороны у англичан, в особенности их угнетало отсутствие поддержки с воздуха. Береговой команде ВВС не хватало самолетов, экипажи гидросамолетов дальнего радиуса Sunderland не отличались ни навигационными навыками, ни умением бросать глубинные бомбы, и это в совокупности с техническими проблемами означало, что в 1941 г. на один самолет приходилось в среднем не более двух боевых вылетов в месяц. Также и многие эсминцы Королевского флота вплоть до 1942 г. были заняты охраной береговой линии Великобритании.
Потери союзного флота в целом за войну распределяются следующим образом: 6,1 % от вражеских кораблей, 6,5 % от мин, 13,4 % от воздушных налетов, и более 70 % от подводных лодок. Первые серьезные потери англичане понесли осенью 1940 г., когда медленно продвигавшийся на восток атлантический конвой SC7 лишился 21 корабля из 30, а более проворный HX79 – двенадцати из 49 судов. С этого момента темп подводной войны неуклонно возрастает: за 1941 г. британский флот потерял суда общим водоизмещением 3,6 млн тонн, почти две трети (2,1 млн тонн) этого ущерба Королевскому ВМФ нанесли субмарины. Черчилль всерьез обеспокоился, и его послевоенное заявление, что подводные лодки вызывали у него бόльшую тревогу, чем любые другие угрозы, существенно повлияло на историографов этих событий. Опасения премьер-министра вполне понятны, ведь вплоть до мая 1943 г. он каждую неделю получал отчет о потерях, свидетельствовавший о продолжающемся истощении транспортного потенциала Великобритании.
Но и подводный флот Дёница был не так уж силен. Довоенный план развития Германии предусматривал достижение максимального состава флота лишь к 1944 г. В cудостроении полностью сосредоточились на больших кораблях: из металла, пошедшего на Bismarck, можно было склепать сотню подводных лодок. Накануне войны адмирал Эрих Редер, главнокомандующий морскими силами Германии, писал: «Мы не готовы играть существенную роль в войне против британского коммерческого флота». До июня 1940 г. Дёниц не помышлял о крупномасштабных действиях в Атлантическом океане, поскольку не располагал ресурсами для этого: основу его подводного флота составляли небольшие лодки ближнего радиуса действия (тип VII), которые предназначались для действий с баз, расположенных на территории Германии. Даже когда стратегическая ситуация радикально изменилась, после того как Гитлер захватил атлантические порты Норвегии и Франции, немецкие судостроители продолжали выпускать подлодки типа VII. Из-за недостатка стали и квалифицированных рабочих, позднее также из-за бомбардировок производительность немецких верфей отставала от английских. С технической точки зрения немецкие подводные лодки оставались примитивными. Инновации – к примеру, внедрявшаяся в 1944–1945 гг. система РДП (для подачи воздуха при перископном положении) – не успевали проверять на надежность, а революционная подводная лодка типа XXI впервые заступила на боевое дежурство 30 апреля 1945 г.
Одним словом, флоту Дёница недоставало и численности, и качества, и радиуса действия. Подобно тому как люфтваффе в 1940–1941 гг. пыталось отправить Британию в нокаут, не располагая для этого ресурсами, так и подводный флот никак не справился бы с задачей перерубить атлантические коммуникации союзников. Чтобы превратить свой подводный флот в оружие победы, Германии следовало строить намного больше субмарин. Согласно подсчетам самого Дёница, для решительной победы нужно было ежемесячно топить английские суда общим водоизмещением 600 000 тонн, а для этого ему требовалось 300 подводных лодок, чтобы треть этого количества постоянно держать в регионах боевых операций. Однако в боевых операциях в августе 1940 г. участвовало всего 13 субмарин, к январю 1941 г. их число сократилось до восьми, а в следующем месяце увеличилось до 21. Этот маленький отряд натворил немало бед: с июня 1940 г. по март 1941 г. на дно отправились британские суда общим водоизмещением 2 млн тонн. Но за это время были построены всего 72 новые подводные лодки, намного меньше заказанного Дёницем количества. Максимальной эффективности (измеряемой тоннажем затопленных судов на субмарину) они достигли в октябре 1940 г., а с тех пор, несмотря на то что в море выходило все большее число подводных лодок, их достижения в пересчете на лодку снижались.
В ходе войны союзный флот набирался опыта и профессионализма, а качественный состав и решимость экипажей германских подводных лодок шли на убыль. Один за другим асы Дёница погибали или попадали в плен, а на смену им приходили моряки не столь крупного калибра. Пусковые торпедные аппараты были почти так же плохи, как американские в 1942–1943 гг. Руководство операциями нарушалось из-за частой смены стратегии и импульсивных вмешательств Гитлера. Немецкая морская разведка хромала, знания о стратегии, тактике и технологии противника были недостаточными.
Статистика говорит сама за себя: 99 % кораблей, отплывших во время войны от берегов США, благополучно прибыли в Англию. Даже в тяжелые дни апреля 1941 г. из 307 торговых судов, собиравшихся в конвои, было потоплено только 16, также погибло 11 кораблей, шедших без эскорта. В июне того же года 383 корабля пересекли Атлантику; немецкие подводные лодки атаковали только один конвой и потопили шесть кораблей и еще 22 торговых корабля, шедших в одиночку. В 1942 г., в самый напряженный период войны с подлодками, в северной части Атлантического океана погибло 609 кораблей общим водоизмещением 6 млн тонн. Однако производственная мощь американских верфей была так велика, что за тот же период союзники спустили на воду суда общим тоннажем 7,1 млн, увеличив размеры своего флота до 30 млн тонн.
Но, как это свойственно людям, основные проблемы союзники причиняли себе сами. Историки могут подтвердить, что в 1942 г. ущерб от подводных лодок достиг пика, и с того момента они начали проигрывать войну против конвоев, но Черчилль и Рузвельт видели ту же картину иначе: постоянно нарастающие потери, которые, если не положить им конец, всерьез скажутся на усилиях добиться победы. В 1942 г. импорт в Англию сократился на 5 млн тонн, возник дефицит продуктов и топлива (запасы топлива сократились на 15 %, и государство вынуждено было расстаться с частью своих стратегических резервов, правда, изрядных). Основной причиной этого затруднения был, однако, не Дёниц: 200 кораблей сняли с атлантических маршрутов, чтобы наладить арктический конвой в Россию. Однако независимо от причины сокращение поставок обеспокоило народ, который и без того видел, как его войско теснят на многих театрах войны и не только на земле, но и в воде, и в воздухе.
Даже когда США снабдили Великобританию несколькими самолетами B-24 Liberator максимально дальнего радиуса перелета, то есть идеально подходящими для поддержки атлантических конвоев, английские ВВС нашли большинству из них другое применение. Сэр Артур Харрис, возглавлявший с 1942 по 1945 г. подразделение бомбардировщиков, свирепо возражал против любых попыток отвлечь тяжелые самолеты от боевых задач и направить их на сопровождение конвоев. «Вечно приходится бороться с флотом, иначе он утащит у нас все, – ворчал Харрис, ненавидевший собственных моряков почти так же сильно, как немцев. – Половину времени я трачу на то, чтобы избавить бомбардировщики от посторонних заданий, и при этом армия и флот вечно принижают заслуги ВВС»4. «Слепое пятно» Атлантики, та часть океана, куда не долетали самолеты с наземных авиабаз, оставалась средоточием деятельности подводных лодок вплоть до конца 1943 г.
В среднем в неделю по североатлантическому маршруту проходил один конвой, редко два5. Многие добирались без потерь, потому что немцы не успевали их обнаружить. Данные радиоперехвата Ultra и Huff-Duff (радаров военных кораблей) зачастую помогали изменить курс конвоя и увести его подальше от мест скопления вражеских подлодок. Согласно одному статистическому подсчету, только за вторую половину 1941 г. Ultra спасла от уничтожения союзные суда общим водоизмещением от 1,5 до 2 млн тонн. В течение нескольких месяцев 1941 г. американские военные корабли сопровождали конвои к востоку от Исландии, но после Пёрл-Харбора эти корабли ушли в Тихий океан, а им на смену явились канадские корветы, Королевский же флот встречал конвои на подступах к Ла-Маншу. С 1941 по 1943 г., в основной период Битвы за Атлантику, Адмиралтейство обеспечивало 50 % судов сопровождения, Канадский флот – 46 %, и малую лепту вносили американцы.
Но, хотя действия немцев, особенно в 1941–1942 гг., не отличались продуманностью, все же торговый флот союзников болезненно ощущал последствия этой войны. Экипажи набирались из разных народов империи. Быть может, кто-то из молодых англичан предпочел службу в торговом флоте мобилизации в армию, но едва ли это можно назвать безопасным выбором: некоторым морякам приходилось и дважды, и трижды покидать тонущее судно. Майкл Пейдж описывает подобную катастрофу в ночи, посреди Атлантического океана:
«Только что мы дежурили на палубе или в машинном зале или крепко спали на койках, а в следующую минуту бились с плотной воющей тьмой, которая обрушивала на нас валы ледяной пены, мы скользили и падали на мокрой железной палубе, которая, накренившись, все быстрее погружалась в прожорливый океан. “Что случилось? Что случилось?” – твердил кто-то срывающимся, плачущим голосом, полным испуганного удивления. В каком-то исступлении, повинуясь инстинкту, мы боролись с тугими неподатливыми веревками и неуклюжей тяжестью шлюпки. Ухитрились спустить шлюпку, посыпались в нее – кто-то спрыгнул удачно, кто-то мимо, не рассчитав расстояние. “Отвали!” – рявкнул чей-то голос: лодка была переполнена, и этот крик подхватило несколько голосов, но тут же эхом отозвались крики, вопли у нас над головой: “Нет, подождите, подождите!” Что-то темное пробивалось сквозь тьму, с громким всплеском раздвигая волны, вынырнуло у самого борта, ухватилось за планшир. Через шлюпку перекатилась волна, вымочив нас до нитки, мы задыхались и отплевывались, от холода едва не останавливалось сердце. Кто-то поспешил отдать фалинь. Все ли успели сесть в лодку, бог весть: нас тут же отнесло от корабля»6.
Те, кому повезло выжить в кораблекрушении, сталкивались с тяжелейшими испытаниями многодневного плавания в хрупкой шлюпке. 21 августа 1940 г. немецкий вспомогательный крейсер Widder потопил британский угольный транспорт Anglo-Saxon в 1500 км к западу от Канарских островов. Большинство моряков были расстреляны в воде из пулеметов, ускользнула лишь крошечная шлюпка, и в ней семеро моряков во главе со старшим помощником Денни. На рассвете они осмотрели припасы и убедились, что у них есть при себе немного воды и галет и несколько консервных банок. Некоторых успели задеть немецкие пули: у радиста Пилчера от стопы осталась лишь кровавая каша; Пенни, немолодой артиллерист, пытался забинтовать раны в бедре и запястье.
Первые несколько дней они довольно бодро плыли на запад, но к 26 августу их измучила жажда, кожа горела, у Пилчера началась гангрена ноги, он все время извинялся перед товарищами за вонь. Денни записал в бортовой журнал: «С Божьей помощью и британской решительностью надеемся достичь берега»7. Но ситуация стремительно ухудшалась. 27-го умер Пилчер. Денни сломался. Пенни, ослабевший от ран, свалился за борт во время ночной вахты. Двое невзлюбивших друг друга матросов подрались. На тринадцатый день пути оторвалось рулевое весло. Для Денни это оказалось последней соломинкой. Отдав одному из товарищей перстень-печатку с просьбой передать его матери, старший помощник вместе с механиком бросились в море.
Вечером 9 сентября судовой повар по имени Морган вдруг поднялся и сказал: «Пройдусь в бар, выпью», – и шагнул за борт. В шлюпке осталось только двое молодых матросов. Один из них, двадцатилетний Уилберт Уиддиком, внес в журнал лаконичную запись: «Повар рехнулся, погиб». В один из следующих дней двое уцелевших тоже спрыгнули за борт, но, поспорив какое-то время, передумали и забрались обратно в лодку. Вскоре тропический ливень спас их от жажды, они питались плавучими водорослями и облепившими водоросли крабами. Пережив несколько штормов и множество ссор, 27 октября они завидели вдали берег. Двое спасенных добрались до Багамских островов, преодолев без малого 4000 км.
После долгих месяцев лечения Уиддиком в феврале 1941 г. был отправлен домой пассажиром на грузовом лайнере Siamese Prince и погиб, когда в это судно угодила торпеда подводной лодки. Выжил только девятнадцатилетний Роберт Тэпскотт, отслужил в Канадской армии, а после войны выступал свидетелем на процессе против капитана Widder, которого судили за расстрел моряков, пытавшихся спастись с Anglo-Saxon, и за аналогичные преступления и приговорили к семи годам тюремного заключения. Ужасы, выпавшие на долю Тэпскотта и его товарищей, повторялись в пору войны на море сотни раз, и нередко не оставалось ни одного выжившего, кто мог бы поведать свою трагическую историю.
Моряки торгового флота, как и все остальные участники вооруженного конфликта, проявляли себя по-разному. Их набирали из множества наций, и дисциплина здесь все же была не столь суровой, как в ВМФ, а потому «гражданские» частенько забывали о соблюдении маршрута, правилах подачи сигналов и связи с конвоем. Бывало и так, что экипаж, запаниковав, бросал корабль, который вполне мог оставаться на плаву. Но сохранилось и немало примеров героической отваги; один из них – судьба дизельного торгового лайнера Otari водоизмещением 10 350 тонн. 13 декабря 1940 г. на пути из Австралии в Англию, всего в 750 км от гавани, это судно было подбито торпедой, и в кормовой трюм хлынула вода. В кильватере теперь плыли мороженые овечьи туши и ящики с маслом. Гребные валы протекали, переборка машинного зала грозила обрушиться. Но капитан Райс счел возможным спасти судно: одни в океане, укрытые благодетельным туманом от повторных атак врага, Райс и его матросы удерживали Otari на плаву, медленно подвигаясь вперед и непрерывно откачивая помпами воду. Наконец судно добралось до устья Клайда, однако уже настал вечер, и защитный бон был закрыт. Лишь на рассвете 17 декабря Райс ввел наконец свое почти ушедшее под воду судно в гавань, и шаланды сняли с корабля большую часть его драгоценного груза. Благодаря такому упорству и отваге Великобритания удерживала «дорогу жизни» через Атлантический океан.
В 1941 г. Великобритания построила новые суда общим тоннажем 1,2 млн, научившись к тому времени максимально экономно использовать морской транспорт. Корабли сопровождения постепенно оснащались улучшенными радарами и гидролокаторами, что позволило им потопить несколько подводных лодок. Уже можно было утверждать, что блокада Великобритании не удалась. К концу лета того года англичане свободно считывали переговоры немецких подлодок. Часть флота Дёница была переведена в Средиземное море или на север Норвегии в связи с началом операции Barbarossa, и к зиме 1941 г. Гитлер простился с надеждой уморить Англию голодом: в войну вступили Соединенные Штаты, и их огромный потенциал наличного флота и нового судостроительства радикально изменил ход войны. Правда, в месяцы после Пёрл-Харбора подводные лодки вновь одержали несколько заметных побед, главным образом потому, что американский флот не спешил с введением четких процедур составления конвоя и обязательного сопровождения. Потери немецкого военного флота еще не были столь велики, чтобы размыть его качественный состав, и Добровольческий корпус Дёница, как они себя с гордостью именовали, оставался элитой флота. Командир подводной лодки Эрик Топп писал: «Служа на подводной лодке, живя на ней, приходится осваивать и оттачивать способность взаимодействовать с другими членами экипажа, ведь от этого может в буквальном смысле зависеть ваша жизнь. Покидая гавань, закрывая люк, и ты сам, и твой экипаж прощаетесь с пестрым миром, с солнцем и звездами, ветром и волнами, даже с запахом моря. Вы находитесь в постоянном напряжении, запертые в стальной трубе, в маленьком, ограниченном, тесном пространстве, в постоянной скученности, скуке, ваш образ жизни никак нельзя назвать здоровым – затхлый воздух, отсутствует привычная смена дня и ночи, недостает физических упражнений»8. Но и на поддержку бодрого духа своих подчиненных капитан усилий не жалел. Однажды, через несколько часов после выхода из порта, капитан заметил, что его штурман непривычно угрюм. Выяснилось, что тот оставил на берегу миртовый венок, немецкий символ брака, который штурман считал своим боевым талисманом, и теперь он опасался, что из этого похода U-552 вернуться не суждено. Топп приказал изменить курс и вернулся в Берген за венком.
Многие офицеры Дёница были фанатично преданы идеям нацизма. Средний возраст командиров подводных лодок составлял 23 года, их подчиненные были на пару лет моложе – совершенный продукт педагогической системы Геббельса. Командир U-181 Вольфганг Лут регулярно читал своему экипажу проповеди о расовом вопросе и политике Германии в отношении иных народов, о фюрере и национал-социалистическом движении9. Сама мысль проводить подобные заседания внутри душной стальной коробки в 30 м ниже поверхности Атлантического океана кажется сюрреалистической, и не всех членов экипажа радовал решительный запрет Лута размещать постеры рядом с портретом фюрера и слушать упадочнический англо-американский джаз. «Нравится не нравится – это необсуждаемо, – заявил он своим офицерам. – Вам это нравиться не должно, и точка. Немец не может любить это, как не может он любить еврейку. В этой тяжелой битве каждый должен научиться бескомпромиссной ненависти к врагу». На другой лодке в 1944 г. опытный капитан велел офицерам убрать с переборки портрет Гитлера: «Идолопоклонство неуместно»10. Его отстранили от должности, обвинили в подрыве боевого духа экипажа, арестовали и казнили.
В мае – июне 1942 г. в восточных территориальных водах США затонуло множество судов, общим тоннажем миллион: подводные лодки часто выпускали торпеды по кораблям, чьи силуэты вырисовывались в свете береговых огней. Всего за год на дно отправилось кораблей общим водоизмещением 6 млн тонн. Дорого заплатил американский торговый флот за отказ своего ВМФ присоединиться к созданной канадцами сети конвоев и учесть британский опыт. Немецкие подводные лодки собирались в волчьи стаи по десять-двенадцать штук и нападали на группы сопровождения конвоев. Коды постоянно менялись, и союзникам не всегда удавалось расшифровать немецкие переговоры, а тем самым и конвои не получали вовремя предупреждение и не успевали свернуть с пути рыщущих подлодок. Но постепенно союзники учились этой игре: совершенствовались технологии войны с подводными лодками, морские радары стали работать точнее благодаря многорезонаторному магнетрону, группа сопровождения вела голосовые переговоры с помощью системы TBS (Talk Between Ships), а главное – накапливался опыт.
Чтобы выследить и потопить подводную лодку, требовалось четкое взаимодействие двух-трех боевых кораблей: одиночке почти никогда не удавалось метать глубинные бомбы с достаточной точностью, чтобы смертельно поразить свою мишень. Немцам становилось все затруднительнее курсировать поблизости от американских или английских берегов, в радиусе действия воздушных патрулей. Хорошую скорость подводные лодки развивали только на поверхности, а на глубине с трудом поспевали за конвоем. Самолеты прикрытия вынуждали лодки опускаться на глубину, и это оказалось более эффективной мерой борьбы с ними, чем атаки на бетонные доки Бреста и Лорьяна – там английские ВВС потратили много не окупившихся результатами усилий. В 1942 г. Битва за Атлантику сосредотачивалась в основном в тысячемильной полосе посреди океана, вне радиуса действия большинства самолетов, взлетавших с наземных баз. Здесь Дёниц сконцентрировал свои силы, и те несколько дней, что конвои пересекали тысячемильную зону, представляли для них наибольшую опасность.
SC104, типичный конвой из 36 торговых судов, построенных в шесть колонн, отплыл на восток в октябре 1942 г. на скорости семь узлов (примерно 12 км/ч в сухопутных единицах). В сопровождении шли два миноносца – Fame и Viscount – и четыре корвета – Acanthus, Eglantine, Montbretia и Potentilla. Впервые ощущение надвигающейся угрозы возникло через четыре дня после того, как конвой покинул гавань Ньюфаундленда. 12 октября в 16:24 Huff-Duff зарегистрировал радиопередачу с подводной лодки по правому борту. Вскоре обнаружилась и вторая подлодка. С наступлением ночи (море было неспокойное) корабли сопровождения заняли места впереди и по бокам от шедших в центре торговых судов. Морякам приходилось нелегко, особенно на борту корветов, которых захлестывало волной. Насквозь промокшие матросы с трудом стояли ночную вахту, боясь хоть на миг забыться и зная, что и после этой четырехчасовой пытки их не ждет ни горячая вода, ни сухая одежда: в помещения для экипажа тоже проникала вода. Механики и кочегары машинного зала находились в тепле, но имели гораздо меньше шансов спастись в случае, если судно будет торпедировано: из них погибало по статистике 42 %, в то время как из палубных матросов и офицеров – 25 %. Напряжение, неудобство, страх сопутствовали атлантическим конвоям с самого начала, еще до нападения врага.
В ту ночь, 12 октября, над морем шел снег, видимость для конвоя SC104 была в пределах 7 км в промежутках между метелями. Незадолго до полуночи в 7 км за кормой была обнаружена подводная лодка. Fame развернулся и, ориентируясь на данные радара, пошел в атаку. Прежде чем он вышел на позицию, с которой мог обстрелять противника, сильное волнение вывело радар из строя и эсминец «ослеп». После 30 минут бесплодных поисков с помощью биноклей и гидролокаторов Fame вернулся на свое место в строю. Затем Eglantine предпринял столь же неудачные поиски подводной лодки по правому борту. В 05:08 на кораблях сопровождения услышали сильный взрыв. Они выпустили осветительные ракеты, однако из-за сильных волн, которые практически вывели из строя и радар, и гидролокаторы, ничего не смогли рассмотреть. Через час командир судов сопровождения выяснил, что уже три корабля затоплено – беззвучно, незаметно для остальных. И велел одному из корветов вернуться на поиски уцелевших моряков.
В дневные часы 13 октября конвой пробивался через гороподобные валы. Время от времени поблизости всплывали подводные лодки и тут же погружались, прежде чем их удавалось атаковать. Ночью было торпедировано еще два торговых судна. В 20:43 Viscount заметил лодку на поверхности, всего в 800 м. Брызги ослепили пушкарей; едва эсминец зашел для атаки, подводная лодка нырнула, и с мостика только и увидели в 30 м быстро уходившую под воду боевую рубку. Ночью эсминцы многократно пытались соприкоснуться с противником, но безуспешно. Командующий, по его собственным словам, «был близок к отчаянию»11. На рассвете он обнаружил, что ночной шторм разметал по океану большую часть кораблей; девять из них удалось обнаружить, но шесть затонули, а впереди оставалась вторая половина пути.
14 октября борьба продолжалась, поблизости от конвоя кружили уже четыре подводные лодки. С наступлением темноты, к облегчению капитанов, видимость ухудшилась, что затрудняло действия подводных лодок. Конвой вновь изменил курс, пытаясь смахнуть с хвоста преследователей. В следующую ночь радары кораблей сопровождения сработали шесть раз подряд. Так, в 23:31 Viscount обнаружил подводную лодку в 6200 м. Эсминец погнался за ней на скорости 26 узлов; подводная лодка пыталась ускользнуть, но совершила катастрофически неудачный маневр, подставившись прямо под нос преследователя. Viscount наскочил на подлодку в 6 м за ее боевой рубкой и перекатился через корпус противника. Под шквальным огнем британца подлодка пыталась вывернуться, но получила заряд глубинной бомбы в упор. В 23:47 U-619 затонула вниз кормой. Но успех обошелся недешево: разбитому при наскоке на подлодку эсминцу пришлось немедленно возвращаться в Ливерпуль, куда он и прибыл благополучно через двое суток и где несколько месяцев потом простоял на ремонте в доке.
С восходом солнца 16 октября появился и долгожданный Liberator: самолет дальнего радиуса полета первым встретил конвой. Это означало, что SC104 миновал слепое пятно посреди Атлантики, где он оставался без прикрытия с воздуха. Сотня спасенных в прежние ночи моряков перешла с забитых людьми палуб норвежского судна сопровождения Potentilla на одно из торговых судов. Утро прошло спокойно, но в 14:07 гидролокатор Fame обнаружил подлодку в 2000 м. Миноносец пошел на таран и спустя пять минут забросал субмарину глубинными бомбами. Дальнейшие действия этой драмы разыгрались в гуще конвоя; торговые суда, расходясь двумя колоннами, огибали место боя. На поверхности вспучился огромный пузырь. Незабываемое зрелище: выскочила наверх подлодка, вода каскадом струилась с ее бортов, и шквал огня приветствовал ее с борта эсминца. Fame мчался бок о бок с вражеской подлодкой, оцарапал об нее днище и спустил баркас, в то время как немецкие моряки начали прыгать за борт. Отважный английский офицер забрался в боевую рубку, схватил стопку документов и успел выскочить за секунду до того, как U-253 затонула.
Но Fame, как и Viscount, пострадал при столкновении, и капитану пришлось пожалеть о решении таранить подлодку: экипаж провозился несколько часов, заделывая пробоины в корпусе кусками дерева и аварийным пластырем, но в итоге, включив помпы и с трудом поспевая откачивать воду из машинного отделения, Fame вслед за Viscount отправился в Ливерпуль, а оттуда – в ремонтный док. Оставалось 28 торговых судов и при них четыре медлительных корвета. В 21:40 в ночь на 17 октября на Potentilla заметили еще одну подлодку. Суда сближались на полной скорости, но в последний момент капитан Potentilla успел отвернуть: столкновение на скорости 32 узла оказалось бы роковым для его небольшого корабля. Корвет обстрелял субмарину из четырехдюймового орудия, станковых пулеметов и «эрликонов» (зенитных пушек), но лодка ускользнула почти невредимой. То был последний серьезный бой на пути SC104: несколько ложных тревог 17 октября прозвучало, но никаких инцидентов в сгустившем тумане не произошло. Два дня спустя торговые корабли вошли в Мерси и услышали приятную весть: Liberator потопил неподалеку от пути их следования еще одну подводную лодку.
Такие приключения на пути через Атлантический океан – любого из них в мирную пору с лихвой хватило бы на всю жизнь – и морякам торгового флота, и эскорту приходилось переживать вновь и вновь. До конца октября конвой SC107 потеряет пятнадцать судов, а SC125 – тринадцать в семидневной битве, не уничтожив в отместку ни единой подлодки. Всего в 1942 г. подлодки затопили 1160 торговых судов союзников. Как раз в тот момент, когда ход войны решительно переломился не в пользу оси, Англия начала испытывать наибольшие проблемы с импортом. Зимой 1942 г. «волчьи стаи» Дёница достигли пика своих сил: более ста субмарин рыскало в океане. Северо-Африканская кампания, в особенности проведенная в ноябре операция Torch, вынудила Королевский флот направить значительную часть кораблей в Средиземное море.
Канадским корветам, которым пришлось в основном выполнять функции эскортных судов в западной части Атлантического океана, недоставало оборудования и опыта, чтобы противостоять этим «волчьим стаям»: до 80 % потерь в Атлантике в период с июля по сентябрь приходилось на конвои, сопровождаемые канадцами. Рапорты и отчеты сообщали о крайней нехватке опытных капитанов, получивших соответствующую подготовку, умеющих пользоваться гидролокатором. Канадский флот рос так быстро (в три раза быстрее, чем ВМФ Великобритании и США), что небольшое ядро профессиональных моряков никак не могло обслуживать его военные нужды. Инспектор, проверявший состояние одного из боевых кораблей Канадского флота по прибытии в Англию, пришел к выводу: «Низкий уровень эффективности наблюдается в целом на всех корветах с канадским экипажем»12. Историк же замечает: «Эти проблемы приводили к слабости действий против подводных лодок»13. А в начале 1943 г. канадцы были на несколько месяцев освобождены от атлантической вахты – британский флот смог их подменить.
В марте 1943 г. в Блетчли-парке вновь произошел перебой в расшифровке радиопереговоров подводных лодок, и в результате за два месяца половина атлантических конвоев подверглась нападению: каждый пятый торговый корабль был пущен ко дну. Но этой трагической кульминацией и завершилась, по сути дела, Битва за Атлантику. Весной западные союзники смогли отрядить в Атлантический океан достаточные силы для подавления подводных лодок. Конвойные суда, оснащенные десятисантиметровыми радарами, взаимодействовали с самолетами дальнего радиуса действия, которые были вооружены усовершенствованными глубинными бомбами, и с малыми авианосцами. Подоспела и расшифровка кодов Дёница, и в борьбе с подводными лодками наступил долгожданный перелом. Адмирал сэр Макс Хортон, назначенный в ноябре 1942 г. командующим Западными подходами, сам в Первую мировую войну служил на подводной лодке, и талант этого опытного моряка, управлявшего Атлантической кампанией из штаб-квартиры в Ливерпуле, существенно приблизил победу.
За май 1943 г. было потоплено 47 подводных лодок, а всего за год – без малого сто. Только на счету самолетов количество уничтоженных подлодок возросло с пяти за период с октября 1941 г. по март 1942 г. до 15 в апреле – сентябре 1942 г. и до 38 в период с октября 1942 г. по март 1943 г. Под конец Дёниц терял по лодке в день: за один месяц его флот сократился на 20 %. Адмирал вынужден был свернуть операции в Атлантике. Потери торгового флота заметно уменьшились, в последнем квартале 1943 г. только 6 % морских грузов не достигало Англии. Переход через Атлантический океан на любом этапе войны оставался тяжелым и опасным испытанием, но теперь вплоть до окончательной победы на океане господствовали англичане и американцы: им едва ли могли противостоять значительно уменьшившиеся числом подводные лодки с экипажами, чей опыт и боевой дух тоже стремительно шли на убыль.
Но и торговый флот Великобритании был потрепан настолько, что это отразилось на послевоенной экономике страны. Из общего тоннажа 14 млн тонн, спущенного на воду в 1943 г., львиную долю составляли американские суда. Но пока что существенно было одно: Германия проиграла войну против атлантических конвоев. В последние семь месяцев 1943 г. общий тоннаж потопленных союзных судов упал до 200 000 тонн, и всего четверть этих трофеев приходилась на долю подводных лодок. И хотя недостача кораблей всегда ощущалась при решении стратегических задач, существенным интересам союзников действия противника на море с тех пор не угрожали. До войны общий импорт в Англию составлял 68 млн тонн. В 1943 г. цифры импорта резко упали – до 24,48 млн тонн, но в 1944 г. вновь поднялись до 56,9 млн тонн.
Вот, пожалуй, самая наглядная статистика Битвы за Атлантику: с 1939 по 1943 г. нападению подверглись лишь 8 % медленных и 4 % быстроходных конвоев. Многое говорилось о недостатке у союзников ресурсов для равной борьбы против подводных лодок в первые военные годы. Это верно, однако у немцев проблемы с ресурсами были куда серьезнее. Гитлер ничего не смыслил в морском деле. В начале войны он распылил рабочую силу и запасы стали, пытаясь производить одновременно слишком много разных видов оружия и техники. Стратегическую пользу от крупномасштабной войны на атлантических маршрутах он распознал лишь к июню 1940 г., после падения Франции. Строительство подводных лодок было объявлено приоритетом только в 1942–1943 гг., когда союзники быстро укрепляли свой флот и в целом исход войны был уже предрешен. Перерезать атлантическую Линию жизни у Германии так и не хватило сил, хотя в пору тяжких потерь английского флота могло показаться, будто такая угроза существует.
2. Арктические конвои
Когда Гитлер напал на Россию, английские и американские шефы штабов дружно воспротивились идее предоставить Сталину военную помощь на том основании, что производственных ресурсов едва ли хватит для обороны собственных стран. Выдвинул со своей стороны возражения и Королевский флот: любой импорт в СССР можно было отгружать только через арктические порты Мурманск и Архангельск, причем Архангельск доступен только в летний сезон, когда тают льды. Это означало, что конвой, движущийся со скоростью 8–9 узлов, будет тащиться по меньшей мере неделю, подвергаясь угрозе со стороны немецких подводных лодок, кораблей и самолетов, базирующихся поблизости, на севере Норвегии. Английский премьер и американский президент отмели эти возражения, объявив – вполне справедливо – поддержку Советского Союза безусловным приоритетом. Поначалу Гитлер не обращал особого внимания на арктический путь в Россию, хотя навязчивая мысль о возможности английской высадки в Норвегии побудила его укреплять там линию береговой обороны. Черчилль действительно вплоть до второй половины 1944 г. настаивал на такой операции, но военачальники неумолимо сопротивлялись его замыслу. Однако факт оставался фактом: на протяжении 1942 г. немцы доминировали на севере в воде и в воздухе и арктические конвои подвергались серьезной угрозе.
Начальник главного морского штаба адмирал Дадли Паунд был возмущен решением отвлечь часть кораблей с Атлантического фронта на это опасное новое направление лишь затем, чтобы помочь ненавистному Советскому Союзу, который, как казалось, все равно скоро капитулирует. В особенности Паунда беспокоила вероятность встречи плохо вооруженного Флота Метрополии с боевыми кораблями Гитлера. Наиболее вероятна была встреча с Tirpitz: Адмиралтейство было травмировано воспоминаниями о трудностях и потерях, которые выпали на долю английского флота, пока не удалось избавиться от Bismarck. Опасения подогревались и неудачей воздушного налета на прибрежный флот Германии, осуществленного с авианосцев 30 июля 1941 г. к северу от Норвегии: из двадцати брошенных в бой Swordfish вернулось только одиннадцать. В очередной раз провалились усилия Королевского флота перерезать жизненно важный для Германии канал поставок железной руды.
Черчилль был неумолим: он требовал от флота раз за разом преодолевать тяжелейший путь, доставляя России столько оружия и других припасов, сколько могли выделить союзнику Англия и Америка. И перспектива сражения на этом маршруте его не пугала. Напротив, в 1941–1942 гг. он только и искал возможности помериться силами с немцами, а потому добился принятия решения о регулярных поставках через Арктику. Первые несколько судов, снаряженные англичанами во второй половине 1941 г., добрались до России невредимыми, доставив небольшое количество танков, самолетов и шин. Немцы едва ли их заметили.
Но в 1942 г., когда англичане начали отгружать на восток уже существенные объемы, немцы обратили внимание на арктические конвои и с нарастающей агрессией атаковали их. Приключения полярных конвоев как на пути к цели, так и на обратном пути превратились в величайший морской эпос той войны. Почти таким же страшным врагом, как немцы, была полярная погода. Корабли пробивались сквозь валы высотой до 12 м, а поверх этих волн плавали многотонные льдины. Лютая качка сбрасывала моряков за борт, однажды высоченная волна сорвала бронированную крышу с орудийной башни крейсера Sheffield. На торговом судне J. L. M. Curry в шторм разошлась обшивка, и оно затонуло. Ни одно судно не добиралось до Мурманска невредимым, изрядно доставалось и крупным судам. Гардемарин Чарльз Френд служил на авианосце: «Помню, как выглянул с нашего неистово раскачивавшегося и кренящегося Victorious и увидел King George V, судно, длиной почти 250 метров, карабкающееся на отвесную волну. Это были не волны, а движущиеся горы длиной метров триста. Даже высокие борта не всегда могли защитить Victorious: когда нос разрезал очередную волну, тонны воды обрушивались на летную палубу, и нам приходилось несладко. Одна волна так долбанула передний подъемник для самолетов, что вывела его из строя. Гнулись четырехдюймовые листы брони».
Британские докеры, особенно докеры из Глазго, стяжали дурную репутацию небрежной погрузкой, прискорбно отличавшейся от американской. В результате многое из доставлявшегося с таким риском в Мурманск прибывало испорченным, а срывавшиеся с места грузы угрожали безопасности корабля. Например, 10 декабря 1941 г. матросы пятитонного «челнока» Harmatis вынуждены были открыть люк, из которого поднимался дым, и обнаружили в трюме горящий грузовик, который мотался взад-вперед, разбивая ящики и поджигая тюки. Помощник капитана, надев единственный имевшийся на борту противогаз, спустился в этот ад и пытался заливать его водой, пока держался на ногах. Его сменил капитан, и пожар все же удалось погасить, но судно вышло из строя и повернуло обратно в Клайд.
Экипажи выбивались из сил, скалывая с настройки и орудий угрожавшие безопасности судна глыбы льда, проверяя оружие, в котором застывала смазка. Толстые слои одежды затрудняли движение, но даже в них не удавалось согреться. Алек Деннис, старший лейтенант на эсминце, попытался уснуть на палубе, зная, что с койки его тут же снимут: «Тело еще как-то удавалось держать в тепле, однако ноги мерзли даже в сапогах с меховой подкладкой»14. Каждый раз, когда ему выпадало четыре часа отдыха между вахтами, первый час уходил на то, чтобы разморозить онемевшие стопы – только после этого он мог уснуть. Питались моряки «какой», то есть какао, и бутербродами с солониной (еду разносили прямо на посты), спали урывками между сражениями. Темная арктическая зима действовала на нервы, но еще хуже был вечный солнечный день. Великолепие северного сияния, казалось, издевалось над обреченными на гибель суденышками. 17 января злосчастный Harmatis вновь попал в беду: подводная лодка выпустила по нему две торпеды, одна из которых сдернула люк с трюма и по палубе разлетелись сорванные с груза упаковки. В разворошенный корпус хлынула вода, и капитан приказал заглушить двигатель, чтобы не залить его. Кое-как удалось залатать дыру, и Harmatis потащили в Мурманск на буксире (а в небе кружили «хейнкели»).
Harmatis, можно сказать, еще повезло, в отличие от многих других: когда в пороховом погребе эсминца Matabele сдетонировала торпеда, спасти удалось только двоих членов экипажа. В море плавало множество трупов в спасательных жилетах: люди замерзали насмерть, прежде чем их успевали отыскать, холод убивал за считаные минуты. Джордж Чарлтон, служивший на эсминце, который затонул под огнем тяжелого крейсера Hipper, атаковавшего конвой на исходе декабря 1942 г., описывал смертный ужас, с которым он цеплялся за невод, брошенный ему с траулера-спасателя: «Я дождался волны, которая подняла меня навстречу сети, и тогда просто впихнул руки и ноги в отверстия и остался висеть там, пока двое матросов не перевесились через борт и не подтащили меня наверх, а третий за волосы вытянул меня, и я рухнул на палубу. Онемение прошло, и я почувствовал холод – все мое тело пронзила такая боль, какой я никогда прежде не знал»15.
PQ11 оказался последним конвоем, сравнительно благополучно одолевшим в феврале 1942 г. этот путь. Следующий конвой с трудом пробивался через паковый лед, а потом ему пришлось играть в прятки с Tirpitz: разведка сообщила, что немецкий линкор вышел на охоту. Морское ведомство кипело от негодования, когда по BBC передали новость: в Россию отправлен ценный груз. Как часто бывает на войне, задачи пропаганды не совпали с требованиями секретности при проведении операции. В марте Королевскому флоту выдался лучший за весь год шанс потопить немецкое боевое судно: торпедоносцы Albacore перехватили его в море и атаковали, но в результате два самолета погибло, а кораблю не было причинено ни малейшего ущерба. Черчилля неудача морской авиации особенно возмущала на фоне достижений японцев, которые тремя месяцами ранее потопили, напав с воздуха, два крупных британских судна. Вероятно, все дело в том, что в Малайском регионе сражались хорошо обученные и опытные японские пилоты, а за штурвал Albacore сажали по большей части новичков.
Четвертая часть из 21 торгового судна в составе PQ13, общим водоизмещением 30 000 тонн, была уничтожена подводными лодками и бомбардировщиками после того, как конвой был изрядно потрепан штормом. Неисправная торпеда, выпущенная с крейсера Trinidad при попытке затопить уже подбитый немецкий эсминец, описала полукруг и поразила собственный корабль. Что же касается торговых судов, судьба экипажа Induna, потопленного 30 марта подводной лодкой, представляется вполне типичной. В темноте удалось ускользнуть двум шлюпкам, среди спасшихся было много тяжело раненных и обожженных. Гипотермия быстро прикончила раненых: в первую же ночь умерло семь человек. Пресная вода во флягах замерзла и превратилась в лед. Когда шлюпку наконец разыскали, из девяти находившихся в ней человек в живых оставался только один, кочегар родом из Канады. Всего из 64 человек, бывших на борту корабля, удалось подобрать 24, и только шестеро обошлись без ампутации отмороженных конечностей.
Из страха перед Tirpitz с каждым конвоем посылали почти столько же боевых кораблей, сколько торговых. Эсминцы охраняли от нападения подводных лодок. На торговых кораблях устанавливали зенитные орудия, и державшиеся кучно корабли могли эффективно обороняться от налетов Heinkel. Крейсеры прикрывали конвой от немецких эсминцев вплоть до острова Медвежий к северу от Норвегии. Edinburgh отразил такое нападение на PQ14. На горизонте маячили большие суда Флота Метрополии, чтобы вступить в бой, если немецкие корабли осмелятся выйти в открытое море.
В двух днях пути на восток от сборного пункта возле Исландии немецкий самолет дальнего радиуса (чаще всего Focke-Wulfe Condor) зависал над конвоем и кружил на таком расстоянии, чтобы не попасть под огонь зениток, сообщая о местонахождении эскадры на базу в Норвегию. Ненавистная для моряков и неотвязная угроза – «пронырливый Джо» – предвестник непрерывных воздушных и подводных атак. В замедленном ритме гремит автоматическое оружие на бортах кораблей, черный выхлоп от снарядов затягивает небо, вздымаются столбы воды от взорвавшихся поблизости торпед, ревут, пролетая на низкой высоте самолеты, страшный глухой разрыв бомбы, ударившей в палубу, – и все это среди морского пейзажа, состоящего из волн, льда и арктической дымки, слоя тумана над замерзающей водой.
Примитивную защиту от воздушных атак удалось организовать к апрелю 1942 г., когда впервые на торговых судах установили катапульты для запуска Hurricane: предполагалось, что, завершив свой одноразовый вылет, пилот спрыгнет в море с парашютом. Толку от катапультируемых самолетов было мало: обычно их запускали с опозданием, и экипаж составляли, по сути дела, камикадзе, ведь надежды на то, что летчиков извлекут из моря прежде, чем они замерзнут насмерть, почти не было. Каждый конвой поджидала своя трагедия. Шесть кораблей из конвоя QP13 пропали на обратном пути, заблудившись в минных полях, установленных англичанами возле Исландии. В головное судно PQ14 угодила торпеда, в машинном зале сразу же погибли все: взорвался груз боеприпасов, и людей разнесло на куски. Сорок моряков успели спрыгнуть за борт, но все, за исключением девяти счастливцев, погибли от ударной волны, когда тральщик сбросил глубинные бомбы в попытке уничтожить подводную лодку. Далее к западу эсминец «перешел дорогу» линкору King George V – в результате и эсминец разрезало пополам, и линкору пришлось возвращаться в док, поскольку при столкновении сдетонировали глубинные бомбы на эсминце. Крейсеры Trinidad и Edinburgh затонули после свирепых схваток и отважных усилий сохранить плавучесть. Инженер-механик с гибнущего Trinidad отказался покинуть своих кочегаров – моряки этой профессии не имели надежды спастись с тонущего судна. Бежавшие с корабля видели, как контуженный взрывом офицер полз по палубе, чтобы открыть люк, за которым оставались в плену кочегары, но крейсер уже шел ко дну. Пусть имя этого человека сохранится в истории: лейтенант Джон Бодди.
Не все участники арктических битв были готовы к таким подвигам. Иногда экипаж торгового судна проявлял замечательный боевой дух, но порой моряки спешили бросить подбитое судно, которое еще можно было спасти. Так поступили американцы с Christopher Newport: они поднялись на борт спасательного судна, шикарно одетые в лучшие костюмы и прихватив с собой багаж, а 10 000 тонн боеприпасов пропали зря. Английские матросы в панике не раз спускали шлюпки с людьми так неуклюже, что опрокидывали их в море вверх дном. И немецкие пилоты, к удивлению моряков из конвоя, отнюдь не всегда продолжали атаковать под сильным обстрелом. Действия же немецкого флота сковывало упорное желание Берлина вмешиваться в любые решения о размещении и перемещении крупных кораблей. Офицеры ВМФ Германии, к их негодованию, вынуждены были выходить из боя и укрываться в норвежских фьордах.
По мере того как сражения в Арктике в 1942 г. становились все более жестокими и обходились все дороже, офицеры торгового флота начали возмущаться тем, как с ними обходится военный флот. Им не нравилось, что большие военные корабли поворачивают назад возле острова Медвежий, поскольку считалось недопустимым подвергать их угрозе воздушных налетов, почти неизбежных далее к востоку. Жаловались торговые моряки и на то, что эскорт часто покидает их, гоняясь за подводными лодками. И почему им не обеспечивают прикрытие с воздуха, если уж они везут такой драгоценный груз? Но более всего их не устраивало, что приходится плыть день за днем по самым опасным водам на земном шаре, не имея никакого представления об окружающей обстановке, кроме того немногого, что они могли рассмотреть с обледеневшей верхней палубы. «К людям из торгового флота относились словно к несмышленым детям, – вспоминал потом один из капитанов. – Все от нас скрывали. Это очень действовало на нервы»16.
Торговые суда ползли по холодному и бурному морю со скоростью пешехода, гораздо чаще подвергаясь опасным бомбардировкам и торпедным атакам, чем участники Атлантической кампании. Старший офицер крейсера обращался в мае к Адмиралтейству с предупреждением: «Нам, в ВМФ, платят за такую работу, но нельзя требовать слишком многого от матросов торгового флота. Скорость позволяет нам уклоняться от бомб и торпед, а судно, идущее на шести-восьми узлах, не имеет такой возможности». Американцы порой пытались уклониться от путешествия в Россию; на потрепанном пароходе Troubadour даже вспыхнул мятеж, когда двадцать членов экипажа отказались выходить в рейс и пришлось усмирять их силами вооруженной береговой охраны. Виновников – злосчастную многоязыкую смесь рыбаков и американских моряков, получавших огромные премии за риск сверх обычного жалованья, – по прибытии в Мурманск отправили в советскую тюрьму.
И все же Черчилль гневно отмахнулся от требований Королевского флота приостановить конвои на время полярного лета. «Русские самоотверженно сражаются и имеют право рассчитывать, что мы пойдем на риск и внесем свой вклад в эту борьбу, – писал он. – Эти операции вполне оправданы до тех пор, пока на место прибывает хотя бы половина груза. Если мы откажемся даже от попыток помочь, это негативно скажется на нашем авторитете в глазах обоих основных союзников». Судьба PQ16 вроде бы подтвердила правоту премьер-министра. 36 кораблей отчалили от Исландии 21 мая; самолеты противника налетали часто, но без особого усердия. Несмотря на многократные тревоги, подводные лодки потопили 26-го только одно судно. Эсминец переправил судового врача в шлюпке на поврежденное судно, оттуда сняли троих раненых, и врач их прооперировал. Бомба пробила широкую брешь в боку The Ocean Voice, но, поскольку море было спокойным, судно осталось на плаву и «с Божьей помощью», как говорили матросы, добралась до России.
На некоторых судах закончились боеприпасы для зениток, зато им удалось отразить множество воздушных атак. Дежурившие на верхних палубах польского эсминца Garland понесли большие потери от близко ложившихся бомб. По прибытии в Мурманск обнаружилась надпись, сделанная кровью на надводной части судна: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЛЬША». «Сильные были люди», – уважительно отозвался о них офицер торгового флота. Конвой прорвался, потеряв всего семь кораблей, причем с затонувших судов благодаря отваге и профессионализму моряков удалось спасти 371 человека. Адмирал сэр Джон Тови, командующий Флота Метрополии (его осмотрительность вызывала недовольство Черчилля), подтвердил, что «стратегическая ситуация была благоприятна для противника» и благополучное завершение миссии PQ16 «превзошло все ожидания».
Но на следующий месяц пришелся самый прискорбный для Королевского флота эпизод той войны. PQ17 из 36 судов, в основном американских, отплыл от берегов Исландии 27 июня. Груз состоял из 594 танков, 4246 машин, 297 самолетов и более 150 000 боеприпасов и товаров общего назначения. По данным Ultra было известно, что немцы запланировали против конвоя масштабную операцию под кодовым названием Rosselsprung, в которой собирались принять участие и крупные боевые корабли. Гитлер объявил, что «стратегия англичан и американцев направлена на сохранение боеспособности России и с этой целью они стараются поставлять в воющую страну как можно больше военной техники и других материалов». Иными словами, он наконец-то обратил внимание на арктические конвои. Адмиралтейство взяло управление конвоем и вспомогательными подразделениями на себя, поскольку свежая информация из Ultra поступала именно в Адмиралтейство, и опыт показал, что Тови не может с борта своего флагмана эффективно командовать большим и разбросанным в море флотом, к тому же вынужденным соблюдать радиомолчание.
Первые столкновения прошли как обычно. Condor завис над флотилией поблизости от острова Ян-Майена 1 июля. Гидросамолеты-торпедоносцы He115 произвели неубедительную и нерезультативную атаку, американский эсминец Wainwright помчался в лоб на атакующий самолет, стреляя из всех орудий. Тем не менее 3 июля Адмиралтейство приказало прикрывавшим конвой крейсерам повернуть на запад, навстречу крупным боевым кораблям немцев, которые, как предполагалось, вышли в открытое море. На следующий день было потоплено три торговых судна, а вечером капитан Джекки Брум, командир ближнего эскорта, с недоумением выслушал приказ из Лондона: «Секретно. Исполнить немедленно. В связи с угрозой со стороны надводных кораблей конвою рассеяться и пробираться в русские порты». Через 13 минут краткий сигнал подтвердил: «Конвою рассеяться». Нехотя передав приказ своим подчиненным, Брум подошел к ближайшему торговому судну и через громкоговоритель обратился к его капитану: «Жаль так оставлять вас – всего доброго и удачи. Похоже, намечается скверная заварушка».
Tirpitz и в самом деле выходил в море 6 июля, но ненадолго, и тут же, к недовольству своего экипажа и судов сопровождения, вернулся в Норвегию. Капитан немецкого эсминца записывал в тот день: «Настроение довольно скверное. Скоро начнешь стыдиться своей службы: когда другие сражаются, мы, элита флота, сидим себе в гавани»17. Однако немцам не было нужды рисковать большими боевыми кораблями: люфтваффе и подводные лодки потопили 24 корабля из конвоя PQ17, которые поодиночке, без прикрытия, пытались добраться до России. Торговый флот потерял 153 человек, в то время как в военном флоте Великобритании вообще никто не пострадал. То был величайший позор Королевского флота, навлекший на англичан негодование американцев и презрение русских. Конечно, пугала вероятность нападения Tirpitz, но реакция Адмиралтейства – «каждый за себя» – и сама идея бросить конвой без прикрытия шли вразрез с многовековой традицией и посеяла семена глубокого недоверия в торговом флоте в ту самую пору, когда боевой дух там и без того был не очень крепок.
Непродуманное решение было принято благодаря личному вмешательству первого лорда Адмиралтейства адмирала Дадли Паунда. Паунд и без того не пользовался уважением коллег, и здоровье его угасало. Странно, что он не был уволен, но Черчилль относился к этому офицеру с сочувствием и позволил ему сохранить свой пост до октября 1943 г., почти до самой смерти. Член правительства Филип Ноэль-Бейкер был отряжен в Глазго на встречу со спасшимися. Они собрались в зале Святого Андрея, и министр обратился к ним со словами: «Мы знаем, в какую цену обошелся нам этот конвой. Но хочу вас заверить: он стоит этой цены». Озлобленные моряки ответили ему возмущенными воплями. Правительство скрыло нелицеприятный эпизод под покровом цензуры, запретив публикацию очевидца – журналиста Годфри Уинна, плывшего с этим конвоем. Только после войны чудовищная ошибка Адмиралтейства стала известна широкой общественности.
PQ18 не снаряжали вплоть до сентября 1942 г. Этот конвой потерял 13 судов из сорока, причем десять – в результате воздушных налетов. К тому времени и военные моряки, и моряки торгового флота разделяли мнение об арктическом маршруте как о самом страшном месте несения службы. На вопрос Уинна о том, как погиб Bramble, на котором он плыл в составе PQ17, коммандер Роберт Шербрук, оправлявшийся от тяжелых ран, полученных в одной из схваток, ответил: «Внезапная вспышка на горизонте, и больше ничего». Так погибало множество кораблей. Моряк описывал встречу с уцелевшими с крейсера Edinburgh: «Грустные и какие-то нервные парни»18. Для многих участие в конвое оборачивалось психологической травмой.
Зимой 1942 г. Адмиралтейство приняло очередное безответственное решение: отправить в Россию несколько торговых судов без эскорта, набрав на них экипаж добровольцев за денежную награду – по 100 фунтов офицерам и по 50 матросам. Из 13 кораблей-одиночек до гавани добралось пять. Одно судно выбросилось на берег Шпицбергена, и моряки продержались несколько недель почти без пищи, большая их часть умерла от гангрены, вызванной обморожением, а уцелевших подобрал наткнувшийся на них лыжный патруль норвежцев. На другом судне, Empire Archer, взбунтовались кочегары, набранные из худшей тюрьмы Шотландии – «Барлинни»: они дорвались до рома, который должны были доставить в Архангельск. Двое матросов погибли, прежде чем удалось восстановить дисциплину.
Даже те, кто добирался до России, особой радости не чувствовали. «Жуткое дело – входить в Кольский залив, – писал один моряк. – Стоял декабрь, было темно. Клочья густого тумана, черная вода, белый, присыпанный снегом лед. Голые скалы по обе стороны залива казались неприветливыми, глухую тишину нарушал только заунывный вой туманных сирен на разной ноте. Я подумал: если бы ад замерз, таким было бы его преддверие»19. В Мурманске они постоянно подвергались налетам люфтваффе. Бомба упала в бункер грузового судна Dover Hill и осталась лежать, не разорвавшись, под шестиметровым слоем угля. Капитан и матросы трудились двое суток напролет, вычерпывая уголь ведрами, прежде чем смогли с бесконечными предосторожностями вытащить бомбу на палубу и обезвредить. Русское гостеприимство было столь же холодным, как и русская зима: никакой заботы о чужаках. Многие британские моряки являлись, заведомо настроенные на дружбу с товарищами по оружию, но теплые чувства быстро испарялись от такого приема. Еще более возмущались американские матросы, не получавшие привычных для них удобств. Морякам не оставляли иллюзий, будто Советский Союз благодарен за помощь. Один русский уже после войны сказал: «Богу ведомо, мы уплатили сполна жизнями советских граждан»20. И это правда.
В середине года ход Арктической кампании преломился. Дурная погода и постоянное присутствие врага, особенно подводных лодок, оснащенных торпедами с акустической системой наведения, гарантировали, что служба в арктическом конвое всегда будет трудной и страшной, но все же потери заметно уменьшились. В 1943 г. Королевский флот наконец-то смог включить в состав эскорта авианосцы, а также мощные средства противовоздушной обороны и защиты от подводных лодок. Немцы, теснимые и в России, и в Средиземноморье, вынуждены были увести из Норвегии значительную часть своего воздушного и подводного флота. Гитлер не желал санкционировать полномасштабную атаку крупных судов на конвой, но Scharnhorst неблагоразумно предпринял такую попытку в декабре 1943 г. и был потоплен у мыса Нордкап британским флотом во главе с линкором Duke of York.
Американцы начали доставлять большие объемы грузов другими путями: половина американских поставок за время войны попала в Россию через порты на Тихом океане, четверть – через Иран и только четверть (4,3 млн тонн) – через Архангельск и Мурманск. Человеческие потери конвоев PQ были, конечно, невелики по сравнению с другими фронтами: всего затонуло 18 боевых кораблей и 87 торговых, в арктических конвоях с 1941 по 1945 г. погибло 1944 моряка военного флота и 829 моряков торгового флота. Германия в попытках перехватить конвой потеряла линкор, три эсминца, 32 подводные лодки и неподсчитанное количество самолетов. Учитывая, что в 1942 г. немцы располагали всеми возможностями, чтобы установить полное стратегическое господство в Арктике, удивительно не то, как много кораблей они потопили, а как мало.
Королевский флот считал поставки в Россию одной из самых тягостных повинностей военного времени. К несчастью, профессионализм и отвага участников конвоев не могли стереть из памяти участь PQ17. Морской авиации не привелось отличиться на севере – отчасти виной тому было отсутствие хороших самолетов. В командовании флотом иным лицам недоставало ума и дальновидности, которые соответствовали бы храбрости и опыту их подчиненных. Эти адмиралы не желали понимать того, на чем всегда настаивали Черчилль и Рузвельт: помощь будет направляться в Россию любой ценой. Пусть в 1941–1942 гг. эти поставки имели скорее символический характер и не могли существенно повлиять на исход сражений на Восточном фронте, они свидетельствовали о безусловной преданности западных союзников своим обязательствам – бороться до окончательного уничтожения фашизма.
3. Трагедия Pedestal
С 1940 по 1943 г. одним из самых кровопролитных для Королевского флота полей сражений было Средиземноморье. Английские субмарины, базировавшиеся на Мальте, когда позволяли погодные условия, небезуспешно атаковали маршруты поставок стран оси в Северную Африку. Надводные эскадры учились противостоять итальянскому флоту, подводным лодкам и люфтваффе. Адмирал Эндрю Каннингем нанес итальянцам серьезный ущерб, атаковав в ноябре 1940 г. с авианосцев Таранто, а также в морском сражении у мыса Матапан 28–29 марта 1941 г. Но для крупных кораблей каждый выход в охраняемые врагом воды был опасной авантюрой, чреватой печальными последствиями. Авианосец Illustrious в январе 1941 г. был сильно поврежден немецкой бомбардировкой. 25 ноября того же года линкор Barham взорвался при попадании торпеды с немецкой подлодки, и мало кому из экипажа удалось спастись. Линкоры Queen Elizabeth и Valiant пролежали семь месяцев на дне александрийской гавани, пав 19 декабря жертвой атаки самоотверженных итальянских ныряльщиков, которые собственноручно крепили мины к корпусу кораблей. Королевский флот, потеряв таким образом за месяц пять крупных судов, вынужден был временно уступить господство в центральном Средиземноморье флоту оси. Убыль английских крейсеров и эсминцев продолжалась – их торпедировали, бомбили, они натыкались на мины. Трудно дались Королевскому флоту те несколько месяцев 1941 г., когда он удерживал морской путь, связывавший метрополию с осажденным Тобруком, пусть это имело скорее символическое, чем стратегическое значение.
Стратегически же было ясно, что Королевский флот не сможет чувствовать себя в безопасности в Средиземноморье, пока английская армия не обеспечит полный контроль североафриканского побережья, чтобы там можно было обустроить военные аэродромы. В 1942 г. положение британского флота ухудшилось в связи с тем, что немцы перебросили в Средиземноморье подкрепление, в основном состоявшее из подводных лодок. Однако Уинстон Черчилль упорно продолжал эту кампанию, исходя из уже известного нам принципа: нужно использовать любую возможность для контакта с противником, тем более что сухопутной армии пока мало что удавалось достичь. Мальта, легко доступная для взлетавших с сицилийских баз самолетов оси, почти три года напролет подвергалась бомбардировкам. За март – апрель 1942 г. на маленький остров обрушилось вдвое больше бомб, чем на Лондон за весь блиц, население голодало, постоянно находившийся там подводный флот пришлось перебазировать. Таким образом, первоочередной задачей Королевского флота стала поддержка Мальты, и каждый корабль с драгоценным грузом следовало привести в ее порт вопреки всем атакам с воздуха, на воде и из-под воды. Любому конвою требовались сопровождение боевых кораблей, в том числе линкоров на случай, если в открытое море выдвинутся основные суда итальянского флота, авианосцы для прикрытия от атак с воздуха, а также эскорт из крейсеров и эсминцев. Каждый такой прорыв превращался в эпическое сражение. Самое знаменитое (или же самое бесславное) произошло в августе 1942 г., когда недостаток топлива, самолетов и продуктов превзошли меры человеческого терпения. В помощь осажденному острову была затеяна операция Pedestal.
Вице-адмирал Невилл Сифрет возглавил военный флот, отплывший из Клайда 3 августа. Под его охраной шли 14 торговых судов, среди них несколько чартерных американских кораблей (в том числе танкер Ohio), укомплектованных английским экипажем. На все корабли поставили зенитные орудия (орудийный расчет набирался из солдат сухопутных войск) и по пути к Гибралтару интенсивно отрабатывали и маневры, и артиллерийскую стрельбу. По направлению к Мальте устремилась грозная армада: линкоры Nelson и Rodney, авианосцы Victorious, Indomitable и Eagle, несколько устаревший авианосец Furious, на котором перевозили самолеты Spitfire – они должны были отправиться вперед на защиту острова, как только авианосец подойдет достаточно близко к берегам Мальты; имелись также шесть крейсеров, 24 эсминца и целая флотилия судов поменьше. Морской кадет, плывший на борту одного из торговых судов, восхищался этим «фантастическим, упоительным зрелищем»21.
Прошло всего несколько недель с унизительного для Королевского флота «маневра» в Арктике, и флот рвался в бой: капитан эсминца коммандер Дэвид Хилл вспоминал: «Мы были близки к отчаянию и исполнены кровожадных помыслов после гибели PQ17». Одна из флотилий эсминцев, которая участвовала в операции Pedestal (ее возглавлял Джекки Брум), уже пережила страх и потери на подступах к Арктике. За отплытием английских судов из Гибралтара следило множество немецких и итальянских глаз. Командование оси не обманул псевдоконвой, отплывший одновременно из Александрии якобы в восточную часть Средиземноморья. «Я понимал, что мы идем на опасное дело в кишащие врагами воды», – писал Джордж Бланделл на борту линкора Nelson, моля «Владыку судеб» проявить благосклонность22.
11-го посреди ясного лазурного моря, когда до Мальты оставалось около 1000 км, Furious выпустил в небо свои Spitfire, и большинство из них благополучно приземлилось на острове. Но тут-то и случилась первая катастрофа. В западной части Средиземноморья работа локатора сбивалась из-за своеобразных подводных условий: теплая морская вода смешивалась с холодным атлантическим течением. Корабли оказались уязвимы для внезапной атаки субмарин. Прямо в тот момент, когда истребители отрывались от палубы авианосца, залп торпед с U-73 поразил Eagle и через девять минут корабль затонул; из 1160 человек экипажа погибло 260. «Чудовищное это было зрелище, как судно перевернулось вверх дном и со страшной скоростью ушло под воду, – писал потрясенный очевидец. – Люди и самолеты сыпались с палубы в море, когда корабль переворачивался. Дрожь так и пробирает. Снять бы это на пленку и показывать по всей стране. Я все думал, каково тем, кто оказался под опрокинувшимся на них кораблем»23. Вечером Furious, завершив свою миссию, повернул обратно в безопасную гавань. Один из сопровождавших авианосец кораблей, Wolverine, заметил итальянскую подводную лодку и пошел на таран: субмарина затонула, но и Wolverine был серьезно поврежден.
В 20:45 противник предпринял с аэродромов Сицилии первую воздушную атаку на корабли, участвовавшие в операции Pedestal, силами тридцати шести Heinkel 111 и Ju 88. Этот налет остался безрезультатным, англичанам же удалось интенсивным зенитным огнем сбить четыре немецких самолета. На следующий день в полдень флот подвергся гораздо более серьезному нападению: над ним зависло 70 бомбардировщиков и торпедоносцев, охраняемых истребителями. Битва затянулась на два часа. Грузовое судно Deucalion получило пробоину от торпеды и позднее затонуло у берегов Туниса, несмотря на все усилия капитана Рэмси Брауна спасти корабль. Во второй половине дня конвой миновал засаду подлодок без потерь, только эсминец Ithuriel вышел из строя, протаранив и затопив еще одну итальянскую субмарину.
Вечером 12-го люфтваффе и итальянский воздушный флот вновь атаковали совместно. Сотня бомбардировщиков и торпедоносцев налетали с разных углов, на разной высоте, дезориентируя зенитчиков. Орудийные расчеты на кораблях стреляли без передышки, палуба была завалена гильзами, ослепительно голубое небо затуманилось тысячами черных выхлопов, вой авиационных моторов перекрывал скрежет и треск залпов из всех орудий. Эсминец Foresight затонул, авианосец Indomitable едва держался на плаву после попадания трех бронебойных снарядов. На подходе к Сицилийскому проливу Сифрет направил свои линкоры к западу, предоставив плотно следовавшему за торговыми кораблями эскорту в составе шести крейсеров под командованием вице-адмирала Гарольда Бэрроу довести конвой до Мальты.
С этого момента начинается агония. Через час после ухода Сифрета итальянская подводная лодка Axum нанесла блистательный тройной удар, уничтожив одной атакой флагман Бэрроу Nigeria и зенитный крейсер Cairo, а заодно подбив танкер Ohio. Тем самым английский флот лишился возможности связаться с авиабазой на Мальте, поскольку обе радиостанции, настроенные на эту волну, находились на уничтоженных крейсерах. И вот, когда дневной свет начал угасать, а британские корабли, ломая строй, жались друг к другу, в небе вновь появились самолеты люфтваффе. Ju 88 потопили торговые суда Empire Hope и Clan Ferguson, вывели из строй Brisbane Star. Затем пущенная с подводной лодки торпеда повредила крейсер Kenya. Под покровом темноты в ночь на 13 августа немецкие и итальянские торпедные катера предприняли ряд атак, длившихся часами. Оборона была слаба, поскольку Бэрроу счел опасным запускать осветительные снаряды: он считал, что они сыграют на руку скорее противнику, чем его артиллеристам. Крейсер Manchester получил несовместимые с жизнью повреждения, затонуло еще четыре торговых судна, пятое было подбито. Единственное утешение – в теплых водах летнего Средиземного моря выживало гораздо больше людей, чем в Арктике и даже в Атлантическом океане.
С рассветом вновь появились самолеты люфтваффе, потопили еще один торговый корабль. Получил новые пробоины и Ohio, но танкер продолжал кое-как ковылять вперед, пока его двигатели не заглохли после очередной бомбежки, уже поздним утром. Еще два торговых судна были подбиты, и их пришлось оставить позади под охраной миноносца. В 16:00 в соответствии с приказом три уцелевших крейсера Бэрроу повернули назад, к Гибралтару, а три торговых судна – Port Chalmers, Melbourne Star и Rochester Castle (последний с полузатопленной палубой) – преодолели последние мили до Мальты под защитой небольшой местной флотилии. 13 августа в 18:00 ликующие толпы высыпали на старые крепостные стены встречать входившие в главную гавань корабли. Отставших продолжали клевать немецкие самолеты и подводные лодки: затопили Dorset, нанесли очередной удар по Ohio, но каким-то чудом (отчасти благодаря прочной американской конструкции) танкер продолжал продвигаться вперед, а с ним рядом шли два миноискателя и эсминец. Утром 15 августа, в католический праздник Успения, Ohio добрался до порта и встал под разгрузку. Капитан Дадли Мейсон был награжден Георгиевским крестом. Одолел этот путь и Brisbane Star.
Итоги операции: доставлено 32 000 тонн припасов, 12 000 тонн угля и запас нефти на два месяца. Из четырнадцати торговых судов уцелело пять. Активные действия английских моряков отпугнули итальянский флот, и надводные корабли оси не приняли участия в схватках. Линкоры Муссолини давно уже были обездвижены из-за нехватки горючего, а британские ВВС сбросили зажигательные бомбы на пять пытавшихся выйти в море крейсеров, убедив их, что опасность чересчур велика. Командир подводной лодки Unbroken Аластэр Марс хотя бы отчасти сквитался за потери английского флота, торпедировав Bolzano и Muzio Attendolo. Но итоги операции Pedestal коммандер Джордж Бланделл с линкора Nelson подводил неутешительные: «Нас эта экспедиция повергла в депрессию. Мы ее называли “Операция ‘Самоубийство’. “Флот не признает ничего невозможного”, – трубит ВВС. И долго мы будем не признавать невозможного?»24
Трехдневная драма Pedestal повторялась и отражалась в судьбах других мальтийских конвоев. Не все их участники запомнились как герои: бывали позорные случаи, когда моряки торгового флота спешили покинуть вполне еще жизнеспособный корабль, прыгали в шлюпки, хотя на корабле еще продолжали работать двигатели. Капитан Браун с Deucalion, на глазах у которого часть экипажа самовольно покинула свой пост, позднее с возмущением говорил: «Не думал я, чтобы англичане были способны на такую подлость!»25 Но в целом мальтийские конвои можно скорее назвать славной страницей истории. К зиме 1942 г. худшие испытания британского флота в этом регионе были позади. Расшифровки Ultra помогали боевым кораблям и самолетам союзников разрушать линию снабжения Роммеля: потери оси в Средиземноморье возросли с 15 386 тонн в июле до 33 791 в сентябре, 56 303 в октябре и 170 000 за два последних месяца года. В ноябре Монтгомери одержал победу под Эль-Аламейном и американцы высадились в Северной Африке. Вскоре удалось снять блокаду Мальты.
Оборона острова обошлась Королевскому флоту с 1940 г. в один линкор, два авианосца, четыре крейсера, один минный заградитель, двадцать эсминцев и миноискателей и сорок субмарин. ВВС потеряли 547 самолетов в воздухе и 160 было уничтожено на земле. На самой Мальте погибло 1600 жителей: 700 солдат и 900 человек из наземного персонала авиабазы. В море оборвалась жизнь 2200 военных моряков, 1700 подводников и 200 моряков торгового флота. В 1943–1944 гг. союзникам приходилось отстаивать свое господство в Средиземноморье и нести новые потери, однако стратегическое превосходство государств оси было безнадежно утрачено. В последние два года войны основной задачей Королевского флота стали доставка армий союзников к новым полям сражений, организация и защита массированного десанта. Угроза со стороны немецких подводных лодок и самолетов сохранялась до последних дней войны. Британскому флоту сильно досталось в злополучную осеннюю кампанию 1943 г. у Додеканеса, но в целом решающие битвы на море Королевским флотом были выиграны, и победа заключалась не в прямом столкновении флотов, но в том, что Британия сохранила свои морские маршруты вопреки всем усилиям вражеской авиации и атакам подводных лодок. Большинство капитанов и рядовых показали себя достойными лучших традиций морской державы.
12. Пещь огненная: Советский союз в 1942 году
Нечеловеческие испытания и тяжкие муки войны вновь пробудили в русских людях религиозность, и на этот раз Сталин не пытался ее подавить. На Пасху 1942 г. в Москве отменили комендантский час. Софья Скорина побывала в православном храме на Елоховской площади: «Пришли в 8 часов вечера. В стороне стояла небольшая очередь святить куличи и яйца… Но потом, уже через час, нельзя было повернуться и нечем было дышать. Давка, крики женщин “Задавили! Дурно!” и пр. Было так душно, что по колоннам текло. Свечки, которые передавали из рук в руки, свернулись спиральками. Очень много молодежи (не знаю только – с какой целью пришли). Некоторые мамаши пришли с детьми. Много военных. Народ сидел даже на кресте с изображением Христа – словом, как на футбольном матче. В 11 часов вышел священник и заявил, что “прибудут наши друзья – англичане”. Но мы уже не могли дышать и вышли на улицу. Около церкви увидели несколько машин – это подъехали англичане»1.
Фронтовая медсестра Евдокия Калиниченко в мае писала: «У нас впервые за этот месяц небольшая передышка. Мы поудобнее устроили раненых, просушились, помылись в настоящей бане. Сколько пройдено дорог! И каких – по большей части проселочных: сплошь грязь, разбитые колеи, размытые дождем, ухабы и выбоины. Сердце обрывается, когда машину начинает трясти: большая часть раненых тяжелые, для кого-то любой толчок может оказаться смертельным. Но сейчас вокруг так тихо, трудно поверить, что где-то на земле идет война. Мы бродим в окрестных лесах и собираем цветы. Светит солнце, небо голубое. По привычке поглядываем вверх, но видим лишь пробегающие облака. Кажется, немцы наконец остановились и больше не станут и пытаться. Они усвоили свой урок на подступах к Москве».
Калиниченко надеялась на слишком многое и чересчур рано. Хотя у русских оставались резервы, чтобы восполнить страшные потери 1941 г., для существенного продвижения им по-прежнему недоставало и боеспособных единиц, и возможностей снабжения. Новогоднее контрнаступление силами пяти фронтов и армейских групп под личным управлением Сталина захлебнулось прежде, чем продвижению помешала весенняя распутица. Немцы удержали фронт к югу от Ленинграда и продолжали осаждать город; они отрезали Волховский фронт и уничтожили Вторую ударную армию. Командующий этой армией, генерал Власов, попал в плен и впоследствии создал по поручению наци Русскую освободительную армию.
В Крыму немцы заблокировали с запада выход с Керченского полуострова и заперли на нем армию противника, а затем перешли в контрнаступление. С 8 по 19 мая Манштейн одержал еще одну победу, прорвав Крымский фронт и захватив 170 000 пленных. Семь тысяч спасшихся солдат прятались в известковых катакомбах, пока немцы, пробив взрывчаткой ходы, не пустили внутрь газ. Генерал-лейтенант Гюнтер Блюментрит, возглавлявший одну из армий вермахта, писал о русских словно о диких зверях, которых он никак не мог уважать, но которых вынужден был бояться:
«Восточный человек весьма отличается от западного. Он гораздо лучше переносит лишения – с пассивностью и равнодушием как к жизни, так и к смерти. Восточный человек не проявляет инициативы: он привык подчиняться приказам, следовать за вождем. [Русские] не придают особого значения еде или одежде. Поразительно, как долго они могут продержаться на том, что для западного человека было бы голодной диетой… Близость к природе помогает этим людям свободно передвигаться ночью или в тумане, через леса и болота. Они не боятся темноты, не боятся своих бескрайних чащоб и холода. Еще крепче сибиряк, он наполовину или полностью азиат… Эта страна оказала существенное психологическое воздействие на немецкого солдата: в бескрайних пространствах он почувствовал себя маленьким и затерянным. Тому, кого не сгубил ни такой противник, ни русский климат, уже нечего было узнавать о войне такого, чего бы он не знал»2.
Манштейн предпочел бы обойти крепость Севастополя, но Гитлер требовал во что бы то ни стало ее взять. Подвезли осадное орудие – «Большую Дору» – 800-миллиметровую пушку весом 1350 тонн. Чтобы доставить ее, потребовались чрезвычайные усилия, поскольку перемещалась «Дора» только по рельсам. Франц приводил «Дору» в пример бессмысленных трат на производство «орудия престижа» – великолепный образец инженерной мысли, но совершенно бесполезный в качестве боевого орудия. «Дору» обслуживала команда из 4000 человек, но ее семитонные снаряды куда меньше способствовали взятию города, чем упорные усилия пехоты Манштейна. Обстреливали крепость и с воздуха. Бомбардировщик люфтваффе Герберт Пабер писал: «Между скалистыми убежищами ядовитыми грибами поднимается дым то от одного выстрела, то от другого. Все было охвачено огнем и дымом, но в конце концов мы взяли еще тысячи пленных. Можно только дивиться такому упорству. Так они обороняли Севастополь по всему фронту. Приходится буквально засыпать всю эту землю бомбами, прежде чем они хоть немного отступят»3.
Город пал 4 июля после 250 дней осады. Некоторым советским частям удалось ускользнуть, в том числе подразделениям НКВД, которые напоследок уничтожили всех арестованных. Причиной огромных потерь в Крыму считали некомпетентность любимца Сталина Льва Мехлиса, который запрещал солдатам окапываться, попрекая их трусостью. Единственное благоприятное для русских следствие этой катастрофы – отставка Мехлиса. Немцы потеряли 25 000 убитыми и расстреляли 50 000 тонн снарядов. В очередной раз их поразило упорство, с каким сражались обреченные.
К северу от Крыма, дождавшись, пока после распутицы высохнет земля, генерал Семен Тимошенко попытался 12 мая прорваться силами Юго-Западного фронта к Киеву и потерпел сокрушительное поражение. В очередной раз немцы, контратакуя, окружили русских, и Сталин в очередной раз запретил отступать. Погибло четверть миллиона человек. Командующий армией и несколько старших офицеров застрелились, чтобы не попасть в плен. Уцелевшие бежали на восток. Один из них вспоминал: «Мы отступали со слезами. Сколько мы бежали из-под Харькова, кто до Сталинграда, а кто и до Владикавказа. Куда нас занесет в конце концов? В Турцию?»4
К Гитлеру вернулась прежняя уверенность: он списал потери Германии за предыдущий год и согласился с мнением полковника Рейнхарда Гелена, возглавлявшего разведку на Восточном фронте: резервы Сталина исчерпаны. К августу немецкая военная промышленность достигнет полной мощности (в июле 1941 г., в предчувствии скорой победы, фюрер отдал роковой приказ, отмененный только в январе 1942 г.: сократить производство оружия и боеприпасов). Поразительно, но и после стратегических безумств первого этапа войны и зимних тягот Гитлеру удалось сохранить преданность своих офицеров. В январе 1942 г. сражавшийся в Крыму немецкий солдат с обидой описывал: «Одна горячая еда в день, капустный суп с картошкой, полбуханки хлеба через день, немного жиру, кусочек сыра и затвердевший мед».
Но даже при таком питании вермахт оставался грозной боеспособной силой. Большинство немецких генералов в темных глубинах души сознавали еще до того, как начался холокост, что их народ и вся армия оказались замешаны в преступлениях против человечества (будто эти злодейства совершали только СС – миф) и эти преступления, особенно массовые в России, им не простят. Им нечего было терять – только миллионы солдатских жизней, – и они сражались до конца. Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство жертв приходится на 1942-й и последующие годы. У немцев оставалась еще надежда крупными победами вынудить противника к переговорам. Апрельская директива Гитлера требовала сосредоточить удар на юге. «Синий план» предусматривал уничтожение последних резервов Красной армии, захват Сталинграда и кавказских нефтяных месторождений.
Сталин не сумел разгадать намерения противника. Он опасался очередного натиска на Москву и соответственно распределил свои силы. Даже когда ему на стол положили «Синий план», найденный на теле погибшего при авиакатастрофе штабного немецкого офицера, Сталин счел это дезинформацией. Но Красная армия оказалась намного сильнее, чем предполагал Гитлер: уже 5,5 млн под ружьем, производство танков и самолетов стремительно наращивалось. Из ГУЛАГа мобилизовали в армию уголовников и даже часть «политических преступников» – к концу войны их будет в армии 975 000 человек. Берлин оценивал производство стали в СССР за 1942 г. на уровне 8 млн тонн, а на самом деле было произведено 13,5 млн.
Первая фаза «Синего плана», рассчитанная на три недели, началась 28 июня с продвижения к Дону. Гитлер располагал здесь 3,5 млн немцев и миллионом солдат из государств оси – там были итальянцы, румыны, «Голубая дивизия», снаряженная Франко в качестве дружественного жеста, – и поначалу успех был на стороне завоевателей. Когда корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман приехал в Воронеж, почти в 500 км к северо-западу от Сталинграда, он застал город спокойным и беспечным: все были уверены, что враг далеко. Однажды вечером он видел забавное, на его взгляд, зрелище: женщины танцевали в парке друг с другом, партнеров-мужчин не было. Женщины также патрулировали город, и Бронтман отметил, что они справляются с регулировкой транспорта эффективнее, чем мужчины, вот только свистят чересчур часто5.
Но через несколько дней настроение в городе резко переменилось: западнее Воронежа фронт дрогнул, вновь началось отступление. Немецкие бомбардировщики совершали налеты на Воронеж: утюжили улицы города, не встречая сопротивления. Жители обратились в бегство. Нашлись и те, кто воспользовался ситуацией: владельцы машин сдирали с перепуганных людей по три, четыре и даже пять тысяч рублей за то, чтобы подвезти их на восток. Фабрики закрывались, учреждения эвакуировались. Когда стало известно, что немцы всего в 50 км, Бронтман записал: Воронеж «психологически подготовлен к сдаче»6, – и действительно, через несколько дней город пал.
Стремительно продвигавшиеся танки задерживались больше из-за дождя и грязи, чем из-за сопротивления Красной армии. Сталин единственный раз за всю войну отдал приказ об организованном отступлении, и немцы, прорвавшись к востоку от Воронежа, нанесли удар в пустоту. Русским удалось уйти из котла под Миллерово, за что Гитлер вновь сместил фон Бока и разделил командование группой армий «Юг» между двумя ставками, А и В, поставив во главе них Листа и Вейхса. Но в целом ход кампании вполне фюрера устраивал: на первом этапе это был очередной победоносный поход бронетехники, пехота почти не участвовала в боях, потери были ничтожны. Германия захватила еще один кусок советской территории. В июле танки продолжали движение на юг, смяли Южный фронт противника, подразделения русских искали спасения на другом берегу Дона. Гитлер назначил Фридриха Паулюса, штабного офицера, мечтавшего показать себя в деле, командующим Шестой армией и поручил ему взять Сталинград.
Большинство немецких полководцев сразу же разгадали нелепость этого решения: стратегическая роль города имени Сталина была ничтожна для основной задачи – овладеть Кавказом и месторождениями нефти. Более того, если Гитлер жаждал символического триумфа, то и Сталин был преисполнен решимости не допустить этого. К тому же он опасался в случае падения Сталинграда очередной атаки немцев севернее Волги, на Москву. Итак, Сталин приказал любой ценой отстоять Сталинград и направил на защиту города на Волге три армии из стратегического резерва. Была подготовлена сцена для одной из величайших битв той войны. Два диктатора померяются упорством и силой воли.
Дух Красной армии не был сломлен, хотя на нем и сказались несчастья той весны и лета. Кое-кто надеялся на помощь западных союзников. Павел Калитов, комиссар партизанского отряда на Украине, записывал: «Мы счастливы: Англия успешно бомбит Румынию, и американцы готовят высадку во Франции». Эти ожидания дорогого стоили, но пока что не соответствовали действительности. Английские бомбардировки имели куда большее пропагандистское, нежели реальное значение, а до открытия Второго фронта оставалось почти два года. Вплоть до 1943 г. поставки оружия и провианта с Запада составляли лишь малую долю от огромных потребностей Советского Союза. Все, что советский народ осуществил в 1942 г., он вынужден был свершить практически без всякой помощи извне.
Невозможно передать страдания советских солдат и от рук противника, и от погодных условий, и от ошибок собственного командования. Капитан Николай Белов описывал, как его подразделение заблудилось по пути на фронт: «Ночь страшно темная. Ушли в противоположную сторону от маршрута всем батальоном. Плутали целую ночь. Прошли 30 км по ужасной грязи7. Две недели спустя он писал: «04.05.42. Оружие не получено. На батальон пара старых винтовок». 10 мая батальон капитана Белова занял позиции у деревни Большой Синьковец: «Не ели двое сутки, все голодают». Два дня спустя на 500 человек выдали сорок одну винтовку. 17 мая они ускоренным маршем прошли 50 км, сорок ослабевших товарищей в дороге отстало – и неудивительно, ведь они два дня не ели. Белов писал: «Отстающих 40 человек… Все недовольны командованием (что справедливо – и бойцы, и командиры. Положение тяжелое». Так день за днем продолжались тяжелейшие испытания. «18.05.42. Прибыли в Зеленую дубраву, прошли за день 35 км, невыносимо жарко, кошмарно устали. Кушать опять ничего нет. Масса отстающих, Седов плачет, идти абсолютно не может». Подчиненные Белова собирали в поле гнилую картошку, забытую с осени. Первое же столкновение с немцами привело к чудовищным потерям: у Белова, докладывает он 15 июля, осталось всего пять человек.
К середине лета 1942 г. прогнозы союзников относительно ближайшего будущего России оставались крайне мрачными. Офицер британской разведки 15 июля писал: «Не могу отделаться от впечатления, что, каковы бы ни были потери Германии, Красная армия потеряла намного больше. В Севастополе Красная армия продемонстрировала и мощь своего оружия, и огромную способность к сопротивлению при соответствующих условиях ландшафта, но она по-прежнему не может противостоять немцам на открытых равнинах Южной России. В целом большинство факторов складывается в пользу немцев. Они располагают лучшим боевым механизмом. В какой мере они сумеют развить свой успех, зависит от того, сумеет ли Красная армия сохранить целостность при отступлении, пока не укроется за существенными природными препятствиями или не достигнет территории, более подходящей для обороны»8.
События того года следует рассматривать в определенном контексте. На 1941 г. приходится 27,8 % всех потерь России в войне, но катастрофы 1942 г. – под Харьковом, в Крыму и на Керченском полуострове – унесли еще больше человеческих жизней. Вместе со Сталинградом эти сражения привели к 28,9 % потерь за всю войну. Один жизненно важный урок Сталин усвоил: он передоверил стратегические решения опытным полководцам, а некомпетентных уволил. Оружие, производившееся на эвакуированных за Урал заводах, начало поступать в армию, и ее боеспособность увеличилась, в то время как технические ресурсы стран оси сокращались. Но всего этого сторонние наблюдатели еще не могли оценить летом 1942 г. Германия все еще одерживала победы на поле боя, а Россия, казалось, находилась при последнем издыхании.
Почти все попытки Великобритании, а затем и США установить оперативное сотрудничество с командой Сталина наталкивались на склонность советской стороны к секретности, на ее некомпетентность, недоброжелательность и недостаток средств. Ходатайство Королевского флота о предоставлении советских боевых кораблей и самолетов для сопровождения британских конвоев, направлявшихся в Мурманск и Архангельск, практически не было удовлетворено. В августе 1942 г. в Северо-Западный регион России были доставлены два агента британской разведки, которых советская сторона обязалась забросить на север Норвегии. Их два месяца продержали в изоляции, затем сбросили – прямо так, в летней одежде – не в Норвегии, а в Финляндии, где их тут же схватили, подвергли пыткам и расстреляли. С этого момента англичане поняли, что сотрудничество с Россией – улица с односторонним движением и что никак не следует рисковать жизнью своих людей, полагаясь на добрую волю такого союзника.
Тем не менее западные демократии шли на все, лишь бы сохранить хоть видимость единства. На встрече с Черчиллем в Каире в августе 1942 г. генерал Андерс, сидевший в сталинских тюрьмах с 1939 по 1941 г., яростно обличал систему: «“В России, – сказал я, – отсутствует и справедливость, и честь, ни одному человеку нельзя верить на слово”. Черчилль объяснил мне, что мои речи очень опасны и не следует повторять их публично. Никакого добра, сказал он, от ссоры с русскими не будет. В завершение разговора Черчилль заявил: он верит, что из этой войны Польша выйдет сильной и счастливой»9. Андерс позволил себя убедить в том, что «мы, поляки, возвращаемся домой (так мы думали) иным, кружным путем, но с меньшими препятствиями»10. Западные державы поддерживали эту иллюзию.
Первые столкновения на Сталинградском фронте произошли 23 июля, в 150 км к западу от города. В ту ночь Гитлер допустил самую, как выяснилось, страшную ошибку за все время войны на Востоке: он подписал новую директиву, в которой объявил, что «Синий план» осуществлен. Группе армий А поручалось продвинуться на 1200 км вперед – дальше, чем немцы прошли в мае 1940 г. от линии Зигфрида до берега Ла-Манша – и овладеть нефтяными месторождениями Кавказа. Вскоре линия фронта растянулась на 800 км и натолкнулась на упорное сопротивление русских. Тем временем группа армий В выполняла маневр с целью развернуться на берегу Волги и захватить Сталинград. Манштейн был командирован на север с пятью дивизиями пехоты и осадной артиллерией, которую он уже опробовал на Севастополе: теперь ему поручалось взять Ленинград, Берлин утомился блокадой и желал окончательного поражения города на Неве. Тем временем Шестая армия завязла на подступах к Сталинграду. Гитлер в ярости распорядился вернуть с Кавказа Четвертую танковую армию и отправить ее на помощь Паулюсу. Таким образом он распылил свои силы, и каждая из его армий оказалась чересчур слаба, чтобы выполнить поставленную перед ней задачу.
Тем не менее в августе 1942 г. русские все еще терпели поражение за поражением. Маршал Семен Буденный особенно отличился в этом смысле на Северном Кавказе. Шестая армия разбила русских восточнее Калача-на-Дону. 50 000 попало в плен, погибла целая танковая армия, экипажи в панике бросали свои машины. 21 августа Паулюс с Дона начал прорываться к Волге, расчищая себе путь сквозь ряды противников с помощью ковровых бомбардировок. Через два дня его войска вышли к реке в 25 км к северу от Сталинграда. Падение этого города казалось неизбежным, и Паулюс заранее отправил Гитлеру на одобрение свой план перехода Шестой армии на зимние квартиры. На юге 9 августа альпийские стрелки взяли Майкоп и вышли к наиболее доступным нефтяным месторождениям Кавказа, однако русские успели так основательно все там разрушить, что пришлось завозить из Германии оборудование и бурить новые скважины. Передовые отряды группы армий А продвигались на восток, к Каспию, Семнадцатая армия шла через горы на юг, к Черному морю.
Но Гитлер сам же подрезал крылья этому наступлению, отнимая у Группы армий А боеприпасы и топливо в пользу Паулюса. Тем не менее Берлин вновь был охвачен оптимизмом. Роммель стоял у ворот Каира, производство оружия возросло, союзники немцев на Дальнем Востоке – японцы – одерживали победу за победой, а успехи американского флота в Коралловом море и у атолла Мидуэй не были еще толком замечены и осознаны. Подводные лодки Дёница наносили удары по атлантическим конвоям, командир итальянской подлодки докладывал, что потопил американский линкор. За этот полет фантазии Муссолини наградил его орденом. Приободрилось и гражданское население Германии.
Лишь технократы, посвященные в экономические и производственные тайны рейха, не обольщались иллюзиями. Людские резервы неуклонно сокращались, а рост производства самолетов происходил в основном за счет устаревших моделей. Генерал Гальдер писал в дневнике 23 июля: «Хроническая склонность недооценивать возможности противника постепенно приобретает гротескные пропорции». В сентябре у немецкой армии начались существенные затруднения. Отряды в южных горах застигли снежные бури; постоянная смена планов нарушала ход операций. Наступление то и дело откладывалось или отменялось из-за недостатка топлива. Первая танковая армия застряла на три недели, тем самым предоставив сталинским командующим драгоценную передышку. Почти все самолеты были брошены на Сталинград без учета того, как это скажется на других операциях. 12 сентября первые отряды немцев вошли в город.
Ни советские солдаты, ни мирные жители не могли и догадываться о тех проблемах, с которыми столкнулись немцы. Они видели только поражение собственных войск и обрушившиеся на них несчастья: резню и голод. 23 октября комиссар Павел Калитов с горечью писал из Логово, получив очередной приказ об отступлении: «Гражданские взвыли. Всё эвакуировать. Везде рыдания, слезы, скорбь. Только подумать: вот-вот начнется зима, а их с детишками гонят на мороз. Куда им идти? Наши отступают. Немцы нашли слабое место в нашей обороне. В газетах часто мелькают фразы вроде “под натиском превосходящих сил противника”. А что же мы? Почему не соберем таких же “превосходящих сил”? В чем дело? За шестнадцать месяцев мы многому научились. Как тяжело оставлять селения. Новые жертвы, новые кровавые мучения, новые проклятия обрушиваются на нас. [Крестьяне скажут]: “Вот они, наши защитники”»11.
Пожилая женщина с презрением сказала Василию Гроссману о руководителях страны: «Пустили их, дурачки, вглубь, на Волгу, отдали пол-России»12. Из Кремля доносились новые лозунги: «Ни шагу назад! До последней капли крови!» Перед лицом надвигающейся катастрофы – половина европейской территории Советского Союза уже была оккупирована – Сталин опомнился и принял спасительное решение: в сентябре он назначил Жукова заместителем Верховного главнокомандующего и направил его под Сталинград с приказом готовить масштабное контрнаступление. На первый план вышли соображения военной необходимости, отодвинув прежние идеологические доводы: вернулось состоявшее двадцать с лишним лет под запретом офицерское звание, командиров освободили от обязанности подчиняться комиссарам, и с этого момента продвижение по службе определялось компетентностью офицера. Полное признание в качестве стимула доблести получили ордена и медали – в Красной армии к 1945 г. их было вручено 11 млн (в США – всего 1,4 млн).
Сталин, в отличие от Гитлера, усвоил урок. Теперь он делегировал полномочия командующим фронтами, не отказываясь при этом от власти Верховного главнокомандующего. И эти решительные шаги спасли Красную армию после летних неудач. «Нам еще учиться и учиться, – писал комиссар Павел Калитов 4 сентября 1942 г. – Для начала нужно покончить с беспечностью»13. Николай Белов мрачно описывает результаты проверки боевой готовности подразделения: «Результаты самые плачевные. Юсупы (казахи) не могут повернуться ни направо, ни налево, жуткий народ, бараны самые настоящие. Смирнов, Калинин и Костенко едут за новым пополнением. Если дадут опять казахов, тогда заранее можно считать себя обреченным»14. Но Красная армия действительно училась, пусть и ценой большой крови, и получала подкрепления – людьми, танками и самолетами.
Осенью и зимой 1942 г. в сером, некрасивом промышленном городе на Волге развернулось одно из самых жестоких сражений той войны. В воскресенье 23 августа немцы провели воздушный рейд с участием 600 бомбардировщиков. За 14 часов налета погибло 40 000 гражданских – столько же, сколько погибло в Англии за весь период блицкрига 1940–1941 гг. Налеты люфтваффе продолжались изо дня в день. «Мы целыми днями летали над пылающим полем Сталинградской битвы, – писал пилот Stuka Герберт Пабст. – Для меня непостижимо, как люди остаются жить в таком аду, но русские цепляются за руины домов, прячутся в подвалах, в искореженных стальных скелетах заводов»15. Первую массированную наземную атаку Паулюс предпринял 13 сентября, и с тех пор не прекращались схватки среди руин. Командовавший 62-й армией генерал Василий Чуйков писал: «Улицы города мертвы. Ни единой зеленой ветки на деревьях, все погибло в огне»16.
Бетонные глыбы вокзалов и заводов быстро превращались в груды щебня. Но в каждом таком здании лилась кровь, их не слишком изысканные названия стали легендой Великой Отечественной войны: элеватор у второго вокзала, грузовая станция, главный вокзал, химический завод «Лазурь», металлургический завод «Красный октябрь», оружейный завод «Баррикадный». На первом этапе Сталинградской битвы Красная армия удерживала прямоугольник длиной 50 км и шириной 35 км, и его периметр быстро сокращался. По требованию Сталина три армии предприняли контратаку на северном фланге, но были отбиты. Немцы в свою очередь многократно пытались захватить два ключевых пункта: «Высоту 102» (высота Мамаева кургана в метрах) и переезд через Волгу около Красной площади – через него в город поступали подкрепления и боеприпасы и вывозили раненых. В иную ночь две и даже три тысячи раненых переправлялись в темноте через почти двухкилометровой ширины покрытую льдом реку на восточный берег. Увозили раненых те же лодки, которые доставляли новых солдат и припасы. Подкрепления зачастую везли на паромах посреди дня, под огнем люфтваффе – не поспевали сменять защитников. Александр Гордеев, моряк-пулеметчик, с сожалением глядел на то, как солдаты цепляются за поручни палубы вопреки приказу спуститься в трюм: «Командиры загоняли их пинками, ругались и кричали сержанты. Байда и двое здоровенных моряков хватали и толкали вниз по трапу упирающихся бойцов… С берега подносили ящики со снарядами, патронами, продовольствием. Глядя на штабель ящиков с боеприпасами в пяти шагах от нашего максима, я отчетливо представлял, что будет, если в них попадет снаряд немецкого самолета»17. Вскоре другой паром, переправлявший раненых, был подбит бомбардировщиками. «Раненые, сто с лишним человек, сидели и лежали в каютных помещениях, а из трюма лезли беженцы. Стоял сплошной крик, перекрывающий грохот взрывов»18.
Подкрепления прямо с паромов бросали в бой. Командующий 62-й армией генерал Василий Чуйков повторял: «Время – кровь». Взрывы бомб и снарядов, треск выстрелов, уханье минометов не смолкали ни днем, ни ночью. Чуйков рассказывал: «Бойцы, подходя сюда, говорили: “Ну, подходим к аду”. А пробыв день-два, говорили: “Нет, тут в десять раз страшней и хуже, чем в аду”»19. Молодая женщина, санитарка, признавалась: «Мы войну себе совсем не так представляли»20. Они воображали, что там все в огне, дети плачут, бегают бездомные кошки, но в Сталинграде все оказалось намного страшнее. Девушка прибыла в Сталинград вместе с группой подруг из Тобольска – очень немногие из них уцелели.
Русские солдаты наконец-то смогли проявить свои лучшие качества в рукопашном сражении. Здесь не было места для стремительного наступления танков, для хитроумных маневров. Немецкие солдаты изо дня в день шаг за шагом пробивали себе путь к Волге, сквозь завалы разрушенных домов, в которых, голодая, замерзая, ругаясь на чем свет стоит, сражались и погибали русские. На теле убитого защитника Сталинграда нашли письмо, написанное дочкой: «Я без вас шибко скучаю. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина»21.
Чуйков описывал Василию Гроссману положение: «Самое тяжелое чувство: где-то трещит, все грохочет, посылаешь офицера связи, и его убивает. Вот тогда весь дрожишь от напряжения»22. 2 октября на штаб Чуйкова обрушился поток горящей нефти из находившихся поблизости баков, в которые угодили немецкие бомбы. Столб огня и дыма высотой в сотни метров взметнулся к небу, погибло 40 офицеров штаба. На тракторном заводе продолжался бой насмерть: покрытые копотью, измученные, полуголодные бойцы пытались не пропустить сквозь развалины немецкие танки. На какой-то момент советский плацдарм на западном берегу Волги съежился до нескольких сотен метров.
Русские сражались с самоотверженностью, стимулируемой, как обычно, страхом: за отступление без приказа расстреливали на месте. Василий Гроссман писал: «В эти тревожные дни, когда гром сражений слышен на окраинах Сталинграда, когда по ночам видны высоко над головой зажигательные ракеты и бледно-голубые лучи прожекторов шарят по небу, когда на улицах города появились первые изуродованные шрапнелью грузовики, везущие раненых и пожитки отступающих штабов, когда передовицы возвестили о смертельной опасности для страны, страх проник во многие сердца и многие взгляды устремились на тот берег Волги». Гроссман, конечно же, подразумевал, что люди хотели бы вырваться из котла на восточный берег. Но попытка спастись обходилась недешево: 13 500 солдат было расстреляно под Сталинградом по обвинению в трусости или дезертирстве, а многих просто убили на месте. 23 сентября Берия, как обычно, докладывает (и такие рапорты он подавал ежедневно), что за истекшие сутки блокирующие отступление войска НКВД задержали 659 человек: «семь трусов и один враг народа»23 были расстреляны перед их отделениями. Еще 24 человека остаются под арестом, в том числе «один шпион, три изменника родины, восемь трусов и восемь врагов народа».
Паулюс много раз атаковал, но сил для прорыва у него не хватало. Хитроумных маневров никто в ход не пускал, все сводилось к сотням ежедневных смертельных схваток между немцами и русскими, и обе стороны терпели одинаковые лишения. Спасаясь от налетов вражеской авиации, Чуйков старался развернуть свои войска вплотную к противнику. Бомбардировки уничтожили город, но – как предстояло убедиться и союзникам – руины создают серьезное препятствие на пути танков и оборонять их удобнее, чем целые здания и свободные улицы. Солдаты были все время голодны, все время мерзли. Огонь минометов и прицельные выстрелы снайперов грозили смертью при любом неосторожном движении: многие погибли, когда подбирали оружие и боеприпасы или стояли в очереди к полевой кухне. Погибали и женщины. Чуйков горячо воздавал должное их заслугам – они служили в армии регулировщицами, санитарками, машинистками, зенитчицами.
Ледяной ветер докрасна обжигал лицо. Каждый день случались кризисы местного значения, а по ночам русские успевали доставить с другого берега ровно столько подкреплений, чтобы удержать свой крохотный плацдарм. В газетах ради пропаганды расписывали героические подвиги сталинградцев: например, у матроса Панайко в руках загорелась бутылка с коктейлем Молотова, он весь вспыхнул огненным факелом. Обреченный моряк сделал несколько шагов навстречу немецкому танку, бросил вторую бутылку в решетку радиатора и рухнул на танк сам, так что огонь поглотил и героя, и вражескую машину. Порой такие истории выдумывались, но по большей части это была правда. «Мужество здесь, как зараза трусости в других местах»24, – писал Василий Гроссман. Сталин отдал простой, всем понятный приказ: оборонять город до последнего человека.
Гитлеру не повезло еще и в том, что это сражение как нельзя лучше соответствовало инстинктам Красной армии. Офицер мотопехоты писал: «Две недели мы сражались за один-единственный дом; били из минометов и пулеметов, пустили в ход гранаты и штыки. Линия фронта проходила по коридору между выжженными комнатами. Улицы измеряются не в метрах, а в трупах. Сталинград перестал быть городом – днем это огромное облако обжигающего, слепящего дыма, огромная топка, где непрерывно пылает пламя. А когда наступает ночь, одна из этих палящих, кровавых, воющих ночей, псы бросаются в Волгу и плывут на тот берег. Им слишком страшно оставаться на ночь в Сталинграде. Животные бегут из этого ада, крепчайшие камни недолго его выдерживают, одни только люди еще терпят».
Но хотя битве, которую вел Чуйков, придавалось ключевое значение, и в других местах растянувшегося на сотни километров фронта всю осень и зиму продолжались сражения, унесшие в итоге больше жизней, чем битва под Сталинградом. «Здравствуйте, дорогая моя Маруся и дочка Таня! – писал домой комиссар партизанского отряда Павел Калитов. – Сообщаю вам, что я пока жив и здоров. Мы все еще на том же месте, в верховьях реки Шелонь. Немцы двинули на нас танки, самолеты, артиллерию и минометы. Наши партизаны сражаются как львы. Вася Буков 7 июня застрелил из винтовки пятнадцать фрицев. Сладить с ними трудно, потому как у них полно боеприпасов. Мы полностью зависим от местных жителей, и они нам хорошо помогают. Немцев много, а нас мало, вот и приходится спать по 2–3 часа в сутки, не более. Вчера я после боя ходил в баню и припомнил, как в мирное время после бани выпьешь, бывало, стакашек водки и отдохнешь, а в выходные еще и на рыбалку. Как поживает твоя сестра Шура? Отъелась ли она у нас после ленинградского голода? – И заканчивает на оптимистичной ноте: – В этом году фашисты сражаются уже не так браво, как в прошлом»25.
Положение Ленинграда сделалось несколько легче, хотя второй по значению город России все еще подвергался массированным бомбардировкам, а его обитатели все еще голодали, но хотя бы получали достаточный паек, чтобы выжить. В марте 1942 г. городские власти призвали очищать улицы от снега, мусора и обломков, и сотни тысяч горожан приняли в этом участие. В апреле был назначен новый командующий, генерал-лейтенант Леонид Говоров. Этот сдержанный сорокапятилетний артиллерист был человек интеллигентный, образованный и гуманный. Летом НКВД доносил из Ленинграда: «В связи с улучшением продовольственной ситуации в июне уровень смертности сократился на треть. Сократилось число инцидентов с употреблением в пищу человечины. Если в мае за это преступление было арестовано 256 человек, то в июне всего 56»26.
И все же для тех, кто держал фронт на севере от Ленинграда, страх был неизменным спутником. Николай Никулин 18 августа отмечает в дневнике, что в его подразделении уцелели только сержанты и повара. По утрам в каше плавали осколки шрапнели, все время мучила жажда: «Хочется пить и болит живот: ночью два раза пробирался за водой к недалекой воронке. С наслаждением пил густую, коричневую, как кофе, пахнущую толом и еще чем-то воду. Когда же утром решил напиться, увидел черную, скрюченную руку, торчащую из воронки… Гимнастерка и штаны стали как из толстого картона: заскорузли от крови и грязи. На коленях и локтях – дыры до голого тела: пропóлзал. Каску бросил – их тут мало кто носит, но зато много валяется повсюду. Этот предмет солдатского туалета используется совсем не по назначению. В каску обычно гадим, затем выбрасываем ее за бруствер траншеи… Покойник нестерпимо воняет. Их много здесь кругом, старых и новых. Одни высохли до черноты, головы, как у мумий, со сверкающими зубами… Так они и лежат, свернувшись калачиком, будто спят, под толстым слоем песка. Картина, напоминающая могилу в разрезе. В траншее тут и там торчат части втоптанных в глину тел; где спина, где сплющенное лицо, где кисть руки, коричневые, под цвет земли. Ходим прямо по ним»27.
Под конец августа немцы внезапно отказались от прежней сдержанной стратегии и попытались взять Ленинград. Когда их массированное наступление провалилось, Красная армия перешла в контратаку и добилась заметных успехов. В городе между тем возродилась культурная жизнь: выставки, концерты, в Филармонии состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. Жители Ленинграда поверили в собственное спасение, и их мысли обратились к судьбам соотечественников в Сталинграде. Вера Инбер писала: «Когда сводка улучшается, это видно по лицам. Сразу видно: в трамвае и на улицах. (21.09.1942) …Всё теперь решается там, под Сталинградом. Вся судьба войны. Сегодня в 12 часов должны быть важные утренние сообщения. (16.10.1942)»28.
Зимой 1942 г. продолжались артиллерийский обстрел и бомбардировка Ленинграда. Однажды налет начался во время театрального представления, когда шел второй акт впервые поставленной комедии о Балтийском флоте «Раскинулось море широко». Актер вышел на сцену и спросил публику: «Что будем делать, товарищи? Идем в убежище или продолжим?» Ему ответили громом аплодисментов и криками: «Продолжайте!» 12 января 1943 г. Говоров собирался начать новое наступление с целью прорвать блокаду. Жуков снова явился в город и переиначил план операции на свой лад. Солдатские жизни его, как обычно, не волновали, он насмешливо спрашивал: «Что за трусы тут не хотят идти в бой?» 16 января был отвоеван ключевой пункт – крепость Шлиссельбург, – и два дня спустя прозвучало официальное объявление о прорыве блокады. Знаменитая поэтесса Ольга Бергольц писала: «Это счастье, счастье спасенного Ленинграда, мы не забудем никогда. Проклятое кольцо разорвано»29. 3 марта другой ленинградец, Игорь Чайко, писал: «Огненными буквами запечатлена в моем разуме мысль: я все преодолею. Весна – символ жизни. Немцы снова нас бомбят, но угроза кажется ничтожной при солнечном свете»30.
Кошки, которых почти подчистую съели во время блокады, вновь понадобились в городе: чтобы избавить Ленинград от нашествия крыс, в город завезли целый поезд хвостатых воителей. Немцы продолжали обстреливать город на протяжении всего 1943 г., уже не в надежде взять Ленинград, а ради мести. Лишь в январе 1944 г. Красной армии удалось отбросить немцев достаточно далеко от города, чтобы их снаряды уже не могли причинить вреда Ленинграду. Однако в первую очередь судьба города была решена весной 1942 г., когда удалось обеспечить пищей уцелевших жителей. По официальной статистике, в городе за время блокады умерло 632 253 человека, но истинная цифра никак не меньше миллиона. Советская пропаганда скрывала правду о том, что происходило в погибавшем Ленинграде. Когда Ольга Бергольц в конце 1942 г. приехала в Москву, чтобы выступить на радио, ее попросили не рассказывать об ужасах блокады: «Они сказали мне, что ленинградцы, конечно, герои, но они не знали, в чем заключается этот героизм. Они не знали, что мы голодаем, не знали, что люди умирают от голода»31.
Со стратегической точки зрения бои на севере имели куда меньшее значение, чем Сталинградская битва, однако в судьбу Ленинграда необходимо всмотреться, чтобы понять, каким образом Советский Союз вышел победителем из Второй мировой войны. Невозможно представить, чтобы англичане предпочли поедать друг друга, лишь бы не сдать Лондон или Бирмингем, или чтобы военачальники заставили их держать оборону такой ценой. Принуждение и страх сыграли ключевую роль в спасении Ленинграда, как и в целом в победе Сталина. Если бы жителям города в феврале 1942 г. предложили капитулировать в обмен на обещание кормить, они бы, несомненно, сдались. Но в Советском Союзе такой выбор не предоставлялся, а тех, кто пытался отстоять свое право на жизнь, расстреливали. И Гитлер, и Сталин цеплялись за Ленинград с маниакальным упрямством. В конце концов верх взяло упорство Сталина – ценой сотен тысяч трупов. Народ, сумевший выдержать все это, проявил черты характера, неведомые Западу и оказавшиеся необходимыми для того, чтобы покончить с нацизмом. На этом аукционе жестокости и жертвенности советский диктатор предложил максимальную ставку.
К защитникам Ленинграда вернулись, хотя бы отчасти, жизнь и надежда, а к востоку и югу от города Ставка развернула новые стратегические удары. Начавшаяся 25 ноября 1942 г. операция «Марс» вычеркнута из истории, поскольку она не принесла успеха. 667 000 человек и 1900 танков пытались окружить германскую Девятую армию – потеряв 100 000 человек, Красная армия отступила. Эту битву в любом другом уголке мира сочли бы крупнейшей, но на фоне миллионных жертв на Востоке она прошла незамеченной. Кое-кто из солдат был настолько измучен, что предпочитал добровольно уйти из жизни, лишь бы не сражаться. «Только что прилег отдохнуть до завтрака, – пишет капитан Белов, – как приходит посыльный от комиссара с вызовом в штаб. Оказывается, во 2-й роте застрелился боец Шаронов. Вот прохвост! С физзарядки ушел под предлогом болезни. Идет, скорчился в три погибели, попал мне навстречу. Я приказал его оставить в блиндаже для охраны, и в момент, когда все ушли, [он] застрелился»32.
К счастью для Сталина, Жукова и союзников, другая крупная советская операция того года, «Уран», оказалась намного успешнее «Марса». Немцам не хватало человеческих ресурсов для удержания чрезвычайно растянутого фронта. Между Второй армией, стоявшей в верховьях Дона под Воронежом, и Четвертой и Шестой танковой армией, находившимися к юго-западу от Второй, под Сталинградом, образовался 500-километровый зазор. Не располагая другими резервами, фон Вейхс, командовавший армейской группой, прикрыл фланги Шестой армии венграми, итальянцами и румынами. Немецкая разведка не заметила, как против позиции румын скопились мощные силы русских. 19 ноября Жуков бросил шесть армий на северный фланг армий оси, а на следующий день атаковал в западном направлении на Сталинградском фронте, к югу от города.
Немецкий солдат из противотанкового подразделения Генри Метельманн находился в составе немецкого подразделения, приданного румынам, когда началось советское наступление. «Земля задрожала, комья посыпались на нас, грохот оглушал. Мы вскочили, спросонья натыкались друг на друга, путались в обуви, обмундировании и прочих вещах, громко кричали от страха. Из одного сумасшедшего дома мы попали в другой, в ад грохота и взрывов. Все пришло в смятение, я слышал, как кричат и плачут румыны на передовой. Потом раздался тяжелый лязг гусениц. Кто-то впереди безо всякой надобности завопил: “Они идут”. И мы увидели, как первый танк выполз из сумрака»33. Русские танки раздавили пушку Метельманна и весь обслуживавший пушку расчет, кроме самого Метельманна, смели две румынские армии – десятки тысяч румын сдались в плен. Многих пристрелили на месте, уцелевших (румын узнавали по белым шляпам) отвезли на барже вниз по реке в лагерь военнопленных. Советский моряк, глядя на толпу военнопленных, которые с тревогой косились на ледяную воду, пошутил: «Им так хотелось увидеть Волгу – что ж, вот они ее и увидели». Румыния дорого заплатила за присоединение к оси: Восточный поход обошелся стране в 600 000 жертв.
16 декабря река замерзла, и вскоре лед стал достаточно крепким, чтобы выдержать грузовики и пушки. В руинах Сталинграда стихли рукопашные бои, основные сражения происходили теперь к югу и западу от города. Через пять дней советские танки взяли Шестую армию Паулюса в идеальное двойное кольцо: передовые отряды Жукова соединились к востоку от переправы через Дон возле Калача. Много раз в ходе войны Красной армии удавалось провести подобную операцию, и почти всегда немцы вырывались из котла. На этот раз Гитлер остался глух к призывам командующего Шестой армии, умолявшего дать приказ об отступлении. Вместо этого Паулюсу было приказано продолжать осаду Сталинграда, а Манштейн двинулся с запада на воссоединение с Шестой армией. К 23-му передовые отряды Манштейна оказались в 50 км от Сталинграда. До этого рубежа им удалось пробиться, но там они застряли. Фельдмаршал советовал Паулюсу пренебречь распоряжениями Гитлера и пробиваться навстречу. В тот момент избавление еще было возможно, однако Паулюс не воспользовался этим шансом и обрек 200 000 человек на смерть или плен. Манштейн, исчерпав свои силы, отдал приказ об общем отступлении.
По всему Восточному фронту с приближением Рождества в немцах пробуждалось сентиментальное настроение. По воскресеньям они включали радио и слушали праздничную программу Wunschkonzert für die Wehrmacht. Эта берлинская программа словно соединяла армию с оставшимися дома семьями. Во имя патриотизма передавались, такие песни как «Колокола отчизны» (Glocken der Heimat) и «Танки едут по Африке» (Panzer rollen in Afrika vor). Солдаты любили послушать, как Зара Леандер поет «Я знаю, однажды случится чудо» (Ich weiss es wird einmal ein Wunder gesheh'n'), эту же песню предпочитали и гражданские: «Я знаю, однажды случится чудо и сбудутся старые сказки, я знаю, любовь не умирает, великая и прекрасная».
Многие немцы стали жертвой паранойи, коренившейся в нацистских мифах, но от того не менее реальной для них. Пилот люфтваффе Хайнц Кноке не сумел сдержать свои эмоции, слушая в сочельник «Тихую ночь, святую ночь» (Stille Nacht, Heilige Nacht): «Это прекраснейшая из немецких рождественских песен. Сегодня ее поют даже англичане, французы и американцы. Знают ли они, что это немецкая песня? Понимают ли вполне ее значение? Почему все народы ненавидят нас, немцев, но поют немецкие песни, играют музыку немецких композиторов, Бетховена и Баха, и цитируют труды великих немецких поэтов? Почему?»34 В таком же духе писал из России и парашютист Мартин Поппель:
«Наши мысли и разговоры обращены к дому, к любимым, к фюреру и отечеству. Мы не скрываем слез, когда поднимаемся, чтобы почтить фюрера и павших товарищей. Это словно клятва, связующая нас воедино, заставляющая сжать зубы и держаться до победы. Дома сейчас садятся за стол под украшенной елкой. Я вижу моего славного старого отца, как он встает и с увлажнившимися глазами пьет за солдат. И моя отважная мать, она, конечно, немного поплачет, и сестренка тоже. Но наступит другой Новый год, когда мы все будем вместе, счастливо воссоединившись после того, как массовое убийство народов придет к победоносному завершению. Тот высокий дух, за которым следует молодежь, должен привести нас к победе: альтернативы нет»35.
Эти молодые люди были винтиками в военном механизме, беспощадно давившем все живое. Их сентиментальный патриотизм свидетельствует об успехе еще одного механизма – выстроенного Геббельсом педагогического и пропагандистского аппарата. Рождество 1942 г., которое они встречали в России, стало еще одной вехой общеевропейской трагедии, где этим солдатам была отведена значительная роль, еще одним шагом к окончательному крушению безумных амбиций их вождя, которые привели эти молодых людей к безвременной гибели.
Геринг клялся, что воздушный флот сумеет снабжать немецкие войска, оказавшиеся в окружении под Сталинградом, хотя элементарные математические подсчеты показывали, что для такой задачи самолетов не хватит. В декабре, по мере того как убывали запасы продуктов, снарядов и пуль, Паулюс терял людей, танки, а в итоге потерял и надежду. 16 января 1943 г. офицер вермахта написал из-под Сталинграда прощальное письмо жене: «Беспощадная борьба продолжается. Господь помогает храбрецам! Что бы ни уготовило нам Провидение, мы просим об одном: чтобы нам дарованы были силы продержаться. Пусть о нас когда-нибудь скажут, что немецкая армия сражалась под Сталинградом так, как нигде в мире не сражались солдаты. Обязанность матерей – передать этот дух нашим детям»36. Но для большинства оказавшихся в ловушке солдат Паулюса эти героические сантименты были пустым звуком.
12 января четыре русских фронта нанесли удар по группе армий «Дон» к северу от Сталинграда и обратили войска оси в беспорядочное бегство. Дивизия Пасубио, составлявшая часть Восьмой итальянской армии, попавшей в Донской котел, вынуждена была пробиваться на запад. Топливо закончилось, бедолаги бросали орудия и шли пешком. «Машины с грузом оставляли на дороге, – писал лейтенант артиллерии Еугенио Корти. – Сердце разрывалось от такого зрелища. Сколько итальянских сил и денег было потрачено на это оборудование!»37 Если измученные пехотинцы пытались сесть на немецкую машину, их отгоняли с криками и проклятиями.
Корти тщетно пытался сохранить дисциплину в своем подразделении: «Неужели люди, не привыкшие в обычной мирной жизни соблюдать порядок, вдруг сделаются послушными лишь оттого, что наденут униформу? Враг поливает нас огнем, толпа бежит, спотыкаясь. Я вижу самые ужасные сцены за все время отступления: итальянцы убивают итальянцев. Мы уже не армия, со мной не солдаты, а животные, не способные себя контролировать, повинующиеся примитивному инстинкту самосохранения»38. Лейтенант проклинал собственную мягкотелость: не поднялась рука пристрелить солдата, нарушившего приказ (немногочисленные сани отводились только для раненых). «Хаос усугубляется бесчисленными проявлениями слабости, подобной моей… Оказавшийся среди нас немецкий солдат не мог сдержать презрения. Вынужден признать, что он прав: наши люди недисциплинированны до дикости»39.
На перевязочном пункте «раненые лежали друг на друге. Когда один из немногих ухаживавших за ними санитаров являлся и приносил раненым воду, к стонам присоединялись вопли тех, на кого он невольно наступал. Снаружи на снег постелили солому, и там лежали еще сотни солдат на пятнадцати– или двадцати градусном морозе. Мертвые вперемежку с живыми. Их всех обходил один врач: он сам был ранен осколками, когда проводил ампутацию опасной бритвой»40.
Но, даже когда чаша весов склонилась в их пользу, страдания русского народа отнюдь не завершились. В крестьянской избе Корти застал пораженную горем семью: «Я наткнулся на плававший в крови труп старика-великана с длинной белой бородой. К стене в ужасе прижались три или четыре женщины, с ними полдюжины ребятишек. Все они худые, слабые, с восковыми лицами. Солдат преспокойно уплетал картошку. В избе было так тепло! Я велел женщинам и детям ужинать, пока не набежали еще солдаты и не съели все до крошки»41. Солдат оси часто удивлял стоицизм русских, в которых они видели прежде всего жертв коммунизма, а уж потом противника. Даже после того как вторгшиеся в страну завоеватели причинили столько горя, простой народ зачастую по-человечески сочувствовал страданиям вражеских солдат, и сочувствие вызывало у этих солдат искренний отклик. Корти писал: «Когда мы останавливались во время долгих переходов, многих наших соотечественников спасали от обморожения бескорыстные, материнские заботы этих бедных женщин»42.
Во время страшного отступления союзники Гитлера проклинали люфтваффе: немецкие самолеты снабжали только своих солдат. Корти писал: «Мы злобно провожали взглядами эти самолеты, их облик и цвет казались нам столь же чуждыми и отталкивающими, как униформа немецких солдат. Нам бы увидеть родные итальянские самолеты! Нам хоть бы крошку сбросили с неба – не было ничего!»43 Страдания итальянцев усугубляла цензура, которая не пропускала на родину сведения о том, что они погибают в снегах на чужбине. «Там, в далеком отечестве, никто не ведает о принесенной нами жертве. Для армии в России вот-вот наступит развязка трагедии, а там радио и газеты вещают совсем о другом. Словно весь народ решил забыть о нас»44.
Корти содрогался и негодовал при виде того, как немцы расправлялись с пленниками, хотя знал, что Красная армия зачастую точно так же поступает с теми, кто попадает к ней в руки. «Это ужасно, мы же были цивилизованными людьми, а оказались вовлечены в неистовую схватку между варварами»45. Корти метался между двумя крайностями: отвращением к немецкой жестокости, «из-за которой я подчас переставал видеть в них представителей человеческого рода», и невольным уважением к их силе воли. Оскорбляло и презрение немцев ко всем прочим народам. Он слышал рассказы о том, как офицеры пристреливают тяжелораненых, как насилуют и убивают, как сбрасывают с саней раненых итальянцев и экспроприируют транспорт в пользу вермахта. Но его поражала четкость, с которой немецкие солдаты продолжали выполнять свои обязанности даже не на глазах у офицеров и сержантов. «Я задавал себе вопрос… что бы с нами сталось без немцев, и вынужден был нехотя признать, что в одиночку мы, итальянцы, угодили бы в лапы врага. Я благодарил небеса за то, что в одной колонне с нами шагают немцы. Как солдаты они не имеют себе равных, тут нет и тени сомнения»46.
Немецкие танки и бомбардировщики Stuka отбрасывали преследователей, помогая отступающим колоннам пробиваться вперед под смертоносным огнем советских минометов. Одному итальянцу осколком срезало яички. Он сунул их в карман, рану перевязал веревкой и поплелся дальше. На следующий день, добравшись до санчасти, он спустил штаны и, как повествует Еугенио Корти, нащупав в кармане, протянул врачу «на ладони вместе с крошками печенья почерневшие яички и спросил, нельзя ли их пришить»47. Корти удалось добраться до станции Ясиноватая, и оттуда он через Польшу был отправлен в Германию. Наконец, санитарный поезд доставил лейтенанта в возлюбленное отечество. В конце 1942 г. некий итальянский генерал признавал, что 99 % его соотечественников не только считают войну проигранной, но и мечтают, чтобы конец наступил как можно скорее48.
В январе 1943 г. на Восточный фронт обрушились мощные удары. 12 января Красная армия предприняла атаку на севере, за пять дней боев расчистила коридор вдоль берега Ладоги и тем самым прорвала блокаду Ленинграда. Одновременно на юге русские отбили Воронеж и смяли венгерские дивизии. В конце января советская армия вплотную приблизилась к Ростову, угрожая немецким отрядам на Кавказе. Вскоре немцам оставался лишь плацдарм под Таманью, чуть восточнее Крыма. 31 января Паулюс капитулировал под Сталинградом с остатками Шестой армии. Жуков первым из советских военачальников получил звание маршала, вслед за ним этой чести удостоились Василевский и сам Сталин. 8 февраля русские вошли в Курск, неделю спустя – в Ростов, 16 февраля освободили Харьков.
Сталинград радикально изменил дух советской армии. Солдат по фамилии Агеев писал домой: «Я в отменном настроении. И вы бы тоже были счастливы на моем месте: вообразите, фрицы от нас побежали»49. Василия Гроссмана задевал глухой эгоизм Чуйкова и прочих военачальников, оспаривавших друг у друга славу этой победы: «Скромности нет. “Я сделал, я вынес, я-я-я-я я-я…” О других командирах без уважения, какие-то сплетни бабьи»50. Но после поражений и бед прошедшего года как не простить сталинским генералам их неуемное торжество? Битва за Сталинград обошлась русским в 240 000 человек погибших только в самом городе. Многие были похоронены в безымянных могилах: фронтовики из суеверия не надевали нательные бирки, по которым опознавали убитых. Эвакуировали 320 000 раненых и больных. Всего сражение в городе и вокруг города унесло 600 000 жизней военных и гражданских. Но Советский Союз охотно платил по кровавым счетам за победу, переломившую ход войны.
Союзники ликовали вместе с советским народом. «Приятно читать о том, как тысячи немцев погибают в России, – записывал 26 ноября 1942 г. англичанин Герберт Браш, гражданский. – Надеюсь, это продлится еще долго. Только так можно образумить молодых немцев. Интересно, как русские обойдутся с военнопленными. Это покажет, обратились ли русские к цивилизованному образу жизни»51. Любопытство Браша вскоре было удовлетворено: многих немецких пленных перебили, другим предоставили умирать от голода или холода – состязание во взаимной жестокости уже невозможно было остановить.
Красная армия добилась в первые месяцы 1943 г. замечательных успехов и продвинулась на 240 км к северу, до Курска. Порой советское командование действовало блестяще, но основным фактором этих побед оставался перевес в людской массе. Дисциплина так и не установилась, отдельные соединения все еще могли запаниковать, по-прежнему отмечались случаи дезертирства. Некомпетентность офицеров усугублялась пьянством. Капитан Николай Белов описывает вполне типичные сцены во время атаки:
«День боя. Артиллерийское наступление я проспал, бессонница искусственная помогла, и я заснул. Спал часа полтора. Проснулся и сразу бегу к телефону, узнаю обстановку. Заходит полковник Уткин, я доложил ему обстановку, он предупредил, чтоб в штабе меньше оставалось людей, и ушел на передовой КП. Звонил Аноприенко и приказал выйти в 1 стр. б-н[16]. Вышел сразу. По пути встретил Молочкова, он во 2 стр. б-не. Я, ничего не разговаривая, пробежал ходом сообщения в 1 б-н. Первым, что мне бросилось в глаза при встрече, это то, что капитан Новиков, комбат, и нач. штаба Грудин бегают по ходу сообщения с наганом в руках. На мой вопрос «Доложить обстановку и что вы делаете» объяснил, что вывожу людей в бой. Пьяны оба, приказал убрать оружие. В траншеях и на бруствере куча трупов. Среди них капитан Совков, Новиков его пристрелил. Мне докладывают, что Новиков перестрелял много бойцов. Новикова, Грудина и Айказяна заставил идти в передовую роту, пригрозив им также оружием. Они, вместо того чтобы идти к реке, ушли в противоположную сторону. Пришлось по ним дать очередь из автомата. Но Новиков опять почему-то оказался в траншее. Я его буквально выгнал. Впрочем, его быстро подстрелили, и Грудин его притащил на себе. Оба, конечно, рады – два отъявленных труса. Командование батальоном пришлось принять мне. Вечером я ушел на противоположный берег р. Оки в передовую роту л-та Утильтаева. Ночью наступал тремя ротами, бесполезно»52.
Главной причиной несчастья, обрушившегося на немцев в России зимой 1942/43 г. стало желание фюрера осуществить миссию, непосильную для всех ресурсов Германии вместе взятых. От окончательного разгрома вермахт спасло только военное искусство Манштейна. Еще в 1940 г. Гитлер нехотя признавал: «Этот человек не в моем вкусе, но способный»53. Не просто способный – это был, наверное, самый талантливый из немецких полководцев той войны. В марте он выровнял и стабилизировал линию фронта, а затем перешел в контрнаступление, вновь захватил Харьков и остановил мощное движение советских войск от берегов Волги к Донцу. Гитлер вновь получил передышку.
Но как он мог воспользоваться этой передышкой? Соотношение сил на Восточном фронте изменилось непоправимо, Германия была обречена. Сила Советского Союза и его армии стремительно возрастала, а резервы завоевателей убывали. В 1942 г. Германия произвела всего 4800 бронемашин, а Советский Союз – 24 000. Новый танк Т-34, оказавшийся лучше всех немецких, за исключением «Тигра», уже поступил в массовое производство. Челябинск, один из мощных промышленных центров на Урале, получил прозвище Танкоград. В тот год в Советском Союзе было построено 21 700 самолетов, а в Германии – 14 700. В Красной армии служило 6 млн человек, и еще 516 000 – в войсках НКВД. Зимой 1942/43 г. Германия потеряла миллион солдат, а также большое количество техники и оружия.
Боеспособность вермахта оставалась выше, чем Красной армии, вплоть до конца войны: в любом сражении местного масштаба немцы неизменно теряли меньше людей, чем их противник. Но их стратегической грамотности было уже недостаточно, чтобы остановить натиск русских. Сталин сумел отобрать умелых генералов, создавал большие армии, с мощными танками и грозной артиллерией, к тому же начали наконец поступать от союзников большие партии продуктов, машин и оборудования для связи. Пять миллионов тонн мяса из Америки – 200 г каждому советскому солдату ежедневно. Благодаря поставкам провианта из западных стран удалось предотвратить голод зимой 1942/43 г.
Из 665 000 машин, с которыми Красная армия закончила в 1945 г. войну, 427 000, в том числе 51 000 джипов, составляли американские. США обеспечили ботинками половину Красной армии (из-за резкого снижения поголовья скота кожи не хватало), поставили без малого 2000 паровозов, 15 000 самолетов, 247 000 телефонных аппаратов, почти 4 млн шин. «Вся наша армия фактически оказалась на колесах, и каких колесах! – с редкой для сталинских министров откровенностью восхищался Анастас Микоян. – Когда к нам стали поступать американская тушенка, комбижир, яичный порошок, ну и другие продукты, какие сразу весомые калории получили наши солдаты»54. По оценкам Микояна, без ленд-лиза война затянулась бы еще на год-полтора.
Генералы Гитлера отчетливо понимали, что победы на Восточном фронте уже не добиться. Единственный вопрос оставался: как долго сумеют немецкие армии сдерживать неумолимо нарастающую силу русских? Весной, когда лед на Волге сошел, поплыли по реке тела русских и немцев – жертвы Сталинградского сражения, сплетенные в смертельном объятии. Но те немцы, кто пока оставался в живых, ушли на 500 км западнее. Отступление началось – и обратного пути уже не будет.
13. Жизнь во время войны
1. Солдаты
Солдатский опыт этой войны чрезвычайно неоднороден. Основные сражения против Гитлера разворачивались на Восточном фронте, где погибло 90 % всех немецких солдат. С 1941 по 1944 г. моряки и летчики союзников сражались на море и в небе, но лишь небольшие отряды наземных сил вступали в бой против держав оси в Северной Африке, Италии, Азии и на Тихом океане. Основная часть англо-американских войск в эти годы еще только проходила боевую подготовку. К примеру, когда Первый Норфолкский полк встретился с противником под Кохимой в июне 1944 г., это стало первым его участием в боевых действиях с тех пор, как полк в мае 1940 г. эвакуировался из Дюнкерка.
Многие другие подразделения британцев и американцев получили столь же продолжительную отсрочку, прежде чем вернуться на действительную службу. Хотя и в самой Великобритании, и в тех ее доминионах, где преобладало белое население, состояние войны ощущалось повсюду (до известной степени также и в США, хотя и не столь выраженно), тяготы и опасности войны выпали преимущественно на долю незначительного меньшинства, участвовавшего непосредственно в наземных сражениях. В морских битвах число жертв обычно исчислялось сотнями. Среди летчиков процент потерь был высок, но опять-таки ничтожен по сравнению с трагедией на Восточном фронте.
Военные потери союзников распределяются следующим образом: 65 % приходится на Советский Союз, 23 % – на Китай, 3 % – на Югославию, по 2 % – на США и Великобританию, по 1 % – на Францию и Польшу. Немцы потеряли 8 % населения, китайцы – 2 %, голландцы – 3,44 %, югославы – 6,67 %, греки – 4 %, французы – 1,35 %, японцы – 3,78 %, англичане – 0,94 % и американцы – 0,32 %. Соотношение потерь среди разных родов вооруженных сил: вермахт потерял 30,9 % от своего состава, люфтваффе (включая десантников и персонал авиабаз) – 17,35 %, в дивизиях CC потери составили 34,9 %. У японцев погибло примерно 24,2 % солдат и 19,7 % моряков. Особенно тяжелые потери несли японские части, сражавшиеся в 1944–1945 гг. против американцев и англичан, а в целом статистика искажена тем обстоятельством, что на всем протяжении войны миллион солдат Хирохито оставался в Китае, где потери японцев были невелики. Погиб каждый четвертый советский солдат, каждый двадцатый, призванный из стран Британского Содружества, один из 34 находившихся на действительной службе у американцев. Потери среди американской морской пехоты достигали 3,66 %, превышая данные по армии (2,5 %) и флоту (1,5 %).
Кое-кому из участников сражений удавалось и поразвлечься, когда их сторона брала верх: в первые годы войны праздновали немцы и японцы, позднее – англичане и американцы. Война породила фантастическую смесь очерствления и сентиментальности. Лейтенант Королевского флота Роберт Хиченс в июле 1940 г. писал: «Полагаю, в связи с угрозой вторжения наша позиция становится чрезвычайно опасной, и все же меня переполняет радость. Находиться на мостике военного корабля, общаться на равных с капитаном, знать, что в ближайшие часы я буду единолично командовать судном, – кто бы не предпочел такую смерть той жизни, какую ведут бедняки в тесных городах, потея на фабриках?»1 Хиченс погиб в 1942 г. – счастливый воитель.
Отряды особого назначения, эти своего рода «армии внутри армии», вызывавшие в традиционных войсках далеко не однозначные чувства, привлекали забубенные головушки, готовые рисковать жизнью в пиратских набегах на земле и на море. С 1940 по 1944 г., пока войска Черчилля не могли вступить в непосредственное соприкосновение с вермахтом в Европе, британские рейдеры проводили множество точечных операций, к которым американские начальники штабов относились весьма сдержанно, хотя позднее и американские десантники сыграли существенную роль в кампании на северо-западе Европы. По настоянию премьера регулярно наносили удары по немецким форпостам: Черчилль считал нужным демонстрировать агрессивные намерения, не давать армии застояться и впасть в уныние, а заодно в этих рейдах испытывались тактика и снаряжение. Наиболее продуктивным оказался налет в ночь на 27 февраля 1942 г.: небольшой контингент только что сформированного полка парашютистов напал на немецкую радарную установку в Брюневале под Гавром (на французском побережье).
Предварительную разведку провели члены французского Сопротивления. Затем 120 десантников во главе с майором Джоном Фростом приземлились в густой снег, захватили врасплох немногочисленную охрану станции и удерживали позицию, пока авиатехник сержант Чарльз Кокс преспокойно разбирал радар Würzburg на составные части. Затем десант пробился к берегу и был эвакуирован, потеряв всего двух человек убитыми и шестерых пленными. Захваченная технология оказалась бесценной для британской разведки. Черчилль и его военачальники остались весьма довольны результатами первого испытания нового рода войск, распорядились увеличить набор и ускорить подготовку десантников. Брюневальский рейд стал замечательным примером отваги и инициативы. Этому способствовала удача: обычно немцы оказывали более упорное сопротивление.
Такие операции лучше всего удавались небольшим группам, которым назначалась конкретная цель. Стоило поставить себе более амбициозные задачи, и результат получался далеко не столь однозначным. Через месяц после Брюневальского успеха 268 коммандос высадились у Сент-Назера, а тем временем старый эсминец прорывался сквозь шлюз большого плавучего дока этого же порта. Наутро на борту эсминца, как и было запланировано, взорвалось пять тонн боеприпасов: ворота шлюза были уничтожены, погибли множество оказавшихся поблизости немцев и двое участников десанта, которые накануне попали в плен, но план не выдали. Но в результате этой операции погибли также 144 десантника, более 200 человек из армейской и флотской группы поддержки попали в плен. Во время крупного налета на Дьепп в августе 1942 г. немцы потеряли 591 человека на земле, но из 6000 союзников (по большей части это были канадцы) две трети были убиты, ранены или попали в плен. К 1944 г., когда союзники начали участвовать в полномасштабных кампаниях, десантные войска и британские коммандос успели пережить пору расцвета. Теперь коммандос требовали подкреплений, лучших солдат, а их боевые успехи отнюдь не соответствовали таким привилегиям. Но в начале войны эти части весьма способствовали подъему боевого духа страны, а самим десантникам такого рода служба пришлась по вкусу.
Многие профессиональные военные видели в схватке с Гитлером прекрасную возможность выдвинуться. Те, кому удавалось проявить компетентность и остаться в живых, за считаные месяцы получали повышение, на которое в мирное время ушли годы. Офицеры, не известные по имени никому за пределами своего полка, вдруг становились знаменитыми. Дуайт Эйзенхауэр за пять лет из полковника превратился в генерал-полковника – пример исключительный, но все же, по словам английского генерал-лейтенанта сэра Фредерика Моргана, «одно из чудес войны заключалось в том, как быстро у американцев появлялись великие люди: росли прямо на глазах»2.
Но и в Англии сэр Бернард Монтгомери, который еще в августе 1942 г. был генерал-лейтенантом без особых заслуг, за два года сделался командующим группой войск и национальным героем. И в нижнем ярусе этой иерархии происходили схожие процессы: офицеры, вступавшие в войну лейтенантами, в двадцать пять становились полковниками, а то и бригадирами. Например, Хорейс Мюррей в 1939 г., после 16 лет службы, был всего-навсего майором, а войну закончил в чине генерал-лейтенанта. И на другой стороне капитан вермахта Рольф-Гельмут Шрёдер вспоминал о своем боевом пути с удовольствием, несмотря на три ранения. Ему вторит попавший в русский плен майор Карл-Гюнтер фон Хаазе: «В первые годы войны мы гордились званием немецкого солдата. На свой воинский путь я могу оглянуться с удовлетворением»3.
Некоторым людям хватало сознания того, что они участвуют в борьбе за выживание своего народа или во имя общей свободы. Эта мысль позволяла переносить утраты, одиночество, опасности. Но чем ниже звание, тем меньше и награда за такую самоотверженность. Семнадцатилетний юнга второго класса Уильям Кроуфорд горестно писал родным с борта крейсера Hood: «Дорогая мамочка, так, конечно, говорить некрасиво, но я сыт по горло, мне тошно, я не могу есть, и сердце того и гляди выскочит из глотки. Сегодня мы попали в шторм. Волны величиной с дом перекатываются через палубу. Может быть, ты бы обратилась в Адмиралтейство, мамочка, и попробовала добыть для меня работу на берегу, в Росайте? Знаешь, напомни им, что у тебя уже два сына на службе и так далее. Непременно укажи мой возраст. Мне бы только выбраться с этого корабля, все остальное не так страшно»4. Но Кроуфорд оставался на борту Hood и в мае 1941 г., когда судно почти со всем экипажем пошло ко дну.
Это письмо подтверждает, что моряки проявляли не больший стоицизм, чем пехотинцы. «Я сыт всем этим по горло, – писал жене морской казначей Джекки Джексон, служивший в мае 1941 г. на Средиземном море. – Грязь непролазная, мухи, жара, а главное – от тебя ни весточки»5. Он жалуется, что за полтора месяца получил одно лишь письмо, «самое грустное, какое я получал в жизни. И еще телеграмма, из которой следует, что дом разрушен. Сама понимаешь, как мне важно почаще узнавать что-то о тебе и вместе с тем как я боюсь этих вестей: не оказались бы еще хуже. У нас тут жуткие дела творятся, странно, как я до сих пор уцелел». Нетрудно понять, почему люди вроде Уинстона Черчилля, Джорджа Паттона или пилотов Mustang и Spitfire – замкнутая привилегированная каста – получали удовольствие от войны. Столь же понятно, как мало удовольствия получали от нее русские солдаты, китайские крестьяне, польские евреи или греческие фермеры.
Большинство призванных из запаса упорно цеплялись за свой статус случайных и временных солдат: они выполнят тяжкий и неприятный долг, а затем вернутся к нормальной жизни. Двадцатичетырехлетний лейтенант Шотландских пограничных войск Питер Уайт, участвовавших в боях против немцев, прикидывал: «Чтобы превратить одетого в форму гражданского в настоящего солдата требуется лет семь. Наше положение кажется нам и смехотворно нереальным, и до ужаса реальным в одно и то же время. Утешает лишь мысль, что бедолаги, с которыми мы деремся, чувствуют себя не лучше, хотя они, конечно, сами все это затеяли»6. Джон Херси писал о морских пехотинцах на Гуадалканале: «Форма, бравада – все лишь внешнее. Обычные американские парни. Им ни к чему была ни эта кампания, ни эти джунгли. Вчерашние мальчишки из лавочек, дорожные рабочие, банковские служащие, школьники – хорошие, чистые мальчики, отнюдь не убийцы».
Капрал британских ВВС Питер Бакстер сокрушался: «Мое поколение тратит лучшие годы жизни на поганое дело войны. Мы достигли зрелости и теперь гнием и распадаемся в эти потерянные годы. Мертвящее, парализующее влияние службы сгубило мою молодость»7. Многие юноши впервые покинули родной дом и возмущались неудобством и унизительностью казарменной жизни. Фрэнк Нови, двадцати одного года, первую ночь на действительной службе провел на сборном пункте в Лидсе. «Стоило нам прилечь на соломенные тюфяки, и со всех сторон понеслись жалобы. Мой матрас оказался чудовищно жестким, подушки не было, зубы ныли, а вскоре разболелась и голова. Я изнемог, был близок к отчаянию. Хотелось спать, но мешали мысли о доме, обо всем, что я оставил, чего лишился, – и так по кругу, до бесконечности. Порой я готов был заплакать, но не смел»8.
Рекруты быстро обрастали новой кожей. Лео Ингленд запомнил, как однополчанин весело перешучивался с продавщицей в YMCA, а затем обернулся к Лео и с удивлением сказал: «Никогда прежде не флиртовал с девчонками! Всего пятый день в армии, а смотри-ка, научился»9. Ингленд подтверждает, что и он, и его товарищи, надев мундиры, почувствовали себя новыми людьми, «более уверенными в себе». Рафинированных интеллигентов шокировал примитивный казарменный юмор. Американцы все подряд именовали дерьмом, про труса непременно говорили, что он обосрался, а гражданский, увиливающий от службы, соответственно, именовался засранцем. Без мата ни одно предложение не клеилось: растакие-то офицеры приказывали рыть растакие-то окопы, прежде чем выдать солдатам растакой-то паек или поставить их в растакой-то караул. Самые тонкокожие новобранцы перенимали солдатские обороты речи, но в офицерских столовых и клубах все еще соблюдались джентльменские правила, и все же культурные люди страдали, попав в мир, где литература, искусство и музыка не имели никакой цены. Капитан Красной армии Павел Коваленко как-то вечером писал: «После обеда я сел почитать Некрасова. Господи, когда же я смогу провести столько времени, сколько мне бы хотелось, наслаждаясь Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым! При виде фотографии молодого Толстого в офицерской форме слезы чуть не задушили меня»10.
Капитан Валлийской гвардии Дэвид Эллиот, вернувшись в английскую казарму после недельной побывки дома, впал в депрессию: «Чудовищная скука, чудовищная узость и мелочность полковых разговоров. Все это приобретает смысл только в пору сражений, а так – ни милосердия, ни любви, ни верности. Большинство офицеров (не скажу про рядовых) – попросту балованные дети»11. Будущие пилоты наслаждались летной подготовкой, осваивая воздух, но едва ли кто-то получал удовольствие, обучаясь на пехотинца. Рядовой первого класса «Рыжик» Томпсон, уроженец штата Нью-Йорк, чувствовал, как превращается в орудие с определенным набором навыков: «Научился прятать голову, быть настороже, смотреть, прислушиваться, окапываться»12. Каждый солдат научился по команде хватать оружие и вставать в строй, понятия не имея, куда и зачем его поведут. Не знать ничего, кроме того, что видишь непосредственно перед глазами, считалось нормой. В 1942 г. девятнадцатилетний уроженец Миссури Тони Муди, проходивший обучение в Северной Каролине, заявил, что он и его товарищи не гонятся за славой, «так что будем надеяться, с нами ничего не стрясется»13.
Из-за нехватки людских ресурсов призывали тех, кто вовсе не годился для военной службы.
«Товарищи мои были по большей части из Йорка и Ланкастера, – писал восемнадцатилетний английский солдат Рон Дэвидсон. – 1930-е гг. были голодными и трудными, а в результате одни молодые люди выросли физически нездоровыми, другие остались неграмотными. Я видел парня, совершенно негодного, энуретика, дебила – армейские врачи, разумеется, аттестовали его по первой категории! Он едва-едва мог самостоятельно одеться, но военная сбруя была ему не по зубам, приходилось нам его запихивать в обмундирование. Мы расстилали и его постель, как положено, но спал он на полу, потому что каждую ночь мочился. Премудрые командиры сочли, что причиной тому лень и симуляция, и взялись его “взбодрить”. Здоровенный сержант-инструктор гонял его перед казармой, вопя ему в ухо подлейшие непристойности»14.
Этого бедолагу в итоге все же списали, но в большинстве пехотных подразделений имелась парочка неадекватных новобранцев, поведение которых в бою могло оказаться, мягко говоря, непредсказуемым. Англичанин Уильям Чэппел на военную службу пошел добровольно, однако так и не избавился от тоски по гражданской жизни, от которой был так жестоко оторван: «Я смирился с этой жизнью. Смирился с утратой дома, крахом карьеры, с тем, что моя мама ранена осколком бомбы, что разметало во все стороны друзей и разрушились отношения, которые я так долго и заботливо выстраивал. Но я по-прежнему тоскую обо всем этом. Хочу шоколада и валяться в постели, хочу горячую ванну, разнообразную, вкусную еду, хочу, чтобы вокруг были мои вещи. Ноги болят, форма надоела, надоели товарищи, вся эта скука и бессмыслица армейской службы. Скорее бы с этим покончить! Я даже немного завидую погибшим»15.
Американский офицер писал с Тихого океана: «Когда мы сворачиваем палатки, каждого офицера охватывает чувство одиночества, ведь то, что казалось домом, оказывается, вовсе им не было. Сидя в четырех стенах из полотна, он мог тешиться иллюзией, но, стоя на голой земле в окружении деревянных шестов и рюкзаков и не видя вокруг ничего привычного, солдат превращается в бродягу, изгоя, нет у него ничего своего и надежного. И мысль, таившаяся в глубине сознания, проступает как никогда отчетливо: кончится ли это когда-нибудь и буду ли я к тому времени еще жив?»16 Сержант Гарольд Феннема писал в Висконсин своей жене Дженнет: «Война и армейская служба сводятся в основном к пустым занятиям, лишь бы время провести, и это печально. Жизнь коротка, время драгоценно для тех, кто живет и любит жизнь, и я сам не верю, что ищу каких-то развлечений, стараюсь убить время… Порой я задумываюсь, куда все это приведет»17. Но лагерь, при всей монотонности жизни в нем, по крайней мере был ближе к дому, чем фронт. Девятнадцатилетний солдат Юджин Гальярди, по мирной профессии – типограф из Бруклина, воспринимал свою службу как сплошной кошмар по сравнению с порой военной подготовки: «Все связанные с армией приятные воспоминания относятся к периоду до высадки во Франции»18.
Когда же солдат попадал на фронт, для него менялось всё. Американский корреспондент Э. Кан писал из Новой Гвинеи: «По мере того как горожанин втягивается в военную службу, он превращается из домашнего человека в существо, живущее под открытым небом»19. Морской пехотинец Юджин Следж сам был напуган тем, до какого уровня низвело его это существование: «Мне трудно было примириться с условиями фронтовой жизни, в особенности с тем количеством грязи, которое налипает на рядового пехотинца. Это тревожило почти каждого из нас: мы воняли! Во рту как будто гремлины в грязных ботинках наследили. И хотя волосы нам очень коротко обстригли, они свалялись, пропитавшись пылью и ружейным маслом. Кожа на голове чесалась, в жару досаждала пробивавшаяся на лице щетина… Воды было так мало, что мы не смели расходовать ее на чистку зубов или бритье, даже если бы у нас нашлось для этого время»20.
Война разделила народ на тех, кто воочию видел ее ужасы, и тех, кто оставался дома. «Порой и люди в форме не очень-то старались, – писал офицер армии, а впоследствии агент Управления спецопераций Джордж Миллар, заслуживший в пору войны немало боевых наград. – Те герои, о которых трубила британская пресса, составляли жалкое меньшинство на фоне огромного множества солдат, моряков и пилотов, цеплявшихся за сравнительно комфортную службу на родине или за рубежом»21. В декабре 1943 г. канадец Фарли Моуэт писал родным с фронта близ Сангро в Италии: «Ужасная правда заключается в том, что мы теперь принадлежим разным мирам, существуем в разных измерениях, и я уже плохо знаю вас, я помню лишь, какими вы были. Хотел бы я передать это горестное одиночество, полный разрыв с прошлым, ощущение, будто находишься в совершенно чуждом тебе месте. Из всего, что нам приходится переносить, это самое мучительное, да еще пожирающий внутренность червь примитивного страха»22.
Герцог Веллингтон справедливо замечал: «Не каждый, кто носит форму, герой». В каждой армии солдаты, побывавшие на передовой, выражают презрение к гораздо более многочисленным тыловикам – к тем, чьи, несомненно, полезные функции не предусматривают риска. На долю пехоты выпало 90 % всех понесенных армией потерь. Для американского или английского солдата, ступившего на берег Франции в июне 1944 г., вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение до окончания этой кампании составляла 60 %, для офицера – 70 %. Танкисты и артиллеристы подвергались значительно меньшему риску, а для огромного обоза и специалистов тылового обеспечения статистика потерь не превышала обычного уровня несчастных случаев на мирном производстве.
Тяжелую психологическую травму наносили солдатам артобстрелы. «Артиллерийский снаряд летит в тебя со всей грубой откровенностью, отнюдь не с вкрадчивым звуком», – утверждал Юджин Следж, описывая свои испытания на Пелелиу:
«Когда заслышишь издали свист приближающегося снаряда, каждый мускул в теле сжимается. Я цеплялся за землю, как будто это помогло бы мне удержаться, спастись. Злобный свист все ближе, зубы непроизвольно скрежещут, во рту пересохло, глаза сощурились, я обливаюсь потом, дыхание сделалось коротким и прерывистым, страшно сглотнуть – кажется, что подавишься и задохнешься. Я молился, порой вслух. Такая беспомощность, беззащитность. Артиллерия – изобретение самого дьявола. Свист, потом визг и вопль огромного стального снаряда разрушения – воплощение неистовой ярости, зла в чистом виде. Квинтэссенция бесчеловечности, жестокости человека по отношению к собратьям. Я страстно возненавидел артиллерию. Погибнуть от пули – чистая, почти хирургическая смерть. Но снаряд разрывает, размалывает тело, и заранее терзает разум этим образом так, что того гляди лишишься рассудка. Каждый пролетевший мимо снаряд оставлял меня измученным и бессильным»23.
Труднее всего солдатам давалось вынужденное бездействие под обстрелом. «Дайте парню винтовку или ручной пулемет, и, как бы он ни был напуган, он с чем угодно справится, – писал капитан Аластер Бортвик из Пятого шотландского полка. – Но оставьте его бессильным в окопе, и с каждой минутой ему все труднее будет переносить смертельную угрозу. Страх пропитывает все, а невозможность действовать только усиливает страх»24.
Особый ужас внушал солдатам минометный огонь. Этот звук, по их мнению, был похож на глухие удары выбивалкой по ковру. Бомбы взрывались в деревьях над головами солдат, разлетались металлические осколки и не менее смертоносные деревянные занозы. Питер Уайт от души пожалел одного из своих солдат, застигнутого таким обстрелом:
«Юный Каттер, совершенно не годившийся для таких испытаний, умирал от страха каждый раз, когда мы с напряжением вслушивались в гул летевшего с занятого врагами холма снаряда. Дрожа всем телом, он вжимался в землю, дожидаясь – о, как долго всякий раз приходилось ждать – свиста, обозначавшего падение снаряда: через мгновение взрыв взметал в воздух все вокруг нас и невыносимый грохот больно бил в уши. Каждый раз, когда приближение снаряда достигало кульминации, рядовой Каттер уже не мог сдержать ужас и нескончаемый поток рвавшихся из его уст мольб и заклинаний. Порой он успевал на миг прийти в себя и пробормотать, обращаясь ко мне: “Прошу прощения, сэр!” Мне было его очень жаль, но я не решался выразить юноше свое сочувствие, опасаясь, что тогда он вовсе развалится на куски. К тому моменту, когда наступило затишье и мы все выскочили и принялись поспешно окапываться, парень был уже в таком состоянии, что ему я велел оставаться на месте и приходить в себя. Паника заразительна, она могла перекинуться и на других. Он вжимался в песок и стонал: “Господи! Господи, когда же это кончится! Прошу прощения, сэр! Господи! Положи этому конец, Господи!” Никто его не вышучивал. Нам самим было так скверно, что ничего, кроме сострадания друг к другу, мы не могли чувствовать»25.
С опытом приходило понимание, что под огнем снарядов и мин обречены погибнуть не все, как это казалось в первом бою. Люди убеждались, что большинство солдат выходят из боя живыми. И дальше уже от темперамента зависело, верил ли человек в то, что окажется среди счастливчиков, или же считал себя обреченным. «Мы усвоили первый урок: наш главный враг – судьба, а не итальянцы и немцы, – писал капрал Королевских инженерных войск с Сицилии. – Она отдает приказы с бездушием армейского начальства, без разбора, без справедливости: такому-то и такому-то лежать среди мертвецов, остальные – по машинам»26. Фэрли Моуэт в августе 1943-го с присущей двадцатидвухлетнему юноше неуклюжестью признавался: «В моем возрасте трудно понять, как это люди не живут вечно. Смерть – всего лишь слово, пока не увидишь реальность. Банально, и все же правда. В первый раз и во второй, когда осколок пролетит мимо, едва не задев тебя, ты продолжаешь воображать себя неуязвимым. Потом призадумываешься, а там уж и оглядываешься через плечо, проверяя, все ли еще с тобой старинная Удача»27.
Многие мечтали как о подарке судьбы о легкой ране – «поцелуе пули», как говаривали британцы, – чтобы с честью отправиться в отпуск. Но судьба подносила зачастую отнюдь не такие подарки. Молодой офицер Бирманских стрелков только-только явился с пополнением в поредевший отряд чиндитов[17] в 1944 г. В первую же ночь, не успев и двух часов провести в бою, он был ранен в правое бедро. Пуля прошла навылет, срезав правое яичко и пенис. Капрал Джеймс Джонс писал с Гуадалканала: «К этому никак не привыкнешь. Однажды парню возле меня горло заткнула пуля – одна пуля из града пулеметного огня. Он вскрикнул: “О Господи!” – таким ужасным и вместе с тем комичным голосом, булькающим, и это напомнило мне, как старина Шеп Филд с хрипотцой пел в группе Rippling Rhythm. В том вскрике было полное понимание случившегося, как будто этого парень и ждал, – и он рухнул все равно что мертвый (говорю “все равно, что мертвый”, потому что признаки жизни могли еще какое-то время сохраняться)»28.
Джонсу казалось, что некоторые солдаты находили утешение как раз в мысли о неизбежной гибели: «Как ни странно, примирившись с этой мыслью и отказавшись от надежды, многие вновь обретают надежду: своеобразный ментальный процесс, похожий на фотопечать с негатива. Мелочи обретают значение, важна следующая трапеза, бутылка спиртного, поцелуй, рассвет завтрашнего дня, как дожить до полнолуния, до бани. Как там в Библии? Довлеет дневи злоба его – так вот, не “злоба”, а существование вполне довлеет».
Безумие становилось нормой. «Люди учатся принимать как должное то, что раньше казалось немыслимым»29, – отмечал доктор Карл-Людвиг Мало, офицер германской медицинской службы. Ганс Мозер, шестнадцатилетний заряжающий батареи 88-миллиметровых орудий из Силезии, к собственному изумлению, ничего не почувствовал, когда рядом с ним взрывом накрыло прислугу такого же орудия и внутренности солдат раскидало по доту: «Я был так молод, что ни о чем особо не задумывался»30. Американский рядовой Роско Блант видел, как снаряд угодил в лежавшего рядом солдата: «Он буквально испарился, в грязи виднелись только ошметки плоти да осколки костей. Этого могильщики никогда не отыщут, не найдут и его жетон. Еще один неизвестный солдат. Я устроился поудобнее и перекусил. Я не был с ним знаком»31.
Под огнем большинство солдат сосредотачивалось на сиюминутных потребностях и на отношениях с ближайшими товарищами. Их страхи и надежды становились первичными и примитивными, как описывал воевавший в пустыне британский лейтенант Норман Крэг: «Жизнь, свободная от всех сложностей. Какая ясность, какая простота! Остаться в живых, вернуться к нормальному существованию, к теплу, покою, безопасности – чего еще мы могли желать? Никогда я больше я не стану жаловаться на обстоятельства, придираться к судьбе, никогда не дам волю скуке и недовольству. Только бы жить – все остальное пустяки»32. Основой этой жизни было товарищество. «Никто не посмеет поддаться природной трусости на глазах у всех»33, – довольный ловко составленным парадоксом повторял капрал немецких ВВС Вальтер Шнайдер.
За считаные дни между бойцами складывалось особого рода товарищество, побуждавшее их с циническим безразличием распоряжаться жизнью чужих для них новичков. Американский сержант-ветеран, объясняясь по поводу гибели восьмерых человек из пополнения – они только успели прибыть в его подразделение под Анцио, – заявил: «Там была заварушка, и мы не стали посылать своих ребят, пока не разобрались. Мы вместе прошли Африку, Сицилию и Салерно, так что на этот раз первыми должны были сунуться новички»34. И так поступали во всех армиях. «Твоя рота и была тебе отечеством, – вспоминал унтершарфюрер СС Гельмут Гюнтер. – Главное было не разлучаться со своими людьми, и пугало не само ранение, а вероятность, что ты не сможешь вернуться в эту же роту. С теми, с кем прошел большой путь, тебя связывали особые отношения, не распространявшиеся на новичков. Для солдата и несколько месяцев на войне – вечность»35. Шотландские солдаты из 51-й дивизии в сентябре 1943 г. взбунтовались под Салерно, когда их попытались перевести в другую часть.
Большинство мечтало только о собственном спасении, хотя среди воевавших находились и люди с более широкими взглядами и помыслами. К их числу принадлежал английский офицер, писавший родителям накануне своей гибели в первой Северо-Африканской кампании: «Я хочу, чтобы вы понимали, за что я умираю. Мне кажется, и в Англии, и в Америке поднимается мощное чувство, которое я за неимением более удачного слова назову стремлением к благу. Политики и газеты его не затрагивают, это слишком глубоко для их понимания. Это общая, сердечная тоска всех простых людей о мире, который должен стать лучше, о достойной жизни для наших детей, о более чистой вере, близости к земле и к Богу. Я много раз слышал эту мысль от английских и американских солдат, слышал ее в поездах, на заводах в Чикаго и в лондонских клубах. Подчас она бывала так плохо сформулирована, что ее едва узнаешь, но основа все та же: стремление к обновленной жизни»36.
И это правда. Если Черчилль ставил себе целью сохранить величие Британской империи, то большинство его сограждан уже задумывалось о радикальных преобразованиях. Наиболее явно эти идеи отразились в отчете Бевериджа, опубликованном в ноябре 1942 г. и заложившем основы послевоенного государства всеобщего благоденствия. В передовице The Spectator провозглашалось: «Отчет едва ли не затмил войну, став главной темой обсуждений в стране и дискуссий даже в действующей армии за рубежом»37. Капитан Дэвид Эллиот, послушав разговоры своих гвардейцев по поводу отчета Бевериджа, писал сестре: «Если этот документ не будет полностью одобрен, как бы не разразилась революция»38. Член парламента от лейбористов Эньюрин Бивен с небывалой резкостью заявил в палате общин: «Британская армия сражается не во имя старого миропорядка. Если достопочтенные члены напротив полагают, будто мы терпим все это ради их малайских болот, то они сильно заблуждаются»39.
В этом заключается разительный контраст между мотивировками народов Европы и Азии, которые надеялись в качестве награды за победу добиться социальной и законодательных реформ, и побуждениями сограждан Рузвельта, в целом довольных общественным устройством своей страны. Журналист из The New York Times саркастически отзывался об американских солдатах: «Английский чай и красное французское вино лишь укрепили их в первоначальном убеждении насчет превосходства Америки над Европой»40. Эрни Пайл, беседовавший с американскими солдатами перед вторжением на Сицилию, подтверждал, что все они мечтали как можно скорее вернуться домой: «Это до нестерпимой тоски долгожданное будущее у каждого идущего в бой человека свое: вновь свидеться со “своей старухой”, поступить в университет, покачать на коленях ребенка, вновь стать лучшим коммивояжером в своем округе, хоть разок еще проехаться за рулем грузовика по Канзасу или же просто погреться на солнце с южной стороны домика в Нью-Мехико. Из этих частных надежд и мечтаний, а не из сколько-нибудь ясного представления о физической боли и количестве потерь и складываются ужас перед войной и тревога за близких»41.
Но, когда настигает физическая боль, мечта вернуться домой перерастает в одержимость. Дороти Биверс, медсестра, служившая в армии США, написала письмо под диктовку молодого капитана, красавца, лишившегося в бою и ног, и рук. И все же в его голосе прорывалась радость, когда он произнес: «Я еду домой»42. Помощнику американского пулеметчика Дональда Шу оторвало руку, и раненый принялся бегать кругами, истерически выкрикивая: «Меня отправят домой! Слава Богу! Я еду домой!»43 Солдат, получивший от невесты отставку (такие письма в американской армии прозвали «Дорогой Джон»), признавался корреспонденту: «Все, кто утверждает, будто любят своих жен, лгут… Мы влюблены в свои воспоминания о лунных ночах, о красивом платье, аромате духов или случайной песенке»44.
Нарастало ощущение одиночества, хотя вокруг находились тысячи соотечественников, таких же солдат. «Сколько же здесь одиноких солдат, – писал Джон Стейнбек из Лондона в 1943 г., наблюдая английских рядовых на улицах британской столицы. – Сама их походка, вялое шарканье, они словно чего-то ищут или ждут – они, пожалуй, скажут, что ищут девчонку, хоть какую-нибудь девчонку, но в действительности это не так. Хотя солдаты частенько болтают о женщинах, в постоянном напряжении и тяжелейших неудобствах фронтовой жизни возникает тяга к наиболее простым удовольствиям, среди которых едва ли значится секс»45. Подполковник морской пехоты США, служивший в южном регионе Тихого океана, мечтал о том, как будет жить по возвращении домой: «Я снова надену пижаму. Слопаю несколько яиц, запью литром молока. Не мешало бы принять горячую ванну, и не одну. А главное – напоследок: буду целый день сидеть на унитазе и сливать бачок, просто чтобы послушать, как журчит вода»46.
Интересно сопоставить эти скромные мечты, присущие большинству защитников демократии, с воинским энтузиазмом гитлеровцев, особенно из эсэсовских частей, которые сохраняли на удивление боевитый дух вплоть до последних месяцев войны. Итальянка родом из Америки писала со смешанным чувством оторопи, восхищения и неприязни о двух немецких офицерах, с которыми она познакомилась в 1943 г.: «До крайности специфические особи человеческого рода: профессиональные военные. Обоим нет и двадцати пяти, оба воевали в Польше, Франции, России и вот теперь в Италии. Один из них, выслужившийся из рядовых, в течение полугода командовал отрядом русских перебежчиков. Невозможно передать, с каким глубочайшим убеждением в голосе он твердил нам усвоенные им доктрины: Великая Германия, превосходство нордической расы, Германия вступила в войну вынужденно, после многократных попыток Гитлера заключить с Англией мир. Он полон гордости за свой народ и своих солдат и до сих пор непоколебимо верит в победу»47.
Одна из загадок истории: каким образом немецкая армия, в основном состоявшая из мобилизованных солдат, то есть таких же гражданских, как и сражавшиеся против них солдаты западных союзников, всякий раз ухитрялась доказать свое превосходство? Отчасти это объясняется высочайшим профессионализмом офицерского корпуса и военной доктриной: из столетия в столетие Германия производила замечательных солдат, и при Гитлере их боеспособность достигла кульминации, хотя и на службе столь мерзкому делу. Кроме того, тираническое принуждение играло в немецкой армии почти такую же существенную роль, как в армии Сталина. Немецкий солдат знал, что бегство с поля боя или попытка дезертирства караются смертью, и чем ближе становился крах нацистской империи, тем чаще применялась эта суровая мера. В вермахте расстреливали гораздо реже, чем в советских войсках, но к 1945 г. число казней составляло уже десятки тысяч. Руководство союзников, не имея таких рычагов принуждения, зачастую жаловалось именно на то, что даже дезертиров нельзя приговорить к смерти.
Наиболее существенный вклад в упорное сопротивление внесла сплоченная группа убежденных фанатиков-нацистов, в особенности подразделения СС. За десять лет гитлеризма выковались замечательные молодые вожди и воины. Даже когда стало очевидно, что весы склоняются не в пользу Германии и это движение уже не остановить, многие немцы шли на неслыханное самопожертвование в усилии спасти свое отечество от возмездия русских. Далеко не каждый в вермахте был героем: в 1944–1945 гг. все больше солдат проявляло готовность и даже желание сдаться. Но в целом дух немецкой армии был схож с духом русской и японской армий, радикально отличаясь от британского и американского. За возможность сохранить кое-какие гражданские свободы и право выбора, за отказ жестоко наказывать любое проявление слабости западным армиям приходилось расплачиваться: их солдаты с куда меньшей готовностью шли на гибель. Недостаток героизма компенсировался наращиванием огневой мощи.
2. В тылу
Николай Белов, сражавшийся в Красной армии, записывал в дневнике под конец 1942 г. «Вчера получил от Лидочки целую пачку писем. Чувствуется, что ей тяжеловато одной с малышами»48 (31.12.1942). Едва ли капитан Белов понимал, насколько «тяжеловато» его жене. Во многих странах в ту войну мирное население страдало не меньше солдат. Румын Михаил Себастиан не бывал на фронте, но в декабре 1943 г. записывал: «Все личное накрыто тенью войны. Ее жуткая реальность заслоняет все. А мы – где-то вдали, забытые даже нами самими, с нашей померкшей, съежившейся, летаргической жизнью, словно ждем возможности очнуться от сна и вновь начать жить»49. Хотя потери России и Китая существенно искажают общую картину, можно все же утверждать, что в целом с 1939 по 1945 г. погибло больше гражданских, чем вооруженных участников конфликта. Само выражение «на домашнем фронте» кажется издевательством в контексте СССР, где десятки миллионов оказались в положении, которое описывает сражавшийся в сентябре 1942 г. на Украине партизанский комиссар Павел Калитов, заглянувший мимоходом в деревню Климово: «Бледная, худая женщина сидит на скамье с младенцем на руках, рядом девочка лет семи. Она плачет, несчастная. Что вызвало эти слезы? Чего бы я ни отдал, лишь бы помочь этим беднягам, унять их боль»50.
Три недели спустя похожая сцена в Буднице: «Что уцелело? Гора руин, торчат трубы, обгоревшие стулья. Дороги и тропы успели зарасти сорняками и чертополохом. Ни признака жизни. Деревня находится под постоянным артиллерийским огнем»51. Вскоре после этого подразделение Калитова получило от командования регулярной армии приказ эвакуировать все гражданское население из двадцатипятикилометровой зоны тыла. Людям разрешалось взять свои вещи, но корм для скота и картошку они должны были оставить. Калитов в отчаянии пишет: «Нам пришлось работать с гражданскими, уговаривать их, чтобы они ушли, не оказывая сопротивления. Это непросто: многие живут исключительно на картошке. Требовать, чтобы они оставили свои припасы для прокормления армии, значит, обрекать их на тяжелейшие лишения и даже на смерть. Вот передо мной семейство беженцев. Изможденные, худые до прозрачности. Особенно тяжело смотреть на малышей – их трое, один грудной, двое ненамного старше. Молока нет. Эти люди страдают, как и мы, солдаты, или даже тяжелее. Бомбы, снаряды, мины их тоже не щадят»52. Калитин изумлялся стойкости человеческой природы, способности все перенести.
Даже те русские, кто не оказался в осажденном городе или под воздушными налетами, работали в годы войны в чрезвычайно тяжелых условиях. Их паек составлял в среднем на 500 калорий в день меньше, чем у английских и немецких рабочих, на 1000 калорий меньше, чем у американцев. На территории, подконтрольной центральной власти, погибло от голода 2 млн человек, еще 13 млн погибло от бомб, а также на захваченной немцами территории. Узники трудовых лагерей ГУЛАГа снабжались питанием в последнюю очередь, и в каждый военный год четверть наличного состава лагерей вымирала. Россия страдала от повальной цинги из-за отсутствия витаминов и от множества других заболеваний, вызванных голодом и непосильной работой. «Никакой жизни, кроме завода»53, – писала москвичка Клавдия Леонова, трудившаяся на текстильной фабрике, где шили военную форму и камуфляжные сетки. Всю войну производственная линия работала круглосуточно, люди выходили в две смены по 12 часов. Кормили их плохо пропеченным хлебом и кашей из подгоревшей пшенки, которую раздавали прямо у станков. «Мы не умирали с голоду, но есть хотелось все время, собирали даже картофельные очистки. Теоретически воскресенье оставалось выходным, но партком завода собирал нас на добровольные работы – копать окопы или носить хворост из подмосковных лесов. Мы грузили рудничные стойки, тяжеленные, не всякий штангист справится. Мы жили в крестьянской хате, и хозяйки все время ругали режим и нас ругали, потому что мы собирали в лесу ягоды и грибы, а они хотели собрать их сами и продать нам».
В тех западных странах, которые не подверглись оккупации, кое-кто даже процветал благодаря войне: преступный класс наживался за счет спроса на проституток, товары с черного рынка, ворованный бензин и военный провиант; многократно умножились доходы промышленников, которые каким-то образом ухитрялись обойти прогрессивный налог; фермеры, особенно в США, где их доходы выросли в среднем на 156 %, наслаждались таким благополучием, какого никогда прежде не знали. «У фермеров начались отличные времена, – вспоминала Лора Бриггс, дочь мелкого арендатора из Айдахо. – Папа смог удобрить и облагородить свою землю. Мы и большинство наших соседей перебрались из крытой рубероидом хижины в новый каркасный дом с водопроводом. Теперь у нас появились электрическая плита вместо дровяной печи, и раковина, где можно было мыть посуду проточной водой, и водонагреватель, и красивый линолеум»54.
Но для подавляющего большинства все было отнюдь не столь радужно. Лейтенант Дэвид Фрейзер из гвардейского полка гренадеров сформулировал принципиальную особенность положения миллионов солдат и гражданских: «Люди были сорваны со своих мест, это казалось сном, от которого тщетно мечтаешь пробудиться»55. В апреле 1941 г. Эдвард Маккормик писал сыну Дэвиду, который вместе со своим братом Энтони добровольцем вступил в армию и теперь отправлялся в составе артиллерийского полка на Ближний Восток:
«Вся жизнь вашей мамы, – писал ему отец, – сосредоточена на тебе и Энтони. С самого момента твоего рождения главным для нее стало твое здоровье, счастье и благополучие. И сейчас инстинкт подсказывает ей те же мысли, так что нет надобности объяснять тебе, как ее подкосила разлука с вами обоими. Таковы же и мои чувства: я с ужасом представляю себе трудности, опасности, мучения, которые, скорее всего, выпадут на вашу долю. В то же время у меня нет сомнений в необходимости этой войны. Победа нацистов означала бы привольную жизнь для узкого круга избранных немцев, а все остальные под их властью погибали бы и душой, и телом. Вы с Энтони способствуете освобождению мира от этой напасти, и хотя как отец я бы желал, чтобы вы оказались как можно дальше от кровопролития, я преисполнен гордости за то, что вы делаете и что вам предстоит свершить. Мама и я посылаем вам нашу горячую любовь и благословение и молимся о вашем здравии и счастливом возвращении. Отец»56.
Понадобится более четырех лет, чтобы семья Маккормик вновь воссоединилась, и такая разлука постигла в ту пору десятки миллионов семей. Чаще всего причиной становилась мобилизация или добровольный уход в армию, однако перемещения и расставания происходили и в силу других причин: половина населения Великобритании за годы войны сменила место жительства. Кого-то эвакуировали, освобождая их дома для военных, чей-то дом был разрушен, большинство призвал долг службы. Значительная часть бельгийского рыболовного флота выходила в море из порта Бриксхем в Девоне, а многие датские рыбаки обосновались в Гримсби, графство Линкольн. В других областях Европы насильственное переселение принимало гораздо более жесткие формы. Например, в январе 1943 г. английская медсестра Глэдис Скиллетт родила ребенка не на одном из английских островов Ла-Манша, где она жила до войны, а в маленькой немецкой больнице в Биберахе. Глэдис в числе 834 жителей оккупированного немцами Гернси отправили в сентябре 1943 г. в рейх, и остаток войны они провели в лагере. Всего с Гернси собирались вывезти не 834, а 836 человек, но немолодой мэр и его жена, родом с соседнего острова Сарк, перерезали себе вены. Миссис Скиллетт на всю жизнь сохранила дружеские отношения с женой немецкого солдата, которая лежала с ней в одной палате: они обе почти одновременно родили здоровеньких сыновей57.
Бьянка Загари растила двух детей, но в декабре 1942 г., когда начались американские воздушные налеты, семье пришлось бежать из своего зажиточного неаполитанского дома. Все четырнадцать человек, включая родителей, зятьев и невесток, племянников, служанку и гувернантку, обосновались в отдаленном и бедном регионе Абруццо, сняли два дома в деревне в долине Сангро, куда добраться можно было только пешком. И там они жили безо всяких удобств, но в октябре 1943 г. бомбы настигли их даже здесь: всего в 30 км от их убежища завязалась битва под Монте-Кассино, одно из самых ожесточенных сражений между немецкой армией и союзниками на территории Италии. Загари с детьми бежала из деревни в толпе крестьян; когда они взбирались в гору, какой-то мужик на грубом местном диалекте, едва понятном горожанке, сообщил Загари, что большинство ее родичей погибло: «Синьора, десять упокойников вашенские». Она записывала: «Наступил рассвет, на гору карабкаются еще люди из Сконтроне, все насмерть перепуганы и все сообщают мне ужасающие подробности: кто видел оторванную руку, кто ножку, две косички с красными бантиками, тело без головы»58.
Ее муж Рафаэль уцелел, но потерял почти всех своих родных. Спасшиеся несколько недель ютились в горных пещерах, осваивая навыки, о которых Загари прежде не имели и понятия: разжигали костры, сооружали примитивные убежища, практически не получая помощи от местных, которых волновала собственная участь, а к горожанам крестьяне не испытывали особого сочувствия. «Каждую мелочь приходилось выпрашивать, словно милостыню». Когда немцы их все-таки обнаружили, всех мужчин увели на принудительные работы. «Одного схватили, когда он пытался выкопать из-под развалин свою мать». После многих месяцев таких страданий Загари сумела спуститься с гор вместе с обоими детьми и сохранив при себе шкатулку с драгоценностями. Какой-то немец на грузовике сжалился над ними и подвез до Рима. «Мы въехали через ворота Сан-Джованни. Я будто во сне очутилась: дети спокойно гуляли, играли с нянями. Война – словно далекий гул. Все спрашивали, откуда мы такие явились. Никто не мог взять в ум, что мы из Сконтроне, там погибло девять членов нашей семьи. В отеле «Корсо», где швейцар узнал нас и постарался помочь, кто-то из постояльцев заявил, что не станет селиться в этой гостинице, если тут будут принимать таких оборванцев, как мы».
Богатство Загари избавило их от худших лишений. Большинство итальянцев такого подспорья не имело. Морозной зимой 1944 г. болезни и недостаток еды и топлива погубили множество гражданских, в первую очередь детей. Осиротевшая мать вспоминала: «Вдруг моей девочке стало плохо. Врач поставил диагноз: колит. Смерть наступила после пяти часов неописуемых мучений. В доме стоял пронзительный холод, Джиджето [муж] побежал и купил бутылки, чтобы налить в них горячую воду. Я положила малышку в нашу постель, обложила бутылками, прижала ее к себе. “Джиджето! – взмолилась я. – Сантина не умрет!” Но она умерла». Многие люди, чьи дома были разрушены или кого попросту выгнали из домов, вернулись к первобытному существованию в горах. Пережившая это девочка описывала: «Холод и сырость пещеры пробирали до мозга костей. Мама съежилась в углу, прижимая к себе трехмесячного братика. Она велела мне спуститься в город и позвать врача. Я бежала как заяц, но его не оказалось дома, он был у подесты, чей сын тоже болел с высокой температурой, как и мой брат. Наконец, доктор появился и выписал мне рецепт, но не поделился лекарствами, которые у него имелись. Он обещал прийти к нам, но, пока добрался, братик уже умер. Мать в отчаянии говорила: “Мой малыш умер, потому что я ничего не ела и молоко у меня испортилось”. Она – лишь одна среди миллионов»59.
Люди, выселенные из домов, эвакуированные и согнанные с привычных мест, большую часть войны провели в напряженном ожидании: ордеров на вселение, визы для выезда или въезда в страну, возможности бежать из опасного места, разрешения тронуться в путь. Розмари Сэй, англичанка двадцати одного года от роду, сумевшая ускользнуть из немецкого лагеря в Виши, на много недель застряла в Марселе с такими же беженцами: «Грустно было видеть, сколько ума и способностей растрачивается зря в этих бесконечных отсрочках. Будущее становилось все мрачнее. Кто получил все-таки визу, кого схватили, кто, положившись на удачу, укрылся в сельской местности. Каждого отлучившегося ждали с нетерпением, но, если он не возвращался, о нем вскоре забывали»60.
Украинского подростка Стефана Куриляка немецкие оккупационные власти отправили на Запад, работать на фермеров в Австрийских Альпах. Он попал в семью набожных католиков Клаунцеров. При виде своего нового работника фрау Клаунцер расплакалась, и украинский паренек, сам не зная почему, прослезился вместе с ней. Потом ему объяснили, что сын Клаунцеров только что погиб на Восточном фронте. Одними губами фрау Клаунцер повторяла фразу, которую даже Стефан при своем скудном немецком мог понять: «Гитлер – плохой. Гитлер – плохой». Со Стефаном обращались хорошо, по-доброму. Он работал на семейной ферме и неплохо жил там до конца войны. Хозяева просили его и потом остаться с ними на правах члена семьи, но он отказался61.
Далеко не ко всем судьба оказалась настолько благосклонна. Четырнадцатилетний польский еврей Артур Познанский вернулся однажды в октябре 1942 г. в гетто города Пиотрков со стеклодувной фабрики, где работал вместе с младшим братом Ежи, и ему сунули в руку скомканную записку от матери: ее, как и многих других, отправили в концлагерь. «Нас увозят. Помоги тебе Господь, Артур! Мы ничем не сможем тебе помочь, и что бы ни случилось, присматривай за Ежи. Он совсем еще ребенок, больше у вас никого нет, будь ему и братом, и отцом. Прощай!» Артур, до слез растроганный, твердил: «Да, я буду о нем заботиться! Я все сделаю!» А потом спросил себя: «Но как? Я одинок и беспомощен». Конец войны мальчики встретили в разных концентрационных лагерях, за сотни километров друг от друга, но чудом остались живы, а все остальные в их семье погибли62.
Англичане перенесли шесть лет скудного снабжения по карточкам и периодических массированных бомбардировок. Ночные отключения света угнетали также психологически. И все-таки жизнь на островах под руководством Черчилля была куда лучше, чем на Континенте, где правили бал насилие и голод. Британия, как и США, была защищена от непосредственного соприкосновения с врагом морем, здесь сохранялась какая-никакая личная свобода и даже благосостояние. А привилегированные британцы и вовсе не утратили своих привилегий. «Вот еще что необычно в этой войне: люди, которые не хотели в нее влезать, так и не были вовлечены»63, – отмечал впоследствии писатель Энтони Пауэлл.
Разумеется, не были вовлечены только представители узкого социального слоя. За неделю до Дня «Д», когда 250 000 молодых англичан и американцев готовились к броску на Атлантический вал Гитлера, Ивлин Во записал в дневнике: «Проснулся полупьяным и с толком провел утро: сперва подстригся, потом сверял цитаты в Лондонской библиотеке, которая все еще не приведена в порядок после бомбардировки, навестил Нэнси [Митфорд, в принадлежавшем ей книжном магазине]. За ланчем снова напился. Поехал в “Бифштекс” [клуб], в который я недавно записался, потом в “Уайт” [тоже клуб], еще портвейна. В алкогольном дурмане добрался до Ватерлоо, сел на поезд до Эксетера и большую часть пути проспал»64.
Во нельзя считать типичным представителем круга или класса: большинство друзей, с которыми он кутил, были в Лондоне на побывке, год спустя некоторые из них уже были мертвы. Вскоре после этой дневниковой записи немцы пустят в ход «оружие возмездия», и без того уставшие от войны британцы вновь начнут погибать под бомбами. Но если жизнь в Нью-Йорке или Чикаго была намного безопаснее и комфортнее, чем в Лондоне и Ливерпуле, то и лондонцы могли чувствовать себя счастливыми по сравнению с обитателями Парижа, Неаполя, Афин, любого города Советского Союза или Китая. Домохозяйка из Ланкашира Нелла Ласт в октябре 1942 г. задумывалась над тем, как мало ее до сих пор затронули военные тяготы и лишения, если вспомнить хотя бы, что Сталинград был на три четверти разрушен при первом же воздушном налете. «У нас есть крыша над головой, еда, тепло, а у миллионов людей ничего этого нет. Какую цену предстоит за это уплатить? Мы не можем рассчитывать, что нам и дальше удастся отсидеться. Сегодня я поглядела на соседского младенца и вдруг поняла, почему многие сейчас не хотят рожать детей. Столько разговоров о новом мироустройстве, о том, что будет после войны, а кто помнит о страданиях, о муках, которые еще предстоят, прежде чем все кончится?»65
Миссис Ласт отличается необычайной щепетильностью: большинство ее соотечественников, полностью погрузившись в собственные заботы, не обращали ни малейшего внимания на более страшные, но далекие от них катастрофы, постигшие другие народы. 22 ноября 1942 г. другая домохозяйка, Филлис Крук, писала своему тридцатидвухлетнему мужу, служившему в Северной Африке: «Рождество будет кошмарным, я даже думать о нем не хочу, но мы вынуждены отмечать его, как всегда, и я давно уже занята по горло, готовлю подарки для всех знакомых детей. Легче было бы сказать, мол, ничего добыть невозможно и на том покончить. А холод какой! Я бы предпочла впасть в зимнюю спячку, а не трястись все время. Крис [их маленький сын] просил Бога сделать тебя хорошим мальчиком! Что ж, любовь моя, новостей у нас нет, на том и простимся. Жизнь слишком тосклива, словами не передать. Когда-то мы снова увидимся? Кажется, ты так далеко, даже думать об этом невозможно. Береги себя, дорогой, не лезь в опасные места, тебе бы и папочка так сказал. Моя любовь с тобой навечно, милый Фил! P. S. Джойс теперь работает на заводе по 11 часов в день. Джон Янг переболел малярией»66.
Жителям разоренных войной стран переживания миссис Крук могли бы показаться банальными, а ее жалость к себе – достойной презрения. Ни ее жизнь, ни жизнь ее детей не подвергались опасности, они даже не голодали. Но разлука с мужем, необходимость покинуть свой дом в восточной части Лондона, угрюмая монотонность тылового существования казались ей, как и многим другим, вполне достаточной причиной, чтобы чувствовать себя несчастной. А через десять дней после отправления этого письма миссис Крук овдовела: ее муж погиб в бою.
Известия о гибели любимых на фронте стали одним из самых страшных испытаний военного времени. И особенно мучительной и безысходной была боль тех, кто не мог выяснить даже подробностей того, как оборвалась жизнь родного человека. Как сказано в стихотворении Дж. Эккерли, опубликованном в Spectator:
Нам не сказали, куда он исчез, это было так странно: Он отплыл в декабре и не вернулся домой, Проститься не мог, и вот Рождество, как открытая рана: Два письма получили и напрасно ждали мы третье письмо. Шли недели и месяцы, недолго до нового декабря Мы ходили в конторы, и нас принимал военком, Были вежливы, но им не до нас, мы для них номера, Кто сказал нам одно, кто другое, а правды не знает никто. Так повсюду: погиб, пропал, не вернулся, подробностей нет. Смерть есть смерть: много ль пользы узнать, как случилась беда. Мы не пишем запросы, на запросы все тот же был бы ответ: Люди гибнут как мухи, на земле не оставив следа67.Десятки, сотни, тысячи семей пытались как-то осмыслить свою потерю и примириться с ней. Жена офицера британской армии Дайяна Хопкинсон запомнила встречу со своим мужем на станции в Беркшире после долгой разлуки, за время которой брат мужа погиб в бою. «Его непривычный для меня мундир, непривычно худое лицо, которое я с трудом могла разглядеть в этом тусклом освещении, казались искусственными. Даже в поцелуях был привкус нереальности. В постели, прежде чем заняться любовью, нужно было как-то справиться с нашей болью, гибелью Пола. Когда же он наконец повернулся ко мне, мы занялись любовью словно каким-то торжественным ритуалом – странным, безмолвным и все же неуловимо знакомым»68.
Домохозяйка из Шеффилда Эди Разерфорд заваривала чай, когда в дверь постучала молодая соседка, жена пилота. «Лицо ее одеревенело, она выпалила: “Разерфорд, Генри пропал без вести,” – и сунула мне в руку телеграмму. Разумеется, я тут же обняла ее, прижала к себе и дала ей как следует выплакаться. Я во весь голос проклинала эту ужасную войну. Она твердила: “Он жив. Я уверена, он жив. Он только в среду приезжал на побывку. Он жив, он сейчас где-то раненый, тревожится за меня, ведь он понимает, что они послали мне эту телеграмму, чтобы меня напугать”. Что сказать жене в такой передряге? Я утешала бедную девочку как могла. Мне казалось, у меня у самой все внутри оборвалось. Хоть бы эта война скорее кончилась»69.
Другая домохозяйка, Джин Вуд, рассказывала: «Со мной по соседству жили очень приятные немолодые люди. Она ждала на побывку сына, у нее не было мяса, чтобы его угостить. А мне в тот день мясник дал кролика, вроде как угостил, но я не хотела кролика, я бы лучше купила яиц для детей. И я отнесла кролика ей. Она так радовалась. И тут пришло извещение, что ее сын погиб. Мы готовы были прямо выбросить этого кролика. Такой был милый мальчик, молодой офицер, всего девятнадцать лет»70. Все они были милыми мальчиками для тех, кому пришлось их оплакивать.
Мюриэль Грин, одна из 80 000 английских женщин, завербовавшихся на сельскохозяйственные работы, расплакалась в последний вечер, когда в июне 1942 г. ей предстояло уехать из дома. «Я плакала из-за войны. Она изменила нашу жизнь так, что уже ничего не будет по-прежнему. Грустно было глядеть на опустевший берег. Когда уезжаешь далеко и только из маминых писем узнаешь, какие еще случились беды, кто из мальчиков погиб, чья семья осиротела, это лишь слова. Но приезжаешь домой – и это убийственно. Никогда жизнь не будет такой прекрасной, как перед войной. Последние два года и начало 1939-го были самыми лучшими в моей жизни, все были молоды и счастливы. Я могла бы плакать часами, только маму не хотела расстраивать»71.
Американка Делли Хане оказалась одной из тех женщин, которые в лихорадочном волнении и круговерти той поры вышли замуж не за того мужчину, а в последующие годы разочаровались и раскаялись. «Он был солдатом. Кем же он мог быть, если не самым прекрасным, самым замечательным из людей?» – говорила она потом с печальной умудренностью. Она жалела и других, переживших столько семейных несчастий: «Беременные женщины, с трудом удерживавшие равновесие в дребезжащих вагонах, ехали в последний раз проститься с мужьями, перед тем как тех отправят за море. Женщины, возвращавшиеся со свидания, проезжали огромные расстояния с маленькими детьми. Как-то кормили малышей в пути, перепеленывали. Мне было так их жаль. И я вдруг поняла, что это вовсе не прекрасное приключение, как нам внушали. Я возблагодарила Бога за то, что у меня хотя бы нет детей»72.
Дети цеплялись за скудные воспоминания об отцах, с которыми они разлучались на годы, а многие и навсегда. Родители Бернис Шмидт из Калифорнии развелись, когда ей было девять. Ее тридцатидвухлетний отец, оказавшись, таким образом, холостяком, подлежал призыву. Перед отплытием за море его отпустили ненадолго из тренировочного лагеря, он вернулся в Лос-Анджелес и повел троих детей в парк аттракционов. Он признался им, что тоскует по дому, и каждому сделал на прощание небольшой подарок. Бернис досталась заколка в форме стрелы, соединяющей два сердца, с гравировкой: «Бернис от папы». Рядовой Шмидт из 317-го пехотного полка пал в бою 15 ноября 1944 г. Его дочь навсегда запомнила день, когда пришло извещение о его смерти: ее день рождения, ей исполнилось двенадцать лет73. Однажды в октябре 1942 г. Нелла Ласт стояла и смотрела на соседских детей. Их мать тронула ее за руку и спросила: «О чем вы сейчас думаете?». «Сама не знаю, – ответила миссис Ласт. – Как вы счастливы, что вашему Яну всего семь!» И соседка ответила просто: «Да, я знаю»74.
До 1943 г., когда все изменилось со Сталинградской битвой и бомбардировкой немецких городов, большинство гражданских лиц в Германии, за исключением тех, кто потерял на фронте близких, воспринимали войну скорее как глухую боль, чем как открытую рану. «Возможно ли привыкнуть к войне? – размышляла Матильда Вольф-Монкебург, немолодая жена ученого из Гамбурга в 1941 г. – Этот вопрос мучает меня, и я страшусь утвердительного ответа. Поначалу все это казалось невыносимым, непостижимым, а теперь как-то улеглось и живешь изо дня в день в страшной апатии. Мы все еще располагаем теплом, привычными удобствами, у нас довольно еды, а порой бывает горячая вода, никаких особых усилий, кроме ежедневных походов за продуктами и небольших хозяйственных дел»75. Как все немцы, за исключением партийных функционеров, получавших и в этой сфере, как во всех остальных, определенные привилегии, фрау Монкенбург жалуется главным образом на скудный рацион питания: «Все ощутимее пустота внутри, и все острее потребность в чем-то недоступном, – пишет она в 1942 г. – Яркие фантазии дразнят множеством живых красок, воображаются большие сочные бифштексы, молодая картошка, длинные стебли спаржи и рядом золотые слитки масла. Как это унизительно, как это жалко! А есть люди, которые величают это героической эпохой»76. Но лишения, на которые жаловались немцы, были не так уж велики на общем фоне: в Великобритании производство потребительских товаров между 1939 и 1945 г. упало на 45 %, в то время как в Германии только на 15 %. Вероятно, не вся пища была немцам по вкусу (в частности, ежегодное потребление картофеля возросло с 12 млн до 32 млн тонн), но всерьез голод наступил лишь под конец войны, в мае 1945 г.: немцы морили голодом оккупированные страны, чтобы хорошо кормить свой народ.
Голод – универсальная тема этой войны, многократно умножившая страдания. И все же именно здесь нагляднее всего разделение, разные уровни и степени мучений. Гораздо больше людей во всем мире страдало и даже умирало от недоедания, чем в любую предшествовавшую войну, в том числе и в Первую мировую, поскольку в конфликт оказалось вовлечено беспрецедентное число стран и значительная часть сельскохозяйственных угодий была выведена из хозяйственного оборота. Даже в странах, избежавших повального голода, гражданское население сполна ощутило нехватку продуктов. Британская система рационирования гарантировала, что никто не умрет с голоду, а бедняки питались даже лучше, чем в мирное время, но удовольствия эта еда не доставляла почти никому. Деревенская девушка Джоан Иббертсон писала: «Мы были одержимы едой. В первом месте, где я жила, хозяйка готовила овощной гарнир только по воскресеньям, а так в понедельник нам давали холодное мясо и дальше всю неделю сосиски. Иногда она варила к сосиске картошку, но чаще выдавала нам по куску хлеба. Вернешься с работы, после целого дня на подножном корме и пятикилометровой поездки на велосипеде в оба конца – тебя ждут две сосиски на большой, холодной тарелке зеленого стекла. Однажды сосед занес мешок морковки, сказал, что она предназначалась для кроликов, но мы с радостью воспользовались его подаянием. Раз в неделю выдавали яичный порошок, но наша славная хозяйка предпочитала готовить завтрак с вечера, и к утру это угощение, подаваемое на тостах, и выглядело как опилки и так же скрипело на зубах. А в другой раз по утрам на тосты намазывали рыбную пасту… К Рождеству нам разрешили купить курицу, но птица досталась такая старая и жесткая, что мы еле ее разжевали»77.
В неделю взрослому англичанину причиталось 100 г жира или масла, 300 г сахара, 100 г бекона, два яйца, 150 г мяса, 50 г чая и неограниченное количество овощей или фруктов по сезону сверх пайка, если таковые удастся найти. Большинство семей пускались на всякие ухищрения, чтобы пополнить этот скудный рацион. Дерек Ламберт запомнил в раннем детстве сцену за общим столом: «Однажды утром с напускной небрежностью на стол ставится банка варенья… Отец, человек, не склонный к проявлениям чувств, намазывает варенье на хлеб и откусывает. Хмурится и спрашивает: “Что это такое?” – “Морковный мармелад”, – отвечает ему мать. С необычной для него демонстративностью отец берет банку, выносит в сад и выливает в яму с компостом»78.
Но любой крестьянин из России или Китая или военнопленный в лагере счел бы морковный мармелад роскошью. Кеннет Стивенс, военнопленный, сидел в сингапурской тюрьме Чанги. Он писал: «Здесь мысли все время возвращаются к Еде, любовно задерживаются на ней, я думаю о Горшочке с тушеной Утятиной, об Омлете, о Рыбном Филе, Цыпленке Табака, Кеджери, Фруктовом Муссе, о Хлебном Пудинге и обо всех прекрасных блюдах, которые так хорошо готовили прямо у меня дома»79. Стивенс умер в августе 1943 г., так и не отведав больше ничего из любимых блюд. Только в 1945 г. вдова получила из рук его товарища по несчастью дневник мужа и узнала, какими фантазиями он терзал себя – или утешался – на краю могилы. Тем временем средний рост французских девочек в период между 1935 и 1944 г. уменьшился на 11 см, а мальчиков – на семь. Плохое питание способствовало эпидемическому распространению туберкулеза в Европе, и в 1943 г. у четырех бельгийских детей из пяти проявлялись симптомы рахита. В большинстве стран горожане страдали от голода больше, чем сельские жители, поскольку не имели возможности пополнить свой рацион за счет подсобного хозяйства. У бедных не было денег для покупок на черном рынке, который возникал в любой стране к услугам тех, кто располагал достаточными средствами.
Канаду, Австралию и Новую Зеландию проблемы с питанием затронули гораздо меньше, американцы же и вовсе почти их не ощутили. Рационирование Рузвельт ввел только в 1943 г. и то с весьма щедрыми нормами. Журнал для гурманов беззастенчиво изливался: «Пусть импорт европейских деликатесов и сократился, Америка располагает батальонами и полками вкуснейших блюд, поспешающих на защиту аппетита»80. Единственным дефицитом стало мясо, но американцам и это давало повод для жалоб. Домохозяйка Кэтрин Рене Янг писала мужу в мае 1943 г.: «Как надоело одно и то же! Хорошего стейка в глаза не увидишь, а ведь именно говядина требуется для подкрепления сил. Отец только что вернулся из магазина, не удалось ничего купить, кроме ненавистной кровяной колбасы»81. Но если качество питания в военное время и снизилось, количество потребляемой американцами мясной пищи едва ли уменьшилось даже в ту пору, когда крупные партии тушенки снаряжались на экспорт, в Англию и Россию.
Каждое государство по возможности ставит на первое место интересы собственного народа, не принимая во внимание ущерб, который оно может при этом нанести другим. Наиболее жестоко и безоглядно действовали члены оси, и последствия такой политики для покоренных ими народов были наиболее страшными: на Востоке нацисты откровенно морили голодом «низшие расы», лишь бы досыта накормить своих. Но режим оказался настолько слабым в вопросах административного управления, что импорт продуктов в рейх и голодная гибель советского населения отнюдь не достигли масштабов, запланированных министром сельского хозяйства Гербертом Бакке в его «Стратегии голода». Население оккупированных территорий с невероятной изобретательностью прятало от врагов урожай и упорно цеплялось за жизнь вопреки всем прогнозам нацистских диетологов, предусматривающих 30–40 млн голодных смертей. Впрочем, погибло немало людей. Сельское хозяйство СССР довоенного периода было на редкость неэффективным, а теперь еще значительная часть пахотных земель была захвачена вермахтом. Когда же эти земли удалось вернуть, оказалось, что почти вся сельскохозяйственная техника была украдена или уничтожена и землю опять-таки нечем было обрабатывать. В соответствии с политикой вермахта жить за счет захваченных территорий немецкие солдаты на Востоке потребили, по оценкам, 7 млн тонн русской пшеницы, зарезали 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз, более 100 млн домашних птиц82.
Японцы также применяли в своей империи драконовские меры, чтобы обеспечить провизией свой народ, в то время как миллионы жителей Юго-Восточной Азии умирали от голода. Тяжелее всех досталось Китаю, крестьян там грабили и японцы, и собственные армии сопротивления. На провинцию Хэнань в 1942-м вслед за небывалыми морозами и градом обрушилась новая напасть – налетела саранча: в результате миллионы людей стронулись с места и погибали на глазах. Немногие свидетели с Запада не находили слов, чтобы описать этот кошмар: «Правительство норовило выжать из умирающих какие-то недоимки… Крестьяне, питавшиеся корой с деревьев и сухими листьями, обязаны были тащить последний мешок риса сборщику налогов»83. Хотя союзники до подобных зверств не опускались и на их совести жертв намного меньше, национальный эгоизм процветал и здесь. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы и гражданское население дома, и солдаты за морем получали самый щедрый паек, каких бы усилий ни стоила транспортировка этих припасов. На каждый фунт провизии, которую японцы доставляли своим гарнизонам на островах – многие там, например, в Рабауле, последние годы войны были заняты больше работой в своем подсобном хозяйстве, чем боевыми действиями, – американские корабли везли две тонны. Отчасти нежелание американцев пользоваться чужими припасами было вызвано недостаточным профессионализмом других народов в сложном деле консервирования пищи: восемь американских пилотов скончались от ботулизма, поев австралийской свеклы из банки. После этого на места были отряжены американские специалисты, которые должны были научить местных жителей правильно обрабатывать продукты. Майор Белфорд Сибрук из знаменитой сельскохозяйственной компании штата Нью-Джерси прививал цивилизацию в Австралии. Coca-Cola открыла 44 завода в непосредственной близости от театров войны и продавала 95 % от общего числа безалкогольных напитков, появлявшихся в гарнизонных лавках. США сократили ранее согласованные поставки мяса в Великобританию, чтобы не снижать уровень потребления собственных солдат и гражданского населения. Генерал Брегон Сомервелл, известный англофоб, в 1943 г. поддержал мнение своего руководителя транспортировок: англичане, дескать, все еще живут «прилично», вполне могут немного затянуть пояса84.
Для итальянцев голод сделался грозной и неотступной реальностью с того самого момента, как страна в 1943 г. превратилась в поле боя. «У моего отца не было постоянного дохода, – вспоминала дочь некогда преуспевавшего римского издателя. – Сбережения разошлись, нас было много, два брата прятались от мобилизации. Я ходила вместе с отцом в бесплатную столовую, а мать стеснялась. Мы варили суп из очисток бобов. Оливкового масла в глаза не видели: за бутылку просили 2000 лир, а свой дом мы бы продали не более чем за 70 000. Мы покупали, что могли, на черном рынке, выменивали на серебряные столовые приборы, простыни, вышитые скатерти. Серебро ценилось дешевле муки, мы отдали за мясо и яйца даже приданое. В ноябре наступили холода, и пришлось выменивать уголь: самые длинные очереди выстраивались перед угольными лавками. Мешки таскали тоже мы, женщины: мужчинам нельзя было показываться на улицу [чтобы не мобилизовали в армию или на трудовой фронт]»85.
Всем правил голод. Австралийский корреспондент Алан Мурхед писал из Италии: «Мы наблюдаем моральную деградацию народа. Не осталось ни гордости, ни чувства собственного достоинства. Животная борьба за существование, и больше ничего. Еда. Только это одно имеет значение. Еда для детей. Еда для меня. Еда ценой любого унижения и злодеяния»86. Порой у матери не было иного способа накормить семью, кроме торговли собственным телом, чему был свидетелем английский сержант Норман Льюис в 1944 г. В муниципальном здании на окраине Неаполя он обнаружил группу солдат и с ними женщин, одетых в обычные для горожанок одежды, чистых, с виду – обычных женщин из рабочего класса, вышедших в магазин и поболтать. Но рядом с каждой женщиной высился небольшой столбик консервных банок и выяснилось, что любая из них готова прямо в этом общественном месте заняться любовью с тем, кто добавит к ее добыче еще одну баночку. Женщины сидели совершенно тихо, не говорили ни слова, лица отсутствующие, застывшие, словно высеченные в мраморе. Они могли бы с тем же равнодушием продавать рыбу – вот только на рыбном рынке суеты и оживления больше. Ни заигрывания, ни откровенных предложений, никаких соблазнов, не мелькнет даже якобы случайно хотя бы полоска обнаженного тела… Один солдат, слегка под хмельком, послушавшись непрерывно подначивавших его приятелей, наконец поставил рядом с женщиной свою банку, расстегнул штаны и лег на женщину. Бедра его задергались и очень быстро остановились – не прошло и минуты, как он уже поднялся и застегнулся. Как будто только и хотел поскорее покончить с этим. Словно наказание отбывал, а не предавался акту любви87.
В декабре 1944 г., когда Италия и Европа в целом оказались на грани уже не просто голода, но голодной смерти, чиновник английского посольства в Вашингтоне обратился к заместителю министра военных дел США Джону Макклою с протестом по поводу огромных объемов продуктов, которые отгружаются американским солдатам, в то время как жители освобожденных стран голодают. «Не подвергаем ли мы ради победы в войне опасности политическую и социальную структуру европейской цивилизации, от которой зависит будущее мира и его спокойствие?» – заявил этот чиновник и получил от Макклоя откровенный ответ: в интересах Великобритании поскорее понять, что война произвела необратимые изменения в экономическом положении Британского Содружества, «и теперь мы в Англии зависим от США никак не меньше, чем от Европы. Стоит ли рисковать дружбой США ради сохранения хороших отношений с Западной Европой? Вот о чем шла теперь речь». Шокированный англичанин все же отстаивал необходимость кормить европейское население, но Макклой не сдавал позиции, намекая, что Великобритания «не обрадуется, если ради гражданского населения в Европе придется затянуть войну на Тихом океане»88.
Получив отчет об этой встрече, британское Министерство иностранных дел выразило крайнее негодование, но перед лицом явного экономического превосходства США англичанам пришлось расписаться в собственном бессилии. Если в итоге между 1943 и 1945 г. от голода умерло не так много итальянцев, как опасались, то причиной тому было, во-первых, незаконное проникновение значительной части американского провианта на черный рынок, где его всеми правдами и неправдами приобретало местное население (кое-кто из американских снабженцев неплохо нажился), а во-вторых, вмешательство американцев итальянского происхождения, которые с некоторым запозданием все же уговорили Вашингтон предотвратить массовый голод89.
Английское правительство тоже подвергало некоторые народы империи суровым лишениям, чтобы сохранить установленный в метрополии рацион питания (изначально, заметим, гораздо более высокий, чем у «туземцев»). В 1943 г. были прекращены поставки в регион Индийского океана – на то были разумные стратегические причины, но какую цену заплатило мирное население! Огромные тяготы выпали на долю Маврикия, а также некоторых стран Восточной Африки, где белые поселенцы наживали состояния на производстве сельскохозяйственных продуктов, эксплуатируя насильственно мобилизованных местных жителей и платя им гроши.
Голод в Бенгалии 1943–1944 гг., о котором речь еще предстоит, удостоился пренебрежительно равнодушного комментария английского премьер-министра. Уже в 1945 г., узнав, что англичане снарядили воздушную эскадрилью для снабжения Голландии, где начали есть луковицы тюльпанов, Уэйвелл, вице-король Индии, с горечью заметил: «Когда речь идет о голоде в Европе, на помощь голодающим приходят гораздо скорее»90. Греки тоже пострадали в результате организованной англичанами блокады захваченных Гитлером территорий: по меньшей мере полмиллиона человек умерло от голода. Черчилль, разумеется, был прав в том смысле, что пропустить транспорт в Грецию или в другие оккупированные страны значило бы сыграть на руку вермахту, но суть дела не меняется: союзники позаботились о том, чтобы обеспечить своему населению тот уровень жизни и благополучия, в котором они отказали другим, даже нациям, находившимся номинально под их управлением или покровительством.
3. Место женщины
Мобилизация женщин стала одним из ключевых социальных явлений войны. В особенно широких масштабах она происходила в СССР и Великобритании, хотя Адам Туз сумел доказать, что и Германия применяла женский труд более широко, чем прежде предполагалось. Японские традиции не допускали женщин на сколько-нибудь ответственные посты, но на заводах женщинам отводилась весьма существенная роль, а в 1944 г. они составляли не менее половины сельскохозяйственных работников страны. В довоенной Великобритании женский труд использовался отнюдь не в таких масштабах, как в Советском Союзе, но едва начали сказываться тяготы противостояния, женщины были мобилизованы, и многие обрели в пору войны смысл жизни, какого не находили в мирное время. Пятидесятипятилетняя мать Питера Бакстера работала в Министерстве снабжения, и сын писал: «Давно она так не наслаждалась каждым днем. У нее живой ум, и гораздо интереснее применить его к делу, нежели весь растрачивать на домашние обязанности. Мне кажется, как бы мама ни любила нас, детей, она была бы счастливее, если бы и в прежние годы могла делать карьеру, как женщины в России»91.
С другой стороны, для многих девушек производственная атмосфера, откровенно шовинистическая, с грубым мужским превосходством, оказалась отнюдь не столь благоприятной. Например, Розмари Мунен: «Знакомство с заводом стало для меня тяжелым потрясением. До того я работала парикмахером в салоне высокого класса в аристократическом районе города, была благовоспитанной и сдержанной девушкой, и внезапно погрузиться в этот мир дурно воспитанных, невежественных мужчин и женщин, с их разнузданной руганью, стало опытом жестоким и почти ирреальным»92. Бригадир, к которому подвели Мунен, пренебрежительно сунул ей в руки швабру: «На, держи! Вылижи тут все!»
«Так унизить меня перед всеми девочками! Вернувшись через полчаса, он застал меня праздно сидящей на ящике. В ярости бригадир спросил, какого-такого-сякого я тут делаю? Собравшись с духом, я возразила, что пока он не соизволит показать мне мою работу, которая должна иметь отношение к помощи армии и обороне, я намерена сидеть там, где сижу. Несколько опешив, он обрушил на меня поток омерзительной брани, обозвав меня самыми подлыми словами, какие только есть в языке. Я была так возмущена, что, не размышляя, взмахнула рукой и отвесила ему сильную пощечину. Тогда он нехотя извинился, проводил меня к станку и показал, как управлять педалями, рукоятью и валиками. После смены, вернувшись домой, я долго еще горько плакала. Как выдержать эту атмосферу?»
Сара Бэринг, дочь пэра, до войны знала одно лишь занятие: танцевать на балах дебютанток. Теперь она сверлила металл на заводе, производившем авиадетали, и ненавидела каждую минуту этой работы: «Душное помещение, неописуемо скверная еда, сырой пол, ноги промокали даже в тех деревянных сабо, которые мы носили, придирки профсоюзного лидера, трусливого, как блоха, грубость и давление управляющего… Мне пришлось взять дополнительный выходной и пролежать день в постели, чтобы излечиться от тяжелой усталости»93. Бэринг повезло: благодаря хорошему знанию немецкого языка она добилась перевода в Блетчли-парк.
Каждая страна старалась превознести и облагородить роль женщин, трудящихся во имя победы, и таким образом стимулировать добровольцев. В 1942 г. в США приобрела популярность песенка Редда Эванса и Джона Лёба:
День напролет, В дождь и гололед Она стоит у станка. Делает историю, Трудясь ради виктории, Рози-клепальщица.Прототипом Клепальщицы Рози, кумира американских феминисток, послужила двадцатидвухлетняя Роуз Уилл Монро из Кентукки. Как и миллионы ее соотечественниц, Роуз работала на оборону – на сборочном конвейере B-24 и B-29 возле Ипсиланти в штате Мичиган. Ее сняли в пропагандистском фильме, и в мае 1943 г. Норман Рокуэлл нарисовал знаменитый портрет Клепальщицы Рози, который разместили на обложке Saturday Evening Post (моделью послужила телефонистка из Арлингтона, штат Виргиния). К 1944 г. на заводах трудилось 20 млн американок – на 56 % больше, чем в 1940 г. Борьба за равноправие чернокожего населения Штатов, которая до тех пор шла весьма вяло, также усилилась благодаря появлению на заводах афроамериканок, трудившихся бок о бок с белыми. Все работавшие женщины получали намного меньше своих коллег: средний заработок составлял $31,50 в неделю, a у мужчины – $54,65. Работали женщины и в доках, откуда вышел другой пропагандистский образ: Сварщицы Венди, прототипом которой стала Дженет Дойл с калифорнийской верфи Либерти в Ричмонде, принадлежавшей Джону Кайзеру. Последовала этому примеру и Канада, прославившая Ронни – Сборщицу Пулеметов.
Неверно было бы представлять роль Рози в романтическом свете: на производстве по-прежнему безраздельно господствовали мужчины, и первое поколение трудящихся женщин попадало в чрезвычайно тяжелые условия. Перед заводом Форда в Уиллоу Ран вырос обширный и уродливый парк трейлеров. Некоторые рабочие предпочитали каждый день ездить за 100 км, лишь бы не жить в этих бараках. Зарплата была достаточно высокой, но мысль о «восьмичасовых сиротах», то есть детях, остававшихся на весь день без присмотра, вызывала немалую общественную озабоченность. Обнаружилось, что малышей порой запирали в машинах на парковке у завода. К тому же этим новонабранным работницам требовалось время, чтобы приобрести навыки. Многие «Рози» оказались неумелыми и некомпетентными (впрочем, как и их коллеги мужского пола), и это сказывалось на конструкции сооружаемых ими кораблей. Также и огромные усилия, вкладывавшиеся в сельское хозяйство по обе стороны Атлантики, порой шли прахом из-за неверных логистических решений и общего непрофессионализма. В апреле 1942 г. Мюриэль Грин, работавшая на юге Англии в коммерческом огороде, мрачно комментировала провал почти всех своих попыток вырастить овощи на продажу: «Мне кажется, так в этой стране обстоит дело со всем: никто толком не старается и нигде нет результата»94.
В России женщинам и на фронте, и на заводах приходилось намного тяжелее. Корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман описывал в дневнике отчаянные усилия московских домохозяек избежать мобилизации на завод. До лета 1942 г. от этой повинности освобождали матерей, чьи дети не достигли восьмилетнего возраста, но затем стали брать тех, у кого дети были старше четырех лет. Женщины искали любую бумажную работу, только бы не на автозаводе ЗИС. Бронтману запомнилось, как одна из привилегированных дам сделалась «копытами»: чтобы избежать более тяжелого труда, нанялась в московский театр изображать топот копыт во время спектакля, посвященного подвигам советской кавалерии95. Более 800 000 советских женщин служили в армии Сталина. Для кого-то, в том числе для 92 героев Советского Союза, это был воодушевляющий опыт. Прославилось женское подразделение советских ВВС, члены которого сами себя прозвали «кроликами», увековечив событие первых месяцев войны, когда они с голодухи объелись в тренировочном лагере сырой капусты. Уже под Ленинградом и Севастополем появились женщины-снайперы, а в 1943 г. снайперские курсы начали массовый выпуск женщин. Они оказались лучшими стрелками, потому что хорошо контролировали дыхание, и сыграли существенную роль на последних этапах войны (хотя, вопреки легенде, их участие в Сталинградском сражении не было особенно заметным). Но для многих женщин соприкосновение с войной и смертью стало тягчайшем испытанием. Николай Никулин на Ленинградском фронте наблюдал такую сцену: часовой, раненный осколком снаряда, корчится в муках, «рядом с ним девчушка-санинструктор. Ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней не мытому лицу. Руки дрожат, растерялась… Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре и еще находит силы утешать и уговаривать девицу: “Дочка, не бойся, не плачь!..”»96 Никулин сухо подытоживает: «Не женское это дело – война». Многие женщины в форме подвергались сексуальным наглым домогательствам. Капитан Павел Коваленко однажды записал: «Я наведался в танковый полк. Командир подразделения напился по случаю получения очередного звания подполковника и дрых без задних ног. Меня поразил вид угревшейся под его боком женской фигуры, его ППЖ, как выяснилось»97. Походно-полевые жены сделались распространенным явлением в русской армии, но лишь малая часть их была в итоге осчастливлена обручальным кольцом. «Но ППЖ – это наш великий грех»98, – писал Василий Гроссман, возмущенный этим обыденным явлением: фактическим принуждением к сожительству. Забеременевшие – нарочно или случайно – подлежали демобилизации. Единственная поблажка слабому полу: им выдавалось чуть больше мыла.
А женщины, оставшиеся одни, без мужчин, работать в полях и на заводах, хронически голодали и при этом вынуждены были выполнять физически непосильные обязанности. Грыжа – обычная награда для тех, кто ежедневно поднимал тяжести или впрягался в плуг вместо издохших быков. В мрачные дни августа 1942 г. Гроссман размышлял: «В деревнях бабье царство. На тракторе, в сельсовете, на охране колхозных амбаров, на конном дворе, в очереди за водкой. Девушки подвыпившие, с гармошкой, ходят с песней – провожают подружку в армию. На женщину навалилась огромная тяжесть труда… Женщина – доминанта. Она приняла на себя огромный труд, и на фронт идут хлеб, самолеты, оружие, припасы. Она нас теперь кормит, она нас вооружает. А мы, мужчины, делаем вторую половину дела – воюем. И воюем плохо. Мы отступили до Волги. Женщина молчит, но нет в ней укора, нет у нее горького слова. Или затаила? Или понимает она, как страшна тяжесть войны, пусть и неудачной войны»99.
Валентина Бекбулатова писала сыну на фронт, откровенно рассказывая о горестной судьбе родных: «Дорогой Вова! Деньги получила, не нужно было тебе беспокоиться, ведь нашу нужду этим не покроешь, а себя лишаешь хоть небольшой поддержки. За этот месяц я получила 26 рублей – отсюда видишь наше положение. На рынке покупать что-либо… не приходится. Ждем, скорее бы молока, тогда бы еще вздохнули… Недавно был дядя Пазюк, привез кое-что из хозяйственных вещей, находящихся у них, и для обмена муки. Тетя Никольская проводила в РККА трех своих сыновей – Егора, Алексея и Александра. Алексей уже был в бою, а Егор на Дальнем Востоке – болел, а от Александра пока нет писем»100.
Евдокия Калиниченко, санинструктор, демобилизованная после ранения в ногу, вернулась в университет, где раньше училась, который успел эвакуироваться в Казахстан. Оттуда она писала родным, рисуя одну из картин всеобщей трагедии ее народа:
«Порой мне кажется, что наш университет приютил всех беспризорных и бездомных (ох, я не смогу отправить это письмо!) [то есть она опасалась цензуры, но письмо в итоге все же отправила]. Шура побывала на фронте. Уж не знаю, вышла ли она там замуж, но вернулась с ребенком. Ах, Маюша, ты себе не представляешь, как тут смотрят на таких девушек и как тяжело им приходится. Она немного старше меня, когда война началась, она заканчивала второй курс. У нее нет ни друзей, ни знакомых, ничего, кроме университета. Ее приняли снова на третий курс и выделили место в общежитие. Ребенку ее четыре месяца, девчонка плачет днем и ночью. Ей нужны сухие пеленки, а у Шуры нет ничего сверх того, что на самой надето. Ее нужно мыть, а вода в комнате замерзает. Мы тащим домой любую щепку, какую сумеем найти. Вчера по пути домой я заприметила большую доску. Это была афиша театра, большие красные буквы на черном фоне: “Отелло”. Значит, ближайшие пару дней Шура сможет разворачивать малышку и сушить ее пеленки… Дуся, моя тезка, помогает Шуре во всем. Она тоже студентка, хотя ей, должно быть, под сорок. Если б не она, малышка давно бы умерла от голода и холода. Тетя Дуся работает грузчиком в пекарне и потихоньку выносит в карманах толику муки. Шура варит из нее затируху, ест сама и кормит дочку. Говорят, у самой Дуси дети погибли под бомбами. Она ни с кем не разговаривает, высохшая вся, черная, одевается по-мужски и курит махорку.
Лишь четвертую часть среди нас составляют мужчины, и те инвалиды. Почему-то чаще всего ранение приходится в ногу, и ноги отрезают. Каждый второй мужчина тут безногий. Зачастую ампутируют очень высоко. Петя, который сидит на занятиях рядом со мной, лишился обеих ног, у него протезы. Передвигается с трудом. Никак не привыкнет к протезам, и в целом слаб. Лицо у него приятное, застенчивое, глаза синие-синие. У него мягкий голос. Как же он командовал взводом? Когда хлебный паек запаздывает на два-три дня, Пете становится совсем трудно двигаться. Лицо у него серое, скулы выступают резче, глаза выцветают. Когда мы устаем, натаскавшись дров и напилив их, Петя шутит, пытается развеселить меня и другую девушку рядом. Рассказы у него не такие уж забавные, но мы смеемся.
Проклятая война!.. Вокруг одни инвалиды. Самым несчастным кажется мне капитан, сапер. У него нет лица, ужасная синяя, лиловая с зеленым маска. К счастью, он ослеп и самого себя не видит. Говорят, до войны это был красивый мужчина. Он и сейчас высок, строен, изящен. Мы думаем: если бы у него был сын, он бы возродился в нем и все бы увидели, каким он был прежде. Только бы проклятая война закончилась наконец! Калечат, убивают самых лучших. Надо быть очень сильными, чтобы выдержать это»101.
Среди соучеников Евдокии был юноша Витя, некогда красавец, а теперь ожесточившийся калека без ноги. Она писала, что этот юноша «закаменел». Он отказывался видеться с родными, даже с матерью, хотя писал им письма. В одном письме Витя описывал, как учится кататься на велосипеде: «Я толкаю педаль одной ногой и вполне управляюсь. Улицы пустынны, повсюду разрушенные дома, пустые оболочки. Вечера в городском парке невыносимо напоминают мирное время, играет даже музыка. Множество девушек, сплошь блондинки, наши офицеры развлекаются с ними, как будто и нет войны. Этих девах прозвали немецкими овчарками, потому что им все равно, с русскими иметь дело или с немцами. Я одной из них так и заявил, а она ответила: “Ревнуешь? Найдется кто-нибудь и для тебя, убогий, но не такая красотка”. Я швырнул в нее костылем»102.
В любой сражавшейся армии можно было увидеть женщин-санитарок, и эту роль многие считали наиболее для себя подходящей. Дороти Биверс в 1942 г. исполнилось 22 года. Ее отец был мелким фермером, мать разъезжала не на автомобиле, а в телеге, дома не имелось телефона. Дороти работала в небольшой местной больнице, и однажды она спросила отца, не записаться ли ей в медицинские войска. Два ее брата уже ушли на действительную службу, и отец, подумав, сказал: «Может быть, тебе стоит отправиться туда и присмотреть за ними»103. В Англии накануне отплытия во Францию в июне 1944 г. Дороти вышла замуж за врача и на «пляж Юты» высадилась, все еще сжимая в руках свадебный букет. «Это моя работа», – говорила она впоследствии, но и для нее страшным потрясением стали первые раненые, восемнадцати– и девятнадцатилетние мальчишки, лишившиеся не только конечностей, но и половых органов или с изувеченным тазом. Лейтенант медицинской службы Биверс и многие такие же, как она, вовсе не искали славы, но их согревало признание соотечественников, а уж когда в местном Ohio State Journal появилась небольшая заметка и фотография лейтенанта Биверс, Дороти была в восторге.
К непосредственному участию в боях женщин допускали только русские и югославские партизаны. Англичане отрядили небольшое число женщин – агентов разведки, которые действовали на вражеской территории по указаниям спецуправления; женщины также выполняли существенные административные и тыловые функции как в армиях союзников, так и в армиях оси. Офицеры старшего возраста, появившиеся на свет еще в XIX в., относились к своим подчиненным женского пола со снисходительным высокомерием. У советских командиров могло быть по этому поводу собственное мнение, но руководители союзных армий весьма сожалели о вторжении в служебные отношения сексуальных соблазнов и сопутствующих им конфликтов, реальных или потенциальных. Нимиц в Пёрл-Харборе категорически отказывался принимать женщин на службу. Сэр Артур Харрис, командовавший бомбардировщиками, говаривал: «По моему мнению, женщина, надевшая униформу, должна быть либо так красива, чтобы не опасаться соперничества со стороны других женщин, либо так стара или уродлива, чтобы не думать о соперничестве»104.
Английские ВВС приняли на службу некоторое количество женщин, владевших немецким языком, и поручили им прослушивать вражеские радиопереговоры. Большинство женщин выполняло эту миссию охотно, однако в некоторых заговорили свойственные их полу предрассудки. Так, к вице-маршалу авиации Эдварду Эддисону, который возглавлял группу электронной контрразведки ВВС, явилась с протестом одна из таких служащих (ее отец до войны торговал в Гамбурге): она-де не может слушать разговоры пилотов люфтваффе, вылетающих на ночные задания, поскольку по радиоволнам разносятся смущающие ее непристойности105. Но большинство женщин не отличались подобной щепетильностью. Трудясь бок о бок с мужчинами на фронте, в тылу, в различных отраслях обороны, они привыкли и к военной дисциплине, и к тяготам этой жизни. Пилот ВВС Кен Оуэн опровергал сентиментальные стереотипы насчет отношений между боевыми экипажами и женщинами, обслуживавшими самолеты на земле: «Чушь все это, будто они машут платочками нам вслед и так далее. Они тоже закоснели и воспринимали все равнодушно, как и мы»106.
Некоторые девушки приветствовали войну так же, как восторженные юноши: словно приключение, придавшее смысл повседневной рутине. Немецкая аристократка Элеонора фон Йост вспоминала: «Я была молода, это затягивало. Я думала: “Вот настоящая жизнь”»107. После того как девятнадцатилетняя Элеонора приняла участие в трагическом массовом исходе 1945 г. гражданского населения из Восточной Пруссии, ее мать иронизировала: «Дочка даже от этого ухитрилась получить удовольствие». Существенно изменилось отношение к внебрачному сексу. В каждой сражавшейся нации находилось немало женщин, которые чувствовали желание и даже обязанность «вознаградить» ежечасно рискующих жизнью мужчин. Мюриэль Грин, служившая на британском аэродроме, однажды записала в дневник о пробудившейся у нее склонности к французу из канадского подкрепления: «Я почти влюблена! Или это влюбленность в саму идею любви? О, быть такой молодой, такой глупой! Как подымает дух любовь в военную пору! Он одинок, одинока и я. Мы оба оказались вдали от дома и друзей. Не помню, обещала ли я поехать с ним вместе в Канаду или нет? В любом случае я стану его другом. Война все спишет»108. Несколько дней спустя она писала о том, как против воли разрешила шотландскому солдату поцеловать ее перед отплытием за море: «Я не очень-то хотела целоваться с ним, но они отбывают… и я могу оказаться последней девушкой, кого он поцелует на родине, а то и вовсе последней в его жизни. Благослови его Бог! Он такой милый, его не должны убить»109.
Мисс Грин, двадцати двух лет, в начале войны чувствовала себя глубоко несчастной, как явствует из приводимых выше цитат, но позднее нашла в этой поре и радости и среди них в первую очередь любовь. 1944 г. она запомнила как «счастливейший в моей жизни. Отличное здоровье, прекрасные друзья, хорошие условия работы и вдоволь денег (вот только купить нечего). Мы весело проводили время. Война все еще шла, оставляя на душе шрамы, но я оказалась одной из счастливиц, кого война почти не задела110…Жизнь в общежитии превратила многих девушек во временных жен: порядочных холостяков почти не осталось. Мы говорим: “Война все спишет” – и наслаждаемся жизнью, как можем, что в здешних местах означает: спим с чужими мужьями»111.
Вот и оборотная сторона медали: мужчины, служившие за морем, беспокоились, хранят ли жены им верность. Сержант Гарольд Феннема писал из Европы жене в Висконсин: «Дорогая, я слишком часто слышу от товарищей о том, как в очередном письме из дома им пишут о знакомой женщине, которая родила ребенка, хотя ее муж сражается здесь уже больше года. Больше всего тревог причиняет ребятам мысль об измене»112. И служивший в Красной армии капитан Павел Коваленко пишет в июле 1943 г. примерно о том же: «Война перетряхнула все семейные ценности. Все пошло к чертям. Живут сегодняшним днем. Много нужно силы и терпения, чтобы противостоять искушению и не замараться. Мне приходится бороться: брак для меня священен»113.
Далеко не все воины в долгой разлуке с любимыми соблюдали столь строгие правила чести и воздерживались от сексуальных соблазнов. А что до солдатских жен и дочерей – если, оказавшись на оккупированной территории, они добровольно или под угрозами уступали домогательствам завоевателей, их почти неизбежно ожидали всеобщее презрение, а то и расправа, когда пробил час освобождения. Так что пока часть женщин привыкала к новым возможностям, обязанностям, преимуществам гражданской и личной свободы, другие тяжко страдали, подвергались эксплуатации и унижениям. Жена прятавшегося от армии итальянца описывала ужасы повседневного существования в 1943 г. (в довершение беды она была беременна, и у нее уже были дети): «Порой я стояла в очереди с семи утра до трех часов дня. Приходилось брать с собой обоих малышей. Я отыскала лавочку, где продавали кровяную колбасу: на мой вкус она отвратительна, но малышка ела ее охотно. На обеих ногах появились язвы, как мне сказали, от недостатка витаминов. Муж жить не мог без сигарет, пришлось найти табачную лавочку, где их продавали из-под полы. Когда я, измученная, возвращалась домой, мужу не терпелось заняться со мной сексом. Он наскакивал на меня, не дав мне даже распаковать сумку, а если я упиралась, кричал, что я обзавелась любовником»114. Часть молодых солдат находила удовлетворение в самих военных приключениях, в этом испытании мужества, но для большинства женщин подобные радости недоступны, они видели только ужасы и несчастья войны. И хотя во многих странах благодаря войне женщины получили намного больше прав и свобод, в мире, где господствовала грубая сила, заметно усилилась и эксплуатация женщин, прежде всего сексуальная.
14. События в африке
Даже после того как Соединенные Штаты отправили в Средиземноморье свои войска, на конец 1942 г. общая численность союзных войск, участвовавших в наземных операциях против немцев и итальянцев, составляла всего 16 дивизий. Критическим фактором в борьбе против Гитлера стало в тот год спасение России, а затем ее мощное сопротивление; в качестве второго существенного фактора можно указать резко возросший объем производства оружия в США. На земле, на воде и на море союзные войска получали плоды этого поразительного промышленного рывка: танки и самолеты поступали на театры боевых действий в беспрецедентных количествах. Америка построила за 1942 г. без малого 48 000 самолетов и 25 000 танков, в то время как Германия всего 15 400 самолетов и 9200 танков. В 1939 г. на военный флот США работало всего 29 верфей, а к 1942 г. их было 322. Ко дню Победы здесь будет произведено более 100 000 больших и малых судов для военного флота США и Канады.
С этой поры и до конца войны операции союзников в значительной мере определялись необходимостью снабжать по морю свои армии, закрепившиеся под огнем на вражеских берегах – как на Тихом океане, так и на европейских фронтах. С этой целью строилось огромное количество специализированных судов с небольшой осадкой. Пример подали англичане, создав LST (Landing Ships Tank – судно для высадки танков), способное преодолеть океан и через люк в носу высадить двадцать танков и до сотни других машин. Американцы предпочли модель, превышавшую габаритами большинство эсминцев (2286 тонн), и к концу войны построили 1573 таких судна. За постройку судов меньшего тоннажа отвечал в основном живописный грубиян и выпивоха из Нового Орлеана Эндрю Хиггинс, сам себя именовавший «мастером десантного флота». Он родился в Небраске в 1886 г., а в 1938 г. предложил корпусу морской пехоты свой первый проект Eureka. Основные характеристики судна были заложены десятью годами ранее: строившиеся Хиггинсом суда небольшого радиуса плавания пользовались спросом у контрабандистов, налоговых инспекторов, бурильщиков и трапперов – двигатель прятался в полутуннель, а нос «клювом» позволял судну втыкаться в берег и столь же легко вновь выходить на морской или речной простор. Единственный недостаток: высадка экипажа производилась через борт. А потом Хиггинсу показали фотографию судна, которым японцы пользовались в Китае: с пандусом на носу. Он тут же позвонил главному инженеру и распорядился изготовить модель, которая месяцем позже успешно прошла испытания на озере Понтшартрен. Хиггинс получил огромный заказ на свои LCVP (Landing Craft Vehicle, Personnel – суда для высадки машин и персонала). Население Нового Орлеана выросло в 1942 г. на 20 % в основном за счет работников, строивших эти суда. Общая сумма заказа составила $700 млн. Хиггинс стал легендой военной промышленности: он поставил без малого 20 000 судов. Но в финансах смыслил мало, и вскоре после победы его компания обанкротилась.
Попытки высадить десант под обстрелом в Северной Африке показали высокую степень уязвимости деревянных судов. Перешли на стальные модели, большую часть которых собирал во Флориде производитель сельскохозяйственной техники. С 1943 по 1945 г. на этих судах были доставлены на различные фронты миллионы солдат и десятки тысяч единиц транспорта. Всего американцы построили 42 000 малых судов, англичане – 3000, американцы также произвели 22 000 DUKW (прозванных «утками») – грузовиков-амфибий и танков-амфибий. Но даже столь огромный «флот аллигаторов», как называли эти суда американцы, не мог полностью удовлетворить все потребности. Только для высадки в День «Д» понадобилось 2470 малых судов.
Недостаток десантных судов постоянно сковывал стратегическую инициативу союзников, и Черчилль жаловался на зависимость Великобритании от американской щедрости. Ни одна десантная операция не могла быть проведена без помощи Вашингтона. Также и другие виды оружия англичане во все больших объемах получали по ленд-лизу. Собственное производство танков в Англии сократилось с 8600 в 1942 г. до 4600 в 1944 г., артиллерийских орудий – с 43 000 до 16 000. Под конец США производили 47 % всех состоявших на вооружении Британской империи бронемашин, 21 % личного оружия, 38 % десантных судов и транспорта, 18 % боевых самолетов и 60 % транспортных самолетов. При этом военное производство в Америке достигло такого размаха, что эти поставки составляли всего 11,5 % общего объема продукции США за 1943–1944 гг.: 13,5 % самолетов, 5 % продуктов, 8,8 % личного оружия и боеприпасов. Британская же промышленность сосредотачивалась главным образом на тяжелых бомбардировщиках. На стратегический воздушный флот уходило до трети ВВП; неудивительно, что англичане столь напряженно следили за всеми удачами и провалами этого рода войск.
После Пёрл-Харбора понадобился промежуток в 30 месяцев (почти половина всей растянувшейся на 71 месяц войны), прежде чем военная и промышленная мобилизация Америки материализовалась в виде крупных сухопутных армий, развернувшихся на европейских полях сражений (воздушные и морские силы США вступили в бой с противником значительно раньше). Большинство американских солдат, высадившихся впоследствии на северо-западе Европы, наслаждались роскошью (или томились скукой) двухлетней подготовки, прежде чем приняли участие в боях: до 1944 г. на фронт попало весьма немного американских подразделений. В 1944 г. США направили большую часть морской пехоты и несколько армейских дивизий в Тихоокеанский регион, а также десятки тысяч солдат в Исландию и Северную Ирландию.
Американцы в больших количествах прибывали в Великобританию. Кое-кого умиляли странные обычаи старинных островов, но было немало и таких, кому казалось, что англичане не готовы ни к жизни в ХХ столетии, ни к ведению современной войны. «Англичане были к нам добры, особенно когда узнали нас поближе, – писал офицер бронетанковых войск Хейнс Дуган. – Устраивали симпатичные вечеринки, хотя еды было в обрез»1. Дуган навсегда запомнил одну такую встречу, на которой десантник-валлиец распевал гэльские песни. К изумлению американца, одна из присутствовавших на празднике женщин, за неимением ткани на платье, пошила себе наряд из занавесок. Он записывал: «Продавцы твердят одно: это не входит в рацион, приятель, неоткуда взять!»
Летчик из Канзаса Боб Рэймонд добрался до Великобритании и служил там сначала в английских ВВС, а потом в американских. В мае 1942 г. он писал домой: «Здесь так сильна власть традиции и прецедента, что всякая политическая, деловая, религиозная и прочая мысль давно остановилась. Таких экономически отсталых людей еще поискать. Отвергаются любые сберегающие время и труд машины, простые и прямые методы управления. Сплошные чаепития, с пятницы до понедельника выходные, праздники и т. д.»2. Опрос общественного мнения, проведенный правительством США 25 марта 1942 г., показал: «Американцы больше доверяют военным усилиям русских, чем британцев; они считают, что русские лучше используют наши поставки по ленд-лизу»3. Оценка военных действий англичан резко снижается после падения Сингапура. Сами англичане прекрасно понимали, как к ним относятся их союзники. «Американцы видят в нас постепенно вырождающуюся нацию, – утверждал отчет Военного министерства от января 1943 г. – Нацию высокомерных, неприветливых, нелюбезных людей, живущих по старинке, цепляющихся за воспоминания о величии, которому мы уже не можем соответствовать, поскольку ведем дело старыми, неэффективными методами. Не стоит тешить себя мыслью, будто мы сеем семена дружбы в чистую почву: там уже дремлют сорняки недоверия и неприязни»4.
На всем протяжении 1942 г. Великобритания продолжала беспощадную войну на море за сохранение своих дальних линий снабжения. Постепенно набирали силу и налеты ВВС на Германию, к английским эскадрильям бомбардировщиков присоединилось и несколько американских. На бирманской границе японцам противостояла слабая армия, состоявшая по большей части из уроженцев Индии. Американские начальники штабов рвались как можно скорее высадиться во Франции, но предлагали лишь символическое участие небольшого отряда своих соотечественников в этом обреченном предприятии, на которое призывали бросить как можно больше английских солдат. Черчилль категорически отверг эту идею и убедил Рузвельта поставить более реалистичную цель: обеспечить западным союзникам превосходство в Средиземноморье. Северная Африка, таким образом, оставалась единственным театром войны, на котором существенные английские силы бились с войсками оси. В пустыне Восьмая армия готовилась к новому прорыву в те дикие места, к которым ни та, ни другая сторона не питала ни малейшей эмоциональной привязанности. Английский офицер Кит Дуглас писал:
«Богатые и могущественные люди, которые затевают войны… имеют на это столько причин, что могли бы поделиться и с нами. Они-то понятно чего хотят: осуществляют какие-то собственные желания или прихоти своих правительств, а нас используют как орудия, чтобы получить желаемое. Поразительное зрелище: тысячи солдат, среди которых почти никто не знает толком, за что сражается, терпят лишения, живут в неестественных, опасных, хотя не скажу, чтобы в совершенно невыносимых условиях, убивают и идут на смерть, причем в перерывах между боями чувствуют скорее дружеское расположение к тем, кого убивают и кто убивает их, поскольку тем приходится переносить такие же испытания»5.
Ни Черчилль, ни его народ не ставили под сомнение принципиальную важность событий в России, однако для самоуважения британцев операции в Северной Африке значили ничуть не меньше. Зимой 1942/43 г. появилась также возможность весьма существенная, и от нее никак не следовало отказываться, – обеспечить нескольким американским подразделениям опыт боевых действий, а заодно сбить спесь с их генералов. В предшествующий год казалось маловероятным, чтобы англичане сумели удержать хотя бы Египет. Член палаты общин Гарольд Николсон писал: «Ходят слухи, что наши ребята не так уж доблестно сражаются… Не выдерживают. Но ведь точно такие же англичане плавают на торговых судах и выиграли Битву за Британию. В нашей армии мораль никуда не годится»6. Черчилль провел секретное заседание палаты общин и вынес на обсуждение кампанию в пустыне: «Действия наших сухопутных подразделений… не соответствуют ни былому, ни нынешнему духу войска в целом»7. После бесславной капитуляции Тобрука 21 июня Окинлек сместил своего полевого командующего Ричи и сам возглавил Восьмую армию. Но под конец месяца, потерпев поражение под Матрухом, разбитые полки вновь отступили – вплоть до линии Эль-Аламейн, уже внутри Египта.
Это были тяжелые времена для Англии. Все понимали, что командование войсками в пустыне и стратегические операции начала 1942 г. были ниже всякой критики, сражения за Газалу показали полную беспомощность военного руководства. Падал боевой дух. Обе стороны считали вполне вероятным захват Каира и переход всего Египта в руки Роммеля. Стратегические последствия такого поражения были бы не очень значительны, поскольку страны оси не располагали ресурсами, чтобы развить преимущество, но это означало бы серьезный удар для престижа Британии, и без того сильно пострадавшего. Египет был охвачен паникой; Средиземноморский флот ВМФ Британии спешно эвакуировался из Александрии. Лейтенант Пьетро Остеллино восторженно писал об этих событиях своей жене 2 июля 1942 г. Его слова вполне отражают еще сохранившиеся у части итальянских фашистов надежды добиться перевеса на поле боя: «Дела идут все лучше и лучше. Как ты знаешь из радиопередач и газет, англичане с союзниками получили тут такую трепку, что больше и головы не подымут. Поделом! Наши солдаты просто замечательные! Теперь-то мы непременно победим»8.
Того же мнения придерживался и Вашингтон. Руководство американской армии было уверено и сохраняло это убеждение до поздней осени, что кампания проиграна, что Восьмая армия не может тягаться с немецким Африканским корпусом, который будет неуклонно прорываться вперед и овладеет дельтой Нила. В июле английские жители Каира предавались унынию, а туземцы уже позволяли себе откровенно торжествовать. В печально знаменитый день – «Пепельную среду» – в штабе командования на Ближнем Востоке жгли секретные документы, а членов семей чиновников и военнослужащих переправляли в Палестину. К стыду властей, управлявших этой подмандатной территорией, нескольким сотням евреев, которые бежали из Египта (среди них были и люди, работавшие на англичан), отказали в визе. Чиновники не сочли возможным превысить иммиграционные квоты.
И все же положение англичан было не так худо, как они сами считали. Даже в оккупированной Европе находились гражданские лица, которые на основании скудных и лживых сообщений в выпускавшихся нацистами сводках делали более проницательные выводы, чем солдаты союзников непосредственно на поле битвы. Виктор Клемперер, дрезденский еврей и автор знаменитого дневника, 8 июля 1942 г. писал: «Преувеличения Англии и России я оцениваю в 100 %, Геббельса и Ко – в 200 %… В России Гитлер уничтожает себя каждой своей победой; в Египте он мог взять верх, однако… Роммель, по-видимому, застрял перед Александрией»9. Клемперер оказался прав: Роммель попал в незавидное положение. Армия оси, уступавшая численностью своему противнику, целиком зависела от растянувшейся на 2500 км линии снабжения. Поставки топлива и боеприпасов из Германии всегда были недостаточными. Руководствуясь данными Ultra, ВВС и ВМФ Великобритании наносили все более ощутимые удары по транспорту, переправлявшему через Средиземное море топливо, танки и снаряжение.
Английские ВВС в Северной Африке пополняли свой состав, а силы люфтваффе слабели. На вооружение Восьмой армии начали поступать американские танки Grant, практически равные по боевым качествам бронемашинам Роммеля. Со стратегической точки зрения немцам следовало бы отступить на линию обороны в Ливию, упростив тем самым логистику своего снабжения и усложнив задачу снабжения для англичан. Какие бы иллюзии ни питали солдаты Роммеля, сил для завершающего удара по Александрии у них уже не было. Но тщеславие нередко побуждало Лиса пустыни превышать собственные возможности, а Гитлер требовал от Африканского корпуса решительных действий с еще большей агрессивностью, чем Черчилль – от своей армии.
Окинлек без особых усилий мог сорвать планы командующих оси: для этого достаточно было удерживать свои позиции. В ноябре предстояла высадка американских и британских сил на другом конце Северной Африки – операция Torch, – а потому Восьмой армии не имело смысла идти на риск. Стоило союзникам закрепиться в Марокко, Алжире и Тунисе, и Роммель уже не смог бы зацепиться в Африке. Но с приближением осени появились сомнения, будет ли операция Torch успешной. Особенно тревожился по этому поводу Вашингтон. Для британцев это опять же был вопрос национального престижа. С 1939 г. армии Черчилля терпели поражение за поражением, зачастую унизительные, от меньших по численности сил противника. Страна теряла уверенность в себе. Народ все острее чувствовал контраст между героической борьбой русских и собственными жалкими результатами на поле боя. Англии срочно требовалась победа, а в тот момент одержать верх над противником британцы могли только в пустыне. В общем ходе войны судьба Африканского корпуса не играла особой роли, но для боевого духа народа ее значение казалось первостепенным, и так понимал ситуацию премьер-министр.
1 июля, когда немцы вновь пошли в атаку, их нападение было отражено, и эта битва получила затем название Первой битвы при Эль-Аламейне. В последующих столкновениях ни одной стороне не удавалось добиться перевеса. Но важнее было другое: Роммель не сумел прорваться. Впрочем, учитывая соотношение сил, а также тот факт, что западные союзники заранее в подробностях представляли себе план действия противника, позволить ему прорваться было бы в самом деле постыдно. В первые дни августа Черчилль приехал в Каир вместе с Аланом Бруком, чтобы воочию оценить ситуацию. Он уволил Окинлека и вместо него поставил во главе Восьмой армии рекомендованного Бруком генерал-лейтенанта Бернарда Монтгомери, а на должность главнокомандующего войсками на Ближнем Востоке назначил сэра Гарольда Александера. Месяц спустя, 30 августа, Роммель атаковал у Алам Халфа. Монтгомери, заранее предупрежденный разведкой о намерениях Роммеля, отразил нападение. Затем он начал готовить британские войска к контратаке. Он мог рассчитывать на два существенных фактора: вот-вот должны были прибыть крупные танковые подкрепления из США, а воздушные силы союзников и без того господствовали над пустыней.
Заметно возрос и объем добываемой Ultra информацией, разведданные начали играть ключевую роль на всех театрах войны. Расшифровки радиопереговоров и прежде казались бесценными, особенно для войны на море, но не удавалось наладить бесперебойный их поток. Теперь же, с середины 1942 г. и далее лишь с небольшими перерывами, союзники перехватывали практически всю информацию противника: разгадав немецкие и японские коды, разведчики внесли огромный вклад в победу. И помимо великих заслуг английских и американских дешифровщиков сыграло роль и небольшое чудо: державы оси так всерьез и не заподозрили, что их самые секретные переговоры становятся известны врагу. Правда, не все важные разговоры удавалось подслушать: телефонные линии оси – средство связи, которым всегда предпочитали воспользоваться, если имелась такая возможность, – оставались неприкосновенными. Уровень анализа, а в особенности использования добытой информации, тоже в немалой степени зависел от прихоти командиров на местах и шефов разведки. Приведем пример из более позднего времени: в декабре 1944 г. Ultra зафиксировала скопление немецких танков в Арденнах, но руководители разведок и штабов не сделали из этого вывод о готовящемся контрнаступлении. Знать карты противника еще недостаточно для того, чтобы их побить. Разведданные не гарантируют успешного исхода при столкновении сухопутных армий или флотов, но данные Ultra о действиях противной стороны подробностью и точностью превосходили все разведданные в истории. Главный вклад в раскрытие кодов внесли три польских математика во главе с Марианом Режевски, который с 1932 по 1939 г. провел важнейший предварительный анализ: приобретя коммерческий вариант немецкой шифровальной машины Enigma, он разобрался в принципах ее работы. Полякам помогли французы, передавшие им в 1931 г. список кодов вермахта, полученных из немецкого источника. Хотя с 1943 по 1945 г. Режевски служил в польских частях в Англии, ему так и не поведали о богатых плодах, которые принесли его изыскания. В 1939 г. поляки передали англичанам и французам реконструкцию устройства Enigma, и уже со следующего года Британская школа кодов и шифров (British Code and Cypher School) в Блетчли-парке сумела разобрать некоторые немецкие и итальянские сообщения. Затем база данных специалистов в Блетчли-парке пополнилась благодаря захваченным в морском сражении Enigma и спискам кодов на месяц.
Словом Ultra союзники обозначали широкий набор расшифрованных кодов оси, которых к 1945 г. насчитывалось более 200. Некоторые шифры поддавались с трудом; в первую очередь удалось разгадать коды люфтваффе – уже к маю 1940 г., – затем армейские и флотские. В 1941 г. в Блетчли-парке расшифровывали значительный объем внутренних переговоров вермахта, и содержание этих переговоров передавалось командующим союзными войсками на места с отсрочкой не более шести часов. Но даже эта задержка была чересчур велика: разведданные не успевали учитывать при тактических маневрах во время сухопутных сражений. Стало ясно, что наиболее эффективно результаты расшифровок могут быть использованы в стратегических решениях, что и было сделано летом 1942 г. в ходе сражений при Эль-Аламейне.
Были налажены каналы передачи разведданных: на местах разворачивались подразделения спецсвязи, которые передавали информацию командирам, причем в задачи подразделений спецсвязи входила также обязанность соблюдать секретность и следить за тем, чтобы поспешные действия союзников не побудили немцев заподозрить, какими именно данными те располагают. Например, если дешифровщики устанавливали местоположение вражеских кораблей, по возможности перед нападением в то место посылался разведывательный самолет, чтобы замаскировать роль Ultra. С 1942 г. и далее Блетчли-парк превращался в крупное «производство» с 6000 служащих, живших в военном городке и круглосуточно посменно обрабатывавших информацию. Средоточием всей их деятельности был Colossus – электронная машина, во много раз ускорявшая просчет различных числовых комбинаций. Во главе команд дешифровщиков стояло несколько сотен блестящих ученых; почти все они были математиками и владели немецким языком. Наибольшим влиянием пользовались Алан Тьюринг, которого порой именуют отцом компьютерной эры, и Гордон Уэлчман. Им обоим было чуть за тридцать. В Блетчли-парке работали в основном молодые люди, которых порой соотечественники, не знавшие, разумеется, об их абсолютно засекреченной работе, попрекали неучастием в боевых действиях. Один из них получил даже письмо от директора своей школы, возмущенного бесчестьем, которое навлек на старинное учебное заведение такой «непатриотичный» выпускник.
Разумеется, представление о замыслах противника, которое удавалось получить благодаря Ultra, никогда не было стопроцентно полным и точным, однако его надежность многократно превышала пользу от любых сообщений разведчиков на местах – от «человеческой информации». Так, высадка в День «Д» планировалась союзниками в полной уверенности, что противник не подозревает ни об их намерениях, ни в особенности об урочном часе. Черчилль делился с Москвой кое-какой информацией Ultra, имевшей отношение к операциям на Восточном фронте. Официально о деятельности Блетчли-парка Сталина никогда не уведомляли, но Москва получала сведения от своих английских шпионов, которые постоянно передавали расшифровки своим кураторам из НКВД.
Полноценный обмен развединформацией между Англией и США установился лишь в 1943 г. Соединенные Штаты еще до войны взломали коды японской дипломатической переписки, но им так и не удалось достичь того уровня интеграции данных по всем службам, какого достигли англичане. Отчасти американцам помешало традиционное соперничество армии и флота. Американская армия вела собственные криптоаналитические работы в Арлингтон-холле (штат Виргиния), где постепенно скопилось 7000 сотрудников. Специалистов американского флота, размещенных в мрачном подземном бункере Четырнадцатого округа в Пёрл-Харборе, возглавлял коммандер Джозеф Рошфор, блестящий знаток японского языка, криптоаналитик, одаренный великолепной интуицией, – его догадки сыграли немалую роль в победе при Мидуэе. Сотрудникам Рошфора вскоре после начала войны удалось разгадать несколько сообщений, закодированных шифром японского флота JN-25, а в 1942 г. произошло несколько существенных прорывов в анализе разведданных, которые можно считать основным достижением Ultra в Тихоокеанском регионе. Но затем на протяжении нескольких месяцев новый вариант JN-25 ускользал от понимания Рошфора и его команды, в результате морская разведка вынуждена была полностью полагаться на береговых наблюдателей и анализ трафика. В 1943 г. американцы вновь взломали японский операционный код и обеспечили до конца войны непрерывный поток данных.
В разгадке японских армейских кодов в 1943 г. на равных приняли участие Блетчли-парк и Арлингтон-холл. В первую очередь поддались сообщения военных атташе. В 1944 г. были захвачены японские шифровальные книги, и весь массив военных переговоров врага сделался доступен для союзников. Если в январе того года в Арлингтон-холле сумели прочесть менее 2000 сообщений противника, то в марте число расшифрованных сообщений перевалило за 36 000, и новые разведданные, безусловно, отразились в стратегии Макартура на Новой Гвинее. Перехват японских переговоров временно застопорился на рубеже 1944–1945 гг. во время Филиппинской кампании, так как основные армейские коды изменились и криптоаналитики вновь растерялись. В целом можно сказать, что в Тихоокеанском регионе разведданными Ultra пользовался больше флот США, чем командующие сухопутными операциями. Сама по себе расшифровка кодов не облегчала задачу соединений, вынужденных атаковать сильно укрепленные позиции противника. Но совокупный вклад американских и британских криптоаналитиков в победу оказался больше, чем сравнимого по численности боевого подразделения в любую войну. Работа криптоаналитиков служит наилучшим примером того, как западные страны сумели творчески подключить наиболее одаренных граждан к общему делу войны и с максимальной пользой применить их таланты.
Осенью 1942 г. Черчилль со страстным нетерпением ожидал момента, когда британская армия перейдет в атаку, ведь как только осуществится задуманная операция Torch, все дальнейшие успехи и славу англичанам придется делить с американцами. На Александера и Монтгомери сильно давили из Лондона, однако хитрый командующий – тоже лис – упорно придерживался собственного графика. Холодный, резкий, профессиональный солдат, Монти твердо намеревался придать этой операции порядок и дисциплину, которых до сих пор действиям британских войск явно недоставало. Его нередко называют (и не совсем несправедливо) хорошим военачальником в духе Первой мировой войны: комфортнее всего он чувствовал себя, ограничиваясь конкретными четкими операциями. И он сумел овладеть положением за три месяца: с августа по октябрь 1942 г. он поразительным образом вдохнул в измочаленные пустыней войска новую уверенность. К тому же англичане получили подкрепление, и теперь перевес сил был на их стороне: 195 000 человек в составе Восьмой армии противостояли 104 000 немцев и итальянцев; против 489 танков англичане выставили 1029, у них было 750 самолетов, а у противника 675, наконец, англичане располагали гораздо большим количеством артиллерийских орудий.
Кит Дуглас, пробиравшийся через тылы Восьмой армии по пути в свой полк бронемашин, с восхищением наблюдал за тем, как люди и машины собираются в песках пустыни, готовясь к бою: «Грузовики, словно корабли, раздвигают носами гребни песка, поднимаясь и опускаясь вместе с ними. Облака пыли полностью скрывают из виду колеса, бесконечный поток машин раздробил песок в тончайшую пыль, субстанцию почти жидкую и липкую на ощупь, люди проваливаются в нее по колено. Лица покрыты белой маской из пыли, если не надеть очки, то внутри этой маски будут по-клоунски сверкать глаза».
По другую сторону горного хребта примерно в таком же ландшафте расположилась армия Роммеля, однако там настроение было гораздо сумрачнее. Основной контингент составляли не немцы, а итальянцы, и Витторио Валличелла убедительно передает охватившее его соотечественников отчаяние: «Мы торчим на бесплодной равнине Эль-Аламейна, усталые, голодные, без воды, грязные, нас заедают вши. Наш великий вождь [Муссолини] находится в 660 км от фронта и ярится, потому что мы не сумели отворить перед ним ворота Александрии…10 16 месяцев мы ведем такую жизнь, обходимся фляжкой воды (и то, если повезет), отданы на съедение блохам и вшам. Остается лишь надеяться, что упадет бомба и положит конец страданиям»11. Он упоминает самоубийство товарища – семнадцатое в его подразделении начиная с марта 1941 г. Английские ВВС бомбили без передышки. В один из таких налетов товарищи Валличеллы, не подумав, спрятались под грузовиком, и угодивший в машину снаряд прикончил их всех. Мечтавший о бомбе, которая положила бы конец его страданиям, Валличелла был всего лишь оглушен, несколько часов отсыпался в немецком полевом госпитале, а затем его снова отправили на передовую.
Система снабжения итальянской армии рухнула, итальянцы теперь полностью зависели от щедрости немцев. Африканский корпус выражал неудовольствие попрошайничеством «итальяшек», и пришлось Валличелле и его друзьям учиться искусству arrangiarsi, что в приблизительном переводе означает «выкручивайся, как знаешь»12. «Что с нами будет? – размышлял этот солдат. – Как можно сражаться вдалеке от баз, не имея никакой защиты от бомбежек? Не проходит и недели, чтобы колонну снабжения не обстреляли из пулеметов и не уничтожили вконец. Недостает воды, еды, оружия; боевой дух на нуле»13. Многие итальянцы питались только консервами. Через неделю такой жизни Валличелла писал: «Терпение лопается. Поставки и всегда были негодные, теперь их просто нет»14. Вместе с товарищами он рыскал по полю боя, мародерствовал, добывал еду и воду, сливал остатки топлива из бензобаков подбитых машин. Потери в его полку были чудовищные: «Наши молодые люди, при поддержке всего лишь минометов и нескольких пулеметов, вписали свою страницу в историю. Сотни юношей погибли за власть, которая не в состоянии хотя бы обеспечить их оружием для боя».
Тем временем на английской стороне, когда уже завязались бои за Эль-Аламейн, лейтенант Норман Крэг раздумывал о призвании молодого офицера: «Перед атакой страх охватывает всех. Расхожее мнение, будто существует два типа солдат – чувствительные, которые жестоко страдают, и лишенные воображения, которые преспокойно идут в бой, – обманчиво. Всем одинаково страшно, ведь особого воображения не требуется для того, чтобы предвидеть вероятность собственной гибели или увечья. Разве что кому-то лучше удается прятать свой страх. Офицеры не имеют права выражать свои чувства столь же открыто, как рядовые, им приходится притворяться. В большом сражении младший офицер никак не может управлять судьбой своего подразделения – все в руках богов. Роль офицера сугубо театральная, он обязан изображать бодрость и оптимизм, дабы сохранить иллюзию нормальности, будто бы ничего странного нет в тех ужасных делах, которые приходится совершать в бою. Только таким образом он может смягчить напряжение, заглушить панику и убедить своих солдат, что в конечном счете все обойдется. Про себя я дивился, как это они всем скопом не обратятся в бегство. Люди ворчали, смотрели угрюмо, но более ничего. Сержанты, видимо, говорили себе: “Раз офицер держится, придется и нам держаться, черт побери”. Рядовые смотрели на сержантов и говорили себе: “Пойдем, куда поведут нас проклятущие сержанты”. Тем и держится армия»15.
23 октября Монтгомери начал операцию Lightfoot, первую фазу второй битвы за Эль-Аламейн. Сражение продлилось 12 дней, а началось оно с тотальной бомбардировки. Витторио Валличелла болтал со знакомыми немцами, попивая трофейный чай, когда на головы им посыпались английские снаряды. «Я пережил немало налетов, но бомбардировки такой мощи нам не доводилось видеть. Задыхаясь в ядовитом дыму взрывов, мы смотрели, как языки пламени скачут по пустыне»16. Валличелла заполз в окоп к водителям, в компании других бедолаг все-таки было не так страшно. «Вместе мы справлялись со страхом». Ему запомнился инцидент, едва ли возможный в какой-либо другой армии, кроме войска Муссолини. Лейтенант приказал водителю складывать трупы в грузовик и везти их на временное кладбище возле полевого госпиталя. Солдат отказался. Офицер пригрозил ему пистолетом. В этот момент подъехал полковник, резко осадил лейтенанта и вырвал оружие из его рук. Обиженный молодой человек ударился в слезы. Валличелла с товарищами отвезли трупы в полевой госпиталь, там санитарки помогли им разгрузить тела, сказав солдатам, что в последние дни главная их работа заключалась в том, чтобы хоронить мертвецов в братских могилах, и даже бульдозеры для этой печальной работы приходилось одалживать у немцев.
С неделю войска оси отбивали атаки англичан. Черчилль в Лондоне уже дымился от ярости. Лейтенант Винченцо Формика описывает вспышку ликования в своем подразделении 1 ноября, когда итальянцам показалось, будто британцы готовы отказаться от попыток прорыва. Их осчастливило известие о больших потерях, якобы нанесенных немецкими танками бронемашинам Монтгомери. «Офицеры и солдаты, выдержавшие этот бой, месяцами страдавшие в египетской пустыни от жары в самое засушливое время года, убедились, что их страдания и самопожертвования окупаются бесценной наградой, вожделенной для каждого воина: победой. Мы готовились перейти в контрнаступление. У всех на устах лозунг: “Рождество в Александрии!”»17
Но через сутки ситуация резко изменилась. Впоследствии Монтгомери будет утверждать, что битва за Аламейн была проведена в строгом соответствии с первоначальным планом, хотя на самом деле ему пришлось сместить угол атаки к северу, но в целом преобладание Восьмой армии на поле боя уже не вызывало сомнений. Войска оси были измотаны, остро ощущался недостаток топлива, новые потери лишали армию последних ресурсов. «Все наши иллюзии рухнули в одну ночь, 2 ноября»18, – писал лейтенант Формика. Они двинулись в путь вслед за танковой колонной, но вскоре выяснилось, что колонну никто не направляет. Наконец откуда-то вывернулся полковник, и сам повел солдат в то место, где сосредотачивалась дивизия «Ариэте». «Мне стало ясно, что за ночь ситуация изменилась не в нашу пользу. Длинные колонны машин из разных полков и даже разных дивизий двигались хаотично, а не как организованные подразделения, направляющиеся к определенной цели. Условия для сражения самые неподходящие: плохая видимость, машины застревали в песке, сталкивались. С высоты грузовика я оглядел притихших, измученных пехотинцев. Порой мелькали перья берсальеров, на которых тяжким грузом обрушились песок и слава».
Роммель, вернувшийся на поле боя из отпуска по болезни, сообщил в Берлин, что он планирует широкомасштабное отступление, – это сообщение также было перехвачено и расшифровано Ultra. Британия ликовала. К 4 ноября Восьмая армия уже продвигалась по открытой местности через пустыню, преследуя спасавшиеся бегством войска оси. В тот день Формика писал: «Мы отступаем, мимо проезжают машины всех видов, беспорядочно везут бледных, понурых солдат и офицеров. Я попытался их расспросить и услышал, что враги прорвали нашу оборону. Это казалось немыслимым. Но тут батальонный сказал мне: “Смотри! Вон английские танки!” И я увидел врагов: их танки продвигались тихо, украдкой, словно коварные и хищные звери, полускрытые утренней дымкой»19.
Лейтенант Пьетро Остеллино писал в ту ночь: «Мы видели сигнальные огни со всех сторон на фоне звездного неба: у англичан красные, у немцев зеленые. Мы продвигались медленно, с той скоростью, какая только возможна в темноте по такой местности, а потом мне пришлось бросить свой танк посреди пустыни, потому что мы не поспевали за другими». Остеллино с небольшой группой соотечественников поехал на грузовиках дальше на запад, сквозь тьму, время от времени останавливаясь – старший офицер спускался и проверял направление по компасу. Потом им повстречался немецкий грузовик. Остеллино спросил, где англичане, и, хотя немцы не говорили по-итальянски, а итальянцы по-немецки, стало понятно, что англичане повсюду и единственная надежда – успеть до рассвета удрать.
Около полуночи они остановились ненадолго – перекусить и вздремнуть. Остеллино разбудили крики, он пошел посмотреть, в чем дело, и наткнулся на остатки пехотного батальона, пробирающегося в Эль-Даба. У солдат кончилась вода, они погибали от жажды. Только офицеры, все сплошь, судя по выговору, южане, еще как-то поддерживали в своих людях мужество и силы, чтобы продолжать путь. «Печальное это было зрелище, когда люди, доведенные жаждой до отчаяния, опустились передо мной на колени, моля поделиться с ними водой». Он разыскал полковника, низкорослого ветерана Первой мировой с черной повязкой на глазу, – командир следовал за своими солдатами в автомобиле. Старик с сочувствием сказал: «Мы, офицеры, черпаем силы в духе, но бедные солдатики не способны думать ни о чем, кроме своей жажды». По правде говоря, на всех этапах войны в Африке итальянские командиры показывали себя не с лучшей стороны.
Бронемашины Восьмой армии неслись на запад, гусеницы давили песок, экипажи ликовали: наконец-то закончилась многомесячная патовая ситуация. «Вид из движущегося танка – словно в камере-обскуре или как на немой пленке, – писал Кит Дуглас. – Двигатель заглушает все звуки, кроме взрывов, весь мир беззвучно проносится мимо. Люди кричат, машины едут, аэропланы летят над головой, и все это беззвучно: рокот самих танков становится настолько привычным, что воспринимается как отсутствие звука». Они неуклонно продвигались вперед, но проливной дождь и осторожность Монтгомери помешали им развить успех до такой степени, чтобы полностью уничтожить армию Роммеля. Винченцо Формика смущенно подмечает контраст между хаотичным бегством итальянцев и дисциплинированным отступлением Африканского корпуса: «Я встретил капитана Бонди, немецкого офицера связи при нашей дивизии, которого мы все терпеть не могли. Он указал нам на отряды немецких солдат, отступавших пешком, смертельно усталых, но державших строй, невзирая на падавшие среди них вражеские снаряды»20.
Для Витторио Валличеллы это отступление оказалось отнюдь не самым неприятным из всего, что с ним случалось с 1941 г. Он быстро гнал на запад, прихватив с собой всего шесть спутников, благополучно избежал блокпостов, расставленных с целью перехватывать беглецов и заново собирать их в подразделения. На несколько дней семерым итальянцам удалось ускользнуть и от новостей о сражении, и от офицеров, и от налетов английской авиации. Они находили брошенные канистры и пополняли запасы горючего, им даже повезло подстрелить газель. «В трагедии войны то были наши лучшие дни»21. Но все хорошее кончается: один из парней слег, и пришлось ехать в полевой госпиталь, а там ребята вновь попали в цепкие лапы армейской дисциплины. Каждому был вручен «Приказ дня», завершавшийся словами: «Все усилия, все жертвы принесут желанную и драгоценную награду – величие нашей страны, nostra patria». «От такого чтения нас чуть не стошнило, – пишет Валличелла. – Иные генералы только и знают поминать отечество, обтяпывая свои делишки»22.
Офицер-танкист Тассило фон Богенхардт сказал: «Воинственного духа в нас не осталось. Нас истребляли ковровыми бомбардировками, нас бомбили с пикирующих самолетов, поливали огнем пулеметов. Последнее, что я помню [до того, как он был ранен и эвакуирован], – как я взорвал свой танк, в котором закончилось горючее, и смотрел, как огонь медленно пожирает его. Вот и конец Африканскому корпусу. Я еще удивлялся, отчего англичане продвигаются так медленно. Знали бы они… и мне почти хотелось, чтобы они знали»23.
Роммель сумел спасти основную часть своего корпуса, но Восьмая армия захватила 30 000 военнопленных, уничтожив большое количество оружия и снаряжения противника. На этот раз маятник уже не качнется, отступающая армия Роммеля не повернет снова на восток. То была единственная за всю войну крупная сухопутная победа англичан, лавры которой им не пришлось разделить с кем-то из союзников. Правда, в декабре немцы попытались остановить отступление и провели несколько жестоких арьергардных боев, но каждый раз Восьмая армия выбивала их с очередного рубежа обороны и гнала дальше. Триполи пал 23 января 1943 г. Через три дня войско Монтгомери находилось уже в Тунисе, и там развернулась последняя, затяжная фаза Северо-Африканской кампании.
Операция Torch, начавшаяся 8 ноября 1942 г. с высадки в контролируемых Виши Алжире и Марокко, стала первой крупной совместной операцией американской и британской армии против немцев. Черчилль и Рузвельт приняли такое решение вопреки упорным возражениям американских начальников штабов, по мнению которых в любых действиях на Средиземноморье были заинтересованы лишь англичане с их имперскими амбициями. Как только стало ясно, что в 1942 г. высадка на Континенте не планируется, президент встал на точку зрения британского премьера, который настаивал на достаточно заметной военной операции, чтобы укрепить боевой дух союзников. Северная Африка представлялась единственным местом, где могла осуществиться подобная операция. Первоначально в операции Torch участвовало 63 000 англичан и американцев, а также 430 танков. Надеялись, что французские (вишистские) войска не окажут сопротивления двум передовым дивизиям американцев, однако те потеряли при высадке 1500 человек и вынуждены были вступить в тяжелые бои.
Солдат Иностранного легиона, служивший на батарее на высоте над Касабланкой, передает ужас пушкарей, чью незащищенную позицию разбомбили американские самолеты: «Через пять минут все было кончено. Я выбрался из канавы, в которую бросился при первом взрыве. Из тридцати человек погибло пятнадцать вместе с командиром, еще десять было ранено. Две пушки разбиты, два грузовика горели. Глубочайшая горечь охватила меня при виде валявшихся на земле трупов товарищей. С того самого момента, как пала Франция, мы мечтали об освобождении, но разве такой ценой!»24 10 ноября главнокомандующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр договорился о прекращении огня. Французские войска начали переходить на сторону союзников и присоединяться к их борьбе против немцев, хотя им недоставало оружия, а некоторым офицерам, по правде говоря, также и энтузиазма в служении очередному правому делу.
Успехи в Северной Африке осчастливили все народы боровшихся против немцев стран. Постепенно люди осмелились поверить, что это нечто большее, чем очередное движение маятника. Мюриэл Грин 11 ноября писала: «Внезапно я поняла, как важны эти новости. За последние годы мы так устали от известий о продвижении и отступлении в Египте, что я не сразу поняла, что на этот раз все по-другому. Чудесно, что наконец подключились американцы, теперь дело пойдет, мы движемся к окончательной победе»25. Ее мнение разделяли и некоторые немцы. «Поразительно наблюдать, как берет верх морская держава, – писал 10 ноября после начала операции Torch Гельмут фон Мольтке, мечтавший о свержении Гитлера. – Колосс надвигается»26. Русским события в Африке казались малозначимыми по сравнению с масштабами их собственной борьбы, но все же вести о Torch и сражении под Эль-Аламейном просачивались в Красную армию и хоть немного, но ободряли солдат. Пока Мюриэл Грин заполняла свой дневник в сельской местности западной Англии, на Восточном фронте капитан Николай Белов писал: «Сегодня приятные вести. Американцы и англичане колотят наконец немцев по-настоящему. В Африке, ведь это очень далеко, но, кажется, так близко. Отрадно»27.
В городе Дерна, в 700 км к западу от Аламейна, как-то в ноябре группа итальянских солдат, не располагавших никакой информацией, повстречала немцев, один из которых свободно говорил по-итальянски. Это был гордый нацист, продолжавший уверять, что в 1943 г. страны оси добьются окончательной победы. По его словам, он только что слышал по радио сообщение о захвате Сталинграда. Русским конец. Итальянцы оказались не из легковерных. «Хочется надеяться, что он сказал правду, – записал один из них, – но как-то его оптимизм неубедителен»28. И недоверчивые итальянцы оказались правы.
На первых стадиях Северо-Африканской кампании американское командование опасалось вторжения немцев через Испанию. Когда же эта угроза не осуществилась, союзники закрепились на побережье, и вишисты прекратили сопротивление, появилась надежда в скором времени освободить весь регион. Однако надежда не сбылась, поскольку Гитлер принял непредвиденное союзниками решение: направить в Северную Африку подкрепления. Полтора года фюрер отказывал Роммелю в дополнительных дивизиях, когда Лис Пустыни еще мог бы вырвать победу, но теперь Гитлер пытался оттянуть поражение. По морю и по воздуху переправили из Италии в Тунис с согласия местного вишистского правительства 17 000 немецких солдат и бронетехнику. Численный перевес оставался на стороне союзников, но американские войска целиком состояли из новобранцев, как и значительная часть английской армии. Еще одним преимуществом немцев оказалась эффективная поддержка с воздуха, которую организовал генерал люфтваффе Йорген фон Арним.
Витторио Валличелла и его товарищи по таявшему итальянскому контингенту встретили Рождество 1942 г. на побережье Туниса, тоскуя по дому и прячась от английских бомб. «За полуночной мессой меня окружали печальные лица. Снова налетели англичане, все кинулись по местам. Так-то мы провели Сочельник, вместо того, чтобы угоститься праздничной едой, которую обещал приготовить Долиман [почитаемый итальянцами повар]»29. На следующий день дела пошли лучше: шеф-повар подал пасту с рагу, отварной картофель, по кусочку мяса и «ко всеобщему изумлению, отродясь невиданное в этих местах панеттоне». Долиман гордо показал упаковку из-под этого деликатеса: Panettone Motta. Рождественский обед каждый солдат запил полулитром вина и стаканчиком бренди. «Давненько мы не ели такой великолепной еды. Мы завершили праздник, искупавшись нагишом в Средиземном море, а наши родные, должно быть, ничего не видят, кроме холодного тумана»30. Валличелле повезло: вскоре он попал в плен к французам и следующие три года работал на ферме. В свое возлюбленное отечество он возвратился лишь в 1947 г.
Зимние дожди и грязь сыграли на руку немцам: они сумели остановить рвавшихся к Тунису союзников. В январских боях подразделения фон Арнима вынудили к отступлению плохо вооруженные французские войска и сохранили линию снабжения Африканского корпуса на востоке. В феврале – очередные успехи немцев, в ходе длившейся двое суток операции они уничтожили два танковых, два пехотных и два артиллерийских батальона генерал-лейтенанта Ллойда Фредендолла. Затем Роммель перешел через Кассеринский перевал и начал наступление, вынудившее армию Эйзенхауэра к поспешному и унизительному бегству. Так американцы усвоили жестокий урок, прежде неоднократно преподанный англичанам: у немцев лучшая бронетехника, действуют и реагируют они стремительно и из любого, самого незначительного преимущества неумолимо выжимают все до последней капли. Британские офицеры с презрением отзывались о панике среди американцев, в том числе зубоскалил и Александер, которому это было уж вовсе не к лицу: действия Первой британской армии в Тунисе также обнаружили немало изъянов и в подготовке солдат, и в компетенции командующего, генерала Кеннета Андерсона. Более разумные среди англичан считали эти ухмылки по адресу союзников дурным вкусом. Капрал ВВС Питер Бакстер записывал в дневнике: «Мне кажется, американцам попросту недостает опыта боевых действий, а также они не вполне понимают, чего ради им пришлось драться с немцами»31. По обоим пунктам он совершенно прав.
Несмотря на ошибки и неудачи армии Эйзенхауэра, ход войны в Северной Африке окончательно и безусловно переломился в пользу союзников. Итальянское верховное командование, поосторожничав, лишило Роммеля приоткрывшегося на миг шанса – обойти с фланга и разбить войска союзников в Северном Тунисе. К американцам прибывали подкрепления, а силы немцев убывали. 22 февраля 1943 г. Роммель был вынужден остановить контрнаступление. На следующий день Гитлер повысил его, присвоив Роммелю звание главнокомандующего группой армий «Африка». Через неделю Ultra выяснила немецкий план ударить всеми тремя ослабевшими танковыми дивизиями по Восьмой армии Монтгомери, приближавшейся к обороняемой союзниками линии Марет в Южном Тунисе. Натиск немецких войск 6 марта под Меденином был без труда отражен. Роммель, уже тяжело больной, покинул Африку и больше не возвращался.
Вскоре Монтгомери смог атаковать линию Марет при явном превосходстве в численности танков и самолетов. Первая атака, 19 марта, не увенчалась успехом, зато Монтгомери удачно осуществил обходной маневр и проник вглубь страны. Немцы с минимальными потерями отступили на новые позиции у вади Акарит. Тем временем американцы вернулись на рубежи, с которых им пришлось бежать при внезапном нападении немцев со стороны Кассеринского прохода. По требованию Александера, занявшего должность заместителя Эйзенхауэра, рыхлая структура союзного командования была приведена в порядок, и те американские офицеры, которые проявили некомпетентность, были смещены с беспощадностью, которую англичанам для своей же пользы стоило бы перенять. В апреле союзники продолжала наступление. К началу мая войско фон Арнима теснилось на плацдарме глубиной не более 100 км от моря, с линией фронта примерно 270 км, причем англичане атаковали их с востока, а американцы – с запада.
Союзники полностью контролировали средиземноморскую линию снабжения, в эту пору было потоплено рекордное количество судов оси. Фон Арниму не хватало техники, боеприпасов, топлива и продуктов. Стало очевидно, что он не сможет затягивать сопротивление: удивительно даже, как долго он продолжал бороться против явно превосходящих сил союзников. Но солдатам Эйзенхауэра и солдатам Александера ни один успех в Северной Африке не давался недорогой ценой. В апреле американский Второй корпус так и не сумел осуществить прорыв, зато Монтгомери наконец достиг успеха при вади Акарит, вынудив противника отступить к более дальней линии обороны. 22 апреля Александер начал широкомасштабную операцию: Первая армия наступала по направлению к Тунису, корпус Брэдли продвигался к Бизерте, а французы – к Пон-дю-Фасу. Английская Восьмая армия не сумела смять новую линию обороны немцев под Энфидавилем. По совету Монтгомери Александер передал две своих дивизии Первой армии, чтобы та нанесла добивающий удар по дороге Меджес – Тунис при массированной поддержке артиллерии и авиации. Фон Арним не мог устоять перед совместным давлением союзных войск: Тунис, Бизерта и Пон-дю-Фас пали в один и тот же день, две потрепанные немецкие танковые армии обратились в ничто. Последний котел капитулировал 13 мая, в руки союзников попало 238 000 пленных.
На увенчавшуюся победой борьбу ушло без малого пять месяцев – больше, чем англо-американское командование планировало в ноябре после успехов под Эль-Аламейном и операции Torch. Решение Гитлера снабдить Африканский корпус подкреплениями и отсрочить поражение действительно вынудило союзников дольше бороться за победу, но тем существеннее был и успех, когда они его наконец добились. Самонадеянность американцев получила в самом начале хороший урок от опытного вермахта, но Эйзенхауэру и его помощникам достало ума и смирения усвоить этот урок. С недостатками командования, тактики, снаряжения и руководства на низшем уровне удалось по крайней мере отчасти разобраться еще до того, как союзники переправились через Средиземное море.
Английская армия воспринимала захват Туниса как награду и искупление после трех лет тяжелейших испытаний. Наконец-то победа – и ее широко праздновали на родине. Пусть Монтгомери хвалили порой и сверх заслуг, нужно отдать командующему Восьмой армией должное: это был трезвый профессионал. Его послужной список омрачен упущенной возможностью уничтожить армию Роммеля после Аламейна, медлительностью в преследовании врага и некоторыми неудачами при атаке на оборонительные позиции немцев. Английский генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган утверждал, что «отступление Роммеля по Африке представляло собой скорее чинную процессию, нежели бегство разбитой армии»32. И все же на тот момент Монтгомери зарекомендовал себя как наиболее талантливый английский военачальник, прекрасно понимающий преимущества и недостатки своего войска.
Северо-Африканская кампания укрепила репутацию тех командиров, кому предстояло вести союзные войска в крупные европейские сражения. Монти, Александеру, Эйзенхауэру, Паттону, Брэдли посчастливилось столкнуться с немцами в условиях заметного материального превосходства союзников, когда вермахт уже был обескровлен потерями в России. Едва ли эти герои сражений 1942–1943 гг. превзошли бы своих французских и английских предшественников, если бы им пришлось командовать на начальных этапах войны. Генералу, мечтающему о славе, первым делом нужна армия, достаточно сильная, чтобы одолеть врага.
В мае 1943 г., после эпического разгрома немцев под Сталинградом и изгнания их из Северной Африки, у союзников уже не оставалось сомнений в том, каким будет исход войны, и многие в странах оси тоже начали это понимать. Лейтенант Винченцо Формика, который еще 1 ноября 1942 г. так пылко уповал на победу в пустыне, с горечью признается в постигшем его разочаровании: «Я с гордостью оглядываюсь на минувшие дни, и сердце обливается кровью от окружающей нас реальности. Я – пленник в концентрационном лагере [так он именовал лагерь военнопленных] в Северной Америке»33. И все же, хотя чаша весов однозначно склонилась на сторону союзников, еще рано было судить о том, как долго продлится война и какой примет ход. Казалось вполне вероятным, чтобы нацистский рейх просуществовал до 1947 г. или даже до 1948 г. По приказу Черчилля церковные колокола звонили в честь победы в Северной Африке, но сколько еще предстояло мучений и потерь, прежде чем у союзников и впрямь появится повод торжествовать.
15. Медведь пробуждается: СССР в 1943 году
В 1943 г., пока cоюзники довольствовались локальными операциями в Средиземноморье, Советский Союз уже наносил Германии одно крупное поражение за другим, перемалывая людские резервы, танки, пушки и самолеты агрессора. Превосходство сталинских армий становилось все более явным, укреплялась и уверенность полководцев. Преимущество Красной армии закреплялось и благодаря усиленному производству оружия: русские выпускали более 1200 Т-34 ежемесячно, в то время как немцы за всю войну сконструировали только 5976 «Пантер» и 1354 «Тигров». После зимних побед советский народ уже не сомневался в победе. Но до последнего дня войны этому народу предстояло упорно сражаться и нести тяжелые потери.
Суровой оставалась и участь гражданского населения – даже когда война отхлынула от порогов их домов, миллионы все еще страдали от недоедания. В январе 1943 г. москвичи, отправлявшие семьи в эвакуацию в 1941 г., когда казалось, что столица обречена, начали вызывать их обратно, но Лазаря Бронтмана смущал недостаток топлива, электричества и продуктов. «С топливом в Москве тяжко. В редакции в последние дни 6–7 градусов, работаем в шинелях… в типографии лампочки воруют, поэтому по окончании номера их вывинчивают со столов таллера. За пережог москвичами лимита – штраф в 10-кратном размере и выключают окончательно… Тяжело и с харчем. Когда была здесь Зина, я ужин (паек с 208-й базы) получал домой, но все равно оба сидели полуголодные. Но это еще у нас! Иждивенцы по карточкам сейчас ничего не получают, кроме хлеба и соли. Служащим за январь выдали только по 300 г крупы, больше ничего, детям кое-что дают, но до 3 лет»1. С улиц Москвы и пригородов исчезли заборы – их разобрали на дрова. Температура падала ниже нуля, работали в пальто и рукавицах.
Успехи на полях сражений ободряли, но радость побед никогда не превращалась в безгорестное ликование: слишком много людей каждый раз погибало. Снова и снова в 1943 г. Красная армия проводила блестящие операции, окружая противника, но немцы пролагали себе путь к отступлению, сражаясь с обычными для них умением и упорством. «Русские не так уж хорошо воевали, – замечал капитан СС Карл Годау. – Все, что у них имелось, – людские массы. Они атаковали всей массой, теряли массу людей. Хорошие генералы, хорошая артиллерия, но солдаты – жалкое зрелище»2. Эсэсовец в своем высокомерии перегибает палку, но среднее звено руководства советской армии и впрямь было слабовато, на поле боя зачастую терялась организация и дисциплина, постоянные тактические просчеты приводили к ненужному кровопролитию.
Пулеметчик Гордеев сокрушался о примитивности тактики командования: «Лобовые атаки вызывали во мне чувство недоумения. Зачем лезть на огонь немецких пулеметов, почему не зайти с флангов?»3 Он тешил себя надеждой, что сократившуюся втрое роту уже не пошлют в атаку, но вместо этого к утру подразделение укрепили тыловиками, даже писарями из штаба, выдали двойную порцию водки, а желающим и вовсе без меры. Второму номеру из расчета Гордеева вручили винтовку, и он отправился в бой, уверенный, что живым не вернется. Вместо него Гордееву придали в помощники самострела, который хромал от раны в ногу и в смертном страхе обливался потом. Гордеев вспоминал: «Обстановка складывалась паршивая. Не рота, а пьяная толпа». Тем не менее их снова бросили в бой.
На том участке фронта, где сражался Николай Белов, утром 20 февраля 1943 г. советский бомбардировщик по ошибке сбросил снаряды на своих, и батальон Николая понес тяжелые потери прежде, чем встретился с врагом. В бою Николай был ранен – это случилось около 16:00, и ему пришлось пролежать на ничейной полосе еще четыре часа, прежде чем стемнело – лишь тогда помощники пулеметчика унесли его обратно в окоп, а оттуда отправили в тыл на лечение. Вернувшись три недели спустя, Николай обнаружил, что в батальоне почти не осталось прежних офицеров. Почти все погибли: «Майор Аноприенко уехал в Академию. Командует полком майор Фомин. Ком. дивизии полковник Иванов убит. Капитан Новиков расстрелян, Грудин – убит, Дубовик – убит. Алексеев – умер от ран. Степашин осужден на 10 лет и разжалован»4.
Но Россия могла позволить себе такие расходы человеческих жизней и даже столь примитивную и неуклюжую тактику ведения войны. Сталинская армия численностью уже намного превосходила все войска Гитлера и наращивала свое преимущество: появилось и оружие, более технически совершенное, чем у вермахта. Советские ВВС захватили господство в воздухе: поредевшие эскадрильи люфтваффе к тому же были частично отозваны на защиту рейха от англо-американских бомбардировок. Одно время весной 1943 г. казалось, что немцы не сумеют зацепиться восточнее Днепра, откатятся на 700 км от Сталинграда. Более того, появилась надежда вовсе отрезать группы армий А и «Дон» от этой спасительной для них реки. Тысячи сдавшихся немцев шли в плен, а русские солдаты делили добычу, из которой более всего их радовали одежда и обувь. Многие товарищи Ивана Мельникова воспользовались случаем заменить обмотки на ногах крепкими немецкими ботинками. «Портянки прилипали к коже и отрывались клочьями, – с бесстрастием стороннего наблюдателя пишет Мельников. – Не пожалели воды, обмыли сбитые, кровоточащие ноги… кто-то надел по две пары носков, найденных в телегах… Шагали бодро, в новых сапогах, фляги с водой полные»5.
На исходе января группа быстроходных танков, подчинявшаяся командующему Юго-Западным фронтом Николаю Ватутину, форсировала Донец к востоку от Изюма и устремилась на юг, к Мариуполю на Азовском побережье, чтобы обойти немцев. 2 февраля Жуков и Василевский начали одновременно наступать по двум направлениям: на карте один наконечник раздвоенной стрелы указывал на юго-запад, через Харьков к Днепру, а другой – на северо-запад, на Смоленск через Курск. 8 февраля был освобожден Курск, неделей позже Харьков, и несколько дней спустя советские войска приблизились к переправам через Днепр в районе Днепропетровска и Запорожья.
Но тут наступление увязло. Немецкие танки превосходили мобильные силы Ватутина и тактикой, и огневой мощью. Манштейн возглавил группу армий «Юг» и тут же перешел в контратаку. Пока весенняя распутица не превратила поля сражений в болото и грязь и танки, как обычно по весне, не застряли, он успел 11 марта отбить Харьков, и на долю многих русских солдат вновь выпали плен или скитания. 8 марта старшина медицинской службы Алексей Толстухин был застигнут врасплох при стремительном продвижении немцев к городу. Позднее он рассказывал в письме родителям: «10 суток ходил по степи, пробирался до частей Красной армии голодный и холодный. Утомившись, на одиннадцатые сутки я нашел копну соломы и заснул. Открыл глаза – передо мною стоят гитлеровские кровавые палачи, и с того времени пошла моя голодная и холодная жизнь и пошли по голове и по спине палки, плети и приклады… Да, дорогие мои родные, я вам больше эту мою каторжную жизнь описывать не стану – сердце не выдержит. И только 17 сентября я нашел момент сбежать из рук кровавого гада, а 21 сентября в 10 часов утра перешел линию фронта, увидел своих братьев. Это было уже в 20 километрах от Полтавы. Мне еще не верится, что я у своих»6. Сержант Толстухин избежал той суровой кары, которая зачастую ждала бежавших из плена: ему разрешили вернуться в родной батальон. Вскоре он был ранен шрапнелью, но легко, и оставался в строю. 16 ноября он погиб на берегу Днепра.
На долю немцев меж тем тоже выпало немало страданий. «Поражение наше командование так и не признало»7, – писал Ги Зайер. Когда часть, в которой он служил, начала отступление с западного берега Дона, «мы плохо себе представляли, что происходит, ведь мы не учили географию России». Но после Сталинграда страх попасть в окружение жил в сердце каждого немецкого солдата. Зайер с горсткой приятелей-пехотинцев ехал в трофейном русском грузовике на буксире у танка. «Ветровое стекло заляпала грязь. Эрнст побрел по жидкой грязи, рукавом почистил стекло… За спиной у нас раненые уже не стонали. Может быть, все перемерли. Какая разница? Вот и утро занялось, первые лучи упали на измученные лица. Мы остановились, техник-сержант крикнул: “Час отдыха! И снова в путь!” Командир танка заорал в ответ: “К черту! Поедем, когда я высплюсь!” Они яростно препирались, техник настаивал, как старший по званию, но танкист ответил: “Пристрелите меня и ведите танк сами. Я двое суток не спал, так что оставьте меня в покое, черт побери!”» Они двинулись дальше не через час, а через два: как мы видим, с трудностями и лишениями немецкие солдаты научились справляться, почти как их противник.
18 марта две танковые дивизии, воспользовавшись железнодорожной переправой, дошли до Белгорода и вновь овладели этим городом. На севере от основного театра войны Гитлер нехотя отказался от Ржевского выступа, давно уже не представлявшего угрозы для Москвы. Отдав Ржев, группа армий «Центр» сократила линию фронта на 400 км и сконцентрировала на этом участке достаточно сил, чтобы отразить наступление Рокоссовского. Немцы отходили, и перед миллионами русских, следовавших за ними по пятам, открывались страшные картины разрушения и резни. Если к страданиям взрослых людей уже привыкли и они мало кого трогали, то детские несчастья разрывали душу. Капитан Павел Коваленко писал 26 апреля: «Нам привычны ужасы войны, ее беспощадные, кровью писаные законы. Но дети, цветы жизни, эти нежнейшие цветы, невинные и святые души, украшение нашей жизни!.. Они, никому не причинившие зла… страдают за грехи отцов. Мы не уберегли их от зверя. Сердце обливается кровью, мысли замирают от ужаса при виде маленьких окровавленных тел со скрюченными пальцами, искаженными личиками… Немые свидетельства неописуемого человеческого страдания. Эти маленькие, застывшие, мертвые глаза упрекают нас, живых»8.
В приднепровской деревне Тарасевичи Василий Гроссман повстречал подростка. «Как страшны эти старые, усталые, безжизненные глаза на детском лице. “Где твой отец?” – “Убит”, – отвечает он. – “А мать?” – “Умерла”. – “Братья или сестры есть?” – “Была сестра. Ее угнали в Германию”. – “Родственники?” – “Нет, все сгорели, когда деревню сожгли за партизан”. И он отправился на картофельное поле, переступая босыми и черными от грязи ногами, оправляя лохмотья своей разорванной рубашки»9. Миллионы таких встреч запечатлелись в сознании русских солдат, и они вспомнятся им, когда армия ступит на немецкую территорию. Советский журналист Илья Эренбург писал: «Не только армии и дивизии, но могилы, траншеи, рвы, заваленные телами невинных жертв, идут с нами на Берлин». Советская пропаганда твердила: «Ярость солдата в бою будет ужасна. Он не просто сражается, он – воплощение справедливого суда своего народа»10.
Григорий Телегин писал жене 28 июня 1943 г.: «Я получил письмо с сообщением, что твой брат Александр убит 4 мая. Мое сердце окаменело, в мыслях и чувствах нет места жалости, только ненависть к врагу горит в моем сердце. Когда я гляжу в бинокль, нацеливая огонь точно на этих двуногих тварей, и вижу их расколотые черепа и изуродованные тела, я чувствую великую радость и смеюсь, как дитя, зная, что они не оживут. Я опишу типичный день сражения, 5 июня. Лучи восходящего солнца отражались и вспыхивали в башенках наших танков. Капли тумана кристаллами повисли на листьях деревьев. Три зеленые ракеты просигналили: “В атаку!” В 07:00 наши танки двинулись колонной, потом на росчисти развернулись в линию. Мы отчетливо видели избы деревни. Русские снаряды взрывались на немецких позициях. Видно было, как фигуры врагов бегут в тыл, как их тела падают под гусеницы собственных танков. Но мины и антитанковые орудия подбили сначала один советский танк, потом другой, третий вспыхнул пламенем».
Телегин продолжает: «Мое сердце болело за друзей, которые все еще вели огонь из горящих танков. Гнев и ненависть погнали нас вперед, мимо подбитых танков. Мы раздавили огневые гнезда противника и антитанковые орудия вместе с обслугой». На дальнем конце деревни показались немецкие окопы между деревьев и рвов – танкам не пройти. Узнав танк своего друга Миши Сотника, Телегин повел свой Т-34 бок о бок с ним. Они заглушили моторы, обсудили, перекрикиваясь, ситуацию. Решили обойти немецкие окопы с разных сторон. Завели моторы и рванули вперед.
В этом сражении прямым попаданием снаряда на танке Телегина были разбиты пулемет и оптический прибор. После нескольких часов сражения в дыму и пыли жажда измучила экипаж настолько, что люди порой теряли сознание. Потом перегрелся и вышел из строя двигатель. Пока танк стоял неподвижно под обстрелом, очередной снаряд контузил водителя, а Телегин ненадолго потерял сознание. «Мы задыхались, словно рыбы, губы потрескались, во рту пересохло. Открыв люк водителя, мы увидели в десяти метрах впереди воронку с водой. Пули свистели вокруг, но я выкатился в люк, подполз к воде и напился. В котелке я принес товарищам воды, и мы ожили». Еще десять часов они просидели в провонявшей, нагретой солнцем стальной коробке. Наконец водитель починил дроссель, и мотор взревел. «Мы покатили назад. Подъехала скорая, я разглядел на носилках знакомую фигуру. Это был Миша Сотник, пулеметная очередь прошила ему голову. Не сдерживая слезы, я поцеловал его в посинелые губы и простился»11.
Даже когда ход войны переломился и вплоть до последних месяцев войны, советская армия несла потери также и из-за дезертирства. Главным образом бежали «елдаши» и «юсупы», то есть жители Средней Азии. Николай Белов подсчитывал потери своего батальона за 13 июня 1943 г.: «Сегодня опять двое перешло на сторону врага. Уже одиннадцать человек. Большинство “елдаши”»12. Статистика Красной армии утверждает, что в апреле 1943 г. к противнику перебежало 1964 солдата, 2414 – в мае, 2555 – в июне. Тех, кого удавалось захватить при попытке к бегству, подвергали обычному наказанию: «Сегодня “юсупа” расстреляли перед взводом за попытку перебежать к немцам. Жуткое чувство». 2 июня он лаконично записывает: «Еще двое пытались сегодня дезертировать. К счастью, подорвались на минах, и их приволокли обратно»13. Как и многие офицеры Красной армии, он полагался только на соплеменников. Получив очередное подкрепление, он пишет: «Поступило новое пополнение. Молокососы 26 г. рождения. Все зеленые юнцы. Но единственное, что хорошо, это то, что хорошо подготовленный контингент и исключительно русские. Эти не перейдут на сторону врага»14.
Аналогичные проблемы имелись и у противника. Белов с удивлением узнал от «соседей» о двух перебежчиках, ефрейторе и обер-ефрейторе вермахта: «Первый раз слышу, чтоб немцы переходили на нашу сторону. Не от хорошей, наверное, жизни». Капитан Павел Коваленко сделал такое же наблюдение 31 марта: «Откуда ни возьмись, явился немецкий перебежчик. Стук в дверь. “Кто там? Входите!” Открывается дверь, и появляется фриц. Все схватились за винтовки. Он снял с себя золотые часы, отдал одному из солдат, другому золотое кольцо, третьему винтовку и поднял руки. Из Вестфалии, шахтер, двадцать два года. Отец велел ему сдаться в плен»15.
Однако иные немцы не отчаивались, даже угодив в руки врага. Николай Белов рассказывает о «языке», добытом его разведчиками: «Здоровенный двадцатидвухлетний парень – откуда они, прохвосты, берут такую молодежь? Пленный показал, что наступать собираются через 4 недели, а войну хочут закончить в этом году – обязательно победой Германии»16. Гитлер провел мобилизацию и к июню 1943 г. довел численность своих войск в России до 3 млн. Он понимал, что общее наступление невозможно, однако настаивал на едином массированном прорыве. Внимание фюрера привлек выступ на советской линии фронта к западу от города с односложным названием, которое войдет в военные легенды: город Курск. Размах военных действий на Восточном фронте был таков, что этот выступ размерами почти не уступал штату Западная Виргиния – он был с половину Англии. Там имелись невысокие горы, множество ущелий, рек, но главным образом это регион открытых степей. Удобный ландшафт для продвижения танков – удобный и для заградительного огня антитанковых орудий. Подземные залежи железной руды вызывают в этих местах неистовый танец стрелки компаса, но это не имело особого значения в той ситуации, когда обе стороны прекрасно знали, где находится противник.
Для удара Гитлер сосредоточил под Курском основные силы вермахта, пополнив их тремя свежими танковыми дивизиями СС, 200 «Тиграми» и 280 «Пантерами». И все же по сравнению с кампаниями 1941–1942 гг. операция Citadel казалась локальной – у Гитлера явно заканчивались ресурсы. К тому же и противник на этот раз заранее готовился к отражению угрозы, прислушавшись к разведданным, поступавшим из шпионской сети «Люси» в Швейцарии. На собрании в Кремле 12 апреля полководцы упросили Сталина предоставить инициативу немцам: они предпочитали заманить танки противника, расправиться с ними и лишь затем перейти в контрнаступление. Всю зиму и начало лета советские саперы в лихорадочном темпе сооружали пять заградительных линий из минных полей, бункеров и окопов. Вдоль этих линий дожидались противника танки, пушки и самолеты: 3600 танков против 2700 немецких, 2400 самолетов против 2000 в составе люфтваффе и 20 000 пушек – вдвое больше, чем у немцев. 900 000 гитлеровских солдат противостояло 1,3 млн советских.
Манштейн, возглавлявший группу армий «Юг», все эти три месяца также собирал и готовил свои силы, но мало кто из немцев – за исключением разве что отрядов СС – тешил себя иллюзиями насчет благополучного исхода операции Citadel. Лейтенант Карл-Фридрих Брандт с горечью писал из-под Курска: «Счастливы те, кто вовремя погиб в Польше или во Франции. Они могли еще верить в победу»17. И сам Манштейн уже не надеялся разгромить Советский Союз, ему требовался лишь такой успех, который вынудил бы Сталина признать в этой войне ничью и вступить в переговоры о мире вместо того, чтобы сражаться до окончательной победы.
Русские солдаты шли на защиту Курска через территории, разоренные отступавшим врагом. Восемнадцатилетний Юрий Ишпайкин писал родителям: «Много семей оставили без отцов, без братьев, без крова. Хотя я здесь нахожусь и недолго, всего несколько дней, но уже много пришлось пройти по прифронтовой полосе. И всюду, где ни проходили, – голые, необработанные, незасеянные поля. От деревень и городов остались одни трубы и развалины от каменных зданий. Действительно – зона пустыни… Радостно становится на душе, когда войдешь в целую, неразрушенную деревню. Большинство домов пустеет, но есть среди них такие, из труб которых валит дым да выйдет на крыльцо женщина или мальчик посмотреть на проходящую Красную армию»18. Ишпайкин, как и многие его товарищи, не вернулся с поля боя под Курском.
«Уже в восемь утра разогрелось, поднялись облака пыли», – писал Павел Ротмистров, командир гвардейской танковой армии. Его танки длинными колоннами двигались на оборону курского выступа. «К середине дня пыль сбивалась уже плотными тучами, толстым слоем лежала на придорожных кустах, на полях пшеницы, на танках и грузовиках. Темно-красный солнечный диск едва проглядывал сквозь серую пелену пыли. Танки, пушки-самоходки и трактора, бронемашины для перевозки пехоты и грузовики, продвигались в этом мареве. Солдат мучила жажда, промокшие от пота гимнастерки липли к телу. Особенно трудно приходилось водителям. Кто умел писать, те сочиняли прощальные письма, неграмотные диктовали свои послания товарищам»19. Двадцатилетний Иван Панихидин уже был тяжело ранен в боях 1942 г. Теперь, вновь приближаясь к линии фронта, он с гордостью помышлял об участии в битве за свою родину. «Через несколько часов вступаем в бой, – писал он в последнем письме отцу. – Концерт уже начался. Нам остается его продолжить. Пишу под грохот артиллерийской канонады. Скоро перейдем в атаку. На земле и воздухе идет сражение… и советские воины стоят на своих рубежах»20. Несколько часов спустя Панихидин был убит.
Самолеты люфтваффе начали бомбить позиции русских за несколько дней до атаки. На их счету значилось прямое попадание в дом, где разместился Рокоссовский, но сам маршал в тот момент, к счастью, находился в другом месте. На огонь немецкой артиллерии русские ответили массированным обстрелом, едва ли хоть один клочок земли, на которой огромным человеческим массам предстояло вступить в бой, остался непотревоженным. 5 июля Модель ударил с севера, а на юге начала наступление Четвертая танковая армия. С самого начала обе стороны понимали, что битва под Курском станет титаническим испытанием человеческих сил и воли. Бомбардировщики Stuka и эсэсовские «Тигры» причинили существенный ущерб русским T-34. Часть новых немецких «Пантер» вышла из строя из-за поломок, но прочие успешно продвигались, давя противотанковые орудия противника, а немецкая мотопехота атаковала пехоту Жукова, поливая пламенем из огнеметов окопы и блиндажи. Артиллерия с обеих сторон грохотала без передышки.
За три дня немецкой армии, продвигавшейся с севера, удалось преодолеть 30 км, и казалось, что она близка к прорыву. Армия Рокоссовского в целом выдержала жесточайший натиск, но некоторые ее части дрогнули. В отчете СМЕРШ перечисляются офицеры, которых сочли виновными в трусости: «Низкую боеспособность показал 47-й СП[18]. Второй батальон этого полка во главе с командиром полка Ракитским самовольно оставил свой рубеж, другие батальоны, поддавшись панике, также оставили рубежи… Командиры: 47-го СП – подполковник Карташев и 321-го СП – подполковник Волошенко растерялись и, потеряв управление батальонами, должных мер к восстановлению порядка не приняли… Старший командный состав дивизии, в том числе и командиры 47-го и 321-го СП, проявили растерянность, а некоторые из них струсили и дезертировали с поля боя. Командир 203-го АП[19] майор Гацук в начале боя первым оставил КП[20] и действиями полка не интересовался, а впоследствии, взяв с собой телефонистку Ганиеву, уехал в тыл полка, где пьянствовал, и в полк вернулся только 7.VII .1943»21.
Но другие части держались стойко, и бронированные отряды Моделя понесли большие потери, особенно попав на минные поля. На юге к 9 июля почти половина из 916 машин Четвертой танковой армии вышла из строя или была повреждена. По всему огромному полю битвы сталкивались железо и люди, падали, поднимались или не поднимались. Огонь и дым до самого горизонта. На радиоволнах неслись, заглушая друг друга, русские и немецкие голоса: «Вперед! Орлов, обходи с фланга! Schneller! Ткаченко, прорывайся им в тыл! Vorwärts!»22 Военный корреспондент Василий Гроссман запомнил, как все на поле боя, даже еда, чернеет от пыли. По ночам измученные солдаты не могли уснуть в тишине: она казалось страшнее, чем ставшая привычной какофония боя.
12 июля Жуков нанес контрудар: началась операция «Кутузов», направленная против северного выступа возле Орла. Немецкий офицер-танкист писал: «Нас предупредили, что мы наткнемся на огонь PaK [противотанковых орудий], неподвижно стоящих на своих позициях танков… а вместо этого на нас обрушилось казавшееся бесконечным море вражеской бронетехники. Никогда до того дня я не ощущал с такой полнотой мощь и многочисленность русских. Облака пыли мешали люфтваффе прийти нам на помощь, и вскоре большое число Т-34 прорвали наш заслон и крысами понеслись по полю»23. В этом вихре железа танки противников сталкивались и так и замирали грудой покореженной стали; многие стреляли друг в друга в упор. Сотни километров черной пыли и дымящихся машин: две крупнейшие танковые армии в истории схватились друг с другом, сметая и уничтожая все на своем пути. Поединок танков был смертоносен, выживал тот, кто успевал выстрелить первым. К ночи 12 июля пошел дождь, и под покровом тьмы с обеих сторон принялись эвакуировать подбитые танки и раненых, подвозить топливо и боеприпасы.
Со стратегической точки зрения ясно было одно: немцы уже не могли возместить свои потери. Наступление Манштейна захлебнулось. Если на каких-то участках русские не продвинулись, по крайней мере они не отступили. В тот самый день за 3500 км американские и британские части, высадившиеся на Сицилии, начали поход вглубь острова. У Гитлера сдали нервы. 13 июля он заявил своим генералам, что придется перебросить две панцирные дивизии СС, самое мощное боевое соединение на Восточном фронте, на защиту Италии. Операция Citadel тем самым отменялась. Жуков инспектировал поле боя вместе с танковым генералом Ротмистровым. Ротмистров писал: «То было ужасное зрелище: разбитые и сгоревшие танки, покореженные пушки, валявшиеся повсюду бронемашины и грузовики, осколки ядер и обрывки гусениц»24. Немцы еще несколько дней продолжали атаковать в надежде вырвать для Берлина некое подобие победы, но вскоре вынуждены были остановиться. Среди прочих потерь под Курском погиб и миф о непобедимости Манштейна, хотя Манштейн так и не взял на себя ответственность за эту неудачу.
А в тылу врага партизаны яростно атаковали немецкую систему коммуникаций: только за 20–21 июля было совершенно 430 нападений на железные дороги. Экипажи паровозов – несчастных русских, насильно мобилизованных оккупантами, – партизаны без долгих разбирательств убивали. К середине 1943 г. на Украине и в других восточных областях, где немцам не удалось установить полный контроль, насчитывалось до 250 000 партизан. Деятельность партизан была здесь гораздо активнее и эффективнее любого европейского сопротивления, в том числе и потому, что Москва поддерживала их, нисколько не смущаясь карами, обрушившимися на мирное население. «Немцы двинули на этот партизанский край танки, авиацию, артиллерию. И раздавили. Все деревни сожжены дотла. Жители ушли в лес и образовали так наз. гражданские лагеря. Отряды подробились. Большим отрядам жить нельзя: ни спрятаться (они прочесывают леса), ни прокормиться. С харчем очень туго. Последние два месяца отряд, где был Сиволобов, питался только мясом (коровы и лошади). Видеть мяса уже не могли. Хлеба нет, картошки нет, ничего. Курили рябину. У гражданских (кочующих деревень) лучше. Они кой-чего все-таки припрятали. В частности, прятали в искусственных могилах. Немцы прочухали, начали разрывать: глядь, взаправдашний немец лежит! Террор страшный. Во многих местах расстреливают детей старше 10 лет – “большевистские шпионы”», – писал побывавший на освобожденной территории военный корреспондент25.
Армия Моделя яростно обороняла Курский выступ вплоть до 25 июля, затем начала откатываться. 5 августа немцы ушли из Орла и Белгорода. 25 августа русские вернули себе Харьков, на этот раз – окончательно. Солдат Александр Слесарев писал отцу: «Мы идем по освобожденной территории, которая два года пробыла под немецкой оккупацией. Население радостно приветствует нас, несут яблоки, груши, помидоры, огурцы и т. д. В прошлом я знал Украину только по книгам, теперь же воочию вижу ее природную красоту и множество садов». Не для всех подданных Сталина возвращение под советскую власть было таким уж счастьем. «Обидно натыкаться на холодный прием в освобожденных городах», – писал солдат26. Немцы разрешали крестьянам обрабатывать наделы и собирать урожай, но вернувшаяся советская власть осуществляла коллективизацию по всей строгости и спровоцировала даже мятежи, описанные Лазарем Бронтманом27. В селе не осталось тракторов, зачастую и лошадей не было, приходилось ковырять землю лопатами и мотыгами. Иногда женщины впрягались в плуг. Даже серпов не хватало.
Боровшиеся за выживание деревни с ненавистью, порой жестоко, обходились с проходившими мимо беженцами: то были лишние рты. Крестьянка из Курской области писала: «Плохо нам теперь, без коров. У нас их забрали два месяца назад, а теперь хоть друг друга ешь!.. Парней тоже не осталось, все воюют на фронте»28. Другая женщина в письме сыну-солдату жаловалась на то, что ей приходится жить в коридоре подле комнаты сестры. Еще одна писала мужу-солдату: «Мы вот уже два месяца не ели хлеба. Лидии пора идти в школу, но у нас нет для нее ни пальто, ни обуви. Наверное, в конце концов, мы с Лидией умрем с голоду. У нас ничего нет. Миша, даже если ты уцелеешь, нас тут не будет». В деревне Барановка, в которой немцы простояли семь месяцев, Лазарь Бронтман застал уцелевшими лишь несколько хозяйственных строений. Бывший председатель колхоза ютился в хлеву с женой и тремя маленькими детьми. Животы у них раздуло от голода.
Отец семейства сказал корреспонденту: «Три месяца не видели хлеба, траву едим». И спросил со страхом: «Неужели опять немец придет?»29 Бронтман отдал несчастным килограмм хлеба, на который они смотрели как на редчайшее лакомство. Другая семья, которой Бронтман предложил чаю, отказалась, заявив, что утратила вкус к подобной роскоши. И все это происходило в одной из самых урожайных до войны областей России. Цензура перехватила письмо от женщины по фамилии Марукова из освобожденного Орла сыну в Красную армию: «Хлеба нет, а про картофель и говорить не приходится. Едим траву, уж ноги не стали ходить»30. Другая женщина по фамилии Голицына писала примерно то же самое: «Хлеба не имею ни кусочка. Встаю утром и не знаю, за что взяться, что варить. Нет ни молока, ни хлеба, ни соли. Помощи никто не оказывает».
Поначалу немцы отступали от Курска, соблюдая боевой порядок, но обе стороны понимали, что для Германии то было сокрушительное поражение: она потеряла полмиллиона солдат за 50 дней боев. Сталин, торжествуя, преисполнившись уверенности, в очередной раз устанавливал новые правила, не желая давать лишней воли Жукову и Василевскому. После Сталинградской победы дальнейшие попытки взять противника в котел не удавались, и потому Сталин принял решение: в основе стратегии Красной армии должны лежать лобовые атаки, а не окружение. К концу августа восемь советских фронтов вели 19 наступательных операций по направлению к Днепру на участке в 1100 км от Невеля до Таганрога. 8 сентября Гитлер разрешил своим войскам отступить на другой берег, а русские гнались за ними по пятам. Они даже провели один из немногих за ту войну массовых десантов: выбросили на западном берегу 4575 парашютистов, из которых уцелела едва ли половина.
Русские армии рвались вперед так же отчаянно, как в прошлом году отступали. Повседневные ужасы войны окружали солдата со всех сторон, и даже победа не утешала. Рядовой Иванов из 70-й армии горестно писал родным в Иркутск: «Смерть здесь везде и повсюду. Никогда мне не свидеться больше с тобой, смерть, страшная, безжалостная и беспощадная, оборвет мою молодую жизнь. Где же мне набрать сил и мужества, чтобы переносить все это? Все грязные до невозможности, обросли и пооборвались. Когда же будет или нет конец этой ужасной войне? Прощай, это письмо будет последним (как хотелось, чтобы оно не затерялось, это прощальное письмо). Прощайте навеки». В такой же безнадежности признается и рядовой Самохвалов: «Папаша и мамаша, я вам опишу свое положение, мое положение плохое: меня контузило. У нас в полку очень много погибло людей, ст. лейтенанта убило, командира полка убило, моих товарищей побило и много ранено, теперь только очередь за мной осталась. Мама, я за 18 лет не видал такого страху, какой был за это время, только знает грудь моя и рубаха. Мама, просите у бога, чтобы я остался жив, вашу бумажку читаю 40 раз и думаю, может, чего поможет. Мама, всю правду я вам говорю, когда был дома, не признавал никогда бога, вспоминаю его на дню 40 раз. Пишу письмо, а свою голову не знаю, куда деть. Папа и мама, прощайте последний раз, больше мне с вами не видеться, прощайте, прощайте»31.
Павел Коваленко 9 октября писал: «Мы проходили через места, где попал в окружение 19-й полк. Повсюду трупы и разбитые машины. У многих глаза выткнуты. Да люди ли эти немцы? Не могу с таким примириться. Люди приходят в часть и погибают. Старший лейтенант Пучков убит. Жалко мальчика. Прошлой ночью кавалерист наскочил на мину, разорвало в куски и лошадь, и всадника. Ночь я просидел у костра, дрожа, зубы так и стучали от холода и влаги»32.
На следующий день его отряд вошел в белорусское селение Яновичи. «Что уцелело? Только руины, зола и обгоревшие бревна. Живых душ – два кота с опаленной шерстью. Я погладил одного и угостил его картошкой. Он замурлыкал. Повсюду несобранная картошка, свекла и капуста. Прежде чем угнать население, немцы предложили людям закопать свое добро. И эти жалкие ошметки домашнего уюта валяются теперь в садах. Все пригодное немцы прихватили с собой. Из трехсот домов уцелел один, остальные сгорели. Сидит старуха, горюет. Глаза безжизненные, смотрит куда-то вдаль. Ничего у нее не осталось, и вот-вот наступит зима».
День изо дня по мере продвижения Красной армии повторялись такие сцены. «Скажу откровенно, что жестокость танковых боев меня потрясла, – вспоминал много лет спустя разведчик Иван Мельников. – Но что чувствовали в тесных железных коробках люди, идущие под огонь орудий, можно только представить. Однажды я увидел сразу десять или одиннадцать сгоревших “тридцатьчетверок”. Жуткое зрелище. Почти все трупы, лежавшие рядом, сильно обгорели. А уж что осталось от тех, кто был внутри, лучше не рассказывать. Головешки, комки угля»33. Однажды ночью разведчики из его части попали под огонь, четверо из шести погибли на месте, а на следующий день немцы для развлечения устроили стрельбище, используя тела убитых вместо мишеней. «К вечеру тела представляли собой жуткое зрелище. Бесформенные, изорванные пулями трупы со снесенными лицами, отбитыми руками»34.
Командиры гнали свои подразделения вперед так быстро, что лошади, тащившие обоз, обессилев, отказывались даже от корма. Многие животные остались лежать на обочине среди рядов наспех вырытых немецких могил, черепов, полуразложившихся трупов, брошенных саней, сгоревших машин. «Мы идем по следам войны, – писал Коваленко. – Повсюду хаос. С болью и беспомощностью в душе созерцаю я эти картины разрушения и смерти»35.
Но вот снег вновь накрыл белым покровом поле битвы – близился конец 1943 г., – и русские захватили два крупных плацдарма: у Днепра вокруг Киева и под Черкассами. Немцы оставили Смоленск 25 сентября, кое-как еще удерживались в Крыму. 6 ноября Красная армия взяла Киев. Василий Гроссман описывал свою встречу с пехотинцами поблизости от измученного города:
«Пришел на командный пункт заместитель командира батальона старший лейтенант Сурков. Шесть ночей не спал он. Лицо его обросло бородой. Но не видно усталости в этом человеке, он весь еще охвачен страшным возбуждением боя. Может быть, через полчаса он уснет, положив под голову полевую сумку, и тогда уже не пробуй разбудить его. А сейчас глаза его блестят, голос звучит резко, возбужденно. Этот человек, бывший до войны учителем истории, словно несет в себе огонь днепровской битвы. Сурков рассказывает о немецких контратаках, о наших ударах, рассказывает, как откопал засыпанного в окопе посыльного, своего земляка, когда-то бывшего у него учеником в школе. Сурков учил его истории; сейчас они боевые участники событий, о которых будут через сто лет рассказывать школьникам»36.
Более половины советской территории, отошедшей к Гитлеру после 22 июня 1941 г., уже было освобождено. К концу 1943 г. погибло 77 % всех советских жертв той войны – около 20 млн человек. «Фронт прорван, – торжествовал Коваленко 20 сентября. – Мы продвигаемся. Продвигаемся медленно, ощупью. Повсюду ловушки, минные поля. За день прошли 14 км. В 14:10 случилось небольшое замешательство. Наша эскадрилья по ошибке обстреляла нашу же колонну. Обидно видеть, как свои стреляют по своим, кто-то был ранен, кто-то убит. Тяжело». 3 октября он продолжает:
«Организация дела и в походе, и в бою оставляет желать лучшего. В особенности плохо скоординированы действия артиллерии и пехоты, палят куда придется… колоссальные потери. В батальонах осталось по 60 человек. С кем пойдем в атаку? Немцы зверски сопротивляются. Власовцы сражаются в их рядах. Псы поганые. Двоих захватили, мальчишки 1925 г. Не возиться, пристрелить сукиных детей». И еще три дня спустя он пишет: «Вновь продвигаемся, но без особого успеха, на полшага там и сям. Пехоты мало, снаряды заканчиваются. Немцы сожгли все деревни. Разведчики, действующие у них в тылу, вывели из леса группу прятавшихся там мирных жителей. Мы, похоже, увязли в болотах. Как выбираться? Дождь, грязь»37.
Точно в таком же положении находился и отряд капитана Белова: «Зиму придется проводить в лесу и в болотах. С 10 часов начали наступление. За сутки продвинулись километров на 6. Нет боеприпасов и снарядов. Недостаточно продуктов. Тылы отстали. Много людей абсолютно не имеющих обуви»38.
В целом у русских солдат не было причин веселиться: они понимали, как далек еще путь до Берлина. Немолодой офицер Игнатов жаловался в письме жене на плохую организацию армии: «Когда я воевал в 17–18 гг., солдаты были дисциплинированы лучше, сравниваю с гражданской войной. Дисциплина была железная. Сейчас раздемократились… Приходящее пополнение в военном отношении не обучено. Как старый солдат знаю, каким должен быть солдат русской армии… Когда начинаешь подтягивать до уровня настоящего воина, проявляют недовольство, и начинает группироваться мнение, что командир жесток… Лопата, говорят, друг солдата, а в бой мы пошли без лопат. Обещали. Вот эти обещания настолько надоели, что веры нет»39. Сержант из отделения Владимира Першавина вместе со своим лейтенантом отправился собирать нательные бирки с солдат, погибших по вине этого лейтенанта: сбившись с пути, он вывел их прямиком на немецкий пулемет. «Паскуда! – не обращаясь к лейтенанту, сплюнул в его сторону сержант. – Восемь душ ни за хрен погубил»40.
Но немцам приходилось намного хуже. «Сегодня утром в 39-й пехотной дивизии осталось шесть офицеров и около трехсот человек, – отчитывался один из командиров 2 сентября. – Силы их убывают, глубокая усталость вызывает тревогу: войска охватила столь глубокая апатия, что даже драконовскими мерами невозможно добиться желаемого результата. Помогают только личный пример офицеров и ласковое убеждение»41. Происходят ужасные сцены: во время бегства к Днепру дисциплина рушится беспрецедентным для вермахта образом. «Обезумевшие люди бросали все на берегу и сами бросались в воду, пытаясь доплыть до противоположного берега, – писал солдат. – Тысячи голосов неслись над серой водой к тому берегу. Офицеры, сумевшие как-то совладать с собой, организовали наиболее ответственных людей и с их помощью старались вести других, словно пастухи – обезумевших овец. Мы услышали пулеметный огонь и взрывы, душераздирающие вопли»42. Многие в итоге перебрались на импровизированных плотах. Вновь немецкая армия перегруппировалась, вновь упорно отстаивала занятый ею рубеж.
Предстояло еще много битв. Офицер-танкист Тассило фон Богенхардт дивился парадоксу: его люди примирились с мыслью о неизбежной смерти, но дух их не дрогнул. «Любой немецкий солдат считает себя заведомо выше русского, пусть числом те и превосходят. Медленное, дисциплинированное отступление не подорвало мораль. Мы видели, что мы за себя постоим»43. Но вскоре бедняга был ранен и попал в плен. Каким-то чудом он сумел пережить и три года в плену. 1943 г. стал для немецких солдат на Востоке годом непоправимой катастрофы, а для армии Сталина – предвестием грядущего торжества.
16. Раскол в империи
1. Чья свобода?
Уинстон Черчилль сильно преувеличил, заявив 8 декабря 1941 г. в палате общин: «На нашей стороне по меньшей мере четыре пятых населения Земли». Точнее было бы сказать, что четыре пятых населения Земли либо находится под контролем союзников, либо борется против покушения оси на их суверенитет. Пропаганда опиралась на идею общей борьбы всех «свободных народов», к которым приходилось хотя бы номинально причислять народ Сталина, против тоталитаризма. Но в каждой стране обнаруживались свои нюансы политической позиции, а порой понятия о лояльности расходились кардинально.
Южная Америка – единственный мало вовлеченный во всемирную борьбу континент, и то Бразилия в августе 1942 г. присоединилась к союзникам и направила 25 000 солдат для участия в Итальянской кампании, хотя это и прошло почти незамеченным. Ускользнуть от конфликта удалось в основном тем народам, которых защищала географическая отдаленность от основных событий. Из государств, соблюдавших нейтралитет, наиболее важным была Турция, хорошо усвоившая горький урок после опрометчивого вмешательства в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. В Европе счастливчиками, чью независимость пощадили обе враждующие стороны, оказались только Ирландия, Испания, Португалия, Швеция и Швейцария, и причина была не в особом к ним отношении, а вполне прагматическая. Ирландия добилась в 1922 г. статуса самоуправляемого доминиона, но до 1938 г. Великобритания контролировала четыре «договорных порта» на побережье этого острова, имеющих стратегическое значение. В 1939–1940 гг., когда былая метрополия боролась за выживание против немецких подводных лодок, Уинстон Черчилль не мог не почувствовать искушения силой вернуть своей стране эти морские и воздушные базы. Остановило его только опасение оттолкнуть от себя Соединенные Штаты с их сильным ирландским лобби.
«Белое пятно» в Атлантике удалось бы существенно сократить, чем спасти многие жизни и значительную часть кораблей и груза, если бы ирландский премьер-министр Имон де Валера не питал фанатическую ненависть к своим соседям-англичанам. Экипажи боевых и торговых кораблей, проплывавших мимо ирландских берегов в пору войны, преисполнялись горечи по отношению к этой стране, которая получала из Англии большую часть продуктов и все горючее, но пальцем не желала шевельнуть, когда для Англии настал час нужды. «Мы заплатили такую цену людьми и кораблями, что улыбка ирландца в день победы союзников не закроет этот счет, – писал офицер корвета Николас Монсаррат. – В списке тех, с кем мы будем дружить после войны, едва ли займут верхнюю строку люди, которые стояли и смотрели, как нам перерезают глотку»1. Но из-за проблем с суверенитетом и лояльностью Великобритания не решилась провести мобилизацию даже в северных графствах, которые оставались в ее составе. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: в вооруженных силах Британии в пору войны оказалось больше собственно ирландцев из Ирландии, чем протестантов из Северной Ирландии, которые так громко клялись в верности короне. Правда, южане главным образом шли на службу из экономических соображений, чем из особой приверженности делу союзников.
Швеция отстаивала свой нейтралитет с большей твердостью, поскольку близость к Германии делала эту страну уязвимой для нападения: агентов и информаторов союзников шведы неумолимо отправляли в тюрьму. Лишь в 1944–1945 гг., когда исход войны представлялся уже очевидным, Стокгольм сделался податлив на дипломатическое давление Лондона и Вашингтона и не преследовал более их сторонников.
Многие разведывательные операции союзников проводились на территории Швейцарии, хотя и здесь любая деятельность такого рода пресекалась сразу, как только становилась известна властям. Страна отказала в убежище евреям, бежавшим от нацистов, а ее банки обогатились, принимая на хранение имущество и нацистских лидеров, и их еврейских жертв: в итоге значительная часть вкладов и депозитов досталась банкам, поскольку владельцы погибли. Эстелла Сапир, дочь богатого французского еврея, погибшего в холокосте, говорила: «Мой отец сумел уберечь свои деньги от нацистов, но не от швейцарцев»2. Швейцария оказывала существенную промышленную и технологическую поддержку странам оси: в 1941 г. она увеличила экспорт химикатов в Германию на 250 %, металлов – на 500 %. В Швейцарию направлялся основной поток «трофеев» наци со всей ограбленной ими Европы; в банках, по оценкам американского Управления стратегических служб (OSS), накопились «гигантские суммы» перемещенных фондов3. Швейцарцы, глазом не моргнув, выплачивали нацистам страховые премии по полисам уничтоженных немецких евреев, а после войны Берн отмахивался от любых обвинений по этому поводу, ибо «все соответствовало швейцарскому законодательству»4. Лишь малая доля заоблачных доходов Швейцарии от злоупотреблений военного времени была со временем признана, и уж совсем ничтожные репарации выплачены евреям или родственникам жертв. Для ледяных сердец жителей кантонов война оказалась всего-навсего хорошим бизнесом.
Что же касается стран, участвовавших в конфликте на стороне союзников, их ненависть к врагу, как нетрудно догадаться, угасала с расстоянием от места событий и последствий агрессии. Например, опрос, проведенный в середине 1942 г. Управлением военной информации, показал, что треть американцев предпочла бы сепаратный мир с Германией5. Январский опрос 1944 г. обнаружил, что ненависть к германцам питают 45 % англичан и всего 27 % канадцев.
И все же для большинства народов Европы и Азии война превратилась в страшную повседневную реальность. В республиках советской Средней Азии, в неизвестных большому миру уголках, забирали из семей кормильцев в Красную армию, поблизости от кишлаков вырастали лагеря военнопленных, хронически недоставало еды. 19 февраля 1942 г. японские летчики долетели до североавстралийского порта Дарвин и сбросили бомбы, убив 297 человек, в основном докеров и работавших в гавани грузчиков. Хотя налеты такого масштаба никогда больше не повторялись и Австралию тревожили разве что спорадические и весьма незначительные морские операции Японии, уверенность страны в своей недосягаемости для военных действий пошатнулась. Племена тихоокеанских островов и обитатели азиатских джунглей вербовались в ту или иную армию, хотя обычно не понимали, за что или против чего сражаются их господа. Даже в некоторых районах России отмечалось подобное невежество: начальник одного из лагерей у реки Печоры, за полярным кругом, удивлялся тому, как мало в соседних деревнях осведомлены о мировых событиях. Крестьяне почти ничего не знали даже о войне с Германией6.
Подавляющее большинство населения воюющих стран (за исключением Италии) поддерживало в этом конфликте свои правительства, по крайней мере пока их страна не начинала проигрывать. Однако существовали и оппозиционные меньшинства, тысячи людей были посажены за противодействие военным усилиям в тюрьму, в том числе и в демократических странах. Насилию подвергались и те люди, в чьей лояльности возникали сомнения, порой совершенно несправедливые: так, в Англии в 1939 г. арестовали всех граждан Германии, в том числе спасавшихся от Гитлера евреев. Историк Тревельян был в числе известных людей, протестовавших против огульных арестов: правительство, по его словам, не понимало, какой ущерб «наносит нашему делу, особенно с моральной точки зрения… когда подвергает заключению, хватает политических беженцев». Точно такую же ошибку допустила и Америка, интернировав живших в стране уже не первое поколение японцев. Отстаивавший эти меры губернатор Айдахо заявил: «Япошки живут, словно крысы, размножаются, словно крысы, ведут себя, словно крысы. Нам они тут не нужны»7.
К началу войны Штаты отнюдь не представляли из себя однородное общество. Например, сограждане относились с подозрением к евреям, их не допускали в клубы и другие элитарные заведения. Опросы военного времени показали, что из всех этнических групп наибольшее недоверие навлекли на себя итальянцы, а почетное второе место занимали евреи: так, отвечая на опрос в декабре 1944 г., большинство американцев готовы были признать, что Гитлер расправился с каким-то количеством евреев, но никак не уничтожает их миллионами.
У чернокожих американцев имелись все основания скептически взирать на «крестовый поход во имя свободы», ибо в их родной стране сохранялась расовая сегрегация, и в армии тоже. На ресторане рядом с тренировочным лагерем в Южной Каролине, где обучался Джон Капано, висело объявление «Ниггерам и янки вход запрещен». Капано вспоминал: «Там был такой “белый” отряд, который все время колошматил черных на автостоянке»8. В 1940 г. были зафиксированы шесть случаев линчевания чернокожих на юге, из них четыре – в Джорджии, а также множество избиений, из которых три также закончились смертельным исходом. Виргинские дамы подали официальный протест против посещения Элеонорой Рузвельт «смешанных» танцев в Вашингтоне: «Опасность, – писали эти дамы, – заключается не в нравственном падении девиц, принимавших участие в танцах, ибо они… и без того принадлежат к худшим представительницам женского пола, но в том, что миссис Рузвельт своим присутствием придала достоинство этом унизительному мероприятию, супруга президента Соединенных Штатов санкционировала увеселение, в котором участвуют… обе расы, и ее примеру могут последовать другие неразумные белые»9.
Существенный приток чернокожих рабочих в Детройте вызвал в 1942 г. возмущение со стороны белых, а к июню начались уже серьезные столкновения. В следующем году расовые гонения продолжались: в Детройте они были направлены против черных, а в Лос-Анджелесе – против мексиканцев. Президент обошел молчанием ситуацию в Детройте и в целом до самой смерти предпочитал не вмешиваться в расовые проблемы. Тем временем доля чернокожих рабочих в оборонной промышленности возросла с 2 % в 1942 г. до 8 % в 1945-м, но все равно была ниже пропорциональной. Немало афроамериканцев было призвано в армию, однако почти никому не доверили оружие, а сегрегация давала себя знать и здесь: американский Красный Крест отделял даже запасы крови «для белых» и «для цветных». Некоторые люди хотели бы понять разницу между особо помеченными скамейками «для евреев» в нацистской Германии и «для цветных» во Флориде.
В начале войны многие белые американцы, иммигранты первого и второго поколения, идентифицировали себя как часть той национальной группы, к которой они принадлежали раньше. Особенно это было заметно в среде американцев итальянского происхождения, которых насчитывалось около пяти миллионов: вплоть до декабря 1941 г. в их местных газетах прославлялся великий Муссолини. Было опубликовано письмо читателя, одобрявшего вторжение немцев в Польшу и предсказывавшего, что «обновленная Италия победит и завоюет земли, как римские легионы при Цезаре»10. Даже после того, как их новая родина объявила войну Муссолини, многие италоамериканцы пытались вообразить некий сценарий, в котором победа США не предполагала бы поражения Италии.
Но к 1945 г. произошли большие изменения. Тяготы войны и в особенности совместная служба в армии способствовали ускоренной интеграции национальных групп. Например, Энтони Карулло перебрался с семьей в США с юга Италии в 1938 г. Из армии (он служил в Европе) Энтони вынужден был писать только сестрам, а не матери, которая не выучила английский. Тем не менее на вопрос «Будете ли вы сражаться с итальянцами, если мы отправим вас на Апеннины?» двадцатилетний солдат решительно отвечал: «Я – гражданин Америки и готов сражаться с кем угодно»11. Сержант Генри Киссинджер, немец по крови, впоследствии утверждал, что именно война выковала из него настоящего американца12. С 1942 по 1945 г. миллионы его соотечественников, таких же недавних иммигрантов, становились гражданами.
Гораздо более сложным и мучительным был вопрос о патриотизме и лояльности для жителей стран, оккупированных державами оси, и для колоний, находившихся под властью европейских держав. В некоторых регионах по сей день спорят, считать ли тех, кто согласился служить немцам или японцам или оказывал сопротивление союзникам, предателями или же это была своеобразная форма патриотизма. Многие европейцы под оккупацией оставались на службе в полиции, действовали против интересов союзников и на руку немцам: так, французские жандармы ловили евреев и отправляли их в лагеря смерти. И вопреки легенде о поголовно помогавших евреям голландцах (возникновению этого образа способствовал дневник Анны Франк) на деле голландские полицейские оказались намного беспощаднее французских коллег: отлавливали, обрекая на депортацию и заведомую гибель, бόльшую часть своих соотечественников-евреев.
Францию раздирали внутренние противоречия. Правительство Виши пользовалось широкой поддержкой, особенно в первые годы войны, а это предполагало сотрудничество с Германией. Немецкий участник Комиссии по перемирию в 1940–1941 гг. Тассило фон Богенхардт отмечал, что ему было интересно поболтать с французскими членами той же комиссии. «Я заметил, что их задевает стойкость англичан под нашими бомбежками. Они восхищаются маршалом Петеном и уважают его настолько же, насколько недолюбливают коммунистов и Народный фронт»13. В дивизию СС «Вестланд» записалось 25 000 французских добровольцев. И хотя несколько колоний Франции перешли на сторону сформированного де Голлем в Лондоне правительства, большинство держало сторону Виши. Даже после вступления США в войну французские солдаты, моряки и пилоты продолжали оказывать сопротивление союзникам. В мае 1942 г., когда англичане высадились на контролируемом Виши Мадагаскаре, чтобы помешать японцам захватить этот стратегически важный остров, сражения продолжались не один день. Мадагаскар больше Франции, протяженность его составляет более полутора тысяч километров. Генерал-губернатор острова дал знать Виши: «Наши воины готовы оказывать сопротивление врагу на каждом шагу с тем же боевым духом, который осенял наши войска при Диего-Суаресе, при Маджунге, при Тананариве [перечисляются прежние столкновения вишистов с союзниками]… где всякий раз героическая оборона была вписана в историю Франции!»
Случались и схватки на море: Королевский флот вынужден был потопить у берегов Мадагаскара французский фрегат и три подводные лодки, среди оборонявших остров погибли 171 человек и 343 было ранено, в то время как англичане потеряли 105 человек погибшими и 283 ранеными. Капитан подводной лодки Glorieux, получив от губернатора приказ уйти в вишистский Дакар, выразил сожаление, что его лишают возможности нанести удар по британскому флоту: «Весь экипаж горько разочарован, как и я сам: мы видим перед собой идеальную мишень для субмарины, но лишены шанса атаковать ее»14. Защитники Мадагаскара капитулировали только 5 ноября 1942 г. Как и в других местах, желание присоединиться к де Голлю выразили немногие. А там, где верх брали вишисты, французы обращались с пленными солдатами союзников и даже с гражданскими лицами грубо, порой с откровенной жестокостью. «Французы подлецы, – заявила миссис Эна Стоунман, спасшаяся с затонувшего лайнера Laconia и побывавшая в плену у марокканских французов. – В конце концов, мы уже их, а не германцев считали за врагов. По большей части они обращались с нами как с животными». Даже в ноябре 1942 г., когда в исходе войны сомнений не оставалось, французы удивили и даже шокировали американцев упорной обороной при высадке союзников в Северной Африке.
В самой Франции Сопротивление поддерживали очень немногие, пока немцы в 1943 г. не ввели принудительную трудовую мобилизацию – тогда молодые люди стали присоединяться к маки, но сражались они с переменным энтузиазмом. Бороться против оккупантов было трудно и смертельно опасно. Застарелый антисемитизм избавлял большинство французов от желания спасать евреев из лагерей уничтожения. Значительная часть французских аристократов сотрудничала с немцами и с режимом Виши, который действовал на территории центральной и южной Франции, пока немцы не захватили и эти территории в ноябре 1942 г.
Были из этого печального правила и прекрасные исключения, в том числе графиня Лили де Пастре. Она родилась в 1891 г., мать ее была русской, а отец принадлежал к богатой династии производителей вермута Noilly Prat. В 1916 г. она вышла замуж за графа Пастре, из семьи, сколотившей состоянии в XIX в. на морских перевозках. К 1940 г. они развелись, но графиня оставалась жить в роскошном шато де Монтредон к югу от Марселя. Она не жалела денег на то, чтобы превратить Монтредон в пристанище художников, бежавших с оккупированной немцами территории (большинство из них составляли евреи). Она создала организацию Pour que l’Esprit Vive («Чтобы дух жил») и помогала тем, кто находился в опасности, деньгами, предоставляла им крышу над головой. Одновременно в шато жило по сорок человек – писателей, музыкантов, художников, в том числе Андре Массон и чех Рудольф Кунжера, еврейская пианистка Клара Хаскил и арфистка Лили Ласкин. Пастре организовала для Хаскил операцию по удалению опухоли глазного нерва и переправила ее в Швейцарию.
Жители замка регулярно устраивали репетиции и вечерние концерты. Для поощрения творчества графиня назначила премию 5000 франков за лучшее исполнение фортепианных сочинений Брамса. Вершиной ее продюсерской деятельности стала постановка «Сна в летнюю ночь» при лунном свете в ночь на 26 июля 1942 г. с 52 актерами на сцене и с оркестром во главе с еврейским дирижером. Костюмы сшил молодой Кристиан Диор из занавесок шато Монтредон. Деятельность Лили де Пастре была насильственно оборвана под конец войны: замком завладел вермахт, часть ее друзей, в том числе еврейского композитора немецкого происхождения Альфреда Токайера, отправили в концлагеря. И все же старания графиня помочь хоть кому-то из обреченных жертв нацизма достойно выделяются на фоне общего равнодушия французских аристократов, боявшихся за свои жизни и свои кошельки. Лили умерла в 1974 г. в бедности, растратив огромное состояние на благотворительность, в первую очередь – в годы войны.
Некоторые маленькие страны сопротивлялись упорнее, чем Франция. Дания, единственная из стран Европы, отказалась соучаствовать в депортации евреев, и почти все датские евреи уцелели. Мало кто из 293 000 жителей крошечного Великого Герцогства Люксембург радовался вхождению в состав гитлеровского рейха. В 1940 г. во время немецкого вторжения семеро из 87 защитников герцогства были ранены; герцог с семьей и министрами ускользнул в Лондон и сформировал там правительство в изгнании. Когда в октябре 1941 г. был проведен плебисцит по вопросу присоединения к Германии, 97 % населения проголосовали против. Берлин только плечами пожал, объявил всех люксембуржцев гражданами Германии и начал мобилизовать их в вермахт. Народ ответил всеобщей стачкой: сломить ее немцам удалось, лишь казнив двадцать одного члена профсоюза и еще несколько сот отправив в концлагерь. Не будем идеализировать сопротивление Великого Герцогства: после войны 10 000 его жителей были осуждены за коллаборационизм, и 2848 люксембуржцев погибли на фронте в немецкой униформе. Но подавляющее большинство населения было против нацистской гегемонии и сумело выразить свой протест.
Хуже обстояли дела на Востоке: украинцы и жители Прибалтики активно вступали в вермахт, поскольку сталинский режим ненавидели больше, чем нацистов. Украинцы поставляли охранников в гитлеровские лагеря смерти, и в феврале 1944 г. Николай Ватутин, один из лучших сталинских генералов, был убит антисоветскими украинскими партизанами, подкараулившими его автомобиль. В оккупированной Югославии немцы использовали межэтническую рознь, натравив хорватское ополчение (усташей) на сербов. Усташи вместе с надевшими немецкие мундиры казаками совершали чудовищные злодейства по отношению к своим согражданам. В последние годы войны немцы брали на службу всех, кто соглашался пойти в вермахт, – казаков, латышей, набрали даже несколько подразделений скандинавов, французов, бельгийцев и голландцев.
Возможно, самым экзотическим контингентом гитлеровского войска стали 13-я и 23-я дивизии СС, навербованные в основном из боснийских мусульман, которыми управляли хорваты, а в бой их вели немецкие офицеры. На парад эти солдаты выходили в фесках с кисточками. По словам Гиммлера, эсэсовцы-мусульмане были из «самых доблестных и верных приверженцев нашего фюрера в силу их ненависти к общему врагу – иудео-англо-большевикам». Гиммлер слегка подтасовывал факты (15 % этих мусульманских подразделений составляли католики-хорваты), но он действительно старался обеспечить фюреру поддержку мусульман и с этой целью создал в Дрездене военную школу мулл, а с Иерусалимским муфтием договорился об организации в Берлине школы имамов, где бы офицеров СС наставляли в общих нацистско-мусульманских ценностях. Один из командиров этих мусульманских подразделений, своеобразный человек по имени Карл-Густав Зауберцвайг, предпочитавший называть своих солдат «детишки», утверждал: «Мусульмане из наших дивизий СС начинают видеть в фюрере новое воплощение Пророка». Однако Зауберцвайга отстранили от командования 13-й дивизией СС после того, как дивизия плохо себя зарекомендовала в Югославии в 1944 г., и рекруты-мусульмане практически не сыграли никакой роли в армии Гитлера.
Партизанскую войну против оккупантов вдохновляли и материально поддерживали союзники. В послевоенной литературе она была прославлена и опоэтизирована, хотя стратегическое ее значение было невелико. Группы сопротивления редко отличались единством состава и мотивов, а также эффективностью, как отмечал в своем дневнике итальянец Эмануэль Антом, впоследствии казненный немцами: «Хочу зафиксировать реальность на случай, если десятилетия спустя псевдолиберальная риторика превратит партизан в чистых героев. Мы есть то, что мы есть, смесь индивидуумов, из которых одни действуют по совести, другие – из политических убеждений, есть и дезертиры, боящиеся депортации в Германию, кого-то привела к нам любовь к приключениям, кого-то – склонность к бандитизму. Есть среди нас и такие, кто учиняет насилие, напивается, брюхатит девчонок»15.
Так обстояло дело во всех движениях Сопротивления по всей оккупированной Европе. Обе стороны действовали жестоко: в Управлении спецопераций произошел переполох, когда курьер из французского сектора Анна-Мария Уолтерс обвинила своего английского шефа, подполковника Джорджа Старра, в систематических пытках коллаборационистов и пленных. В Англии провели расследование, и старший офицер управления, полковник Стэнли Вулрич, писал, что, вопреки удачным операциям Старра, «его послужной список несколько замаран склонностью к садизму, на которую все труднее становится закрывать глаза. Нет сомнения, что пытки пленных применяются чрезвычайно широко»16. Обвинения Уолтерс тем не менее удалось замять, хотя они отражают страсти и жестокость, типичные для партизанской войны.
Неудивительно, что активно поддерживали Сопротивление очень немногие, ведь слишком высока была цена. Питер Кемп, офицер Управления спецоперациями, действовавший в Албании, описывает инцидент 1943 г.: он вместе с другими англичанами после нападения на автомобиль немецкого штаба пытался укрыться в деревне. Стилиан, их переводчик, долго спорил с негодующим крестьянином через приоткрытую дверь, и в результате дверь захлопнулась у них перед носом. «Нас не впустят, – пояснил Стилиан. – Они слышали стрельбу на дороге, очень боятся и сердятся на нас за то, что у них будут неприятности»17. Кто вправе осудить этих людей? Они знали, что их ждет суровое наказание, а молодые чужаки – искатели приключений – двинутся дальше, чтобы напасть на войска оси в каком-нибудь другом месте. Кемп признает: «Со временем становилось все более очевидным, что награда, которой мы могли бы соблазнить албанцев, чтобы они взялись за оружие, была ничтожна по сравнению с выгодами бездействия. Мы, английские офицеры связи, далеко не сразу поняли их точку зрения. Это наше национальное свойство: нам кажется, будто всякий, кто не поддерживает нас в борьбе от всей души, питает какие-то зловещие замыслы и не желает сделать этот мир лучше»18.
Заморские европейские колонии раздирались противоборствующими интересами, и в особенности острой эта борьба становилась в оккупированных колониях. В Индокитае при всех сложностях и даже аномалиях вплоть до марта 1945 г. развевался французский флаг: вишистский режим во главе с адмиралом Жаном Деко управлял страной, подчиняясь распоряжениям японской военной миссии. В сентябре 1940 г. японские войска доказали свое безусловное господство в регионе, напав на два тонкинских города и перебив 800 французских солдат, а затем вернулись в Южный Китай. Конфликт локальных лояльностей усугубился, когда военные корабли Виши осуществили ряд боевых действий против соседнего Таиланда (Сиама), пытавшегося присвоить оспариваемые территории на границы с Лаосом и Камбоджей (Кампучией). Японцы вмешались в интересах своего подопечного (Таиланда) и вынудили французов к отступлению. 35 000 японских солдат действовали по своему усмотрению в Индокитае, включенном в так называемую Сферу совместного процветания Азии. Вишисты сохраняли ошметки личной свободы лишь до тех пор, пока они, подобно европейским сателлитам наци, осуществляли политику своих господ, стран оси. В марте 1945 г. по приказу из освобожденного Парижа французские войска подняли безнадежное восстание, которое японцы быстро и жестоко подавили, установив в результате полный контроль над страной.
Вьетнамцы, лаосцы и кампучийцы начиная с 1942 г. подвергались тяжким испытаниям: японцы целенаправленно разоряли их страну. Один пожилой вьетнамец много лет спустя говорил, что те времена были гораздо хуже поры войн за независимость. Рис, кукуруза, уголь и каучук отправлялись в Японию, рисовые поля в приказном порядке засеивались джутом и хлопком: оккупантам требовалось сырье для тканей. Местных жителей лишали продуктов их труда и земли, и голод распространялся с чудовищной скоростью: в Тонкине к 1945 г. скончалось по меньшей мере полтора миллиона вьетнамцев, и это в стране, которая перед войной давала третий в мире урожай риса. Французские колониальные власти подавляли протест на местах и мятежи с такой жестокостью, что и японцы могли бы позавидовать.
Главным образом от несчастий Вьетнама выиграло коммунистическое движение. В северных районах страны, где особенно тяжело сказывалась политика Токио, коммунисты приобрели существенную поддержку. До лета 1945 г. вооруженного сопротивления японцам здесь практически не оказывалось, поскольку верные своим антиимпериалистическим убеждениям американцы не желали переправлять офицеров Свободной Франции из Китая во Вьетнам. Только летом того года Управление стратегических служб США стало доставлять вьетнамским коммунистам оружие в запоздалой попытке столкнуть их с японцами. Впрочем, от оружия лидер коммунистов Нгуен Ай Куок, вошедший в историю как Хо Ши Мин, не отказывался. Действовавший на этой территории представитель управления с щенячьим восторгом преклонялся перед партизанами, проявляя эпических масштабов наивность по поводу их политики, приправленной закоренелой ненавистью к местным французам-колонизаторам.
Во Вьетмине к тому времени состояло около 5000 активных участников, которые были готовы сражаться против французов, но вовсе не собирались расходовать свои силы на японцев. Они либо припасали оружие для послевоенной борьбы за независимость, либо навязывали с его помощью свою волю местному сельскому населению. Под давлением Вашингтона Управление стратегических служб уговорило партизан создать хотя бы видимость борьбы против оккупантов: одна группа демонстративно напала на небольшую колонну японского обоза, а та обратилась в бегство, не понеся больших потерь. В другой раз, 17 июля 1945 г., батальон вьетминцев под командованием Нгуена Ги атаковал японскую заставу у Тим Доа, перебил восемь человек из сорока, остальных захватил в плен. Но этим, по-видимому, вклад Вьетминя в дело союзников исчерпывается, а США поставили коммунистам несколько тонн вооружения и боеприпасов, которые потом будут использованы против колониальных французских войск, вернувшихся в страну.
Гораздо бόльшие усилия союзники направляли, разумеется, на британские колонии. Отношения Лондона с «белыми» самоуправляющимися доминионами отличались и неуклюжестью, и эгоистичной жестокостью, усилившейся в ходе глобального конфликта, а уж по отношению к черным и смуглым народам имперская политика и вовсе была однозначной. Черчилль подтвердил намерение сохранить гегемонию над Индией и в ноябре 1942 г., к возмущению американской общественности, заявил, что не затем принял пост первого министра Его Величества, чтобы способствовать развалу Британской империи. Англичане по большей части сентиментально восхищались вкладом индийцев и других колониальных народов в общее дело войны, забывая, что эти услуги покупались за деньги и крайне редко проистекали из верности союзникам, да и мало кто в колониях понимал суть этой войны. Джеймс Мпаги из Кампалы (Уганда) рассуждал так: «Мы считали войну чем-то простым… как спор из-за коровы или ссора между соседними деревнями»19.
Великобритания принимала верность своих чернокожих и коричневых подданных как неизменный факт, тем более что в 1939 г. губернаторы и известные жители колоний выразили свою поддержку метрополии. Несогласных голосов не было слышно; в конечном счете Африка и Карибский бассейн поставили около полумиллиона солдат; три африканские дивизии несли службу в Бирме, но большинство чернокожих солдат направлялось на трудовой фронт. Великобритания никогда не проводила в своих африканских владениях военной мобилизации, но сильное давление на местах, а порой и прямое принуждение использовалось, чтобы завербовать туземцев, которые воевали в английских мундирах под командованием белых офицеров. Батисон Гересомо из Ньясаленда (Родезия) вспоминал: «Услышав о войне, мы не знали… станут ли забирать всех силой. Белые люди приходили во все округа за солдатами. Кому-то велели идти вожди, кто-то пошел сам»20. Сверх того, в Восточной Африке набирали рабочую силу для сельского хозяйства, чем не преминули воспользоваться белые фермеры. Местные вожди в колонии Золотого берега (Гана) поспешили навстречу желаниям властей и принудили молодых людей завербоваться. Целые хоры пели, завлекая рекрутов. В одной песне обыгрывалось созвучие слова barima, которое на аканском языке означает «храбрые мужи» и «Бирма»:
Barima ehh yen ko ooh! Barima yen ko ooh! Yen ko East Africa, Barima Besin, na yen ko! Храбрецы и воины, идем! Храбрецы и воины, идем! Идем в Восточную Африку и Бирму, Идем скорей!Кофи Генфи описывает процесс вербовки в Ашанти, где окружной комиссар капитан Синклер получил задание набрать определенную квоту людей. Синклер, со своей стороны, распределил доли от этой квоты по племенам и вождям: «У Синклера был список, он знал, сколько человек будет от каждой деревни. Он садился в грузовик и ехал за ними»21. В Бэтхерсте (Гамбия) в 1943 г. применялись более жесткие меры: схватили четыреста «мальчиков с угла» (чернокожих гаврошей) и зачислили их в солдаты по приказу английского губернатора. Четверть из них сбежала во время подготовки. В Аккре тоже один человек вспоминал, как его схватили на улице солдаты, когда он был в гостях у брата. В Сьерра-Леоне в армию отправляли тех, кого удавалось поймать на незаконной добыче алмазов; предлагалась эта альтернатива и осужденным по уголовным делам вместо тюремного заключения.
И все же многие африканцы шли в армию добровольно, точнее, потому, что нуждались в работе и деньгах. Хотя все, конечно же, объявляли себя совершеннолетними, кое-кому было существенно меньше восемнадцати лет. Мало кто понимал, что такое война, а когда их начали отправлять за море, дезертирство сделалось массовым явлением. Солдаты Ньясаленда из Королевских африканских стрелков, отправляясь в Бирму, пели песенку под названием «Sole» – так звучало в их произношении английское sorry, которому они придавали помимо обычного значения «жаль» и другой смысл: «беда».
Sole, sole, sole. Мы не знаем, куда отправляемся Мы отправляемся прочь, Sole, sole, sole, Может быть, в Кению, Как жаль покидать дом. Это война. Время бед. Sole, sole, sole22.Некоторые африканцы выражали бесхитростный патриотизм. «Наш начальник [колониальная власть] был в беде, – объяснял служивший в Бирме сьерра-леонец. – Когда начальник в беде или глава семейства в беде, все должны ему помогать. Если бы мы не пошли против японцев, мы бы теперь все говорили по-японски»23. По службе чернокожие продвигались крайне редко, одним из замечательных исключений стал двадцатидвухлетний Сет Энтони с Золотого берега, который до войны успел стать учителем и солдатом территориальных войск. Его отправили в Англию учиться в Сандхерсте, он служил в Бирме и войну закончил майором. Один из его подчиненных признавался, что все хотели служить под началом Энтони, у которого «было сильное джу-джу»24. Но Энтони – величайшая редкость в английской армии (правда, ВВС произвели в офицеры пятьдесят солдат из Западной Африки). Убеждение в превосходстве белой расы сказывалось (если не откровенно, то подспудно) во всех аспектах политики. Например, когда две роты Королевских африканских стрелков вышли в апреле 1941 г. на окраину Аддис-Абебы, их остановил приказ штаба армии: сочли уместным, чтобы триумфальный вход в столицу Абиссинии возглавило подразделение белых южноафриканцев, и обиженным чернокожим пришлось уступить им дорогу.
Дисциплинарных проблем и взаимного недовольства в британских имперских войсках было предостаточно. В декабре 1943 г. Мадагаскарский полк, возмущенный дурным руководством и жестоким обращением белых офицеров, устроил сидячую забастовку в лагере на родном острове. В итоге 500 человек отдали под суд и двух приговорили к смертной казни, но потом наказание смягчили. Еще 24 солдата получили тюремные сроки от семи до четырнадцати лет, а полк был расформирован25. В полку Золотого берега был очень высокий уровень дезертирства: в 1943 г. 15 % личного состава исчезли, причем 42 % беглецов приходилось на Ашанти.
Чернокожие африканцы, отправленные за море, обижались и на маленькое жалованье, и на условия жизни – и то и другое у белых солдат было заметно лучше. В южноафриканских подразделениях «цветные», то есть мулаты, получали половину того, что платили белым, а чернокожие – две трети от жалованья «цветных» на том основании, что им содержание семьи на привычном уровне обходится дешевле. Как и Штаты, Южная Африка вплоть до 1944 г. не доверяла чернокожим оружие, но использовала их в качестве трудовой силы, и лишь ради рекламы на плакатах, зазывающих добровольцев, изображались чернокожие солдаты с копьями и ассагаями. Все равно желающих не набиралось: люди понимали, что традиции расовой дискриминации в армии проявятся еще с большей силой. Даже в осажденном Тобруке в столовой для южноафриканцев не обслуживали негров.
В Индии функционировали отдельные бордели для чернокожих, служивших в британской армии26 (правда, некий католический офицер настоял, чтобы предназначенное его полку заведение прикрыли, но это по религиозным соображениям). В 1942 г. взбунтовалась 25-я Восточноафриканская бригада. Генерал Уильям Платт рапортовал: «Многочисленные инциденты почти во всех сомалийских подразделениях, отказ повиноваться приказам, сидячие забастовки, дезертирство с оружием, ненадежность в качестве охраны, воровство и потворство воровству, периодическое бросание камнями и угроза холодным оружием». В Индии в 1944 г. произошли столкновения между чернокожими солдатами и населением поблизости от лагеря отдыха Ранчи: шесть индийцев погибло, нескольких женщин изнасиловали.
Британцы утешались мыслью, что все эти неприятности в сравнение не идут с полномасштабным восстанием чернокожих французских стрелков в лагере Тиарой под Дакаром и волнениями в батальонах бельгийской жандармерии в Конго. Но командование было фраппировано поведением некоторых колониальных частей на поле боя, в том числе батальона Королевских африканских стрелков, который обратился в бегство, едва соприкоснувшись в Бирме с противником, и двух батальонов 11-й Восточноафриканской дивизии, которые в той же Бирме отказались форсировать реку Чиндуин, заявив: «Мы готовы выполнять приказы, но дальше не пойдем». Бригадир Дж. Кри докладывал, что, учитывая дурное обращение с чернокожими солдатами, «нам еще повезло, если все так и сведется к нескольким вспышкам, а не перерастет во всеобщее восстание»27.
Все такого рода инциденты и комментарии к ним следует рассматривать в более широком контексте: сотни тысяч африканских солдат исполняли свой долг в качестве трудовой или действующей армии, в том числе под огнем, вполне отважно и достаточно эффективно. Однако преувеличивать их вклад в общее дело нет смысла. Цели союзников были им чужды, большинство воспринимало себя как наемников и по привычке повиновалось белым господам. Родезийский офицер описывал похороны погибших африканцев в каменистой, неподатливой земле Сомали:
«Бедный капрал Атанг, суть твоего характера – самоотречение и скромность. Как бы ты огорчился, узнав, что твоя могила доставила столько хлопот и помешала усталым людям отдохнуть. Его осторожно опускают в могилу. Откинуто окровавленное одеяло… И, наконец, Аманду, муссельман [так!], который умер, сжимая свою любимую винтовку. Старший сержант роты D и группа единоверцев провожают его. Двое спустилось в могилу, им передают тело с носилок, они медленно опускают его на дно… Звучным высоким голосом главный плакальщик заводит старинный арабский стих – заупокойную молитву»28.
Таков сентиментальный взгляд на роль колоний в войне. Совсем иначе видит те же события чернокожий южноафриканец Фрэнк Сексвейл, для которого этот конфликт – «война белых людей», война англичан. Южная Африка принадлежит Англии, «все, что делает африканер, он делает по приказу своего хозяина, Англии»29. Рассуждения Сексвейла в точности отражают равнодушие почти всех его черных и цветных соотечественников к этой борьбе, но при этом он не различает и оттенков в настроениях белых южноафриканцев. Среди африканеров были крепки давние прогерманские симпатии. Фельдмаршал Смэтс, премьер-министр Южной Африки и близкий друг Черчилля, с трудом одолел в 1939 г. парламентскую оппозицию, требовавшую сохранения нейтралитета. Он не только втянул свою страну в войну, но и позаботился о том, чтобы ее вклад в общее дело был достаточно заметен. Однако с первого дня и до последнего он наталкивался на сильное сопротивление и ни разу не осмелился объявить мобилизацию. Белых добровольцев было не так много, а ближе к концу 1940 г. в Йоханнесбурге начались антивоенные демонстрации. Некоторых откровенных нацистов пришлось интернировать до конца войны, в том числе и будущего премьер-министра Йоханнеса Форстера.
В Австралии англичане могли рассчитывать на гораздо более широкую поддержку. В 1939 г. на призыв откликнулись тысячи добровольцев, таких как Род Уэллс, сказавший себе: «Идет война. Доброй Старой Стране требуется помощь. Пойдем и покажем им, из какого мы сделаны теста»30. Три дивизии австралийцев отличились в средиземноморских боях, еще две присоединились к ним на Новой Гвинее и в других тихоокеанских кампаниях. Но война выявила также политическое напряжение и разделение «у антиподов». Полмиллиона рядовых американцев, побывавших в Австралии с 1942 по 1945 г., прониклись расположением к этой стране, но офицеры возмущались провинциальностью австралийцев, жесткими методами профсоюзов, особенно в доках, им казалось, что не так уж энергично местные участвуют в глобальном конфликте. Макартур кисло намекал, что дух австралийцев подорвало двадцать лет социалистического правления. 26 октября 1942 г. военный корреспондент The New York Times Хэнсон Болдуин опубликовал ядовитую критику Австралии:
«Обычные проблемы коалиционной войны обостряются здесь из-за еще одного фактора, вызывающего недовольство самих австралийцев: из-за деятельности профсоюзов. Совершенно очевидно, даже с точки зрения большинства местных жителей, что профсоюзные требования “прав” – работать лишь определенное количество часов, отдыхать вторую половину дня субботы и все выходные – и в целом отношение к войне помешали Объединенным Нациям максимально привлечь Австралию к общим усилиям войны. Точнее всего, позицию профсоюзов “у антиподов” можно определить как “самоуспокоенность”: им лишь бы сохранить привилегии мирного времени».
Болдуин указывал, что обструкционизм австралийских профсоюзов вынудил перекладывать многие обязанности на американских солдат. И он приходит к выводу: «Мы, живущие в демократических государствах, приверженные личным правам и своему легкому, беззаботному образу жизни в мирное время, забыли, какой суровый хозяин война: в пору войны нельзя жить по законам мира». Высказывания Болдуина вызвали в Австралии бурю негодования, ими возмущались и их опровергали, но они соответствовали мрачной реальности, и английское правительство разделяло чувства этого корреспондента. Многие австралийцы показали себя отличными солдатами, но еще большее число их соотечественников предпочитало воспользоваться «демократическими свободами» и не соваться на поле боя.
В Канаде также заморская служба оставалась делом добровольным, а потому в армии хронически недоставало пехотинцев. Хотя канадцы сыграли существенную роль в сражениях за северо-восточные регионы Европы и в Итальянской кампании, в Битве за Атлантику и в бомбардировках Континента, Французская Канада держалась особняком и не хотела вмешиваться в борьбу. «Скверный вечер в Монреале, французские канадцы ругаются, плюют в нас, некоторых ребят выкинули из баров»31, – записал проходивший обучение пилот ВВС, чью часть временно разместили в этом регионе. В августе 1942 г. 59 % французских канадцев угрюмо, отвечая на вопрос анкеты, заявили, что, по их мнению, единственная причина участия страны в мировой войне – членство Канады в Британском Содружестве32.
На Ближнем Востоке и в азиатских странах покоренные народы яростно сопротивлялись принуждению участвовать в глобальном конфликте. Характер немецкого, итальянского или японского режима их мало волновал, они видели в противнике своих угнетателей вероятного союзника и освободителя. Египтом англичане правили де-факто не как узаконенной колонией, жестко и своекорыстно применяя пункты двустороннего договора о дружбе и взаимопомощи. И многие египтяне – едва ли не большинство – оказывали пассивную поддержку странам оси. Сам король Фарук считал поражение англичан неизбежным. Один из офицеров его армии, капитан Анвар Садат, двадцатидвухлетний сын военного писца (впоследствии Садат станет президентом Египта), писал: «Нашим врагом в первую очередь, если не исключительно, была Великобритания»33. В 1940 г. Садат обратился к генералу Азизу Эль-Махри, главному инспектору армии и известному стороннику оси, с предложением: «Мы создали в армии группу офицеров и хотим превратить ее в организацию, которая выгонит англичан из Египта»34.
В январе 1942 г. демонстранты хлынули на улицы Каира с криками: «Роммель, вперед! Да здравствует Роммель!» Британские войска и бронемашины окружили королевский дворец и вынудили Фарука пойти на уступки англичанам. В то лето египетские офицеры предвкушали появление Африканского корпуса Роммеля и свое освобождение. Двух немецких шпионов, Ханса Эпплера и другого, известного лишь под кличкой Сэнди, в Каире принимали как дорогих гостей. Но Садата разочаровало легкомысленное поведение этих двух агентов, которые поселились на Ниле в плавучем доме известной исполнительницы танцев живота Никмет Фами. Он писал: «Очевидно, на моем лице выразилось изумление. Эпплер со смехом спросил: “А где, по-твоему, нам следовало остановиться? В лагере англичан?”» Немцы сказали, что Хикмет Фами «стопроцентно надежна». По вечерам они пьянствовали в клубе «Киткэт» и пачками разменивали фальшивые английские банкноты (через посредство еврея, который якобы брал 30 % комиссионных). Много лет спустя Садат со свойственным его народу неприкрытым антисемитизмом писал: «Меня не удивило, что еврей прислуживает нацистам, ведь еврей за хорошую цену на что угодно пойдет». Англичане арестовали всю эту шпионскую организацию и без особого труда подавили недовольство в стране. Однако преувеличивать верность Египта лагерю союзников у них не было ни малейших причин.
Наиболее отчетливо конфликт лояльностей проявился в азиатских колониях Великобритании. В 1939 г. малайские националисты организовали антивоенные демонстрации, которые местные власти жестоко подавили. Один гражданский служащий в Малайе, индийского происхождения, признавался, что «хотя разум решительно против этого восставал, симпатии инстинктивно оказались на стороне Японии, воюющей против англосаксов»35. Лидер индийского национального движения Джавахарлал Неру писал: «Очевидно, что обычный индиец настолько озлоблен против англичан, что будет приветствовать любое нападение на них»36. Некоторые соотечественники Неру откровенно ликовали при виде того, как собратья-азиаты уничтожают армию и флот белых. «Трудно сдержаться и не позлорадствовать, когда англичане получают трепку от немцев, – писал доктор Кашми Сваминадхан. – И это при всей нашей нелюбви к Гитлеру»37. Леди Дайяна Купер незадолго до катастрофы 1942 г. писала: «Я не понимала, с какой стати население Сингапура – на 85 % китайцы и на 15 % индийцы и малайцы – станет сражаться наравне с кокни против людей одного с ними цвета кожи ради добрых англичан»38. И в самом деле мало кто хотел сражаться.
В Малайе и Бирме новый режим сумел привлечь на свою сторону многих местных жителей и некоторых индийцев, отнюдь не тосковавших по изгнанным англичанам. Но хочется противопоставить им пример такого человека, как Махиндаса, преподавателя английской школы в Малакке. Перед тем как японцы казнили его за то, что он слушал BBC, этот индиец писал: «Я всегда высоко ценил спортивный дух англичан, их справедливость и организацию их гражданской службы как лучшие вещи в нашем несовершенном мире. Я с радостью умираю за свободу. Душу мою враги не победят; то, что они сотворят с моим бренным телом, я им прощаю. Скажите моим славным мальчикам, что их учитель умер с улыбкой на устах»39. В Малайе китайский коммунист Чин Пен, ставший впоследствии лидером непримиримого движения за независимость, посмеивался над иронией судьбы: благодарное английское правительство вручило ему орден Британской империи за теракты и убийства малайцев, сотрудничавших с оккупантами.
Многие жители Бирмы, Малайи, Голландской Ост-Индии и даже часть населения Филиппин поначалу приветствовали японцев как освободителей. Однако даже заклятые враги европейского империализма вскоре были разочарованы, столкнувшись с высокомерием и систематической жестокостью новых хозяев. Примеров тому хватало: на печально знаменитой Бирманской железной дорогой погибло больше обращенных в рабство местных жителей, чем военнопленных англичан. Из отправленных на принудительные работы 80 000 малайцев умерло почти 30 000, рядом с ними погибло 14 000 белых, эта дорога сгубила также 100 000 бирманцев, индийцев и китайцев. Когда на границе Бирмы и Таиланда вспыхнула эпидемия чумы и заразились многие тамилы, работавшие на железной дороге, японцы подожгли барак с 150 больными. Любой мужчина и любая женщина, чем-либо не угодившие оккупантам, подвергались систематически жестоким издевательствам. Сибил Катигасу, католичку, жену плантатора из Перака, пытали в тюрьме Тайпин, а ее дочь подвесили над костром. Она добилась, чтобы ребенка отпустили, но сама на всю жизнь осталась инвалидом после таких истязаний.
По меньшей мере 5 млн человек умерло за время войны в Юго-Восточной Азии, значительная доля жертв приходится на Голландскую Ост-Индию. Погибали они и от рук оккупантов, и от голода: новая власть конфисковала продукты и урожай, чтобы прокормить в первую очередь японцев. Взмыли цены на рис, а урожай сократился на треть, в качестве суррогата в ход пошла тапиока. Писатель Самад Исмаил устало жаловался в 1944 г. «Все полюбили тапиоку, все прославляют ее и поют ей хвалу, ни о чем больше не ведут разговоры, ни в кухне, ни в трамвае, ни на свадьбе – только тапиока, тапиока, тапиока». Но хотя тапиока позволяла наполнить пустой желудок, она не спасала находившиеся под властью японцев народы от хронической нехватки витаминов. Голод сделал свое дело: пусть население Великой Восточно-Азиатской сферы взаимного процветания и недолюбливало прежних господ-европейцев, Токио оказался для них бόльшим злом.
2. Индия: худший час
«Оккупированная британцами Индия» (так националисты понимали статус субконтинента) пережила в пору войны немало беспорядков и даже восстаний. Эта драгоценность в короне Британской империи, уступавшая во всей Азии по размерам и численности населения только Китаю, снабжала союзников и тканями, и многими другими необходимыми для ведения войны материалами. Здесь был произведен миллион одеял для английской армии («из шерсти 60 млн овец»), пошиты 41 млн мундиров, два миллиона парашютов, 16 млн пар обуви. Черчилль ярился при мысли о том, как растет «стерлинговый баланс» (государственный долг метрополии за эти поставки). «Уинстон непрерывно ворчал, – писал министр по делам Индии Лео Эмери 16 сентября 1942 г. – Дескать, как можно требовать, чтобы мы защищали Индию, а после войны очистили территорию, да еще и заплатили ей сотни миллионов за такую привилегию»40.
Но разве индийцы имели возможность решать, хотят ли они эту защиту или нет? Перед войной требования националистов предоставить субконтиненту самоуправление, а там и независимость становились все громче, и их с огромным энтузиазмом поддерживало индуистское большинство всюду, кроме так называемых княжеств (радж). На территориях, управляемых махараджами, сохранялся феодальный порядок, и местные владыки понимали, что в тот момент, когда индийцы сделаются хозяевами в своей стране, придет конец и их господству. Княжества оставались оплотом британской гегемонии, потому что таким образом махараджи защищали собственный статус, но во всех остальных областях Индии едва ли не каждый образованный индус мечтал об изгнании англичан. Вопрос был в сроках: с началом войны многие влиятельные лица выступили за то, чтобы отложить требования о независимости до тех пор, пока не будет побеждено большее зло – фашизм. Так, участник национального движения Винаяк Дамодар Саваркар прагматически советовал использовать возможность и приобрести военные и производственные навыки, бесценные для будущего свободной Индии41. Радикальная партия Национального конгресса также высказала мнение, что своим участием в войне Индия не поспособствует британскому империализму, а напротив, ослабит его, укрепит антифашистские силы в Англии и в Европе. В таком духе высказывался и Манабендра Рой: «Это не английская война. Это война за будущее мира. Если так вышло, что британское правительство приняло участие в этой войне, с какой стати борцам за гражданские права отказывать ему в похвале за достойное деяние? Старая пословица гласит: «Беда сводит между собой странных союзников». Если советскому правительству допустимо было заключить пакт о ненападении с нацистской Германии, отчего же борцам за индийскую свободу нельзя поддержать британское правительство в войне против фашизма?»42 Кое-кто из соотечественников разделял позицию лейтенанта Бозе, племянника знаменитого индийского ученого, «гражданина мира», много путешествовавшего по Европе. Бозе писал другу-англичанину: «Я уже три года в армии, потому что хотел принять участие в борьбе против наци»43.
Несколько сот индийцев с такими экзотическими именами, как Тигр Джасвал Сингх, Пилу Репортер, Джумбо Маджудан и Миро Инженер, стали пилотами индийских ВВС, один из четырех братьев Инженеров даже катал свою девушку на Hurricane. Но хотя индийские летчики носили такую же форму и говорили на том же жаргоне, что и коллеги из британских ВВС, их тоже задевал расизм английских офицеров, которые могли мимоходом обозвать соратников «черными». Боевой пилот Махендер Сингх Пуджи совершил по пути в Англию посадку в Южной Африке и пришел в ужас от того, что ему открылось: «Я был шокирован обращением с индийцами и африканцами. Я и мои друзья очень сердились». Ни в Англии, ни в Западной пустыне он так и не смог перейти на английскую еду, питался яйцами, печеньем и шоколадом. Индийцы понимали, что в глазах командования они всегда будут вторым сортом, лучшие самолеты и почетные задания – не для них, и все же они приняли существенное участие в Бирманской кампании 1944–1945 гг., совершив тысячи разведывательных вылетов и бомбардировок наземных целей, чтобы помочь продвижению Четырнадцатой армии.
Другие индийцы отнеслись к этому конфликту более настороженно и заняли не столь однозначную позицию. Чакраварти Раджагопалачари, лидер Национального конгресса и премьер Мадраса, в июне 1940 г. говорил, что разговор о национальной независимости в тот момент, когда Англия не на жизнь, а на смерть борется против беспощадного врага, может показаться эгоистичным и неуместным, «но каждый народ должен позаботиться в первую очередь о себе. Мы не спасем цивилизацию, если откажемся от собственных прав, и не поможем союзникам, согласившись жить в угнетении, напротив, такая покорность будет на руку немцам»44.
Неру в письме из тюрьмы, куда его так часто отправляли, напоминает вице-королю Индии, лорду Линлитгоу, что его сторонники неоднократно отказывались от возможности причинить ущерб британскому владычеству: «Летом 1940 г., когда Франция и Англия подвергались жесточайшей опасности, конгресс сознательно избегал [действовать], несмотря на раздававшиеся громкие призывы к прямому действию, поскольку не хотел воспользоваться критической международной ситуацией и каким-либо образом способствовать нацистской агрессии»45. В таком же духе он писал на следующий день после Пёрл-Харбора: «Если бы меня спросили, на чьей стороне находятся мои симпатии в этой войне, я бы без колебаний ответил: на стороне России, Китая, Америки и Англии». Однако Неру делает и важную оговорку. Черчилль отказался предоставить Индии независимость, соответственно и Неру заявляет: «И речи быть не может о том, чтобы мы помогали Британии. Как же я стану бороться вместе с ними за то (за свободу), в чем они мне отказывают? Британская политика в Индии сводится к запугиванию населения, чтобы в растерянности мы бросились под защиту англичан»46.
Когда в войну вступила Япония, Махатма Ганди потребовал от англичан немедленно покинуть Индию, чтобы не навлечь на нее японское вторжение. В 1942 г. националистическое движение Quit India («Вон из Индии») приобрело поддержку по всей стране и старалось организовать общенародное возмущение. Конгресс сменил политику уклонения от сотрудничества с британским правительством на полный отказ признавать эту власть. 21 января лорд Линлитгоу докладывал в Лондон: «В Бенгалии, Ассаме, Бихаре и Ориссе действует большая и опасная пятая колонна. Потенциал симпатий к врагу и соответствующей активности в Восточной Индии очень велик»47. Но к удивлению националистов, даже в этот тяжелейший для британского владычества на Востоке час империя отказывалась идти на уступки. Большинство лидеров конгресса были арестованы, многие получили большие сроки. Ганди выпустили только в 1944 г. в связи с ухудшением здоровья. Прорывались вспышки насилия, наиболее грозные – в Бомбее, в восточных провинциях и в Бихаре; нападениям подвергались символы Британской империи: правительственные здания, железные дороги, почты. Отмечались и диверсионные акты.
В августе 1942 г. сэр Стаффорд Криппс не справился со своей миссией убедить конгресс отсрочить политические требования до конца войны. Вспыхнули стихийные мятежи. Англичане железной рукой восстановили порядок. Вице-король подумывал даже бомбить диссидентов с воздуха. Подобную карательную экспедицию он полушутя (но отчасти и всерьез) характеризовал как «новый и бодрящий прецедент»48. Захваченных в плен мятежников подвергли массовой порке, на разгон демонстраций бросили десятки тысяч солдат и полицейских, вооруженных дубинками латхи. Существуют заслуживающие доверия сообщения о том, как полицейские в охваченных волнениями регионах подвергали насилию и даже групповому насилию арестованных женщин. Несколько сот демонстрантов застрелили, множество домов было сожжено.
В некоторых областях Северо-Западной Индии на несколько месяцев воцарился режим террора. Например, 29 сентября в Миднапуре у здания суда в Тамлуке собралась процессия во главе с семидесятитрехлетней Матонгини Хазра. Эта пожилая женщина, пылкая последовательница Ганди, отсидела полгода в тюрьме за демонстрацию, которую она провела на глазах у вице-короля. На этот раз она приблизилась к полицейскому и военному кордону у здания суда, неся флаг, ее сопровождали женщины, дувшие в раковины. Охрана суда открыла огонь, пуля угодила Матонгини в левую руку, и женщина перехватила древко знамени правой рукой. Она была ранена во второй раз, третья пуля попала ей прямо в висок. Участники демонстрации обратились в бегство; среди погибших оказалось трое мальчишек.
С помощью репрессий удалось быстро восстановить порядок. Индийская армия сохраняла лояльность. Но всем, кроме самых близоруких британских империалистов, было очевидно, что режим утратил поддержку своих подданных. Вдумчивые политики видели несообразность ситуации: в 1942 г., в разгар войны с тираническими тоталитарными державами, для поддержания колониального строя в Индии пришлось разместить там примерно 50 батальонов – больше, чем в тот момент было брошено на борьбу против японцев. Вероятно, практические соображения не позволяли передать власть конгрессу в тот момент, когда японские завоеватели уже стояли у ворот Индии. Но в результате здесь война обернулась самой уродливой и даже подлой своей стороной: чтобы удержать субконтинент, требовалось не столько отражать угрозу вторжения, сколько вводить чрезвычайные меры внутри колонии, управлять Индией не как союзником, а как оккупированной территорией. Подавляя мятежи, белые господа не брезговали и теми методами, к которым прибегали в захваченных странах державы оси (разумеется, масштаб был иной), а сообщения о зверствах спецслужб пресекались военной цензурой.
Бытовой расизм, а порой и откровенная жестокость англичан по отношению к индийцам ужасали очевидцев. Старший сержант Клив Брэнсон, по мирной профессии – художник, уроженец субконтинента, сражавшийся в Испании в составе коммунистических интернациональных бригад, с возмущением описывал поведение соотечественников: «Подлые идиоты из регулярной армии обращаются с индийцами так, что возникают и страх за наше будущее, и еще больший стыд за свою принадлежность к этому войску. Никто из нас не сможет забыть, в какой невероятной, неописуемой нищете живут здесь люди. Если бы в Англии знали правду, там бы поднялся страшный шум, ведь эти несчастья насаждаются именем английского народа»49.
Недовольство росло и в рядах Индийской армии, главным образом из-за разницы в условиях службы и в заработке туземцев по сравнению с англичанами. Группа солдат написала общее обращение командующему: «В глазах Махатмы Ганди все равны, а вы платите английскому солдату 75 рупий, а индийскому всего 18»50. Другой военный жаловался: «Индийский субадар [младший офицер] отдает честь английскому солдату, английский же солдат не отдает честь индийскому субадару. Как же так?» От установленного британцами жесткого режима военного времени страдали не только индийцы. В декабре 1942 г. англичане отправили 2115 гражданских японцев в лагерь Пурана-Кила под Дели. От невыносимых условий содержания, грязи и голода еще до конца года умерло 106 заключенных, основная причина смерти – бери-бери и дизентерия. Да, японцы в те годы совершали гораздо худшие злодеяния и в несопоставимых масштабах, однако ужасы Пурана-Килы выставляли в самом неблагоприятном свете и компетентность британских властей, и их гуманность.
Американцы, от президента до простолюдина, так и не простили Черчиллю и всей Британии хладнокровную решительность, с какой империя отказалась распространить на субконтинент пьянящие посулы свободы, освященные Атлантической хартией. Служившие на субконтиненте американцы – они отвечали за связь и логистику, обучали китайских солдат, вылетали на бомбардировки японских баз – возмущались тем, как британцы обращаются со своими подданными, и льстили себе мыслью, что сами они ведут себя намного лучше. Индийцы этого мнения не разделяли: газета Statesman получила письмо читателя, осуждавшего поведение американцев наравне с англичанами. Американцев автор этого письма клеймил как «переносчиков венерических заболеваний и соблазнителей молодых девушек»51. Критику своих методов управления колонией от союзника, который у себя дома насаждает расовую сегрегацию, англичане считали ханжеством, и с ними трудно не согласиться.
Даже в кабинете Черчилля большинство видело необходимость скорейшего предоставления Индии независимости, мнения расходились лишь в вопросе, когда это будет уместно сделать. Но закоренелый «викторианский» империалист был неумолим: он твердо верил, что величие Англии покоится на колониальной системе, и негодовал на «предательство» индийских политиков, которые используют к своей выгоде невзгоды метрополии, а порой и радуются ее несчастьям. Даже в годы войны премьер-министр отзывался об индийцах и устно, и письменно с презрением, которое приобрел за недолгое время службы на субконтиненте еще в XIX в. в чине младшего офицера кавалерии. Характерное для политики Черчилля понимание различных человеческих устремлений и сочувствие им здесь ему полностью изменяли.
К осени 1942 г. в тюрьме находилось более 30 000 членов конгресса, в том числе Ганди и Неру. И все же англичане обращались с недовольными в разных краях своей империи намного гуманнее, чем силовые структуры оси с внутренними врагами и покоренными нациями. К примеру, Анвар Садат тоже попал в тюрьму, после того как был уличен в связях с немецкими шпионами в Каире, однако охраняли его столь небрежно, что он дважды без особого труда бежал и после второго побега, в 1944 г., так и оставался на свободе (хотя и в подполье) до конца войны. В Индии Неру беспрепятственно посылал из тюрьмы письма, наслаждался чтением любимых книг, в том числе «Государства» Платона, и играл в бадминтон – он находился в заключении в английской крепости в достаточно привилегированных условиях. Тем не менее он катастрофически похудел, в пятьдесят два года заключение давалось ему с большим трудом. В одном из писем он просил свою жену Бетти не посылать ему сборник трагедий Шекспира, «ибо тут достаточно своих трагедий»52.
Некоторые националисты призывали к решительным действиям с целью немедленно выгнать англичан. В 1940 г. Субхас Чандра Бос, президент конгресса, настаивал на кампании гражданского неповиновения. Не получив поддержки Ганди, Бос отказался от своей должности и через Кабул добрался до Берлина. Там он сформировал немногочисленный Индийский легион из военнопленных, захваченных в Западной пустыне, и это подразделение без особых подвигов служило Третьему рейху. Летом 1943 г. Бос вернулся в Юго-Восточную Азию. Японцы приютили на оккупированных Андаманских и Никобарских островах Временное правительство Индии53, и там Бос под японской эгидой собрал изрядное количество приверженцев. В мундире и высоких сапогах, он выступал перед толпой, в духе Черчилля суля кровь и страдания, слезы и пот. Солдатам Индийской национальной армии, предупреждал он, грозят холод и голод, всевозможные лишения, дальние переходы и смерть в бою. «Но лишь когда вы пройдете все испытания, вы завоюете свободу». Солдаты ИНА дали Босу прозвище Нетаджи (Чтимый вождь). Один из них, лейтенант Шив Сингх, сказал: «Мы попали в плен в Гонконге, и генерал Моган Сингх и Бос обратились к нам со словами: “Вы сражались за гроши – а теперь сразитесь за свою страну!” Мы тут же согласились безо всякого принуждения. Для меня Нетаджи был лучшим вождем, превыше Ганди»54.
Бос сформировал и женское подразделение, полк Рани Джханси в честь героини восстания 1857 г. Лакшми-баи, и дошел во главе своего воинства от Рангуна до Бангкока. Одна из женщин в радиоинтервью заявила: «Я не игрушечный солдатик или солдат только по названию, я настоящий воин в подлинном смысле слова»55. Пять сотен настоящих воинов добрались к концу 1943 г. из Малайи в Бирму, но их ждало суровое разочарование: женщин отправляли не в бой, а в госпитали санитарками. Мужчин собирались использовать в сражениях против армии Слима в Ассаме и Бирме. Один из них, П. К. Басу, впоследствии признавался: «Я не верил в победу ИНА, но в саму ИНА я верил»56. Два полка были названы в честь Ганди и Неру. Реальный вклад ИНА в военные усилия оси отнюдь не соответствовал громогласной риторике Боса. Сами же японцы с пренебрежением относились к этим плохо вооруженным батальонам, и мужеством в бою индийцы не отличались. Порой индийские подразделения, сражавшиеся на стороне империи, расправлялись с военнопленными из ИНА на месте как с предателями, однако англичан весьма смущал сам факт появления такой «изменнической бригады», а в особенности, что многие индийцы видели в Босе (как видят и по сей день) национального героя.
Несмываемым пятном на историю Британской Индии военного времени лег голод в Бенгалии. Эти события 1943–1944 гг. омрачают всю историю английской борьбы и победы в той войне. С утратой Бирмы Индия осталась без 15 % продовольственного запаса. Затем обрушились наводнения и циклоны, стихийные бедствия, обычные для низинной Восточной Бенгалии; урожай 1942 г. погиб, начался голод. Поставкам продовольствия мешал и недостаток транспортных средств: значительная часть техники была уничтожена наводнением. Бенгальский рыбак Абани оказался одним среди миллионов бедняков, лишившихся источника пропитания: «На невод денег не было. Ростовщик не давал мне в долг. У него у самого денег не было. Все имущество семьи унесло потопом, из восьми коров удалось спасти только одну»57. В декабре уже были зафиксированы первые случаи голодной смерти, а в следующем году положение сделалось катастрофическим. В октябре 1943 г. сотрудник гуманитарной миссии Арангамохан Дас описывал облик базара Терапекхиа на реке Халде: «Я видел там почти пятьсот погибающих обоего пола, нагих, исхудавших скелетов. Некоторые еще просили подаяния у прохожих, другие лишь жалобным взглядом молили накормить их, многие лежали на обочине и ждали смерти, не имея сил даже на то, чтобы дышать, и, к моему прискорбию, прямо у меня на глазах восемь человек испустило дух»58.
Цензоры перехватили письмо индийского солдата, ужасавшегося тем, что ему пришлось увидеть на побывке: «Мы вернулись в родные деревни и обнаружили, что еды мало и цены завышены. Наших жен увели, землю отобрали. Почему Саркар [власть] не вмешивается прямо сейчас, а только рассуждает о послевоенной реконструкции?»59 В самом деле, почему? Английское правительство не желало привлекать флот к подвозу провианта голодающим: кораблей и так не хватало. Секретарь по делам Индии Лео Эмери поначалу считал, что справится с этой проблемой и сам, но, когда он передумал и стал требовать помощи, ни премьер-министр, ни кабинет не отозвались на этот призыв. В 1943 г. рейсы в Индийский океан сократились на 60 %, поскольку участие флота требовалось при высадке союзного десанта, в арктических и атлантических конвоях. Индия получила от Англии лишь 25 % запрошенного объема поставок. В марте Черчилль хвалил министра военного транспорта, отказавшегося предоставить корабли для перевозки провианта голодающим: «Уступишь одним… посыплются требования и от других. Пусть они [индийцы] учатся сами заботиться о себе, как мы в свое время. Мы не можем посылать им корабли лишь бы сделать жест доброй воли»60. Несколько месяцев спустя он добавил: «Почему бы всем частям Британской империи не затянуть пояса, как пришлось это сделать нашему отечеству?»61
Однако в метрополии пояса затягивали отнюдь не так туго, как в Индии. Бенгальцы называют голод payter jala («огонь в желудке»), и многие желудки полыхали огнем в 1943–1944 гг. Много лет спустя Гурхори Маджхи из Каликакунду вспоминал: «Люди с ума сходили от голода. Если находили что-то живое, тут же его разрывали и съедали на месте. У нас в семье было десять человек, мой живот болел и вопил. Никто не думал о братьях, о сестрах, думали об одном: как выжить… В полях ни стебелька травки не уцелело». Женщины продавали себя, многие семьи отдавали дочерей сводникам и сутенерам.
Но даже в такой крайности не отмечены случаи каннибализма, в отличие от России, но распространилось детоубийство. Газета Biplabi сообщала 5 августа 1943 г.: «В деревне Сапурапота ткач-мусульманин, не имея возможности содержать семью и обезумев от голода, ушел из дома. Жена решила, что он утопился. Кормить двух маленьких сыновей было нечем, и, не в силах более слушать их голодный плач, она бросила [23 июля] младшего, недавно вышедшего из ее утробы, свет очей своих, в пенистые воды Касаи. Она попыталась таким же образом отправить к отцу и старшего сына, но тот вопил и цеплялся за мать. Тогда она придумала новый способ утишить терзающий ребенка голод. Ослабшими руками она вырыла могилу и бросила в нее сына. Когда она принялась засыпать его землей, прохожий, привлеченный детскими криками, поспешил вырвать лопату из рук женщины. Этот [индиец из низкой касты] обещал вырастить мальчика, и мать ушла, куда – не известно. Вероятно, она обрела покой, воссоединившись с супругом в холодном потоке Касаи»62.
Часто вспыхивали эпидемии холеры, люди умирали прямо на улицах и в парках больших городов. К середине сентября 1943 г. уровень смертности в Калькутте повысился с обычных 600 случаев в месяц до 2000. Невестка Джавахарлала Неру писала из центра помощи о «рахитичных младенцах, чьи руки и ноги походили на сухие палки, о кормящих матерях со старческими сморщенными лицами, о детях, у которых от недостатка еды и сна лица распухли, а глаза ввалились, об измученных мужчинах, ходячих скелетах»63. Ее ужаснула «усталая покорность в их глазах. Она ранила дух так, как не ранил даже вид исстрадавшихся тел». В октябре Уэйвелл, занявший должность вице-короля, наконец-то отрядил войска для перевозки продуктов в голодающие районы. С этого момента правительство систематически оказывало помощь местному населению, но по меньшей мере миллион (если не три миллиона) бенгальцев успели умереть, и величайший политический ущерб, нанесенный Англии, уже поздно было исправлять. Несомненно, в пору мировой войны бороться еще и с последствиями природного бедствия очень непросто. Но на постоянные, настойчивые, отчаянные обращения Уэйвелла Черчилль отвечал с бесчеловечной жестокостью, которая окончательно отравила англо-индийские отношения.
18 сентября 1943 г. Неру писал из тюрьмы: «Сообщения из Бенгалии все чудовищнее. Мы привыкаем ко всему, к бездне человеческого несчастья и страдания. Я все более убеждаюсь в том, что за некомпетентностью и растерянностью властей скрывается нечто большее: распад экономической системы Бенгалии»64. 11 ноября он развивает ту же мысль: «Голод в Бенгалии станет эпитафией английского правления и всех достижений империи в Индии». Черчилль упорно отказывался пойти на уступки национальному чувству индийцев, не прислушиваясь ни к американцам, ни к состоявшим под их покровительством китайцам. Лео Эмери с отвращением отзывается о поведении премьер-министра на заседании кабинета: «Уинстон несет чушь: Уэйвелл – озабоченный саморекламой презренный слабак, Индия только подрывает оборону Англии, и он с удовольствием передаст субконтинент на попечение Рузвельта»65.
Но мало кого из англичан в разгар смертельной схватки волновало недовольство индийцев или меры, которыми империя подавляет это недовольство. Приятно было думать, что огромная, четырехмиллионная индийская армия сохраняет верность. Индийские полки сыграли немалую роль в Восточно-Африканской, Иракской, Северо-Африканской и Итальянской кампаниях, а также первостепенную роль в борьбе за Ассам и Бирму в 1944–1945 гг. Английская политика военного времени может оцениваться как успешная, ведь к 1944–1945 гг. удалось полностью восстановить порядок, акты саботажа и диверсии почти прекратились. Но потомство, вероятно, увидит в этой ситуации горькую иронию: сражаясь против держав оси во имя свободы, Англия в то же время отстаивала свое господство на субконтиненте вопреки воле местного населения такими же тоталитарными методами.
По сравнению с немецкими и японскими методами англичане и в пору войны обращались с представителями других народов и рас достаточно гуманно: о казнях без суда и тем более о массовом истреблении не могло быть и речи. Однако и в Индии, и за ее пределами требованиями военного времени оправдывались пренебрежение к нуждам местного населения, жестокость и несправедливость. В 1943 г. голод прокатился также по Кении, Танганьике и Британскому Сомали, время от времени вспыхивали голодные бунты в Тегеране, Бейруте, Каире и Дамаске. Даже если первопричиной были тяготы войны, имперские власти отнюдь не спешили выделить ресурсы и облегчить последствия. Британское правление можно характеризовать как умеренный, отнюдь не абсолютный авторитаризм, и все же ему не удалось сохранить достаточную поддержку подданных, в особенности в Индии, чтобы удержать гегемонию и после войны. Единственное, что можно сказать в оправдание (довольно жалкое) действий британцев в Индии в военную пору: на такой огромной территории, охваченной повсеместными волнениями, малейшая терпимость по отношению к противникам режима грозила полной утратой контроля, и это сыграло бы на руку странам оси. В сражениях английские солдаты и рекруты из колоний и доминионов, белые, коричневые и черные, сплотились в боевое братство, но тяготы войны не усилили скреплявшие империю узы, как рассчитывали ура-патриоты, а окончательно их ослабили.
Союзники вели борьбу за свободу против угнетения – битву Добра со Злом. В XXI в. едва ли кто-нибудь из знающих людей, даже в бывших колониях, усомнится в правоте союзников, в том, что поражение оси стало благом для всего человечества. Однако необходимо также признать, что во многих странах в ту пору вопрос о лояльности той или иной стороне решался не столь однозначно. Миллионы, не имевшие причины любить Гитлера, Муссолини или Тодзио, не питали добрых чувств и к западным демократиям, чьи понятия о свободе, как представлялось подданным колоний, не распространялись за пределы метрополии.
17. Дальний восток
1. Китай
Еще в 1936 г. американский корреспондент Эдгар Сноу, преданный поклонник и друг Мао Цзэдуна, писал: «В попытках овладеть рынками и богатствами внутренних областей Китая Япония сломит свою имперскую шею. Катастрофа произойдет не в форме естественного экономического коллапса Японии, а наступит потому, что условия господства, навязанного Японией Китаю, окажутся невыносимыми для человеческого существования и в скором времени вызовут сопротивление такой мощи, которая изумит мир»1. Сноу верно предугадал гибель японского империализма, хотя и преувеличил эффективность вооруженного сопротивления китайцев. Стратегия союзников на Дальнем Востоке в пору войны в основном определялась намерением Америки превратить Китай не только в ключевого участника противостояния, но и в мощную державу. Немыслимые усилия тратились на то, чтобы снабжать по воздуху через Индию находившихся в Китае американцев (по большей части это были летчики, поддерживавшие националистическую армию Чан Кайши). После того как Бирма была в 1942 г. захвачена японцами и путь по суше отрезан, оставался только воздушный путь «через горб» Гималаев. В Китае американцы строили аэродромы для размещения своих бомбардировщиков.
Но все планы пошли прахом. Китай пребывал в хаосе – обнищавшая страна, разделенное общество. На бумаге войско Чан Кайши выглядело огромным, но его режим и его военачальники были коррумпированы и некомпетентны, плохо экипированные солдаты вовсе не рвались в бой с японцами. Чтобы действовать с территории Китая, американской авиации требовалось сначала решить непреодолимые операционные и логистические проблемы. В провинции Хэнань преобладали коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, которые также на словах выступали против японцев, однако берегли силы на будущее, чтобы после войны разделаться с Чан Кайши. С 1937 по 1942 г. националисты и коммунисты совместно причинили оккупантам немалый ущерб, перебив 181 647 человек. Но и националисты, и коммунисты отказывались вступать в открытый бой с противником, и их скудные ресурсы расходовались почти впустую, без заметных результатов. Китайский историк Шэнь Джихуа описывал ситуацию в провинции Шаньдун: «Местное население гораздо больше волнует прагматическая выгода, чем идея национализма. При столкновении национальных и местных интересов они без колебаний поступятся общенациональным»2.
Хотя Мао ухитрился отвести американцам глаза и они поверили, будто его партизаны активно борются с захватчиками, большую часть военного времени он по молчаливому соглашению соблюдал с японцами перемирие и даже втайне сотрудничал с ними, деля доходы от торговли опиумом. Если националисты потеряли в пору оккупации 3,2 млн человек, то коммунисты насчитывают всего 580 000 погибших. Под конец войны Чан Кайши сражался уже не столько с японцами, сколько против Мао и без обиняков утверждал: «Японцы – болезнь накожная, а коммунисты проникли в самое сердце».
Тем не менее на поддержание оккупационного режима, охватившего половину территории Китая, Токио расходовал огромные ресурсы и нес большие потери – 202 958 японцев погибло в Китае в 1941–1945 гг. Для сравнения: в боях против англичан погибло 208 000 человек, в сражениях с американцами – 485 717 солдат и офицеров и 414 879 моряков. Очень уж велик был захваченный японцами кусок: даже при слабом сопротивлении на местах Токио приходилось посылать в Китай значительные силы, чтобы удерживать эту территорию и контролировать враждебное, а порой и доведенное голодом до отчаяния население. На севере Квантунская армия занимала Манчжурию, превращенную в сателлит Японии (марионеточное государство Манчжоу-го). Центрально-китайская армия расположилась в Пекине, а штаб-квартирой Экспедиционных сил Центрального Китая стал Шанхай. Все оценки потерь Китая в тот период страдают неточностью, но можно с достаточной степенью уверенности принять цифру 15 млн: столько китайцев погибло непосредственно от рук японских военных, от голода и эпидемий, в том числе эпидемий, умышленно вызванных специалистами в составе японской армии (отряд 731), которые испытывали биологическое оружие.
Японцы оказались единственной воюющей стороной, решившейся на широкомасштабное применение бактериологического оружия3. Отряд 731 в Маньчжурии носил до омерзения циническое наименование – Отряд эпидемиологической защиты и водоснабжения Квантунской армии. Тысячи пленных китайцев были замучены в ходе испытаний на базе отряда 731 под Харбином, многие из них подверглись вивисекции без анестезии. Жертв привязывали и взрывали рядом с ними бомбы с возбудителями сибирской язвы. Женщин искусственно заражали сифилисом, местных жителей похищали и впрыскивали им смертоносную заразу. Японцы распространяли в Китае холеру, дизентерию, чуму и тиф, чаще всего с воздуха, в том числе сбрасывали керамические бомбы с блохами, переносчиками чумы. Была предпринята неудачная попытка применить это оружие против американцев на Сайпане, но корабль с микроскопическими самураями затонул в пути4.
Замысел японцев уничтожить миллионы людей с помощью биологического оружия установлен и не оспаривается. Другой вопрос, насколько успешно был этот план претворен в жизнь. Множество китайцев погибло от эпидемий в период с 1936 по 1945 г., и в современном Китае ответственность за эти потери возлагается на японцев, что вполне справедливо, поскольку последствиями японской агрессии стали голод, лишения и благоприятные условия для распространения заболеваний. Но прямая ответственность отряда 731 не доказана. К примеру, в 1942 г. эпидемия холеры в Юньнане унесла более 200 000 жизней. Японцы действительно распространяли в этой провинции холерные бациллы, но подобные эпидемии происходили и в других областях, где отряд 731 никаких операций не проводил. С тогдашними технологиями было крайне затруднительно сеять заразу в определенных районах, сбрасывая с воздуха биологическое оружие. Но если задуманный геноцид не осуществился лишь по техническим причинам, моральная ответственность японского народа совершенно очевидна.
В 1942–1944 гг. крупные вооруженные столкновения на китайской территории происходили редко, зато японцы то и дело снаряжали карательные экспедиции для подавления сопротивления или экспроприации урожая. Одно из самых жестоких мероприятий такого рода имело место в мае 1942 г. Высшее японское командование провозгласило акт возмездия за налет американских бомбардировщиков на Токио. Более 100 000 солдат отправились в провинции Чжэцзян и Цзянси, их сопровождали специалисты по ведению бактериологической войны. К сентябрю миссия завершилась, японская армия отошла на прежние позиции, истребив четверть миллиона мирных жителей. Военную столицу Гоминьдана Чунцин японцы бомбили регулярно; воздушным налетам с большим числом жертв среди гражданского населения подвергались и другие города.
Согласно документам медицинского департамента японского военного министерства, в сентябре 1942 г. на 100 базах в Северном Китае, 140 – в центральной части страны, 40 – на юге, 100 – в Юго-Восточной Азии, 10 – в Юго-Восточной части Тихого океана и 10 – на Южном Сахалине содержались женщины, принужденные к проституции – «женщины для отдыха». Необходимое количество проституток рассчитывалось исходя из пропорции одна женщина на сорок солдат. Примерно 100 000 «женщин для отдыха» набрали путем централизованной мобилизации, недостаток пополняли на местах. Воинам Хирохито выдавались презервативы, «оружие № 1», однако далеко не все пользовались этой мерой предохранения. Китайские крестьяне прозвали захватчиков яке (тупые), поскольку те не запоминали даже нескольких слов по-китайски. Зато яке протыкали и мужчинам, и женщинам ноги заостренными бамбуковыми палками, наказывая за неповиновение.
Такому наказанию подверглась в девятнадцать лет Лин Ядзин, и у нее, как у многих других, шрамы остались на всю жизнь. Эту крестьянскую девушку из многодетной семьи, жившей в провинции Хэнань, японские солдаты схватили в октябре 1943 г. Они привели ее в военный лагерь и принялись допрашивать о деятельности партизан. Первую ночь в плену девушка в ужасе проплакала, на вторую ночь в хижину, где ее заперли, вошло четверо мужчин.
«Один из них был переводчик. Он сказал мне, что остальные трое – офицеры, и ушел. Те трое изнасиловали меня. Было очень больно, ведь я была девственницей, и я громко кричала. Но они не реагировали на мои крики, а продолжали насиловать меня, словно животные. И потом еще десять дней каждый вечер по три, четыре, пять человек. Обычно пока один насиловал, другие смотрели и смеялись.
Я пыталась бежать, но это было очень трудно. Даже в туалет провожал часовой, бенгалец, который нас не насиловал. Потом меня перевели в другую деревню, оттуда до моего дома всего полтора километра ходу. И тут снова каждый вечер приходило по несколько солдат. Даже во время месячных они продолжали меня насиловать. Прошел месяц, и я заболела: лицо сделалось желтым, все тело опухло. Когда японцы поняли, что произошло (я заразилась венерической болезнью), меня отпустили. Дома я застала отца тяжело больным, и месяц спустя он умер. Мы были так бедны, что не могли заплатить врачу. Мать лечила меня травами. Много времени прошло, пока я выздоровела. Наступило уже лето 1944 г. Со мной тогда в японский лагерь забрали еще четырех девушек, и в 1946 г. я узнала, что все они так и умерли от венерических болезней. А когда в деревне узнали, что меня насиловали японцы, меня стали высмеивать и бить. И я на всю жизнь осталась одинокой»5.
Та же участь постигла Ден Юмин из уезда Баотин. Она принадлежала к этническому меньшинству, народу мяо, представителей которого японцы мобилизовали на принудительные работы. И Юмин тоже в 1940 г. отправили в трудовой лагерь, где она сперва возделывала табак, а потом работала на дорожной стройке. Однажды надсмотрщик предупредил девушку, что ей предстоит почетная работа. Ее привели к японскому офицеру, которому на вид было лет сорок.
«Через переводчика он сказал мне, что я – красивая девушка и он хочет со мной подружиться. Выбора у меня не было, я просто кивнула в знак согласия. Несколько дней спустя поздно вечером переводчик снова отвел меня к этому офицеру и оставил с ним. Этого офицера звали Соньму. Он тут же схватил меня в объятия, стал щупать. Инстинктивно я сопротивлялась, но помешать ему не могла, и он сделал со мной все, чего хотел. Потом я вернулась туда, где работала, и мне было стыдно рассказывать другим девушкам о том, что со мной произошло. С тех пор он насиловал меня каждый день. Я была девственницей, мне только-только исполнилось четырнадцать лет и даже месячные еще не начались. Никакого удовольствия не чувствовала, только сильную боль.
Так продолжалось два с лишним месяца. А потом как-то раз переводчик привел меня туда, где обычно ждал господин Соньму, но его не было, а вместо него – два незнакомых мне офицера. Я хотела уйти, позвать господина Соньму, но один из офицеров остановил меня и закрыл дверь. Они сказали, что хотят жениться на мне. Я стала сопротивляться, и меня ударили по лицу. Одному было лет двадцать, а другому пятьдесят. Они оба изнасиловали меня в тот день. Потом я рассказала об этом господину Соньму, но он лишь усмехнулся и сказал, что это пустяки. Я очень рассердилась. Прежде он казался мне хорошим, но с того дня я его возненавидела. Неделю спустя переводчик снова позвал меня к господину Соньму, но я сказала, что не хочу его больше видеть. Он предупредил: если я откажусь, солдаты убьют и меня, и моих родных, и всех соседей. Пришлось мне снова идти к господину Соньму, и с тех пор он не только сам насиловал меня, но и другие офицеры. Однажды явилось трое офицеров, один держал меня за руки, а другой за ноги, пока третий насиловал, и все они смеялись как сумасшедшие. И так до конца войны»6.
Если в пору своих побед японцы вели себя как варвары, то поражения превратили их в оголтелых убийц. И главной жертвой зверств по всей Азии стали не англичане, австралийцы или американцы – тут японцам казалось важнее уязвить национальную гордость противника, чем тела его граждан, – но коренные жители стран, господство над которыми захватило Токио. И в первую очередь среди жертв оказался Китай. «В Китае Япония творила страшные дела»7, – говорит современный писатель Казутоси Ханда, но многие его соотечественники и по сей день не желают признавать это.
И не только японские националисты – иные западные историки сегодня пытаются утверждать, будто в войну в 1941 г. Японию втянули Соединенные Штаты. Якобы конфликта можно было избежать, и складывается уже теория «морального равновесия» («все хороши»), согласно которой японцы вели себя в пору ничуть не хуже союзников. Однако Япония развязала агрессию в Китае и планомерно уничтожала миллионы гражданских лиц за годы до того, как президент Рузвельт ввел против нее экономические санкции. Современный японский националист попытался задним числом оправдать действия своей страны, утверждая: «Америка и Англия давно уже колонизовали Китай. Китай был отсталой страной, и мы считали правильным, чтобы Япония вошла в Китай, принесла свои технологии и свое руководство и сделала Китай лучше»8. Все доказательства налицо: поведение японцев в Китае было абсолютно эгоистическим и варварски жестоким. Тем не менее до сих пор значительное число японцев твердит о «цивилизационной миссии» и о законности своих притязаний на заморскую империю. Именно такие соображения помешали японскому правительству вовремя уйти из Китая, даже когда неизбежность поражения стала очевидной, и начать переговоры о мире. Эксплуататорская сущность европейского империализма неоспорима, но японцы присвоили себе право грабить страны Дальнего Востока в таких масштабах и таких формах, до каких самым несправедливым колониальным режимам было далеко.
Американцы сохраняли веру в Чан Кайши и в Китай как своего союзника вплоть до 1944 г., когда японцы предприняли последнее крупное наступление – операцию Ichigo. Ставилась задача уничтожить американские авиабазы в Китае и создать сухопутный коридор из Китая в Индокитай. Эта операция убедительно разоблачила непригодность армии Чан Кайши, подразделения которой таяли, едва заслышав о приближении врага. Японцам удалось почти без пролития крови (то есть японской крови, китайскую кровь никто не щадил) овладеть обширными территориями Центрального и Южного Китая. Сражающиеся армии вновь оставляли на своем пути трупы мирных жителей – тысячи и сотни тысяч. Поразительно, что Япония затеяла крупномасштабные боевые действия в тот момент, когда их стратегическая ценность была заведомо ничтожна: единственным результатом, помимо очередной бойни, стало разочарование Вашингтона в прежних иллюзиях насчет Китая. К 1945 г. американские начальники штабов уже забыли и думать о захвате Тайваня, чтобы с него шагнуть на континент. Они поняли, что Китай неспособен принимать существенное участие в войне. Китай в этих событиях был и оставался жертвой, его потери уступали только потерям России, но при этом не было сколько-нибудь значительных побед, которые могли бы послужить возмездием.
2. В лабиринте джунглей и островов
На конференции в Касабланке в январе 1943 г. союзники вновь подтвердили в качестве приоритетной задачи разгром Германии, но согласились также выделить существенные ресурсы на борьбу с Японией, чтобы перехватить инициативу на этом фронте. Ориентировочно американцы собирались направить в эту сторону 30 % своих военных ресурсов и сил. Скорейшему разгрому Германии, то есть приоритетной задаче, это мешало сильнее, чем начальники штабов готовы были признать, зато это полностью соответствовало массовым настроениям американцев, ведь тех в первую очередь интересовала победа над Японией, а не над немцами. Итак, американское командование сочло невозможным атаковать Рабаул, поскольку для этого не хватало ресурсов. Вплоть до 1944 г. ВВС США отказывались даже предоставлять бомбардировщики дальнего радиуса для воздушных налетов на основную авиабазу японцев в юго-западном регионе Тихого океана. В итоге начальники штабов одобрили на 1943 г. менее амбициозные задачи: продвинуться на Соломоновых островах до Бугенвиля и чтобы армия Макартура тем временем очистила от противника северный берег Новой Гвинеи. Эта задача исполнялась исключительно силами американской и австралийской армий, хотя им и потребовалась поддержка флота.
Американский флот и Корпус морской пехоты с большим скептицизмом относились к любым планам операций в юго-восточном регионе Тихого океана с прицелом на возвращение Филиппин: по их мнению, все это лишь тешило самолюбие Макартура, нисколько не приближая окончательную победу. Адмиралы предпочли бы бросить морские и воздушные силы на захват центральной части Тихоокеанского региона: Маршалловых, Каролинских и Марианских островов, ближайших морских подступов к Японии. Судить о богатстве Соединенных Штатов мы можем по одному простому факту: вместо того чтобы выбирать один из двух путей, решили действовать сразу на обоих направлениях. Нимиц и Макартур, таким образом, возглавили две параллельные, но независимые (отчасти даже конкурирующие между собой) кампании.
Англичане же вновь занялись Бирмой. Их отступление закончилось в мае 1942 г. В декабре того же года (после обычного для сезона муссонов прекращения всякой деятельности) Уэйвелл попытался – для начала очень осторожно – нанести ответный удар, бросив одну индийскую дивизию на порт Акьяб в Араканском регионе, в Бенгальском заливе. И эта атака, и следующая провалились, как и попытка прорваться к Донбайку в марте 1943 г. Английский командующий, генерал-лейтенант Ноэль Ирвин, провел пресс-конференцию, на которой беззастенчиво объяснял неудачи союзников тем, что в Японии-де пехота представляет собой элитарный род войск, в то время как англичане «пихают туда всякий сброд»9. Понадобятся годы, утверждал он, чтобы повысить качество индийских войск до такого уровня, когда они смогут сокрушить японцев. Цензура запретила публикацию этого интервью, но оно вполне ясно отражает пораженческие настроения, некомпетентность и безответственность английских полководцев на Востоке. Черчилль твердил начальникам штабов: «Я вовсе не удовлетворен тем, как развивается Индийская кампания. Роковая инертность, присущая Востоку, одолела и всех тамошних командиров»10.
Хотя англичане мобилизовали четыре миллиона индийцев, да и собственные силы у них на субконтиненте размещались немалые, с эффективными операциями генералы не спешили. Черчилль возмущался тем, что на северо-западе Индии понапрасну простаивают огромные, никакой пользы не приносящие силы. Однажды он отозвался об Индийской армии как о гигантской системе для удобства бездельников: огромная армия без боевого опыта11. 450 000 солдат, преимущественно индийцев, вместе с несколькими английскими подразделениями противостояли удерживающим Бирму 300 000 японцам, но и это войско никто толком не готовил к сражению. Лейтенант Доминик Нейл из дивизии гуркхов, этих любимых империей непальских наемников, прибывший в Индию в 1943 г., отмечал: «Ни я, ни мои гуркхи не проходили никаких учений до того самого момента, когда встретились лицом к лицу с японцами»12.
Единственной удачей на территории Бирмы в тот год стала операция в глубоком тылу противника, осуществленная во главе трех тысяч англичан эксцентричным, если не вовсе сумасшедшим бригадиром Уингейтом. Его чиндиты добились не таких уж заметных в военном отношении успехов и потеряли треть своего состава, зато они создали необходимый для пропаганды миф. Они выжили в тылу врага, сумели преодолеть чудовищные трудности и страдания и тем самым доказали, что английский солдат способен вести войну в джунглях, а ведь именно это многим казалось сомнительным. Перед тем как повести своих чиндитов из Индии в Бирму, Уингейт предупредил, что раненых тащить будет некому, а потому тех, кто не сможет идти сам, прикончат. Это можно было бы назвать актом милосердия, учитывая, какая судьба ждала тех, кто попал бы в руки японцев, но англичанам эта логика давалась с трудом. После одной стычки лейтенанту Гарольду Джеймсу пришлось собственноручно выполнить этот приказ: «Раненый гуркха, пробитый множеством пуль, умирал в тяжелейших мучениях. Поколебавшись, я дал ему смертельную дозу морфия. Гуркхи – потрясающие, они просто приняли это. К моему ужасу, обнаружился еще один тяжелораненый гуркха. Я сказал: “Придется это сделать”. Джордж глянул на меня, как бы предлагая мне снова заняться этим самому. Я запротестовал: “Я не стану делать это во второй раз”. Тогда он сам сделал бедняге смертельную инъекцию»13.
Другой участник экспедиции чиндитов, Доминик Нейл, принадлежал к числу немногих, кто понимал, сколь малого удалось добиться их отряду, если не считать заслугой создание легенды о жертве и самоотверженности. «Газеты в Индии шумели о походе Уингейта. Мы глазам своим не верили. Мы же ничего не сделали, японцы в очередной раз задали нам трепку. Рекламой занимался генштаб в Дели: хватался за любую соломинку после поражения 1942 г. и провальной Араканской кампании 1942–1943 гг.»14. Прославлял доблесть чиндитов и Черчилль, ведь их подвиги составили славный контраст бездействию основной части Индийской армии.
В августе 1943 г. японцы тоже выдумали удачный пропагандистский маневр: объявили Бирму независимым государством. Многие бирманцы соблазнились погремушкой суверенитета, когда же японцы успешно отразили атаку англичан на Акьяб, энтузиазм бирманцев еще более возрос. Но и здесь, как на всех оккупированных территориях, жестокость, высокомерие и политика экономической эксплуатации вскоре отдалили подданных от завоевателей. Как бы ни стремились бирманцы к освобождению от британского владычества, избавление от японцев стало для них более насущной задачей. В первой фазе войны сторону англичан держали только горцы, но к 1944 г. японцев возненавидели уже и в городах, а бирманские крестьяне начали против них партизанскую войну.
Осенние муссоны каждый год прекращали сезон боевых действий так же эффективно, как в России – весенняя распутица. После неудачной попытки англо-индийских войск прорваться к Аракану остаток 1943 г. прошел без существенных изменений на Бирманском фронте. Черчиллю пришлось довольствоваться участием индийских подразделений в Северо-Африканской и Итальянской кампаниях. Недоброжелатели и тогда, и в дальнейшем утверждали, что романтическая репутация Индийской армии вовсе не соответствовала ее реальным достижениям. Некоторые отряды, в особенности состоявшие из гуркхов, проявили отвагу, мужество и стойкость, а другие – нет. Но в борьбе против японцев англичанам похвастать было особенно нечем, особенно на фоне успехов американцев.
Впрочем, и американцам приходилось делать существенные перерывы между кампаниями вплоть до 1944 г., когда на Тихоокеанский театр войны начали бесперебойно и в большом количестве поступать все необходимые ресурсы. В июне 1943 г. Макартур и командующий Юго-Западным Тихоокеанским флотом адмирал Уильям Хэлси начали новые кампании – в Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Нью-Джорджию взяли после месяца упорных боев. Затем Хэлси обошел несколько обороняемых японцами островов и высадил 4600 человек на Велла-Лавелла. К декабрю американцы закрепились на Бугенвиле и захватили мыс Глостер на западной оконечности Новой Британии. К январю 1944 г. многократные авианалеты союзников на Рабаул практически лишили японцев возможности пользоваться этим портом как морской или воздушной базой. Стотысячный гарнизон утратил стратегическое значение: эти войска не могли стронуться с места, о них уже не стоило думать – просто оставить их «дозревать».
Американский флот стремительно наращивал свое присутствие в регионе. В 1943 г. в строй встали четыре авианосца класса Essex и пять легких авианосцев. К этому ядру флота быстрого реагирования добавились линкоры и крейсеры, способные подвергать интенсивной бомбардировке побережье, эсминцы, участвовавшие в радарных пикетах, в эскортах и охоте на подводные лодки. «Обоз» из танкеров и грузовых судов позволял боевым судам отрываться от базы на 70 дней. Королевский флот о таком дальнодействии и мечтать не мог. Имелись на вооружении также эскортные авианосцы, обеспечивавшие поддержку десантному флоту, сотни патрульных торпедных катеров, курсировавших вдоль побережья, а также ремонтные и госпитальные суда. В основном в экипажи вспомогательных судов набирали людей без опыта мореходства, но их знания навигации, артиллерии и даже морского дела заметно превосходили умение противника. Один из самых заметных и странных феноменов той войны – стремительный упадок японского флота, который еще в декабре 1941 г. отличался высоким профессионализмом, а уже год или два спустя показал полную свою непригодность.
Те японские летчики, которым удавалось подобраться достаточно близко к американскому флоту, чтобы разглядеть его с высоты, приходили в ужас от его размеров: караван растягивался на сотни квадратных километров. В два завершающих года войны флот США нарастил такую мощь дальнего радиуса действия, какой мир еще не видывал, а по размерам превосходил все морские силы остальных участников конфликта вместе взятые. Значительная часть этого флота отряжалась на поддержку всех тех островных операций, которые сделались характерными для последней фазы войны на Дальнем Востоке. Операция Нимица в центральном регионе Тихого океана развернулась в ноябре 1943 г., начавшись с высадки на крошечный атолл Тарава в группе островов Гилберта. Провести обманный маневр было невозможно, поскольку ничто, кроме горстки островов с расположенными на них авиабазами, американцев тут привлечь не могло. Флот и Корпус морской пехоты США продвигались с плацдарма на плацдарм, сознавая, что японцы приготовились к нападению и укрепили свои позиции.
Адмирал Рэймонд Спрюэнс повел на острова Гилберта армаду из 19 авианосцев, 12 линкоров и множества вспомогательных судов. Десантный отряд состоял из 35 000 морских пехотинцев и 6000 машин. Видя вокруг себя зримое воплощение мощи своего народа, американцы в тот день чувствовали себя непобедимыми. Поднимавшиеся в воздух с авианосца бомбардировщики проутюжили все местные японские авиабазы бомбами и пулеметным огнем; непосредственно перед высадкой Спрюэнс провел трехчасовую артподготовку из тяжелых орудий, засыпав остров 3000 тонн снарядов. И все же тот день стал одним из самых печальных в истории Корпуса морской пехоты США. На Бетио, главном островке группы, длиной всего 3,5 км и 100 м шириной, японцы построили практически неуязвимые для бомб и снарядов бункеры из цемента, стали и стволов пальм. Морской пехотинец Карл Альбрехт ужаснулся, увидев берег с борта десантного судна: «Там сплошь полыхали гусеничные транспортеры. Атака, по-видимому, захлебнулась. Я был поражен страхом, не верил своим глазам. Мы же американцы, мы непобедимы. У нас полно кораблей и морских пехотинцев. Как такое могло случиться? Я понял, что все эти ряды морских пехотинцев, лежащие на берегу, – они не замерли в ожидании приказа, они мертвы»15.
Далеко выступавший в море риф препятствовал подходу десантных судов, тысячи морских пехотинцев вынужден были брести последние сотни метров по воде, мучительно медленно, под огнем противника. Пилот морской авиации, наблюдавший эту сцену сверху, потом вспоминал: «Вода была полна крошечных фигурок, они держали винтовки над головами и медленно продвигались к берегу. Я чуть не заплакал»16. Бои продолжались четыре дня среди горящих пальм и тщательно закамуфлированных оборонительных сооружений. К тому времени, как перестрелка закончилась, американцы потеряли 3407 человек и почти все 4500 человек из состава японского гарнизона были мертвы. В плен попало всего семнадцать человек. Всех участников битвы ошеломила ее ожесточенность и кровавая цена. То был тяжкий опыт для американского народа, в особенности для морской пехоты, которая впервые поняла, во что обойдутся сражения против с готовностью идущего на смерть врага. Идея национального превосходства, американской исключительности столкнулась с неприятным открытием: «примитивный» противник способен выдержать мощный шквал огня и победа не обойдется без рукопашного боя и сопряженных с ним жертв. На Тараве американцам был преподан важный урок по тактике боя, и тем не менее тот же опыт повторялся вновь и вновь в битвах за острова. С точки зрения других воевавших стран, в особенности России, американцы не такими уж большими потерями расплатились за существенный стратегический выигрыш, но эти потери казались ужасными, если вспомнить, что захватить-то удавалось всего лишь крошечные островки, сплошь кораллы да пальмы.
Основную концепцию боевых действий изменить все равно не удалось бы: чтобы нанести японцам окончательное поражение, нужно было занять их хорошо укрепленные морские и воздушные базы в Тихом океане. Никакое превосходство в технологиях и огневой мощи не могло избавить американских солдат от необходимости подставлять свои тела ударам опытного и упорного врага. Пусть к тому времени уже стало очевидно, что союзники выиграют войну, японцы не спешили сдаваться. Их стратегия (если это можно назвать стратегией) в том и заключалась, чтобы вынудить американцев кровью покупать каждый шаг, подорвать их волю и склонить к переговорам. Часто высказывается мнение, будто на продолжении войны в Японии настаивали только военные, однако милитаристы пользовались широкой поддержкой консервативных политиков, искренних и пылких националистов и самого императора. В ноябре 1943 г. на первой конференции Великой Восточно-Азиатской сферы взаимного процветания в Токио Хирохито предупредили, что Соломоновы острова вот-вот падут. Император призвал к ответу своих военачальников: «Неужели нет такого места, где бы мы могли ударить по американцам? Где и когда вы собираетесь задать им взбучку? Когда наконец состоится решительный бой?»
В войне на Дальнем Востоке поведение союзников окрашивалось не только привычной ненавистью к врагу, но и отвращением к чуждой, омерзительной культуре. Жестокость японцев по отношению к пленникам и покоренным народам стала уже общеизвестным фактом, и нередко за нее платили тем же. Готовность японцев сражаться насмерть, лишь бы не сдаться даже в тактически и, более того, стратегически безнадежной ситуации, обозлила американцев и англичан: европейская традиция, в которой они были воспитаны, внушала, что при неизбежности поражения достойным и цивилизованным выходом будет капитуляция во избежание бессмысленного кровопролития. Американцы на Тихом океане и англичане в Бирме возмущались врагом, отменившим столь очевидную и просвещенную логику. Японцы, безжалостные в дни побед, теперь, нисходя к неотвратимому поражению, все еще стремились унести в этот апокалипсис как можно больше человеческих жизней.
Если бы союзники имели возможность столкнуться с этим противником на широком пространстве суши, где могли бы развернуться танки, они бы гораздо скорее достигли победы: безусловное превосходство США в количестве и качестве танков, артиллерии и самолетов сокрушило бы довольно примитивно вооруженную японскую армию, как сокрушили ее русские в Манчжурии в августе 1945 г. А эти затянувшиеся бои за острова, незначительные по европейским меркам стычки, давали японцам возможность проявить упорство в обороне и самоотверженную отвагу, чему вовсе не мешало отсутствие крупнокалиберных орудий и поддержки с воздуха. В высшей степени они освоили искусство прятаться и нагонять панику, «тактику дрожи». Даже в годы поражения японские солдаты удерживали психологическое преимущество на поле боя. Корпус морской пехоты США был, вероятно, лучшей из сухопутных сил страны (за исключением разве что воздушных десантников), и он совершил замечательные подвиги на Тихом океане, однако ни со своим противником, ни с русскими американцы так и не сравнялись в искусстве ночного боя. Чем более цивилизованным становится общество, тем труднее подготовить солдат, способных адаптироваться к жизни и войне в условиях дикой природы. Там, где спор шел о технологиях, преимущество американцев было несомненным: их авианосцы, к примеру, не знали себе равных. Но самые стойкие солдаты воспитываются, как правило, из крестьян.
Как только американские летчики получили базу на Тараве, они вытеснили японцев из воздушного пространства над всеми Маршалловыми островами. В начале февраля 1944 г. морские пехотинцы с обрадовавшей их легкостью овладели Маджуро, Кваджалейном и атоллом Рой-Намур: то был личный триумф Нимица, который вопреки советам всех своих ближайших подчиненных настоял на необходимости атаковать центральные острова, а не восточные, которые были основательно укреплены противником. Затем американцы захватили Эниветок на северо-западной оконечности цепочки Маршалловых островов, а бомбардировщики с авианосцев Спрюэнса тем временем уничтожили основной японский аэродром в Труке, на Каролинских островах. Столь стремительные победы позволили Нимицу приблизить сроки следующей стадии кампании, назначив атаку на Марианские острова на июнь 1944 г., а не на сентябрь.
В действиях двух американских армий на Тихом океане стала остро проявляться внутренняя конкуренция. Макартур испугался, как бы сражения на Новой Гвинее не отошли на второй план по сравнению с успехами Нимица, и тоже заторопился со следующей операцией. Вверенные ему войска заняли острова Адмиралтейства на три месяца раньше намеченного срока, окружив таким образом Рабаул и вынудив японцев отступить на северное побережье Новой Гвинеи. В апреле 1944 г. Макартур осуществил самый дерзкий свой ход за всю войну: он захватил Холландию в Голландской Новой Гвинее, обойдя с фланга 40 000 японцев, а в июне отразил сильную контратаку японцев. Ему также удалось овладеть полуостровом Фогелькоп на западной оконечности Новой Гвинеи и ближайшим к нему островом Биаком, который превратился в одну из ключевых авиабаз.
И во флоте США в ту пору, и среди многих историков впоследствии раздавались голоса, вполне убедительно доказывавшие, что уже к концу 1943 г. действия Макартура лишились стратегического значения и единственной причиной последовавшей кровавой бани на Филиппинах были собственные амбиции командующего, которые стоили жизни многим филиппинцам, а также нескольким тысячам американцев. Господство США на море и в воздухе усилилось настолько, что японцы не могли даже переправлять свои войска в юго-западной части Тихого океана и противостоять стратегическим замыслам союзников. В конце 1943 г. американские подводные лодки, чей вклад в общее дело был очень велик, начали перерезать маршруты снабжения, связывавшие отдаленные концы расползшейся японской империи. В изолированных японских гарнизонах не хватало и провианта, и оружия, и амуниции.
Однако для всех войн, и в особенности для величайших в человеческой истории, характерно, что их участники и события начинают двигаться уже как бы по инерции. Так и Макартур: он получил высокий чин, пропаганда прославляла его как лучшего из американских полководцев. Самым эффективным подразделением его штаба оказалась пиар-команда. Хотя окружение Рузвельта и сам президент, а также большинство американских военачальников считали Макартура шарлатаном17, отвечая на вопрос, кого они считают величайшим полководцем Америки, 43 % в 1945 г. назвали Макартура, 31 % – Эйзенхауэра, 17 % – Паттона и 1 % – Маршалла. Внешность Макартура, воля и личный авторитет затмевали имидж других военачальников. Хотя Макартуру так и не доверили огромные ресурсы, которых он постоянно требовал, политического и морального влияния ему хватило, чтобы осуществить задуманную кампанию и достичь собственных целей. Теоретически правительство США могло бы остановить наземные операции Макартура против Японии в 1944 г., после того как генерал утвердился на Марианских островах. Поднимаясь с авиабаз на островах американские бомбардировщики («летающие крепости») могли стереть Японию в порошок. В сочетании с морской блокадой, подорвавшей в Японии производство (в особенности сказывался недостаток нефти), непрерывные воздушные налеты с неотвратимостью приближали капитуляцию противника. Кровавые бои за острова 1944–1945 гг., как и запоздалое продвижение англичан в Бирму, по сути дела, никак не отражались на исходе войны.
Но подобные оценки задним числом делает потомство, а в ту пору показалось бы немыслимым остановить вдруг наземные операции (разве что летчики приветствовали бы такое решение, они рады были доказать, что и сами справятся с япошками). Американский корпус морской пехоты и армейские подразделения на Тихом океане продолжали сражаться. Ничего другого ни они сами, ни их близкие, ни народ в целом не могли ожидать. Когда народы вступают в смертельную схватку, они с мрачной неизбежностью будут убивать друг друга, пока один из них не будет полностью разбит. Весной 1944 г. японцы еще не были готовы признать свое поражение.
18. Италия: большие надежды, жалкий итог
1. Сицилия
В сентябре 1939 г. умники в Англии рассуждали: «В последней войне генералы кое-чему научились. Обойдется без массового кровопролития». На что Ивлин Во со свойственной ему язвительностью возражал: «Какая же победа без массового кровопролития?»1 И хотя Ивлин Во, быть может, хотел всего лишь эпатировать публику, его вопрос оказался вполне точным: чтобы покончить с нацистской Германией, требовалось разбить наголову вермахт. Западным союзникам невероятно повезло: по счетам уплатила главным образом Россия, на ее долю пришлось 95 % от общего числа потерь трех великих держав. В 1940–1941 гг. Англия сражалась против Гитлера в одиночку. Затем США внесли существенный материальный вклад в разгром Германии, снабдив оружием, транспортом и боеприпасами как Великобританию, так и Россию (поставки достигли пика к 1943 г. и с тех пор продолжались в максимальном объеме). Также огромную роль сыграли морские и воздушные армады США. Существенно подорвали дух противника английские и американские авианалеты на Германию. Но участие сухопутных армий союзников оставалось незначительным вплоть до высадки на Континенте в 1944 г. Советские войска перебили более 4,5 млн немцев, американцы и англичане на земле и в воздухе – лишь около полумиллиона. Эти цифры наглядно демонстрируют степень вовлеченности каждой страны в боевые действия.
Чтобы армии Черчилля и Рузвельта могли сыграть заметную роль в наземной войне против Германии, следовало высадить на Континенте по меньшей мере 40 дивизий, а то и больше, и сделать это до того, как русские начали в 1943 г. одерживать крупные победы. И американские, и английские военачальники считали, что для подобной операции им недостает обученных солдат и снаряжения. Более того, не хватало и кораблей, чтобы доставить на Континент столь многочисленное войско и затем снабжать его. Люфтваффе все еще представляло собой заметную угрозу: лишь в следующем году американские истребители Mustang уничтожат большую часть воздушного флота Германии. Но, если бы союзники предприняли попытку высадиться раньше, чем в 1944 г., их господство в воздухе над Францией, к 1944 г. неоспоримое, подверглось бы серьезному испытанию.
Американцы рискнули бы высадить небольшой отряд во Франции в 1943 г. и даже в 1942 г. Вот только основную часть этого отряда должны были составить англичане, а англичане не хотели этого. Они полагали (и, скорее всего, справедливо), что по Франции следует ударить превосходящими силами, иначе их постигнет очередная катастрофа, столь же страшная и унизительная, как в первые военные годы. Даже если б кампания на Континенте и в 1943 г. привела к победе, она обошлась бы в сотни тысяч дополнительных потерь для англичан и американцев сверх тех, что они понесли в 1944–1945 гг., ведь им пришлось бы столкнуться с куда более сильной немецкой армией, чем та, которая защищала Нормандию в День «Д» и позднее, – сказался еще один год сражений на Восточном фронте.
Море, отделявшее союзников от оккупированной Европы, было дополнительным препятствием для экспедиционных сил, которым предстояло высадиться во Франции. Но пока что море защищало англичан и американцев от немецкого вторжения. У Рузвельта и Черчилля имелась свобода действий – роскошь, в которой русским было отказано: Красная армия вынуждена была изо дня в день вступать в непосредственный контакт с противником. Капитан Павел Коваленко, как и многие его соотечественники, возмущался «малодушием» союзников (разумеется, вовсе не помня, сколь неблагородную роль разыгрывало его отечество в период с 1939-го по июнь 1941 г.). Коваленко писал с фронта в марте 1943 г.: «Уинстон Черчилль произнес по радио речь, он-де полагает, что как-нибудь в будущем году или годом позже мы добьемся поражения Гитлера. Чего и ждать от этих сволочей союзников? Подлецы и обманщики. Лезут в драку, когда исход уже решен».
Черчилль, прекрасно осведомленный о таких чувствах, наставлял в марте 1943 г. начальников штабов: «Англичане и американцы повсеместно норовят подстраховаться до такой степени, что уже сделались неспособны вести наступательную войну. Ближайшие шесть или восемь месяцев Англии и Соединенным Штатам предстоит сражаться против полудюжины немецких дивизий [в Северной Африке и на Сицилии]. К этому сводятся все наши усилия, и вы должны постараться исправить положение»2. Но англичане и американцы так и не сочли возможным развернуть в Европе крупномасштабную наземную операцию в 1943 г., а предпочли ограничиться вылазками против южного фланга оси. В Касабланке делегация Черчилля вырвала у американцев согласие осуществить высадку на Сицилию: в тот момент ее планировали на начало лета. Большие надежды возлагались также на операцию Pointblank – совместную бомбардировку Континента, которая должна была стать прелюдией к вторжению во Францию. К следующей встрече на высшем уровне в Вашингтоне (она состоялась в мае) затянувшийся эндшпиль в Северной Африке вынудил перенести сроки Сицилийской кампании на июль. Американские начальники штабов были недовольны таким отвлечением сил от грядущей высадки во Франции, но на встрече в Вашингтоне они вынуждены были признать, что в тот год экспедиция в Северо-Восточную Европу состояться не может. Американцы считали, что недостаток кораблей, на который ссылаются англичане, – всего лишь предлог, чтобы уклониться от высадки на Континенте, но, хотя англичане, безусловно, перестраховывались, транспортные проблемы были от того не менее реальными. Союзные армии не могли томиться без дела в Англии до следующего лета, но никакого другого назначения для них, кроме Сицилии, не существовало.
Союзники знали, что значительное число итальянцев мечтает выйти из войны. Айрис Ориго, американская писательница, поселившаяся в замке в Южной Тоскане, в апреле писала: «В общественном мнении произошла явная перемена. Активная неприязнь, горечь, вызванные высадкой союзников в Северной Африке и бомбардировкой итальянских городов, сменились близкой к отчаянию апатией. Все открыто заявляют: “Беду навлек на нас фашизм”»3. Было ясно, что вскоре Италия прекратит боевые действия. Англичане полагали, что в таком случае большая часть страны попадет в руки союзников: по данным Ultra, немцы не были готовы развернуть кампанию на юге полуострова, но собирались удерживать линию гор на севере. Вот пример того, как опасно порой заглядывать в карты противника: союзники думали, будто им заранее известны намерения Гитлера, но он частенько менял их и доставал из рукава другие карты.
Черчилль и его военачальники совершенно правильно приняли решение овладеть основной частью Италии, тем более что на 1943 г. это было единственное поле боя, где сухопутная англо-американская армия могла вступить в сражение с немцами. Но необъяснимой и непростительной ошибкой была неосведомленность о тех географических, стратегических, политических и экономических проблемах, с которыми предстояло столкнуться. Союзники недооценили трудности продвижения по гористой местности при упорном и умелом сопротивлении врага. Они видели в Италии трамплин для нападения на Германию с юга. Английские начальники штабов заявили в Вашингтоне: «Средиземноморье откроет перед нами возможность осуществить следующей осенью кампанию, которая может оказаться решающей. У нас есть все шансы сломить державы оси и успешно завершить войну к маю 1944 г.».
Американцы согласились выбрать ближайшим направлением действий Италию, с тем условием, что осенью часть отправленных туда дивизий вернется в Англию для подготовки к высадке в Нормандии. Еще 27 июля 1943 г. британский Объединенный разведывательный комитет правильно предсказал неизбежное поражение Италии, но ошибочно предположил, что гитлеровские войска отступят к Приморским Альпам на позиции, прикрывающие Венецию и Тироль. Английские начальники штабов проявили большую настороженность: они ожидали, что немцы укрепят оборону в самой Италии. Но операция союзников против Муссолини началась с полной уверенности англичан в легкой победе – и тем сильнее было возмущение американцев, когда они столкнулись с реальностью.
10 июля флот из 2590 боевых и транспортных судов начал высадку 180 000 солдат на берегу Сицилии. Командовал ими генерал Гарольд Александер. Англичане высаживались на восточной части острова, американцы – на юго-западе. Сильный ветер сорвал воздушный десант, планеры падали в море – 69 из 147 вылетевших с побережья Туниса планеров пропали, и с ними утонули 252 британских десантника; всего двенадцати удалось приземлиться в намеченном месте. Неорганизованный огонь зениток с союзных кораблей причинил дополнительный ущерб собственным транспортным самолетам. Четыре итальянские дивизии не оказали сопротивления, и в этом десанту повезло, тем более что многие англичане и американцы высадились не там, где планировалось. Даже среди немцев нашлись желающие выйти из войны. К американскому парашютисту, приземлившемуся точно посреди вражеского отряда, приблизилось трое немецких солдат и, к его изумлению, выразили желание сдаться этому беспомощному одиночке. Главный из них на безупречном английском пояснил: «Мы сражаемся уже три года и восемь месяцев в Европе, России и Северной Африке. По меркам любой армии этого достаточно. Мы сыты по горло»4.
Оборонять Италию державам оси было непросто еще и потому, что в самой Италии распоряжался генерал Альберт Кессельринг, но Муссолини хотел, чтобы на Сицилии армией оси командовал итальянец, генерал Альфредо Гуззони, совершенно непригодный для этой роли. Большая часть двух немецких подразделений на острове, а вскоре и отправленные им на помощь части третьей армии бросились в бой с обычной для них решимостью. Воздушный десантник Мартин Поппель писал 14 июля, после того как взяли первых пленных, английских десантников: «На мой взгляд, им не хватает духу. Они сдаются, наткнувшись на малейшее сопротивление. Наши люди так никогда себя не ведут»5. Неделю спустя, после сражения, он добавил: «Томми явно думали, что вчера заставили нас отступить своим артиллерийским огнем, и рано утром сюда на трех грузовиках явилась пехота с 37– и 57-миллиметровыми противотанковыми орудиями. Они ничего не смыслят в наших десантниках, и вчерашний опыт их ничему не научил. Мы сидели тихо. Ребята дали проехать мотоциклетному эскорту, подпустили поближе грузовики и ударили по ним. Через секунду первый грузовик уже пылал, а томми скакали с него врассыпную. В итоге мы насчитали пятнадцать убитых и захватили одиннадцать пленных. К вечеру притащим и противотанковые ружья – они здорово укрепят наши позиции»6. У англичан Поппель не одобрял ничего, кроме артиллерии, от которой все немцы неизменно отзывались с уважением. «Отдадим должное томми, они сразу же выставляют передовых наблюдателей, и их артиллерия быстро вступает в дело»7.
Немцы несли потери не только от артиллерийского огня, но и от воздушных налетов. Оказалось, что огромные шестидесятитонные «Тигры», это устрашающее немецкое оружие, совершенно непригодны для пересеченной местности Сицилии, и контратаки, в особенности нацеленные на захваченные американцами прибрежные плацдармы, быстро захлебнулись. Сколько бы Мартин Поппель не похвалялся подвигами своего подразделения, им не компенсировать провал другой дивизии люфтваффе, носившей имя Германа Геринга, – самого никудышного подразделения немцев на острове. Командир этой дивизии генерал Пауль Конрат в бессильном отчаянии писал 12 июля: «В последние несколько дней я имел несчастье наблюдать сцены, недостойные немецкого солдата. При первом же выстреле в отдалении технический персонал бежит в тыл. “Танковая паника” и распространение слухов наказываются самыми суровыми мерами. Отступление без приказа и трусость караются на месте, если придется – расстрелом». Немцев возмущали участившиеся сообщения о том, как итальянские офицеры бросают своих людей.
Итальянские солдаты устремились навстречу cоюзникам – сдаваться, «будто на праздник»8, как выразился один из американцев: «Тащили на себе пожитки, смеялись и пели». Некий лейтенант писал домой: «Чудной народ эти итальянцы. Можно подумать, мы явились к ним освободителями, а не врагами»9. Некоторые американцы отвечали на такую приветливость жестокостью. В двух несвязанных инцидентах 14 июля офицер и сержант 45-й дивизии США хладнокровно перебили большие группы итальянцев. Сержант Хорейс Уэст, расстрелявший 37 человек из автомата Thompson, был осужден военным трибуналом, но впоследствии помилован. Второй, капитан Джон Комптон, организовал расстрельную команду и перебил 36 итальянцев. Он также предстал перед трибуналом, был оправдан, а затем погиб в бою. Паттон, чья этика мало чем отличалась от мировоззрения нацистских командиров, писал: «Считаю эти убийства вполне оправданными». Пришлось оказать на него давление, чтобы он согласился назначить трибунал. Оба кровавых эпизода постарались замолчать: Эйзенхауэр опасался, что противники отыграются на пленниках. Если бы нечто подобное сотворили немцы, их бы судили в 1945 г. за военные преступления и, скорее всего, приговорили к смертной казни.
На правом фланге союзников два корпуса Монтгомери в первый же день, как планировалось, заняли Сиракузы, но затем их продвижение замедлилось из-за недостатка транспорта. «Неподходящая страна для танков»10, – жаловался английский офицер, а кто-то из солдат Монтгомери выражался в том духе, что Сицилия «хуже на хрен пустыни во всех на хрен смыслах». Английский офицер Дэвид Коул описывал ощущения от «похода на сорокаградусной жаре, миля за милей», и наконец перед ним и командиром открылся сверху вид на равнину Катании:
«Перед нами простиралась величественная панорама. В 50 км к северу горизонт закрывала огромная, покрытая туманом и увенчанная снегом коническая масса Этны высотой 3000 м. Вдоль побережья смутно виднелся город Катания, мерцавший в жарком свете. Какой величественной и спокойной могла бы быть эта картина, если бы не грохот снарядов, взрывавшихся у реки, и не поднимающийся от взрывов черный дым. Вот реальность: перед нами, скрытые в дотах и окопах, спрятавшиеся за дома, в любом убежище, какое смогли найти, две армии готовились к смертельной схватке»11.
Английские десантники захватили мост Примосоле, но вынуждены были отступить под ударом контратакующего противника, когда у них закончились боеприпасы. Затем немецкие парашютисты организовали упорную борьбу за мост, англичане же проявили нерешительность и слабость стратегического мышления, помноженную на плохую связь. Всю войну британскую армию преследовали изъяны ее радиопередатчиков, но нигде этот недостаток не сказался столь явно, как в борьбе за мост Примосоле. Радиосвязь у немцев была намного лучше, и это оказалось существенным преимуществом в бою. Особенно заметна была разница на Восточном фронте: в 1941–1942 гг. русские самолеты и танки вовсе не снабжались радиопередатчиками, даже в 1943 г. связью обеспечивались только машины командиров. Плохая связь стала одной из причин поражений англичан во Французской кампании 1940 г. и Критской 1941 г. Даже в сентябре 1944 г. обрыв радиосвязи в Первой воздушно-десантной дивизии привел к поражению под Арнемом и лег еще одним пятном на профессиональную репутацию английской армии. ВВС Великобритании в период с 1942 по 1945 г. получили на вооружение самую передовую электронную технику в мире, но армейские радиопередатчики оставались ненадежными, и этот недостаток часто обнаруживался в бою, в том числе и на Сицилии.
На мосту Примосоле два батальона Даремской легкой пехоты потеряли пятьсот человек. Отсутствовала координация действий танков и пехоты, два немецких 88-миллиметровых орудия уничтожили целую колонну танков Sherman, двигавшуюся по открытой местности. Участники этого боя потом вспоминали его как самый кровавый за всю войну. Немцы удерживали свои позиции силами отряда, наскоро составленного по большей части из инженеров и сигнальщиков, а не пехотинцев. Остается открытым вопрос, почему Монтгомери, натолкнувшись на столь сильное сопротивление, не обошел защитников поста с флангов – ведь он мог послать войска морем в Катанию. В итоге мост Примосоле удалось взять после большой задержки.
Александер поручил американцам оборонять английский фланг, не предоставив им возможности продвинуться вглубь острова, на север, и окружить отступавшую на восток танковую дивизию противника. Паттона такая вспомогательная роль не устраивала, и в итоге он направил несколько корпусов ускоренным маршем на северо-запад, брать Палермо. Он вышел к городу 22 июля и захватил в плен многих итальянских солдат, но своим маневром удивил даже Кессельринга, поскольку никакого стратегического смысла в нем не было. Александер оставил без последствий ослушание американцев, ринувшихся в противоположном направлении от основных немецких сил, и это показывало, что английский генерал не справляется с командованием. Любому грамотному офицеру было ясно, что исход кампании решается в восточной, а не в западной части Сицилии. Но пока союзники продирались причудливыми путями через остров, ясность цели и последовательность действий обнаруживал только их противник. Однако немцам мешали не только недостаток боеприпасов и провианта, но и действия собственных союзников. Генерал Конрат с горечью писал: «Итальянцы практически никогда не вступали в бой и, вероятно, не станут сражаться и на основной территории. На Сицилии многие подразделения, сами по себе или во главе с офицерами, отступали без единого выстрела… 90 % итальянской армии – трусы, которые не хотят воевать»12. Но как бы ни старались итальянские солдаты избежать борьбы, спасти страну от затяжной агонии, которая началась на Сицилии, было не в их силах. Город за городом превращался в поле боя, в мишень для снарядов и бомб, измученные войной подданные Муссолини уже и не надеялись на избавление от страданий. Тройна, к западу от Этны, превратилась в очаг многодневных сражений. Журналист описывал вид города после того, как его наконец захватили американцы: «Страшная старуха лежит среди осколков штукатурки и разбитых балок, протягивает к нам руки, смотрит незрячими глазами и стонет – точно ветер завывает в соснах. Мы идем мимо, к церкви. Свет пробивается сквозь дыру в ее кровле. Внутри – неразорвавшаяся пятисотфунтовая бомба. Американский солдат шепчет мне на ухо: “Боже, это настоящее чудо!” В мэрии мы застали немногих живых, раненых, кого наши солдаты вытащили из-под обломков. На деревянной скамье – худенькая девочка лет десяти. Черные волосы присыпаны серым порошком штукатурки. Одна нога забинтована от самого бедра. Обеими руками она сжимает подаренное солдатом печенье. Не двигается, немо глядит в потолок»13.
25 июля король Виктор Эммануил и маршал Пьеро Бадольо сговорились и организовали в Риме арест Муссолини. Первый фашист Европы особо и не противился низложению. Его дух был сломлен, он уже смирился с поражением и хотел только спасти свою шкуру. Экс-дуче находился под домашним арестом сначала на острове, потом на горнолыжном курорте в Апеннинах, в невероятных количествах уплетал виноград, перечитывал жизнеописание Христа и впервые с детства посещал мессу. Совсем не факт, что он оценил «операцию по спасению», которой его облагодетельствовал Отто Скорцени, явившийся 12 сентября с командой нацистов освободить Муссолини. Он был восстановлен в роли марионеточного правителя Северной Италии, но хорошо понимал, что его песенка спета. Понимал это и Гитлер, тщетно искавший несколько месяцев альтернативу: Муссолини он «спас», лишь убедившись, что другого лидера итальянским фашистам уже не подобрать.
Падение дуче осчастливило союзников и всех в мире, кто им сочувствовал. Ведь только надежда поддерживала людей среди ужасов войны. Местные успехи, а тем более известие о падении фашистского режима вызывали спазматические приступы радости и облегчения. Виктор Клемперер, еврей, писавший в Дрездене свой дневник в ежедневном ожидании ареста, отмечал немало крупных событий, после которых поражение Германии казалось ему скорым и неотвратимым. Так, 27 июля он ликует, узнав о судьбе Муссолини: «Конец уже близок! Еще полтора, два месяца! Мы ставим на военную диктатуру [в Германии]»14. Знакомый еврей счастлив, говорит, что «нет теперь надобности выходить» на работу, подсчитывает, продержится ли Гитлер еще хоть месяц15. Такие моменты лихорадочного, неоправданного оптимизма случались и на той, и на другой стороне: люди уносились прочь от тягот и потерь войны, вырывались из оков отчаяния.
Политические события в Риме убедили Гитлера, что придется уводить войска с Сицилии. Немцы отступили на восток в полном порядке, продолжая арьергардные бои. Танковый стрелок Эрих Дресслер, огорченный гибелью своего подразделения, видевший, как ничтожны ресурсы оси, изумлялся нерешительности союзников: «Будь томми понапористее, они бы нас тут и прикончили. Я думал, нам уже не уйти. А они почему-то остановились»16. В ночь на 12 августа немцы начали переправлять свои войска через Мессинский пролив (шириной почти 4 км) на «каблук» Италии. Хотя Ultra разгадала намерения противника, ни ВВС, ни ВМФ союзников не стали вмешиваться и не препятствовали эвакуации 40 000 немецких и 62 000 итальянских солдат вместе с танками, транспортом и припасами. Союзникам тут гордиться нечем. Офицер немецкого флота барон Густав фон Либенштайн руководил этой операцией, которую порой называют Дюнкерком в миниатюре, однако она была намного успешнее Дюнкерка: все три немецкие дивизии сохранили полный боевой порядок. Американцы вошли в порт Мессина под вечер 16 августа, чуть опередив англичан. Немецкий командующий, генерал Гас Хубе, завершил отступление с острова к следующему утру.
Сицилийская кампания преподала англичанам и американцам неприятный урок. Высадка десанта и прикрывающие ее операции с воздуха были плохо спланированы, а осуществлены еще хуже. Отсутствовала координация между действиями наземных и воздушных сил. Если бы итальянцы сражались с такой же преданностью, как немцы, они бы сбросили десант в море. Американцы возмущались неумением Александера контролировать ситуацию и медлительностью Монтгомери, а более всего тем, что союзники явно отводили им второстепенную роль. Англичане, в свою очередь, винили во всем американцев, в особенности Паттона: они-де нарушают заранее согласованные планы. Каждый из союзников находил изъяны в поведении другого, и оба так и не смогли одолеть оборону защитников острова, которые заняли высоты над немногочисленными дорогами Сицилии. Немцы великолепно владели техникой засад и уничтожения мостов, и это поможет им еще без малого два года продержаться в Италии. Армия вторжения не сумела подключить к активным действиям флот, чтобы обойти противника с флангов, и довольствовалась рядом вялых и безуспешных стычек.
50 000 немцев на протяжении пяти недель задерживали продвижение чуть ли не полумиллиона союзных солдат. Союзники преувеличивали угрозу, исходившую от танков «Тигр», от минометов Nebelwerfer, пулеметов Spandau и артиллерийского огня, а также трудности сражений на сильно пересеченной местности, а в жару – вероятность потерь от малярии и военного невроза. Но, попросту говоря, хотя в итоге очевидное количественное превосходство союзников не могло не сказаться, солдаты вермахта в бою оказались надежнее, а союзники вновь и вновь не справлялись (и потом на северо-западе Европы опять не справятся) с задачей не просто занять территорию, но и разгромить вражеские войска. Немцы были настолько поражены тем, что им представилась возможность эвакуироваться, а союзники не высадили десант в Калабрии и не отрезали их, что иные даже выдумывали фантастическую теорию: дескать, Александер позволил им спастись по политическим соображениям.
Сицилийская кампания стала единственной существенной сухопутной операцией, которую Соединенным Штатам и Великобритании удалось осуществить летом 1943 г. В ней участвовало восемь дивизий, союзники потеряли убитыми 6000 человек. В тот же период четыре миллиона человек сражались под Курском и Орлом; погибло полмиллиона русских. Часть немецкого населения, не чаявшая дождаться конца войны, сокрушалась о медлительности западных союзников. Матильда Вольф-Монкенбург 14 августа писала: «Мы так надеялись, что дело пойдет быстрее»17. Неторопливому продвижению союзников в 1943 г. есть разумные объяснения, однако нетрудно понять, почему у русских эти ничтожные успехи вызывали презрение. Да и у кое-кого из непосредственных участников: подполковник Лайонел Уигрэм, один из самых энергичных и инициативных офицеров британской армии, подал рапорт с анализом тех недостатков и неудач, которые наблюдал воочию. Он критиковал старомодные атаки в лоб, привычку излишне полагаться на артиллерию, неумение просачиваться и вести работу в тылу противника, обороняющегося на ограниченной территории. Он считал, что из каждого батальона можно заранее исключить двадцать с лишним трусов, которые все равно дезертируют во время боя. Подполковник пришел к выводу: «В определенном смысле в операции на СИЦИЛИИ успеха добились немцы… Они сумели эвакуировать свои войска почти без потерь, а нам они причинили существенный ущерб. Такой итог всех нас разочаровал»18. Эта откровенная и отважная оценка его деятельности дошла до ушей Монтгомери; задетый за живое, он отстранил Уигрэма от командования батальоном. Никаких выводов из справедливой критики сделано не было.
Апологеты английской и американской армии утверждают, что, как бы достойно немцы ни защищали Сицилию, в конечном счете здесь, как и на других фронтах, они потерпели поражение. Кессельринг эвакуировал свои войска с острова. Они отступили – значит проиграли. Это, конечно, верно, и об этом забывать нельзя. (Один из лейтмотивов всей книги: вермахт сражался не просто хорошо, а блестяще, но Германия плохо вела войну. Тем не менее, поскольку англо-американские войска не сумели уничтожить армии Гитлера, а только потеснили их с оккупированной территории, Красная армия вплоть до 1945 г. оставалась, как и была с 1941 г., главным инструментом уничтожения нацизма.)
2. Путь в рим
Натиск союзников на материковую Италию начался 3 сентября, когда канадцы из Восьмой армии высадились в Калабрии, не встретив там сопротивления: командовавший немецкой обороной Кессельринг решил перенести первое сражение дальше на север. Пять дней спустя, 8 сентября, когда руководители союзников собрались на саммит в Квебеке, правительство маршала Бадольо в Риме объявило капитуляцию Италии, и вновь вспыхнули надежды на то, что полуостров удастся покорить почти мгновенно. 9-го Пятая армия под командованием генерал-лейтенанта Марка Кларка высадилась в Салерно. Началось одно из ключевых событий войны на Западе, только прошло оно совсем не так, как надеялась армия вторжения. Полковник Билл Дарби (американские рейнджеры) добился поначалу успеха на оконечности левого фланга союзников, очистил побережье Амальфи, захватив несколько курортных поселков и перевал Киунзи с прицелом на Неаполь. Но во всех остальных местах немцы успевали быстро развернуться, дать отпор и предприняли ряд сильных контратак. Американский и британский корпус Кларка оказались зажаты на четырех небольших плацдармах под сильным огнем. 13-го Кессельринг вбил клин между английскими и американскими частями, и его танкам оставалось до моря чуть более полутора километров. Десантный флот у берега подвергался постоянным налетам люфтваффе, которое начало применять новые бомбы с радионаведением. Кларк запаниковал и решил вернуть десант на корабли. Хотя Эйзенхауэру и Александеру удалось отменить этот приказ, на несколько часов на плацдармах воцарился хаос, особенно после наступления темноты. «Решив, что в наши ряды просочилась немецкая пехота, [американцы] стали стрелять друг в друга, – писал очевидец-англичанин, – слышались душераздирающие вопли раненых. Мы скорчились в своем убежище под трепещущими розовыми листьями олив и следили, как огонь приближается, а ночь постепенно проходит. Потом включится официальная историография и придаст той неразберихе под Салерно достоинство и смысл. Мы же видели некомпетентность и трусость, распространявшиеся сверху донизу от командования, что и породило хаос»19.
Лейтенант Майкл Говард из Гвардии Колдстрима, писал: «Снаряды завывают над нами, словно погибшие души. Стонут, стонут, стонут»20. Некоторые английские подразделения осрамились, в точности как американские: официальная история Шотландской гвардии признает, что «в воздухе витало настроение очередного Дюнкерка». Лишь интенсивный артобстрел с кораблей предотвратил катастрофу, остановив продвижение немцев. «Бога ради, Майк, – сказал Эйзенхауэр командиру Шестого американского корпуса генерал-майору Майку Доули за несколько часов до того, как Доули, разжалованный в полковники, отправился домой, – как ты ухитрился довести свою часть до такого состояния?» Лейтенант Питер Мур из Лейстерширского полка писал:
«За ночь немцы установили минометы и Spandau по всему периметру. Первый признак надвигающегося обстрела – знакомый тук-тук-тук минометных снарядов, когда ими заряжают орудие и выпаливают. Мы напряженно следили, и через несколько секунд начались пронзительные визги – ууу-бам, ууу-бам, ууу-бам – взрывы уже среди нас. Тут же присоединились и Spandau, дали длинную быструю очередь поверх наших голов, по виноградным лозам. Зато минометы били прицельно, вскоре у нас было много раненых и несколько убитых. Раненым трудно было помочь под таким интенсивным обстрелом. Мы стреляли из винтовок и ручных пулеметов “Брен”, чтобы прикрыть раненых, которые ползли и которых подтаскивали к найденному нами убежищу – пещере. Весь день длилась перестрелка. Я уговаривал себя, пока не впал в некое отрешенное состояние: мне казалось, что затяжной атаки мы не выдержим, и я хотел лишь, чтобы уготованная мне судьба сбылась поскорее. Я всегда носил при себе армейский молитвенник и черпал огромное утешение в чтении заутрени и вечерней молитвы, знакомых песнопений, псалмов и молитв»21.
После целого дня сражения контратаку Кессельринга удалось отбить. «На сером рассвете мы хоронили убитых немцев, – писал Майкл Говард. – Впервые я прикоснулся к трупам, к нелепо съежившимся куклам, которые лежали неподвижно, скорчившись, с остекленевшими голубыми глазами. Все они были не старше двадцати лет, а некоторые и вовсе дети. С ужасающим равнодушием мы сбрасывали их в их же собственные окопы и присыпали землей. Так эта сцена и запечатлелась в моей памяти: согнувшаяся, проворно работающая лопатами похоронная команда, распростертые тела с мертвыми глазами, холодный рассвет, выпивший все краски, оставив только траурный черный и серый. Закончив, мы воткнули в могилы их штыки и винтовки и поспешили в убежище. Сцена, достойная кисти Гойи».
И вновь огневая мощь союзников решила дело. «Особенно неприятен сильный обстрел с моря», – отмечал немецкий офицер. Каждое движение Кессельринга вызывало град артиллерийских снарядов и воздушные налеты. Если союзникам тяжко пришлось под Салерно, то и вермахт отнюдь не наслаждался тут жизнью. «Впервые мы почувствовали, каково столкнуться с превосходящими силами врага, – горестно рассуждал танковый стрелок Эрих Дресслер. – Сначала бомбардировщики на бреющем полете, они шли так плотно друг к другу, что не удавалось различить отдельные самолеты, а тем временем артиллерия и минометы часами пластали нас»22. Танки снова и снова пытались прорваться, но их снова и снова останавливали. Потери Кессельринга составили всего 3500 человек, в том числе 630 убитыми, англичане потеряли 5500 солдат, а американцы – 3500, но немцам не хватало материальных ресурсов, чтобы достичь моря. Они потрепали противника, как не раз еще сумеют и под Анцио, и в Нормандии. Но сбросить союзников в море им уже не удастся: слишком сильна у тех поддержка артиллерии и авиации.
Но малоудачные действия союзников в условиях численного и материального превосходства оказали несомненное влияние на дальнейший ход кампании: Кессельринг начал было отходить на север, однако сражение под Салерно убедило его в том, что вермахт вполне в состоянии выдержать продолжительные бои на полуострове, поскольку ландшафт Италии как нельзя лучше подходил для оборонительной стратегии сковывания противника. Гитлер признал его правоту и отказался от первоначального замысла отвести войско к северному нагорью. Средиземноморскую кампанию союзников можно признать удачной лишь в том отношении, что она побудила Гитлера снять с Восточного фронта 16 дивизий и перебросить их на помощь Кессельрингу. Но далее предстояло восемнадцать месяцев долгих, кровопролитных сражений в одном из самых труднодоступных ландшафтов Европы. «Томми придется пролагать себе путь сантиметр за сантиметром, – писал немецкий десантник в незаконченном послании, которое нашли на его трупе под Салерно. – И мы постараемся, чтобы каждый сантиметр давался им с трудом».
Кессельринг провел ряд оборонительных боев, с точки зрения союзников – однообразных и изматывающих. Каждый раз они бомбили и обстреливали немецкие позиции из пушек на протяжении нескольких дней, прежде чем при поддержке пулеметного, артиллерийского и минометного огня пустить вперед пехоту. Продержавшись неделю, а то и несколько недель, немцы упорядоченно отступали к следующей горе или реке, взрывая за собой мосты, железные дороги и шоссе. Все, что могло пригодиться союзникам или гражданскому населению, отступавшие уничтожали или присваивали. По оценкам, на юге Италии немцы пристрелили или угнали 92 % овец и 86 % поголовья домашней птицы. Злонамеренно уничтожалось культурное наследие Неаполя: покидая город, солдаты Кессельринга сожгли средневековые библиотеки, в том числе 50 000 томов, принадлежавших университету. В старинные здания закладывали бомбы с часовым механизмом, которые причинили серьезный ущерб уже после освобождения города. Но и союзники зачастую вели себя не лучше: с бесценными сокровищами веков они обращались как сущие вандалы.
Черчилль упорно, чуть ли не маниакально цеплялся за идею, будто крупный успех в Италии откроет путь в Германию, но американцы считали, что дальнейшие операции в Средиземноморье не принесут вожделенных плодов победы, и, как только захватили в Италии подходящие авиабазы, настаивали на переброске сил для скорейшего вторжения во Францию. В этом они, разумеется, были правы. Интерес англичан к «южному пути» был вполне оправдан в 1942–1943 гг., но эта стратегия утратила смысл в преддверии прыжка через Ла-Манш, тем более когда стали очевидны трудности, препятствовавшие скорейшему покорению Италии. Союзным войскам следовало оставаться на отвоеванной территории, сковывая немецкие части, чтобы их не отправили на фронты России (а затем и Франции). Но о существенных победах мечтать не приходилось, тем более с такими ничтожными командующими, как Александер или Кларк.
В конце сентября 13 англо-американских дивизий противостояли семи немецким, а еще 11 подразделений Кессельринга удерживали территорию в тылу, жесточайшими методами пресекая партизанские вылазки. Осенью союзники медленно и мучительно пролагали себе путь через Южную Италию. На каждом шагу их останавливали засады, взорванные мосты, упорно обороняемые реки или горы. «Если освобождение Италии пойдет такими темпами, – с горькой иронией писала в октябре графиня Айрис Ориго, находившаяся на оккупированной территории, – то здесь уже нечего будет освобождать: отступая, немцы оставляют за собой выжженную землю»23. Бои за линию Густава, вдоль рек Гарильяно и Сангро, продолжались неделями. За это время проливные дожди успели превратить поле боя в болото. «Боюсь, пока дожди не прекратятся, существенных результатов ждать не стоит, – предупреждал Монтгомери Брука незадолго до того, как передал командование Восьмой армией и вернулся в Англию, чтобы руководить вторжением в Нормандию. – Вся местность превратилась в море грязи, и никакой колесный транспорт не в состоянии проехать по ней».
Боевой дух падал. «Италия сломит их спины, их кости и почти полностью сломит их дух»24, – писал американский историк Рик Аткинсон. «Все пути ведут в Рим, – вздыхал Александер, – но все дороги заминированы». Противопехотные мины и растяжки собирали свою кровавую дань. «Обычно стопа отрывается у щиколотки, – отмечал американский военврач, – и висит на разодранных связках. Проникающие ранения в обе ноги и пах усиливают страдания жертвы». Эвакуация раненых в горной местности превращалась в дополнительный кошмар, на каждые носилки требовалось по четыре человека. Немцы умно разнообразили препятствия: например, к северу от Сангро они подрубили тополя вдоль километрового отрезка трассы и обрушили их на дорогу. Чтобы союзники смогли провести танки, пришлось расчищать путь бульдозерами со скоростью одно дерево в час.
В воспоминаниях участников той кампании отсутствуют солнце и природные красоты, которыми славится Италия, остались только тяготы местной зимы. «Земля покрылась лужами глубиной 15 см, блестящая, липкая, хватающая ноги ГРЯЗЬ, – писал домой офицер-артиллерист Джон Гест. – Воронки, оставившие вокруг мини-Альп грязи, указывают те места, где стояли в грязи палатки, а потом из-за грязи их перетащили на другое место в грязь. Совокупный психологический эффект грязи… невозможно исчислить. Машины ползут по дороге на низкой скорости, по обе стороны… гребни грязи, высотой мужчине по бедро. Эти берега… часто обрушиваются, и огромные грузовики, словно измученные доисторические животные, беспомощно соскальзывают в канаву. Мои люди стоят в дзотах, топают ногами в воде, прячут лица в поднятые воротники. Обращаясь к тому, кто стоит выше, они косятся на него исподлобья, потому что не хотят вытягивать шеи – холодно. Ходят, вытянув руки, удерживая равновесие»25. В ноябре канадский солдат Фарли Моуэт писал из Италии другу, находившемуся в Англии: «Обидно тебя разочаровывать, но климат тут оказался самый худший, какой только можно себе представить. Летом обваривает яйца жарой, зимой замораживает, а в промежутках твои яйца могут и протухнуть от бесконечных дождей. Более-менее уютно я себя чувствую только в спальнике в шерстяной походной форме, укутавшись в полудюжину дополнительных одеял»26.
Командир американского батальона подполковник Джек Тоффи, герой Итальянской кампании, вслух размышлял о том, как укрепить в своих людях инстинкты убийц, разжечь тигриную жажду крови, без чего не выигрываются сражения: «Наши парни не профессионалы, нужны приучить их радоваться убийствам»27. К ноябрю более половины солдат, с которыми Тоффи высаживался на берег, выбыло из строя. Другой американец, описывая сражения в Италии, приводит такое сравнение: «Как будто карабкаешься по лестнице, а твой враг все время бьет тебя по рукам»28. Баталист Джордж Биддль писал: «Лучше бы на родине представляли себе этих мальчиков не кем-то вроде знаменитых футболистов, а шахтерами, которые погребены под завалом, пожарниками, которых огонь отрезал на десятом этаже… Озябшие, голодные, тоскующие по дому, напуганные мальчики»29.
К 1 декабря 17 союзных дивизий участвовали в сражениях против 13 немецких. Авиация армии вторжения явно доминировала в воздухе, однако зимой от нее было мало пользы в операциях против засевшего в горах врага. В четырех битвах при Монте-Кассино в 80 км к югу от Рима, в период с января по май 1944 г., бомбардировками был разрушен один из величайших средневековых монастырей, а продвижению союзников это отнюдь не способствовало. Союзные армии, состоявшие теперь из удивительного конгломерата английских, американских, французских, новозеландских, польских, канадских и индийских частей, проявляли и отвагу, и упорство в обстоятельствах, напоминающих ситуацию на Восточном фронте и во Фландрии в пору Первой мировой войны, однако пользы от их самоотверженности было немного. Слабое руководство, плохая координация действий, притом что немцы отличались гораздо большим опытом, а ландшафт был неудобопроходимым, приводили к срыву одной атаки за другой. Французский генерал Альфонс Жюэн оказался единственным в войске союзников командующим, чья репутация благодаря этой горной кампании укрепилась: этот маршал вишистской Франции добровольно отказался от высшего звания, чтобы сражаться в Италии. Жюэн, конечно, мог бы руководить операциями гораздо успешнее, чем Александер и Кларк.
Прекрасно работала американская полевая скорая помощь, ежедневно и ежечасно вывозившая под огнем раненых. Одного водителя сбросило вместе с машиной в канаву взрывной волной, он выбрался из искореженного автомобиля и пошел дальше пешком, «вытащил под шквальным огнем одного за другим четырех индийцев… День и ночь, если приходилось, то непрерывно, эти американские мальчики делали свое дело. На них можно было положиться: они не отступали в самых трудных обстоятельствах»30. Гуркхские стрелки возглавили одну из атак на Кассино. «Передовые взводы угодили в смертельную ловушку. Кустарник оказался терновыми зарослями, внутри прятались противопехотные мины, а на подступах – «усики» мин-ловушек. За этим непреодолимым барьером притаились немцы, пулеметные гнезда понатыканы едва ли в пятидесяти метрах друг от друга, а между ними – доты, где пряталась автоматчики и метатели гранат. Словно с ночного неба обрушился ливень гранат… Передовые взводы кинулись искать убежища в кустарнике, и почти всех разнесло на куски. Полковник Шоэур был ранен пулей в живот. Две трети нападавших выкосило за пять минут, но уцелевшие все еще пробивались вперед. Иных солдат находили потом, запутавшихся ногами сразу в четыре троса от мин-ловушек. Наик Бирбахадур Тапа, получивший уже множество ранений, все же смог проскочить сквозь терновник и удержаться на другой стороне… Санитар Шербадур Тапа 16 раз пересек эту смертельно опасную полосу, пока не погиб. Горсточка выживших продолжала драться, пока не получила приказ отходить. Пали семеро офицеров-англичан, четверо офицеров-гуркхов и 138 солдат»31. Всего за шесть недель Четвертая индийская дивизия потеряла более 4000 человек из личного состава. Командиры этого подразделения признавали, что восстановиться до прежней боеспособности ему уже не удастся.
Но и по ту сторону холма причин для веселья не находили. «Думаю, в будущем об этих сражениях станут много рассуждать, – писал сержант Франко Бузатти, член фашистского отряда, который продолжал воевать бок о бок с немцами, – и мне любопытно, как завтра будут отвечать на сегодняшние вопросы»32. Отступая вместе с армией Кессельринга, он с огорчением отмечал контраст между неискоренимым бедламом в итальянских частях и немецкой дисциплиной, сохранявшейся и в пору поражений. «Войну выиграют немцы или англичане с американцами, – отрешенно записывал он. – Итальянцев можно в расчет не брать». Как многие его соотечественники, Бузатти в итоге понял, что ни той, ни другой стороне ничем не обязан, дезертировал и укрылся до конца войны у родственников в Читта де Кастелло.
Но союзников железная необходимость понуждала возобновить атаку. Капитан Генри Уаскоу, двадцатипятилетний уроженец Техаса, повел свой поредевший отряд в ночную атаку на одно из бесчисленных горных укреплений немцев – безымянную высоту 730. Лунная ночь 14 декабря 1943 г. «Обидно будет погибнуть и примерзнуть к этой горке»33, – буркнул он своему рассыльному. Вдруг захотелось хрустящего тоста. «Вернемся в Штаты, заведу себе такой тостер, куда суешь хлеб, а он сам выскакивает отлично прожаренный». Через несколько секунд немцы обнаружили противника, и капитан был смертельно ранен осколком. Уаскоу написал перед боем письмо родным, такие послания оставляли многие молодые люди: «Я бы хотел жить, но раз такова воля Божья, не печальтесь чересчур, дорогие мои, ибо жизнь в ином мире, должно быть, прекрасна, и я всегда жил с этой верой. Я сделаю то, что в моих силах, чтобы этот мир стал лучше. Когда над всем миром вновь зажжется свет, пусть свободные люди будут вновь веселы и счастливы. Если я подвел своих людей – молю Бога, чтобы этого не случилось! – то не из-за недостатка усердия»34. Лишь потому, что многие молодые люди из разных стран разделяли упорное желание Уаскоу «поступать правильно» – хотя у обеих сторон конфликта было свое видение «правильного», – война продолжалась вопреки жертвам и поражениям.
Больше всех от этой кампании пострадало население Италии. Если бы Бенито Муссолини не отказался в 1940 г. от нейтралитета, он бы, возможно, еще много лет оставался диктатором, подобно генералу Франко: тот учинил намного больше массовых расправ и убийств, чем дуче, однако его в итоге приняли даже в НАТО. И вряд ли Гитлер надумал бы оккупировать Италию только из-за этого: у страны не было ничего, представляющего интерес для нацистской Германии, за исключением пейзажей. Но в итоге с 1943 по 1945 г. Италия несла катастрофические последствия своего выбора. Задолго до капитуляции Бадольо его соотечественники стали воспринимать себя не как сражающуюся сторону, а как беспомощных заложников Гитлера. Айрис Ориго записывала в дневнике: «Необходимо понимать, насколько распространено среди итальянцев убеждение, что война – бедствие, навязанное им немцами, а отнюдь не собственной волей народа, то есть они за это не несут ответственности»35. Пусть это убеждение покажется наивным, однако его и в самом деле придерживалось большинство населения.
Свержение Муссолини отнюдь не остановило кровопролития, не дало Италии возможность мирно принять союзников, напротив: страну разоряли непрекращающиеся сражения обеих противоборствующих армий. 13 октября новое правительство объявило войну Германии. Мнение значительной части итальянцев о скоропалительной перемене курса и о немцах прекрасно сформулировано в письме одного из них, отправленном через два дня после этого события: «Я не стал бы сражаться на их стороне, но не буду воевать и против, как бы они ни были омерзительны, ведь тем самым мы совершили предательство»36. Ориго отмечает: «Итальянцы в целом массово tira a campare, иными словами, нехотя тащатся, куда поведут». Эмануэль Артом, член группы Сопротивления туринских евреев-интеллектуалов, писал: «Половина Италии принадлежит немцам, половина англичанам, итальянской Италии больше нет. Одни сняли мундиры и прячутся от немцев, другие думают, как прокормиться, а есть и такие, для кого настал момент выбора и кто опять рвется воевать – уже против нового врага»37. Самого Артома в следующем году схватили и после пыток казнили.
Нацистские репрессии и страх перед депортацией в Германию, на принудительный труд, привели к заметному усилению партизанских отрядов, особенно на севере Италии. Молодежь уходила в горы, вела там полубандитское существование: к концу войны почти 150 000 итальянцев числились в рядах повстанцев. Во многих областях происходили и дополнительные вооруженные схватки между различными партиями, вызванные политическими разногласиями, особенно часто сталкивались роялисты и коммунисты. Часть итальянских фашистов продолжала сражаться на стороне немцев, в то время как союзники тоже набирали итальянские отряды в помощь англо-американским войскам, которым не под силу было контролировать всю страну. Мало кто из мобилизованных проявлял энтузиазм: когда итальянскую артиллерийскую батарею, сражавшуюся на стороне англичан, посетил с осмотром сын короля принц Умберто, Эугенио Корти от души пожалел Его Высочество, «вождя народа, лучше всего умеющего находить козлов отпущения, на которых валят свою же трусость», народа, мечтавшего лишь о том, что война поскорее покинула его страну38.
В июне 1944 г., в эйфории продвижения к Риму, Александер допустил очередной крупный промах, обратившись по радио к итальянским партизанам и призвав их сражаться против немцев. Многие итальянские селения в результате подвергли жестоким репрессиям, когда продвижение союзников остановилось. После войны итальянцы сравнивали поступок англичан и американцев, бросивших партизан на произвол судьбы, с поступком русских, которые также не пришли на помощь Варшаве, когда там осенью в 1944 г. захлебывалось в крови восстание. Воспроизводится одна и та же схема: командующий союзной армии провоцирует партизанскую войну за линией фронта, и за его ничтожные стратегические успехи народ страны, на территории которой происходят боевые действия, платит непомерную цену.
До тех пор немцы считали итальянцев трусами и никудышными союзниками – теперь они видели в них предателей. «Мы – жалкие создания, жалкие твари, игрушка рока, без родины, без закона и без чести, – писал лейтенант Педро Ферейра, оказавшийся вместе со своей частью в Югославии, где после официального выхода Италии из войны немцы расстреляли многих его товарищей. – От такого позора итальянцы никогда не оправятся, не посмеют больше рассуждать о достоинстве и чести. Кто мы, преданные или предатели? На что нам рассчитывать, если мы трижды за два дня переменили свое знамя?»39 Кессельринг правил Италией с беспощадностью, наглядно проиллюстрированной его приказом от 17 июня 1944 г.: «Борьба с партизанами должна осуществляться всеми наличными средствами и с величайшей суровостью. Я возьму под защиту любого офицера, который откажется от обычной нашей сдержанности и применит против партизан самые суровые меры. В данном случае верен принцип: лучше ошибиться в выборе средств при исполнении приказа, нежели бездействовать». 1 июля он добавил: «Всюду, где будут получены данные о присутствии значительных партизанских группировок, следует расстрелять соответствующую часть мужского населения».
Самое вопиющее истребление заложников было устроено по приказу Гитлера и с согласия Кессельринга начальником римского гестапо подполковником Гербертом Капплером. 23 марта 1944 г. партизаны напали на колонну полицейского полка СС, двигавшуюся по улице Разелла. В перестрелке погибло 33 немца, 68 было ранено, среди жертв оказалось и десять прохожих. Гитлер потребовал казнить десять итальянцев за каждого немца. На следующий день из тюрьмы Регина Коэли в Ардеатинские пещеры доставили 335 заключенных, случайную смесь актеров, юристов, врачей, лавочников, столяров, был среди них и оперный певец, и священник. Некоторые оказались коммунистами; евреев было семьдесят пять. Из числа заложников двести схватили на улице поблизости от места, где произошло нападение на колонну, хотя никто из этих случайных прохожих не имел связей с партизанами. Партиями по пять их заводили в пещеры и расстреливали, оставляя там трупы. Немцы попытались довольно неуклюже скрыть следы преступления, взорвав вход в пещеру, но вонь разлагающихся тел вскоре выдала место расстрела, и туда потянулись итальянцы чтить и оплакивать погибших.
Элида Руггери чудом уцелела во время другой массовой расправы на кладбище в Марцаботто, живописном городке у подножья Апеннин. Здесь в сентябре 1944 г. отряды СС жестоко выместили на мирном населении свои потери, которые армия несла от рук партизан. «Детей убивали на руках у матерей, – рассказывала Элида. Она и сама была ранена и осталась лежать под грудой мертвых тел. – Надо мной и рядом лежали двоюродные сестры и моя мать, ей взрезали живот. Я пролежала всю ночь, а потом еще день и ночь, под дождем, в луже крови. Я почти перестала дышать»40. На утро второго дня Элида и еще четыре раненые женщины сумели выбраться из-под груды трупов. Только в семье Элиды погибло пять человек, а всего возле церкви было расстреляно 147 человек, среди них и священники, которые вели службу, когда явился отряд СС. 28 семей было уничтожено полностью. В соседнем Касолари погибло еще 282 человека, среди них 38 детей и две монахини. Всего в этой местности расстреляли 1830 гражданских, и даже Муссолини счел своим долгом направить Гитлеру протест, к которому, разумеется, никто не прислушался. Поразительно, каким образом Кессельринг, отдававший эти распоряжения, избежал в Нюрнберге смертного приговора.
Хотя до подобных злодейств союзники в Италии не опускались, и на их счету значатся преступления против человечества пусть и меньшего масштаба, особенно отличились французские колониальные войска. «Заняв город или деревню, они насилуют всех женщин подряд», – писал британский сержант Норман Льюис:
«Недавно подверглись насилию все жительницы деревень Патриция, Пофи, Супино и Мороло. В Леноле… изнасиловали пятьдесят женщин, но так как на всех этого не хватило, набросились на детей и даже на стариков. Сообщается о привычке марокканцев набрасываться вдвоем на одну женщину, и пока один совершает с ней обычный половой акт, другой входит в нее через анус». При этом жертвы получали травмы гениталий, прямой кишки и матки. В Кастро ди Вольши врачу пришлось помогать тремстам жертвам насилия… Многие мавры дезертировали и нападают на деревни в глубоком тылу. Сегодня я побывал в Санта-Мария а Вико, видел девушку, которая, как говорят, тронулась умом после того, как ее изнасиловала группа мавров… Она не может ходить… Так я лицом к лицу увидел эту кровавую реальность, ужас, принуждавший жительниц македонских деревень бросаться со скал, лишь бы не попасть в руки турок»41.
Такие эксцессы со стороны союзников вкупе с последствиями длительной воздушной и наземной бомбардировки отнюдь не располагали итальянцев радоваться «освобождению». Двое солдат из Четвертой индийской дивизии погнались за курицей, как вдруг окно в усадьбе распахнулось, оттуда высунулась женщина и на чистейшем английском языке крикнула им: «Пошли вон, оставьте моих кур в покое. Нам тут освободители не требуются»42.
Капитуляция Италии спровоцировала массовое движение английских военнопленных: освободившись из лагерей на севере страны, они спешили перевалить через Апеннины, чтобы воссоединиться с соотечественниками. И в этих странствиях (порой одиссея растягивалась на месяцы) бывшие военнопленные полностью зависели от помощи местного населения. Крестьяне кормили их и предоставляли приют скорее по доброте душевной, чем из приверженности делу союзников, и именно это особенно трогало сердца тех, кому они помогали. Немцы сурово карали гражданских лиц, которые прятали беглецов, сжигали их дома, порой убивали, но санкции оказались бессильны: десятки тысяч итальянских крестьян участвовали в спасении тысяч британцев. Отвага и сострадательность этих простых людей отчасти искупали ту злосчастную роль, которую страна сыграла в войне. Канадец Фарли Моуэт прибыл в Италию, заранее вооружившись презрением к ее народу, но, пожив среди итальянцев, полностью изменил свое мнение. «Стало ясно, что именно они и есть соль земли. В смысле, простой народ. Они работают изо всех сил, чтобы выжить, казалось бы, должны сделаться кислыми, вроде незрелых лимонов, а они веселы, смеются. И упорны, как сам ад… Они могли бы возненавидеть нас наравне с фрицами, но я готов доверять им всем, кроме священников, адвокатов, крупных торговцев, землевладельцев и т. д.»43.
Дикость итальянского ландшафта и приветливость местных жителей способствовали быстрому росту дезертирства из рядов союзников. Позади продвигавшейся вперед армии оставались те, кто предпочел пуститься в бега, – главным образом это были пехотинцы, понимавшие, как мало у них шансов выжить при столкновении с врагом. По оценкам информированных военачальников, в Италии в 1944–1945 гг. рыскало около 30 000 британских дезертиров – «две полные дивизии» – и еще тысяч десять американцев. Поразительные цифры, им следовало бы уделять большее внимания в описании этого похода, хотя следует отметить, что у официальных историков данные о дезертирах существенно занижены – отчасти потому, что они не принимают во внимание тех, кто по техническим причинам считался не беглецами, а лишь «в самовольной отлучке».
За линией фронта лейтенант Алекс Боулби наткнулся на солдата, который бросил свою часть и угощался ужином в кругу итальянского семейства. Этот солдат преспокойно закончил трапезу, вышел из дома и на глазах у растерянного молодого офицера угнал его джип прежде, чем кто-нибудь сообразил его остановить. Посреди хронических неудобств и ужасов военной кампании Боулби отмечал, что большинство его людей продолжают исполнять свой долг, хотя некоторые уже открыто бунтуют. Одного из них, задумавшего побег, перехватила военная полиция, и когда его уводили, он издевательски кричал товарищам: «Я останусь в живых, а вы все на хрен сгниете!»44
Александер мечтал вновь ввести смертную казнь как единственный способ запугать непокорных, и его мнение вполне разделял командир британской дивизии Билл Пенни: «Расстрелы с первых же дней послужили бы эффективной профилактикой»45. Но столь суровое наказание считалось неприемлемым с политической точки зрения.
И немцы, и союзники распространяли среди населения листовки, наперебой стараясь привлечь итальянцев на свою сторону. Айрис Ориго писала: «Крестьяне читают эти бумажки с напряжением и тревогой о своей собственной судьбе, но, как правило, с полным безразличием к основному вопросу. “Che sara di noi?” (“Что будет с нами?”) – вот что они хотят знать. А еще они мечтают о мире, вернуться к работе на земле, не потерять своих сыновей. Они живут в страхе и неуверенности, не знают, чего ждать от приближения солдат любой стороны – покой те несут им или насилие, освобождение или грабеж»46. 12 июня Ориго в саду своей усадьбы репетировала «Спящую красавицу» с группой детей-беженцев, которые жили у нее, и тут на грузовике явился отряд тяжеловооруженных немцев.
В ужасе Айрис cпросила, что им нужно, и получила неожиданный ответ: «Пожалуйста, попросите детей спеть для нас». Дети спели «Елочку» и «Тихую ночь» (эти немецкие песни они выучили годом ранее), и солдаты прослезились. «Родина! Мы будто вновь перенеслись на родину!» – и они забрались в грузовик и поехали дальше47. Не прошло и двух недель, как в те места явились французские колониальные войска. И Айрис с горечью писала: «Марокканцы довершили то, что начали немцы. Для них мародерство и изнасилование – законное право победителя, и они с неистовством предались и тому, и другому. Пострадали не только девушки и молодые женщины, но и восьмидесятилетние старухи. Так Вал д’Орсия познакомилась с союзниками, которых с таким нетерпением и энтузиазмом ждала»48.
Союзники медленно и с трудом продвигались по полуострову, а с лета 1944 г. войска Александера с обидой заметили, что операции в Средиземноморье и все их жертвы уже не привлекают прежнего внимания на родине. «В солнечной Италии, от фронта подалее, мы пьем вино, нам все равно», – распевали они. В глазах всего мира значение имели только события, происходившие далеко на севере, в Германии и Франции. И тем не менее Итальянский фронт сковывал десятую часть наземных сил Гитлера, которые в противном случае были бы отправлены на Восточный фронт или во Францию. С итальянских авиабаз союзники организовывали мощные эффективные налеты на нефтяные промыслы Германии в Румынии. И едва ли имелись какие-то способы ускорить эту кампанию, избежать ее или прервать. Она не принесла ни славы, ни удовлетворения сражавшимся, а тем более – злосчастным обитателям страны, превратившейся в поле боя.
3. Югославия
Итальянская кампания укрепила в Британии решимость наращивать операции в соседней Югославии, на что с неохотой дали согласие и американцы. В течение всей войны Черчилль брал в союзники любой народ, проявлявший готовность к совместной борьбе против Гитлера: это было основополагающим принципом его внешней политики, актуальность которой объяснялась отчаянным положением Британии в 1940–1941 гг. В результате партнерами становились некоторые страны, у которых с демократией было мало или вообще ничего общего. Ярким примером этого была Югославия. Ее доступность из Италии вкупе со стратегическим значением Балкан в целом с 1943 г. превратили эту страну в средоточие многих британских надежд.
Получившая статус государства в 1918 г. во время развала империи Габсбургов, страна была гремучей смесью враждебных друг другу этнических групп и конфликтующих идеологий, которой до 1941 г. диктаторски управлял принц Павел от имени несовершеннолетнего короля Петра. Большинство населения жило в самых примитивных условиях. Вот описание традиционного сельского сообщества, сделанное партизаном-коммунистом: «Многие никогда не были даже в ближайших городах. [Женщины] носили домотканые платья, открытые до пупа так, что их груди вываливались наружу. Они натирали волосы молочным жиром, разделяли их посередине и подвязывали у лба. Словарь их был скудным, не считая всего, что касалось скота и других подобных вещей… Мужчины находились на заметно более высоком уровне, поскольку они кое-что в мире повидали благодаря службе в армии, работе и торговле»49. «Страна была поистине очень дикой, – писал Чарльз Харгривс, который служил там в качестве офицера Управления специальных операций, – дороги практически отсутствовали. Дома были похожи на английские хижины времен Тюдоров, из балок и кирпича, до того убогие, что сразу за порогом было вытоптанное углубление, а пол устлан камышом или папоротником. Люди жили так, как в Англии не жили уже пятьсот лет… Они были очень добрыми, очень хорошими, были готовы отдать тебе все, что угодно. Как-то раз после долгого перехода мы вошли в дом, нас усадили, и две дочери сняли с нас обувь, омыли нам ноги и вытерли их своими волосами. Воистину по-библейски»50.
Все, произошедшее в Югославии в годы войны, объяснялось в подавляющем большинстве случаев этнической или политической междоусобицей. Ни лозунги оси, ни дело антигитлеровской коалиции не вызвали там большого энтузиазма. Злодеяния немцев порождали ненависть, но одновременно достигали своей главной цели – внушить страх. Многие югославы, отчаянно пытавшиеся избежать гнева оккупантов, выступали против насильственных актов сопротивления. Погибло около 1,2 млн человек – примерно столько же, сколько британцев, американцев и французов, вместе взятых, но большинство из них от рук враждебных этнических или политических группировок соотечественников, а не по вине главных воюющих сторон.
Весной 1941 г. Гитлер принудил принца Павла к подписанию Тройственного союза, чтобы получить доступ к югославским полезным ископаемым, а также вырвал согласие на захват Греции. Это вызвало бурную реакцию сербских националистов. 27 мая они организовали путч, чтобы свергнуть регента и установить от имени юного короля Петра правление, враждебное оси. Гитлер, разъяренный «предательством», 6 апреля ответил вторжением в страну. Король и правительство бежали, немцы добились практически бескровной оккупации. Гитлер приступил к расчленению страны. Северная Словения была присоединена к рейху. Хорватия получила независимость, и ее фашистская усташская милиция взяла на себя существенную и кровавую роль в поддержании контроля оси над страной. В мае 1941 г. усташи развязали террор с целью очистить страну от двух миллионов хорватских сербов. Тем временем Далмация и Южная Словения достались Италии. Население Македонии, попавшей в руки Болгарии, подверглось жестокому обращению, и это настроило людей против софийских властей51. Например, в результате полномасштабной этнической чистки к весне 1942 г. в Скопье от довоенного сербского населения в 25 000 человек осталось только 2000. Вся страна была ввергнута в хаос – круговорот репрессий, спорадического сопротивления и борьбы за выживание миллионов несчастных.
В Лондоне британцы встретили югославских правителей как героев и начали по мере сил поддерживать четниковское движение, под руководством монархиста полковника Дражи Михайловича. Однако в течение 1943 г. становилось все более очевидно, что четников преимущественно интересует политический контроль над Югославией, а не противостояние оккупантам. Жестокость расправ – сотня расстрелянных югославов за каждого убитого немца – привела Михайловича к мысли о тщетности борьбы с осью такой ценой.
Казалось, что коммунисты под руководством Иосипа Броза Тито сражаются более активно. Они вели умелую пропаганду, стараясь убедить и югославов, и западных союзников в том, что они готовы сопротивляться лучше, чем четники; кроме того, Тито удалось снискать поддержку разных этнических групп. «Армия Михайловича была целиком крестьянской и не могла похвастаться дисциплиной, – говорил британский связной в Югославии Роберт Уэйд, – в то время как люди Тито при всей его беспощадности в сравнении с ними вели себя как гвардейцы. У них не было строевой подготовки, но, когда им говорили соблюдать дистанцию, они соблюдали дистанцию. Ими руководили как следует, и разница бросалась в глаза»52. Чарльз Харгривс вторит ему: «Иногда [четников] вполне хватало на то, чтобы сделать что-нибудь небольшое: например, напасть из засады на поезд или автоколонну, но их не хватало на масштабные операции, требующие убийства большого количества немцев… Их главной целью было обеспечить свой контроль над страной после войны»53. Майор УСО Бэйзил Дэвидсон, пылкий сторонник Тито, цинично заявлял: «К сожалению, четники были того мнения, что выиграть войну против Гитлера – это наше дело, а их дело – выиграть войну внутри Югославии против коммунистов, которые между тем организовали гораздо более сильное и более эффективное сопротивление»54.
В декабре 1943 г. Черчилль решительно перебросил всю поддержку на сторону коммунистического лидера, который заявлял, что имеет 200 000 вооруженных людей. На решение премьер-министра повлияло несколько иллюзий, как то: что партизаны Тито были «ненастоящими» коммунистами, что их можно уговорить вступить в соглашение с королем Петром, а также, что они единодушно преданы делу борьбы с осью. Наличию «розовых очков» помогали сотрудники штаба ОСУ в Каире, симпатизировавшие коммунистам; Лондон не знал, что несколько месяцев 1943 г. Тито вел переговоры с немцами о перемирии, которое позволило бы ему сокрушить Михайловича, а также направлял большинство своих усилий на убийство четников. Милован Джилас был среди партизанских эмиссаров, которые провели несколько дней в немецком штабе, где офицеры выражали отвращение к манере югославов вести войну. «Посмотрите, что вы сделали с собственной страной! – восклицали они. – Пустошь, пепелище! Женщины побираются на улицах, свирепствует тиф, дети умирают с голода. А мы хотим принести вам дороги, электричество, больницы»55.
Только после того, как Гитлер отверг любые сделки с коммунистами, противостояние между партизанами и оккупантами возобновилось. Последующая кровавая баня радикализировала большинство населения и позволила Тито создать массовое движение. Его сторонники со временем получили контроль над большими сельскими территориями. Но им не хватало сил взять важные города до прибытия в 1944 г. Красной армии, и, как и у четников, их главной целью было обеспечить послевоенное господство. В Югославии было дислоцировано 35 дивизий оси, однако в основном это были части второго эшелона. Такая концентрация войск отражала навязчивый страх Гитлера, что союзники высадятся на Балканах, а также он видел необходимость оборонять страну от Тито. Военные достижения партизан были менее значимыми, чем хотелось думать Лондону. С конца 1943 г. союзники начали посылать Тито значительно больше вооружений, чем какому-либо другому европейскому движению сопротивления. Но основная часть оружия была использована для подавления четников и обеспечения господства Тито над страной в 1944–1945 гг., а не для убийства немцев.
В Югославии, где переплелось столько видов вражды, борьба была очень кровавой и запутанной. Вот пример из записей заместителя Тито Милована Джиласа: «Покрытый садами и стоящий на слиянии двух горных потоков все еще неповрежденный город Фоча, казалось, предлагал очаровательные и мирные перспективы. Но внутри скрывалось такое человеческое страдание, какое невозможно ни измерить, ни вообразить, – писал он. – Весной 1941 г. усташи, среди которых было немало мусульман-головорезов, убили много сербов. Затем четники… в свою очередь, устроили резню мусульман. Усташи выбрали двенадцать единственных сыновей из видных сербских семей и убили их. В деревне Мильевина они перерезали глотки сербов над цистерной, чтобы наполнить ее кровью вместо фруктовой мякоти. Четники жестоко расправились с группой мусульман, которых они связали вместе на мосту через Дрину и бросили в реку. Многие из наших видели всплывшие группы трупов, зацепившиеся за камень или бревно. Некоторые даже узнали членов своей семьи. Сообщалось, что в районе Фочи было убито 4000 сербов и 3000 мусульман»56.
Несчастные жители городов и деревень были вынуждены терпеть присутствие партизан, которые жили за счет их собственных скудных запасов продовольствия. Они видели, как их долины превращают в поля сражений, стали свидетелями казней тысяч реальных и мнимых пособников врага, произведенных той или иной группировкой, а также массовых убийств, совершаемых оккупантами оси в качестве возмездия за деяния партизан. Ненависть со всех сторон была неугасимой. Почти каждая община и каждая семья понесли потери. Джилас признавал, что местные жители были в ужасе и от мести коммунистов (например, когда они сожгли четниковскую деревню Озриничи): «Хотя многие из них радовались горю Озриничей и понимали военные причины наших действий, у крестьян просто в голове не укладывалось, что коммунисты могли вести себя так же, как захватчики или четники… Резкие ответные меры коммунистов… сделали крестьян скрытными и двуличными: они вставали на сторону любого, кто был в деревне в данный момент, и старались избежать каких-либо рискованных обязательств»57. Даже родная тетка Мика упрекала Джиласа: «Вы боретесь за правое дело, но жестоко и кроваво»58.
На каждой остановке во время своих бесконечных маршей партизаны сталкивались с горем: «Все деревни в долине реки Сутьеска были разрушены. Сначала усташи сожгли дотла православные деревни, затем четники сожгли деревни мусульман. Дома и люди уцелели только на близлежащих холмах. Разрушения выглядели еще более ужасающими, когда тут и там показывались то шаткая дверная рама, то почерневшая стена, то обугленное сливовое дерево, торчащее из высоких сорняков и подлеска. Несмотря на буйную растительность, раскачиваемую прохладным ветерком по обеим сторонам быстрой реки, мои воспоминания о тех днях отягощены горечью, болью и ужасом»59.
В обществе, где соперничество народов и кланов и культ кровной мести носили характер эпидемии, к 1944 г. зверства полностью вышли из-под контроля. Все воюющие стороны были повинны в ужасающем кровопролитии, большая часть которого была направлена против людей, чьим единственным преступлением считалась принадлежность к другому народу или вере. Партизаны часто принимали в свои ряды четников, переметнувшихся на их сторону. Джилас был огорчен судьбой высокой, темноволосой девушки, которая отвергла авансы взявших ее в плен партизан, бросив им в лицо: «Поменять взгляды было бы безнравственно!» Ее отвага произвела на него впечатление, и он расстроился, когда услышал, что во время казни она сломалась и зарыдала: это уронило ее в глазах Джиласа. Он утешил себя воспоминанием о том, что, когда убивали весь ее отряд, их не пытали, как обычно: «Казни производились черногорцами, которые вызывались сами с целью отомстить за убитых товарищей… Осужденных уводили ночью, группами по двадцать»60. И палачам, и жертвам, похоже, было одинаково неловко в своей роли: «Их невозможно было отличить – разве что по тому, что у одних были ружья и звезды, а у других – проволока вокруг кистей… Как обычно, не было никаких попыток достойно их похоронить. Из насыпи торчали руки и ноги. Гражданская война не знает заботы о могилах, похоронах, заупокойных службах». Партизаны смутились только тогда, когда о «разбрызганные мозги, раздробленные лица и искореженные тела» споткнулись представители британской военной миссии, сопровождавшие их. «Не могли, что ли, выбрать другое место для этого?» – раздраженно рявкнул Тито61.
Тем временем силы оси также вносили свой вклад в бойню. Щепетильный солдат из итальянских «альпийцев» писал: «После нескольких дней в Подгорице мы все вместе выступили на близлежащую дорогу, где партизаны с большим успехом провели атаку на одну из наших колонн. Разгромлено 38 машин, водители и сопровождающие убиты – все до одного! Тела изуродованы. Тут получаем приказ: карт-бланш на два дня. Уничтожаем, или, точнее, присутствуем при уничтожении всего на своем пути. Главные злодеи – наши ветераны. Нас шокируют и приводят в ужас крики солдат и ужас злосчастных жителей… Это было первым незабываемым столкновением с реальностью, навлекающей позор на нас как представителей человечества»62.
Партизаны были поражены тем, что после капитуляции Италии в сентябре 1943 г., когда было покончено с главной опорой хорватского господства, вкус усташей к резне не притупился. Когда люди Тито насмехались над фашистами по поводу проигранной войны, обреченные в ответ кричали: «Знаем, но еще есть время много вашего брата поубивать». Приговоренные хорваты пели: «Россия, все тебе достанется, да только сербов не останется». Джилас писал: «Это была война, где не щадили, не сдавались, не забывали старых обид»63. Он размышлял над движущими силами конфликта в толстовских выражениях: «Почему доктора из Берлина и профессора из Гейдельберга убивали балканских крестьян и студентов? Ненавистью к коммунистам всего не объяснишь. Какая-то другая ужасная и неистребимая сила сподвигла их на безумную смерть и позор. И нас сподвигла на сопротивление и месть. Возможно, в какой-то степени Россия и коммунизм действительно служили причиной. И все же эта страсть, эта стойкость, пренебрегающая страданиями и смертью, эта борьба за право называться мужчиной и сохранить национальную принадлежность перед лицом смерти не имели ничего общего с идеологией или с Марксом и Лениным»64. Часто партизаны были вынуждены бросать своих погибших или убивать тяжелораненых. Джилас описывает, как один муж внял мольбам своей смертельно раненной жены прикончить ее, дождавшись минуты беспамятства. То же самое сделал отец для дочери. «Он пережил войну, высохший и угрюмый, и его друзья почитали его как живого святого»65.
Западные союзники были горько разочарованы в 1945 г., когда поддержка Красной армии обеспечила Тито контроль над Югославией. Немецкое вторжение дало волю таким внутренним силам, которые англо-американцы оказались не в силах контролировать. Даже если бы они отказали Тито в вооружении, прибытие Красной армии в 1944 г. все равно обеспечило бы установление коммунистического режима в Белграде. Тито сделался одной из главных фигур войны: он использовал поддержку союзников с выдающимся дипломатическим мастерством и обеспечил себе пожизненное господство над страной. Но его претензии на важную роль в свержении нацистской тирании представляются сомнительными. Югославские партизаны были самыми многочисленными и назойливыми из насекомых, жужжащих над открытыми ранами разлагающейся оси, но роль их была незначительной по сравнению с действиями союзнических армий.
19. Война в небе
1. Бомбардировщики
Многие молодые люди во всех воюющих странах с энтузиазмом представляли себя в роли «рыцарей неба». «Я казался себе кем-то наподобие римского гладиатора, – вспоминает Тед Боун, который в 1941 г. добровольно записался в летный состав Королевских ВВС. – Ужасы рукопашной схватки, винтовка со штыком – это все не для меня: я буду сбивать вражеские истребители»1. Молодого человека «поколения Линдберга» приводила в восторг перспектива полета на одномоторном одноместном самолете, легком и маневренном, предоставлявшем пилотам власть над собственной судьбой, – большая редкость в армиях XX в. По иронии судьбы, многим из этих энтузиастов предстояло заняться одной из самых варварских операций этой войны: бомбардировками городов; сам Боун стал стрелком на бомбардировщике Lancaster. В Европе и Азии от бомбежек погибло значительно больше миллиона человек, в том числе женщин и детей. Многие молодые люди всех воюющих стран – самые смелые, самые образованные, лучше всего подготовленные – соперничали в битве за разрушение важнейших центров вражеских цивилизаций.
Конечно, ни они, ни их командиры так не думали о своей миссии. Экипажи ВВС не слишком-то печалились о судьбе своих жертв на земле, малозаметных с высоты, – они думали о собственной участи. В придачу к пропуску в небо они получили повышенные шансы быть убитыми и обязанность бомбить, сбивать и обстреливать на бреющем полете. Джефф Веллум, впервые севший за штурвал Spitfire в восемнадцать лет, в начале Битвы за Британию, так описывает свои чувства: «Я испытываю возбуждение, которое никогда не чувствовал раньше. Это как волшебный сон, вроде сна Питера Пэна. Все кажется ненастоящим… Какая жалость… что самолет, который может дать такое восхитительное ощущение чистого счастья и красоты, приходится использовать, чтобы в кого-то стрелять»2. Гарольд Дорфман из Нью-Йорка, который штурманом бомбардировщика B-24 летал бомбить Германию, позже сказал: «Я бы не обменял эти переживания ни на что на свете»3. На базе ВВС США в Англии капрал Айра Уэллс, стрелок B-24, читал сводки наземных боев и с сочувствием думал о солдатах союзных войск: «Нам досталась вся слава. Я понимал, как нам повезло, что мы в небе. Когда в Лондоне я попал под обстрел ФАУ-2, я перепугался гораздо больше, чем во время боевых вылетов»4. Дорфман и Уэллс были скорее исключениями из правила: в бомбардировочной авиации, если сравнивать ее с истребительной, мало кто любил то, что приходилось делать. И дело не в переживаниях о судьбе тех, кто погиб на земле под их бомбами: восьми– или десятичасовой полет в боевом порядке под огнем истребителей и зенитной артиллерии среди бела дня (как у ребят из американских ВВС) или в полной темноте (как у английских летчиков) порождал постоянное напряжение и страх. На долю бомбардировщиков не досталось возбуждения и азарта летчика-истребителя, ведущего по небу свою стремительную машину. Монотонность бомбардировочных вылетов разнообразилась лишь адским зрелищем сражений или пожарами в немецких и японских городах.
Молодой англичанин Лори Стоквелл при всей своей впечатлительности никогда не ставил под вопрос этичность роли пилота, летающего бомбить Германию. Как почти все его поколение, он считал, что хладнокровно, без особого азарта исполняет крайне опасную задачу, сражаясь с тьмой, надвигающейся на цивилизацию Запада. В 1942 г. он пишет матери:
«Я раньше никогда не рассказывал тебе о своих чувствах и мыслях по поводу этой войны и надеюсь, что больше никогда не расскажу. Помнишь того малыша, который собирался стать “отказником”, если начнется война? Случилось многое, и малыш изменил свое мнение: я говорю о жестокости, о людских страданиях и злодеяниях, но это не слишком повлияло на мое отношение, ведь я понимаю, что мы все способны на поступки, о которых сегодня так много пишут. Факт, что некоторые люди желают отнять свободу у народов земли, – вот что изменило мои взгляды. Сообщения о злодеяниях лишь порождают ненависть, а ненависть достойна презрения. Почему же я тогда участвую в войне, которая вызывает во мне лишь презрение? Чтобы мы с тобой могли жить в покое и счастье… Я воюю, чтобы однажды в мире вновь воцарилось счастье и чтобы вместе со счастьем вновь возвратились любовь к красоте, жизни, умиротворенности, братству всех людей. Ты могла бы заметить, что я не говорю о войне за одну страну, за империю; на мой взгляд, это просто глупо»5.
Стоквелл погиб в небе над Берлином в январе 1943 г. Радист контрольно-диспетчерского пункта на аэродроме Рэндалл Джаррелл в своих стихах рассказывал о том, что выпало на долю экипажей ВВС США:
…И называли именами женщин Бомбардировщики, и истребляли Изученные в школе города, Покуда наши трупы не валялись Среди убитых нами незнакомцев[21].Большинство юношей, призванных на войну, мечтали летать, но лишь у немногих эта мечта сбылась. Авиация отбирала для своего смертельно опасного дела только самых умных и способных. Штурман Королевских ВВС Кен Оуэн из Уэльса сказал: «Наверное, четверть нашего выпускного класса средней школы Понтипридда служили в ВВС; больше половины из них погибли»6. Но те, кто попал в военно-воздушные силы, наслаждались своим статусом армейской элиты и вызывали у широкой публики гораздо больше восхищения, чем любой другой род войск.
Ситуация, сложившаяся в первый год войны, вынуждала британские ВВС бросать в бой совсем неопытных пилотов, иногда имевших лишь двадцать-тридцать часов летной подготовки. Впоследствии, однако, британские и американские экипажи, прежде чем принять участие в боевых действиях, проходили гораздо более серьезную тренировку, вплоть до двухгодичной подготовки для летчиков и штурманов. Инструкторы отсеивали многих кандидатов в ходе интенсивного обучения, но тем не менее пилоты военного времени зачастую погибали еще до встречи с противником, потому что их навыков было недостаточно для управления современными самолетами. Молодость и дух времени поощряли неосторожность и безрассудство. За время войны Королевские ВВС потеряли в авариях, не связанных с боевыми действиями, 787 офицеров и 4540 военнослужащих рядового и сержантского состава убитыми и, соответственно, 396 и 2717 ранеными. В американских воздушных силах всех родов войск в результате несчастных случаев погибли 13 000 человек. Взлет и посадка истребителя, неустойчивого по своей конструкции, требовали осторожности и педантизма. Ошибка зачастую каралась смертью: за первые два года войны погибло полторы тысячи летчиков-стажеров люфтваффе, учившихся летать на Me-109. Управлять бомбардировщиком было немногим легче, особенно в случае технических неисправностей.
Навигация была жизненно важной наукой для всех трех стихий. В британском докладе о боевой подготовке отмечалось, что солдаты готовы простить своим командирам почти любую оплошность, кроме неумения читать карту: это в лучшем случае грозило потерей времени и сил, в худшем – потерей жизни. Корабли по небрежности штурманов заплывали на минные поля и тонули. Заблудившиеся самолеты (в особенности заблудившиеся над морем) часто разбивались, когда в баках кончалось горючее. Блуждание по пустынным океанам в противолодочном патрулировании представляло собой изнурительную задачу, требовавшую безупречных навыков навигации: ошибки штурманов погубили не меньше экипажей, чем аварии и действия противника. Даже после того как появились электронные навигационные приборы и радиомаяки, устрашающее количество самолетов погибло в морской пучине из-за того, что неопытные летчики перепутали направление полета или не смогли в плохую погоду правильно сориентироваться.
Немцы, итальянцы и японцы вступили в войну с отлично обученными пилотами, а большинство самолетов люфтваффе вплоть до 1942 г. превосходили британские и американские; у японцев и итальянцев тоже были хорошие типы машин. «Учитывая, с чем начали войну немцы, будет чудом, если мы сумеем хотя бы сравняться с ними»7, – сказал командир британской бомбардировочной авиагруппы Эдвард Аддисон. Тесное взаимодействие люфтваффе и вермахта стало ключевым фактором немецких побед 1939–1942 гг. Но в качестве стратегической бомбардировочной авиации эскадрильи Геринга потерпели неудачу. До Битвы за Британию руководители ВВС всех воюющих стран питали иррациональную веру, что авианалеты сами по себе способны поколебать стойкость населения противника и это, в свою очередь, приведет к развалу промышленности вражеской страны и полному ее поражению. Разрушение Герники легионом «Кондор» в гражданской войне в Испании, бомбардировки Нанкина, Варшавы и Роттердама порождали иллюзии о слабости гражданского населения. Более длительный опыт, однако, свидетельствовал об ином.
«Жизненно важный вопрос, заставший врасплох даже специалистов ВВС, – поведение гражданского населения при бомбардировках, – писал майор Александер Северски, ведущий американский специалист по воздушной стратегии. – Считалось, что воздушные бомбардировки способны достаточно быстро сломить моральный дух населения… В ходе этой войны выясняется несостоятельность этих предположений. Напротив, уже стало ясно, что, несмотря на значительные потери и впечатляющие разрушения, гражданские способны это перенести. Напротив, авиация деморализует вооруженные силы быстрее, чем безоружное городское население. Эти факты важны не только с психологической точки зрения. Они говорят о том, что бессистемное разрушение городов… является дорогостоящим и неэффективным средством в сравнении с достигнутыми тактическими результатами. Следует все больше перенацеливать воздушные налеты на военные, а не на случайные гражданские объекты. Бессистемный вандализм бомбежек должен смениться систематическим, планомерным уничтожением»8.
Результативность бомбардировщиков зависела от веса бомб, которые они могли точно сбросить на намеченные цели; количество играло решающую роль. Люфтваффе и японские ВВС обладали поразительными возможностями для поддержки своих сухопутных и военно-морских сил, расстрела беженцев и устрашения, но бомбовая нагрузка их самолетов была недостаточной. Во время Битвы за Британию 1940–1941 гг. люфтваффе несло смерть и разрушение в недостаточном количестве для того, чтобы серьезно пошатнуть решимость британской нации продолжать войну. В дальнейшем авиация Германии стала клониться к упадку: после того как у государств оси было выбито первое поколение летчиков, качество обучения их преемников стало ухудшаться. И немцы, и японцы из-за дефицита топлива совершили важнейшую стратегическую ошибку: они неправильно распределяли людские ресурсы и не смогли подготавливать нужное количество опытных пилотов. В 1944–1945 гг. страны оси заметно проигрывали в качестве летных экипажей своим американским и британским соперникам. Русские в вопросах подготовки и расходования экипажей проявляли такую же безжалостность, как и во всем другом. К 1943 г. у Красной армии были хорошие машины и опытные пилоты, но ее технический уровень был ниже, и она несла ужасающие потери.
Во второй половине войны западные союзники в огромных количествах производили отличные самолеты, а немцы создали лишь два хороших самолета: Focke-Wulf 190 и концептуальную новинку – реактивный истребитель Me 2629. Но для того, чтобы вернуть люфтваффе былую мощь, этих самолетов было построено слишком мало, а уровень летчиков – недостаточен. Японские Zero, так досаждавшие союзникам в 1941–1942 гг., полностью устарели. Их называли «самолетики-оригами» – легкие, грациозные, в высшей степени маневренные, но слабые и почти без защиты для пилота (например, кабина без брони). Капитан Дэвид Маккэмпбелл, один из лучших асов ВМС США той войны, говорил: «Мы быстро поняли, что если попасть ближе к основанию крыла, где у них топливные баки, то они взорвутся прямо у тебя на глазах»10. Японская сухопутная и морская авиация в 1944–1945 гг. ничего не смогла противопоставить союзникам, кроме жеста отчаяния – атак камикадзе.
Экипажи союзников, сведенные в оперативные истребительные или бомбардировочные эскадрильи, в последние полтора года войны осознали статистическую вероятность собственной гибели. Романтические иллюзии рассеялись, и они научились воспринимать свою будущность как кровавое месиво или погребальный костер из авиационного бензина. Конечно, на земле они имели привилегированный статус, не соприкасаясь с грязью и неудобствами пехоты. Но шансов остаться в живых у летчиков было меньше. Эрни Пайл писал: «В авиации человек встречает смерть благопристойно. Он умирает сытым и чисто выбритым»11.
В Королевских ВВС погибло больше половины экипажей тяжелых бомбардировщиков – 56 000 человек. Общие потери ВВС США были меньше, но из 100 000 человек, участвовавших в стратегических бомбардировках Германии, погибло около 26 000 и еще 20 000 попало в плен. «Каждую ночь следовало быть готовым к смерти, – рассказывал пилот британского бомбардировщика Whitley Сид Бафтон. – Перед вылетом ты осматривал комнату: клюшки для гольфа, книги, маленький красивый радиоприемник – и письмо родителям, стоящее вертикально на столе»12. Неудивительно, что в начале войны, когда преимущество было у стран оси, потери союзников были относительно большие, а когда маятник войны качнулся в другую сторону, потери постепенно снижались. С 1943 г. настало время потерь для немецкой и японской авиации: к концу войны осталось в живых менее 10 % летчиков.
Главной задачей командования воздушных сил союзников были бомбардировки Германии (серьезные налеты на Японию начались только в марте 1945-го), благодаря чему союзники надеялись самостоятельно выиграть войну. Британским ВВС пришлось отказаться от дневных бомбардировок после кровавой прелюдии 1939–1940 гг. Поэтому их эскадрильи совершали ночные налеты, не наносившие Германии существенного материального урона вплоть до 1943 г. из-за недостаточной массовости, плохих навигационных качеств и низкой точности бомбометания. Первые британские бомбы, упавшие на Берлин в конце августа 1940 г., вызвали только случайные разрушения и убили несколько гражданских лиц, хотя и напугали столичных жителей. Одна молодая мамаша укрылась в убежище сама, решив не будить двоих своих спящих детей; дети погибли при прямом попадании бомбы в дом. Эта история попала в газеты, после чего берлинцы стали серьезнее относиться к сиренам, предупреждавшим об авианалетах.
Один командир эскадры Королевских ВВС называл ранние операции бомбардировочной авиации «блужданием впотьмах». Такую оценку подкрепляет рассказ сержанта Билла Апричарда, который управлял Whitley 51-й эскадрильи во время налета на нефтеперегонный завод в Поллице на Балтике в ненастную ночь на 29 ноября 1940 г. Пролетев два с половиной часа в густых облаках над Северным морем, они неожиданно оказались в безоблачном небе над ярко освещенным городом. Апричард и его экипаж поняли, что летят над нейтральной Швецией, и спешно скорректировали курс. Они отбомбились по Поллицу вслепую, определив его местоположение методом счисления пути, по расчетному времени подлета к цели – и в плотной облачности повернули домой. И вдруг попали под мощный заградительный огонь. Апричард пишет:
«Тут я очнулся! Ветер был сильнее, чем я думал, и мы летели курсом, который вывел нас прямо на сильно защищенные Фризские острова. Мы пересекли Северное море в сильной облачности, и было трудно определить, где мы вообще находимся. Я потратил много времени – наверное, слишком много – на полет вдоль йоркширского побережья в надежде найти просвет в тучах. Шел сильный дождь… К этому времени у нас осталось мало топлива – только на 20 минут, – и я впервые применил аварийный сигнал «пан-пан-пан», и уже через пару мгновений Линтон-на-Узе дал нам магнитный курс. Когда мы туда добрались, мы уже были готовы бросить самолет. Мы не уложились во время полета и спланировали на полосу. У нас получилось сесть, но заправщики сказали, что бензобаки у нас были практически сухие»13.
В 1940–1941 гг. Королевские ВВС питали большие иллюзии насчет эффективности действий бомбардировочной авиации. «Инструктажи были очень, очень хороши, – говорил девятнадцатилетний штурман Кен Оуэн. – Они давали нам ощущение, что мы летим бомбить важную цель и нанесем Германии большой урон. И конечно, мы все на следующее утро слушали сводки BBC, в которых прославляли наши победы; уровень самообмана был просто потрясающий. Мы думали, что расколошматили их в пух и прах. Я предполагаю, что, может быть, с десяток раз [из тридцати вылетов] мы сбросили бомбы там, где надо; в остальных случаях мы или отбомбились в неправильном месте, или просто распахали им поле»14.
Хотя в первые годы войны результаты стратегических бомбардировок были весьма скромными, большинство руководителей британских ВВС истово верили не только в успех будущих бомбардировок, но и в уже достигнутые результаты. В сентябре 1942 г. маршал авиации сэр Уилфред Фримен в письме начальнику штаба ВВС сэру Чарльзу Порталу жаловался на непомерную похвальбу некоторых командиров: «В своих попытках снискать общественное внимание они иногда преувеличивают и даже искажают факты. Более всего этим страдает командование бомбардировочной авиации». Фримен приводит опубликованные в средствах массовой информации заявления о результатах недавних рейдов на Германию: «Заявляют о фантастическом ущербе [якобы нанесенном Карлсруэ и Дюссельдорфу]. Я считаю эту информацию недостоверной… Полагаю, что вы могли бы… разослать командующим циркулярное письмо… дабы внушить им необходимость строго придерживаться объективных фактов в отчетах об операциях… Меня беспокоит, что имеющиеся тенденции могут за короткий срок повредить доброму имени ВВС»15.
Но все то время, пока западные союзники уступали Германии в силе, такое положение вещей устраивало не только командование авиацией, но и премьер-министра, и американского президента. Сэр Артур Харрис, который стал главнокомандующим бомбардировочной авиацией в феврале 1942 г., говорил: «Уинстон относился к бомбежкам как к возможности устроить представление. Если бы у нас не было [бомбардировщиков], то осталась бы одна подводная война, а защиту наших торговых путей, как он говорил, нельзя отнести на счет военных действий»16. Черчилль считал бомбардировки важным инструментом взаимоотношений западных союзников со Сталиным: они в какой-то степени смягчали раздражение советского командования по поводу отсрочек и затяжек со вторым фронтом.
Кен Оуэн во время своего первого боевого вылета в 1942 г. на Кассель пребывал в состоянии эйфории. «Я был потрясен. Это был чистый восторг – сначала инструктаж, потом мы сидели в самолете, готовясь к взлету. Вовсю светила луна. Мы нашли свою цель, и кучу зениток в придачу. На втором вылете я перетрусил гораздо сильнее. У меня мерзли ноги, и я жутко потел. Очень быстро за вами закреплялась одна из двух репутаций: были “нормальные парни” – настоящие “боевые машины” – и были такие, кому все это совсем не нравилось. О двух-трех можно было побиться об заклад, что долго им не протянуть: например, кто-то запросто мог с перепуга выкинуть какую-нибудь глупость… Один-два пилота были жутко трусливые типы; пара стрелков замерзла в своих турелях. Кое-кого сшибли из-за жуткой разболтанности экипажа».
Летным экипажам были хорошо знакомы вонь паленой резины и запах бензина в самолете, а иногда и пороховая гарь безостановочно молотящих пулеметов, и рвота перепуганных людей. Радист Оуэна не раз блевал, когда самолет делал резкий маневр уклонения. «Если тебя словили [прожектора], ты к кому-нибудь подлетаешь, чтобы они прихватили его вместо тебя. Чудовищное проявление цинизма и бессердечия: “Слава богу, что не меня!” Я совершенно не помню, как звали многих сбитых ребят, которые пробыли у нас не больше пары недель. До нас довольно медленно доходило, что летать – это опасное дело; мы по-прежнему чувствовали возбуждение, и наш моральный дух был высок. Были и проблемы, но я никогда не винил высшие инстанции, потому что понимал, что мы все учимся на ходу»17.
Мы привыкли к рассказам о спаянности экипажей бомбардировщиков, но это было далеко не всеобщим правилом. Штурман B-24 Гарольд Дорфман ценил профессиональный уровень своего пилота, но «мы ненавидели друг друга… После стычки во время тренировочного полета мы никогда не говорили ни о чем, кроме задания». Джеку Бреннану со Стейтен-Айленд исполнился двадцать один год, когда он, к негодованию своей семьи, поступил на службу в ВВС. «Они говорили, что могли бы меня отмазать от армии. Но я был из тех парней, которые рвались в герои». Двадцать четыре вылета на Германию с неумелым и трусливым пилотом излечили Бреннана от подобных заблуждений. «Я все время хотел оказаться где-нибудь в другом месте. Нам доставалось чуть ли не каждый раз. Хорошо лишь то, что жили мы в довольно приличных условиях, если сравнивать с парнями из пехоты». Боевой путь его экипажа завершился бесславно: во время очередного рейда на Берлин пилот убедил их выпрыгнуть с парашютом над Швецией. Остались в живых трое, в том числе Бреннан; до конца войны он наслаждался безопасностью и комфортом лагеря для интернированных: «Это было похоже на летний лагерь».
Характер жизни и смерти на базах бомбардировщиков не располагали к завязыванию знакомств вне собственного экипажа. «Когда у вас такие потери, как были у нас, вам не хочется привязываться к людям, – сказал Этьен Мэйз, летавший в Королевских ВВС на самолетах Halifax. – Люди появляются, а потом пропадают. К тому времени, как ты сделал десять вылетов, ты уже “старик”»18. Когда Тед Боун увидел знакомые имена в списке пропавших без вести, он записал в дневнике: «Хорошие парни Пьятт, Доннер и др. Вымытый велосипед, письма домой, на ужин какао с пышками у себя в комнате»19. Член экипажа американского B-17 писал: «Мы учились жить, как жили, наверное, в древности, совсем по-простому, как животные, без надежды для себя и жалости к другим»20.
Бомбардировочные операции приносили своеобразные переживания экипажам, знавшим, какие у них шансы «отлетать свой срок». Они взлетали со спокойных упорядоченных авиабаз, летели над Европой, сквозь самое пекло войны, потом возвращались, приземлялись среди полей Норфолка или Линкольншира, на следующий вечер сидели в пабе с местными крестьянами, а через два-три дня все повторялось снова. Пилоты, особенно совершавшие ночные вылеты, пользовались значительной свободой, которую могли применить к добру или к худу. Большинство выказывало поразительную решимость и преданность долгу, но некоторые «сбивались с курса». Командир 5-й авиационной группы вице-маршал авиации сэр Ральф Кохрейн лично допрашивал пилота, который повернул назад во время рейда на Гамбург; в свое оправдание пилот мог сказать лишь то, что его самолет отнесло в сторону от основной «волны». Он также рассказал командиру группы, что экипаж обсудил свои возможные действия по внутренней связи и решил отказаться от дальнейшего выполнения боевого задания. «Когда я спросил его, почему он как командир не принял решение самостоятельно, он ответил, что все они ходят в одну сержантскую столовую, что речь идет и об их жизнях тоже, поэтому он, конечно, должен был с ними посоветоваться»21.
Рону Крафтеру, оператору электронного радиопротиводействия на Halifax, посекло лицо осколками снаряда во время атаки на пусковые позиции ФАУ-1 в июне 1944 г. «Раны были поверхностные, но я совсем потерял голову. И с тех пор я никак не могу смириться с тем, что в самый важный момент моей жизни от меня не было пользы. Я пытаюсь уговорить себя, что для моих девятнадцати лет это была вполне простительная слабость»22. Конечно, так оно и было. Значительная часть летного состава, прошедшего дорогостоящее обучение, из-за таких переживаний оказалась не в состоянии выполнить свое количество вылетов. Для многих временем наибольшего упадка духа стала зима 1943 г., когда Королевские ВВС вели «битву за Берлин». «Сделать тридцать вылетов при четырехпроцентном уровне потерь – это было на грани человеческой выносливости… Понятно, что моральное состояние оставляло желать лучшего»23, – признавал Ральф Кохрейн.
Со многими из тех, кто оступился, обошлись весьма сурово: начальство боялось, что снисходительность будет способствовать учащению подобных случаев. Рег Рейнз летал радистом на Hampden; в 1941 г. он, единственный из всего экипажа, остался в живых, когда их самолет, пострадавший во время рейда на Берлин, разбился на побережье Норфолка. «Я хорошо помню, как мы сели; потом наступила полная тишина. Оба мотора накрылись, и все ребята тоже». Следующим его воспоминанием была уже психиатрическая лечебница в Мэтлоке, графство Дербишир; оттуда его вернули на базу бомбардировочной авиации с автоматическим понижением в звании. «К летной службе я был непригоден, и никто не знал, что со мной делать. Они видели перед собой стрелка-радиста, который бесцельно болтается по базе, и вряд ли понимали, что я нездоров психически».
Одним прекрасным утром он обратился к врачу с острой головной болью и был отправлен в другой госпиталь, около Ньюкасла. «У меня отобрали обмундирование и выдали синюю робу не моего размера, белую рубашку и красный галстук. Все больные там, кроме сержанта, вернувшегося из Тобрука, были рядовые, непригодные к службе, которых призвали по ошибке. Никто из них в глаза не видел оружия, и они весь день болтали о том, когда получат “белый билет” [освобождение от службы], и почти все действительно его получили»24. Рейнз был уволен из военно-воздушных сил в 1943 г., у него до конца жизни были серьезные психические проблемы, но начислили ему только 30 % пенсии по инвалидности.
Некоторые военнослужащие Королевских ВВС получили клеймо «морально неустойчивых» и использовались в качестве чернорабочих; некоторые попали в «восстановительные центры ВВС» – дисциплинарные батальоны, из которых самой дурной славой пользовался один, неподалеку от Шеффилда. Кен Оуэн говорит: «Можно было шутить о том, когда тебя собьют или о полете в неизвестном направлении, но только не о Шеффилде»25. Оуэн оказался среди тех немногих, кто не только отлетал свой «тридцатник», но и начал следующий срок с новым экипажем Lancaster. «На втором сроке мы были гораздо циничнее и недоверчивее. [Мы спрашивали себя: ] “Что за хвостовой стрелок из этого Макферсона? Как бы этот мелкий ублюдок там не закемарил”. Мы стали гораздо эффективнее, мы действительно старались остаться в живых; мы больше говорили об опасностях в районе цели; мы знали, что немецкие ночные истребители научились работать не в пример лучше прежнего». Однажды ночью Оуэн и его экипаж возвращались после налета на немецкий ракетостроительный центр в Пенемюнде; два мотора из четырех были повреждены, а корпус самолета весь изрешечен осколками зенитных снарядов. В районе Норфолка они оставили самолет; им посчастливилось благополучно приземлиться, и они встретились в полицейском участке Ханстентона. «Мне чертовски все это надоело».
Для американских экипажей, которые летали днем, особенно мучительными были ужасы войны, невидимые британскими ночными летчиками. Пилот B-17 описывает один из вылетов: «Когда самолет взорвался, мы увидели, как куски [тел его экипажа] разлетаются по всему небу. По нам ударило несколько кусков. Один из самолетов врезался в человека, который выбрался из самолета впереди. Кто-то из экипажа выпрыгнул из переднего люка и ударился о хвостовое оперение… Без парашюта. Его тело кувыркалось, как большая мягкая подушка, которую швырнули в воздух… Немецкий пилот выпрыгнул из самолета, поджал ноги к животу и свернулся калачиком, головой вниз. Из его карманов полетели бумаги. Он сделал тройной кульбит, пока летел через наш боевой порядок. Он тоже был без парашюта»26. Летные экипажи военного времени действительно были элитой, но за свои привилегии они платили ужасную цену, рискуя больше, чем кто-либо другой, за исключением разве что стрелков-пехотинцев и подводников.
2. Цели
До 1943 г. крупнейшим достижением стратегической авиации союзников было то, что они вынуждали Германию снимать с Восточного фронта и отправлять на защиту рейха все большее количество истребителей и 88-миллиметровых пушек двойного (зенитно-противотанкового) назначения. Один лишь Берлин защищала сотня батарей ПВО, в каждой из которых насчитывалась от 16 до 24 зенитных орудий, а при каждом орудии состоял расчет из восьми человек. Многие зенитчики были подростками, непригодными для фронта, но все равно общее количество огневой мощи и техники было весьма внушительным. Ричард Оувери убедительно доказывает, что немецкий военный потенциал значительно страдал из-за необходимости выделять ресурсы для защиты собственной страны. Важный вклад бомбардировочной авиации западных союзников состоял и в том, что они вынудили люфтваффе в 1943–1945 гг. перебросить почти все истребители в Германию, благодаря чему антигитлеровская коалиция получила подавляющее превосходство в воздухе как на Западном, так и на Восточном фронтах. Очевидно также, что если Альберт Шпеер ухитрялся наращивать производство даже во время массированных воздушных налетов 1944 г., то он бы произвел гораздо больше оружия – с весьма серьезными последствиями для союзных армий, – если бы германская промышленность работала без помех.
С 1940 по 1942 г. от бомбежек союзников погибло 11 228 немцев. С января 1943 г. по май 1945 г. погибло еще 350 000 одних только немцев, не считая бессчетные десятки тысяч военнопленных и подневольных работников. Сравним эти жертвы с 60 595 британцами, погибшими с 1939 по 1945 г. при всех немецких воздушных атаках, включая ракеты ФАУ. За 1943 г. бомбардировочная авиация Великобритании крайне усилилась, а ВВС США начали развертывать огромные силы. Их командир, генерал Генри («Хэп») Арнольд, превосходно осуществил расширение, проведенное, по словам восхищенного британского коллеги, «при поддержке высококвалифицированного и совершенно неразборчивого в средствах персонала»27. Численность личного состава ВВС США военного времени возросла с 20 000 до 2 000 000, авиабаз – с 17 до 345, самолетов – с 2470 до 80 000, не считая 7500 машин, которыми обзавелся военно-морской флот. Все бόльшая доля американских бомбардировщиков была нацелена на Германию и совершала вылеты с британских авиабаз.
Выдающейся операцией по прицельному бомбометанию стала атака Королевских ВВС на дамбы Рура – ода изобретательности, мастерству и храбрости, несмотря на то, что причиненный экономический ущерб оказался не таким уж большим. Еще в 1937 г. Министерство ВВС Великобритании определило, что для германского сталелитейного производства важнейшую роль играют водные ресурсы, и уже в 1940 г. начальник штаба ВВС сэр Чарльз Портал настаивал на бомбардировке водохранилищ. Препятствие заключалась в недостатке средств для достижения этой цели. Ученый и авиаконструктор Барнс Уоллис, который независимо от военных работал над этой проблемой, предложил использовать для разрушения дамб сконструированные им «прыгающие» глубинные бомбы. В феврале 1943 г. его проект, несмотря на сомнения сэра Артура Харриса, получил официальную поддержку. Уоллиса просили создать бомбы к маю, когда наполнятся водохранилища Рура. Один старший офицер штаба с явной наивностью писал: «Можно надеяться, что операция против дамб не будет сопряжена с особой опасностью», поскольку цели защищены слабо или вовсе не защищены. Вначале проводились испытания с бомбой сферической формы, но в апреле Уоллис остановился на цилиндрическом варианте, который перед сбросом раскручивался шкивом с электроприводом, и бомба должна была как бы «доползти» до стены дамбы и взорваться на глубине 10 м ниже поверхности воды. Как ни удивительно, за какой-то месяц были подготовлены четырехтонные бомбы и специально переоборудованы под них самолеты Lancaster.
Ради этой задачи была сформирована 617-я эскадрилья, которая весь апрель и начало мая тренировалась для проведения операции. Вопреки распространенной легенде, не все члены экипажей были добровольцами и не все обладали огромным опытом. У некоторых насчитывалось меньше десяти вылетов на Германию, а несколько бортмехаников вообще не имели боевого опыта. Тем значительнее заслуга в подготовке отделения двадцатичетырехлетнего командира эскадрильи Гая Гибсона, беззаветно преданного авиации и яростного поборника дисциплины. Налет состоялся 16 мая, в воскресенье. Вылетело 19 экипажей. Важнейшими целями были избраны плотины на Мёне и Эдере; третья цель – земляная насыпь водохранилища на Зорпе, весьма важного для немецкой экономики, – была менее уязвима для глубинных бомб Уоллиса. Плотину на Мёне удалось разбомбить с четвертой попытки, плотину на Эдере проломил только третий, последний из нацеленных на нее самолетов28.
Большинство самолетов, которые должны были атаковать Зорпе, были сбиты по пути; два самолета вернулись, не долетев до цели; две сброшенные бомбы не смогли разрушить дамбу (как и бомба, сброшенная на Бевере, который по ошибке приняли за Эннепе). Процент потерь оказался устрашающим: из девятнадцати экипажей погибло восемь, в том числе шесть пали жертвой зенитного огня во время вынужденного полета на малой высоте, необходимого для точного бомбометания.
Разрушение плотин на Мёне и Эдере стало сенсацией. Операция имела огромное воздействие, в том числе и на германское руководство, и весьма высоко подняла престиж бомбардировочной авиации. Гибсона наградили Крестом Виктории. Всеобщий восторг от «дамболомов» в определенной мере был вызван тем, что с точки зрения общественной морали разрушать промышленные объекты гораздо лучше, чем сжигать города вместе с их жителями. Впрочем, при затоплении долины Мёне погибли 545 немецких граждан и 749 иностранцев – украинские женщины, угнанные на принудительные работы, и бельгийцы-военнопленные. Сталелитейщикам Рура удалось разрешить проблемы с водоснабжением: Харрис не организовал повторный налет с обычным бомбометанием, что могло бы помешать восстановлению дамб. С другой стороны, впоследствии немцам пришлось выделить значительные силы для защиты водохранилищ. Пусть экономический эффект от «рейда дамболомов» был не так уж велик, зато пропагандистский эффект огромен; все участники операции снискали заслуженные лавры.
В 1943 г. экономика Германии стала давать сбои из-за комплекса проблем с нехваткой угля, стали и рабочей силы; это усугублялось значительными разрушениями Рура британской и американской авиацией. То был первый год, когда авианалеты нанесли нацистской военной машине серьезный урон. Июльский огненный вал над Гамбургом, вызванный самыми мощными в истории авианалетами, убил 40 000 человек и разрушил четверть миллиона домов. «Нам говорили, что британские самолеты не станут бомбить Гамбург, потому что хотят потом сами использовать город и порт, – писала Матильда Вольф-Монкебург, одна из уцелевших жительниц города. – Мы тешили себя пустыми надеждами»29. Нечеловеческими усилиями и благодаря выдающимся способностям генерала Эрхарда Мильха люфтваффе сумело удвоить прошлогодний выпуск самолетов, к лету 1943 г. доведя производство истребителей до 2200 в месяц. Новые модели, He 177 и Me 210, оказались неудачными, приведя к пустой трате жизненно важных ресурсов. Последние модели Me 109 (до конца войны остававшегося наряду с Focke-Wulf 190 основным дневным истребителем рейха) не могли противостоять истребителям союзников. Самоубийство начальника штаба ВВС Ганса Ешоннека в августе 1943 г. стало своеобразным признанием поражения возглавляемой им службы.
Адам Туз30 в своем глубоком и интересном исследовании опровергает заявления Альберта Шпеера о том, что с 1942 по 1945 г. тот якобы «творил чудеса» в немецкой военной промышленности. Многие из кризисных мер Шпеера провалились: например, в 1944 г. принципиально новые подводные лодки серии XXI были столь поспешно запущены в производство, что из-за технических недоработок так и не сошли со стапелей. Дефицит угля и стали существовал до конца войны, и потребление топлива для гражданского населения было урезано до уровня, на 15 % не дотягивавшего даже до скудной британской нормы. После 1943 г. Германия лишилась железных руд Украины. На одни лишь боеприпасы уходили больше половины стали, потребляемой армией, а также труд 450 000 рабочих, из них 160 000 были заняты на производстве танков, а 210 000 – другого вооружения.
В 1943 г. Германия произвела 18 300 единиц бронетехники, серьезно отставая от союзников (54 100, в том числе 29 000 – у России), притом что заводы рейха с осени 1942 г. по весну 1943 г. удвоили выпуск. Германия добилась максимального производства боеприпасов в сентябре 1944 г. Начиная с 1943 г. страны оси все больше отставали от союзников по всем категориям вооружения, кроме танков.
Тем поразительнее, что, невзирая на все эти нехватки и просчеты, немецкие войска были в состоянии оказывать яростное сопротивление вплоть до мая 1945 г. Оценивая промышленный опыт Третьего рейха, деятельность Шпеера и Мильха – преемника Ешоннека на посту начальника штаба германских ВВС, – можно доказать несостоятельность исторического ревизионизма. Начиная с 1943 г., если не раньше, рейх был поставлен в условия, которые не могли не закончиться экономической катастрофой. Но это знание вряд ли утешило бы солдат союзнических армий, попавших под смертоносный артиллерийский и минометный огонь или пытавшихся противостоять «Тиграм» и «Пантерам» на своих менее совершенных танках.
Слабым местом ВВС союзников была плохая разведка, которая, по грустному признанию Черчилля, делала бомбардировочную авиацию дубинкой вместо шпаги. Радиоперехвата было недостаточно, чтобы понять ситуацию в Германии, ведь основная производственная информация проходила не по радио, а на бумаге или по проводам. И даже когда разрушительная мощь британских и американских ВВС выросла, «бомбовые бароны» оставались в неведении о слабых местах нацистской промышленности, а сэр Артур Харрис не слишком-то и пытался их выявить. Начав кампанию по разрушению немецких городов, он маниакально цеплялся за нее до самого 1945 г. ВВС США, официально принявшие концепцию прицельного бомбометания, уделяли гораздо больше сил точечным бомбардировкам важнейших групповых целей. Так, в августе и октябре 1943 г. Восьмая воздушная армия США бомбила шарикоподшипниковые заводы Швайнфурта. Американцы добились незначительных результатов при ужасающих потерях: в первом рейде было потеряно 147 самолетов из 376, во втором – 60 из 291 и еще 142 машины получили повреждения.
Эти беды американцев лишь усилили презрение Харриса к точечным бомбардировкам «панацейных», по его ироническому определению, целей. Отметим, что, хотя на Касабланкской конференции в январе 1943 г. лидеры Америки и Великобритании приняли решение о совместных действиях бомбардировочной авиации, на деле шло соперничество между британскими и американскими военно-воздушными силами, каждая из которых следовала собственной доктрине. Адам Туз считает, что Битва за Рур Харриса, начавшаяся 5 марта 1943 г. налетом на Эссен, могла нанести Германии сокрушительный удар, разрушив немецкую угольную и сталелитейную промышленность31. Геринга поражало, почему союзники перестали бомбить Рур, где, как писал Геббельс, «находятся узкие места нашего производства, разрушение которых представляет для нас огромную опасность». Но командование бомбардировочной авиацией не понимало важности повторных налетов на индустриальные центры. Харрис чересчур поспешно вычеркивал их из списка целей, исходя лишь из аэроснимков, запечатлевших здания с обрушившимися крышами.
В июле 1943 г. Харрис решил, что Рур уже разрушен достаточно, и переключился сначала на Гамбург, а затем на Берлин. Британские эскадрильи действовали в зимнюю непогоду против целей, рассредоточенных по обширной территории, летая на пределе дальности, и несли над столицей Гитлера серьезные потери. Средний процент потерь вырос до недопустимых 5 % в каждом вылете. В конце 1943 г. штаб бомбардировочной авиации выпустил обращение ко всем своим группам и базам, где в самых восторженных тонах сообщал о результатах атак: «Рейды на германскую столицу ознаменовали начало конца… военной и промышленной структуры нацистов и прежде всего – их морального духа, нанесли смертельный удар, от которого им уже не оправиться»32.
7 декабря Харрис уверял премьер-министра, что нужно совершить еще 15 000 вылетов бомбардировщиков Lancaster на главные немецкие города и к 1 апреля 1944 г. нацистский режим падет. Бомбардировочная авиация почти полностью выполнила запланированное количество вылетов, но немецкое сопротивление не ослабело. Несбыточные прогнозы главнокомандующего подорвали его авторитет в глазах премьер-министра и руководства ВВС, в том числе сэра Чарльза Портала. Ранней весной 1944 г., когда британскую бомбардировочную авиацию перенацелили на совместную с американскими коллегами подготовку к вторжению во Францию, потери в «битве за Берлин» стали нестерпимо велики. Но несгибаемый Харрис летом того же года добился возобновления бомбежек немецких городов, и налеты эти продолжались до апреля 1945 г.
Бомбардировки не сломили моральный дух гражданского населения, как на то надеялись британцы: заводы по-прежнему выпускали продукцию, а приказы по-прежнему исполнялись, равно как и в Британии в 1940–1941 гг. (В бесцеремонных шовинистских утверждениях, будто британской авиации удалось сделать с немецким народом то, что люфтваффе не сумело сделать с британцами, всегда чувствовалась некая пропагандистская бравада.) Тем не менее жители немецких городов терпели огромные лишения, а нацистской пропаганде приходилось идти на все более отчаянные уловки, чтобы объяснить своему народу, почему он беззащитен перед вражеской авиацией. После разрушения дамб в мае 1943 г. газетные заголовки кричали о «еврейских каверзах». Но люди этому не верили: по сообщениям гестапо, многие задавались вопросом, почему немецкая авиация не способна проводить такие операции. В июне мастер коммунальной службы города Хагена описывал налет британской авиации на соседний Вупперталь:
«Грохочут сотни зенитных орудий… В воздухе гудит множество моторов. По небу шарят бесчисленные лучи прожекторов. Осколки льются дождем… Пять вражеских самолетов попали в прожекторные лучи; под яростным обстрелом они летят на нас, а потом улетают дальше. Потом мы видим, как падает горящий самолет. Все это длится полтора часа… Небо на западе красное… Через город проезжают длинные колонны грузовиков, в них разномастная домашняя утварь. Ополоумевшие люди сидят рядом со своими немногочисленными пожитками. Беженцев везут на главную станцию. Там они стоят, с черными от сажи лицами, оставшись лишь с тем, что на них было. Они совершенно разорены. Настроение в городе гнетущее. Каждый задается вопросом: когда наступит наш черед?»33
В июне 1943 г. житель Мюльхайма пишет: «Наш фюрер должен отдать приказ, чтобы английские города тоже разбомбили»34. Гитлер с радостью отдал бы такой приказ, если бы мог, но люфтваффе уже было не в состоянии продолжить то, от чего ему пришлось отказаться в мае 1941 г. Немногие здравомыслящие немцы боялись, что нарастающее опустошение, пришедшее на их землю, – возмездие за преступления нацистов. 20 декабря 1943 г. протестантский архиепископ Вюртемберга навлек на себя гнев официального Берлина, упомянув в своем письме главе рейхсканцелярии, что его паства «часто думает, что те страдания, которые мы переносим от вражеских бомбежек, – воздаяние за то, что случилось с евреями»35. На что ему крайне жестко порекомендовали «проявлять максимальную сдержанность в этих вопросах».
По мере усиления бомбардировок моральный дух населения ослабевал, и нацистские власти, боясь не удержать контроль, все больше ужесточали репрессии. В 1943 г. суды выносили сотню смертных приговоров в неделю по обвинениям в пораженчестве или саботаже. Среди осужденных за пораженческие разговоры об исходе войны были два начальника отделений Немецкого банка и ответственный сотрудник электрического синдиката. Чтобы не допустить падения производства, авиапромышленность перешла на 72-часовую рабочую неделю. Возрастало значение подневольного труда военнопленных и остарбайтеров; Мильх, добиваясь повышения производительности, требовал драконовских мер. «Повысить эффективность этих элементов с помощью малых усилий невозможно, – писал он о военнопленных и об иностранных рабочих. – С ними обращаются с недостаточной требовательностью. Если ответственный мастер будет бить этих непослушных людей, когда они не хотят работать, то ситуация вскоре изменится к лучшему. В этих случаях не следует придерживаться международных законов. Я очень жестко отстаивал… Я очень сильно настаивал, чтобы этих заключенных, за исключением англичан и американцев, вывели из-под армейской юрисдикции. Солдаты не в состоянии… обращаться с этими людьми… Если [военнопленный] занимается саботажем или отказывается работать, то я бы его повесил прямо там же, на фабрике»36. Гитлеровское «чудо-оружие» – летающую бомбу ФАУ-1 и ракету ФАУ-2 – производили рабы в немыслимо тяжких условиях. Немцам удалось избежать падения промышленного производства только благодаря безжалостной эксплуатации пленных. Неудавшаяся попытка Третьего рейха создать высокотехнологичное «оружие возмездия» – попытка, которая обошлась примерно в треть стоимости атомного Манхэттенского проекта союзников, – легла непосильным бременем на разваливающуюся военную экономику Германии.
Королевские ВВС нанесли Германии тяжелый урон, но самая крупная победа в воздушной войне досталась военно-воздушным силам США. Это произошло в первые месяцы 1944 г. и явилось неожиданностью для самого американского командования. В распоряжении американцев оказалось большое количество истребителей дальнего действия Mustang, которые можно было использовать для сопровождения бомбардировщиков Flying Fortress и Liberator в рейдах на Германию и для воздушного боя с любыми самолетами противника. В феврале ВВС США провели крупную операцию против авиационных заводов, бомбя их шесть дней подряд (так называемая «Тяжелая неделя») и вынудив люфтваффе бросить на защиту все имевшиеся истребители. Вскоре стало понятно, что наземные разрушения от работы бомбардировщиков оказались менее важны, чем потрясающий успех американских истребителей в воздушных схватках. За один лишь месяц люфтваффе потеряло треть своих истребителей и пятую часть летного состава. В марте была уничтожена половина немецкой авиации, в апреле – 43 % от оставшегося, в мае и июне – еще 50 % остатка.
Производительность германской промышленности оставалась на удивление высокой: только за сентябрь было выпущено 3538 самолетов всех типов, в том числе 2900 истребителей. Но общее количество выпущенных для люфтваффе за 1944 г. военных самолетов – 34 100 – не шло ни в какое сравнение с 127 300 у союзников, в том числе 71 400 у американцев, а потери среди летчиков стали для немцев настоящей катастрофой. Американская авиация вскоре принялась за заводы синтетического топлива – главный немецкий источник горючего, после того как русские в апреле 1944 г. захватили румынские нефтяные месторождения, – и это немедленно сказалось на снабжении горючим: люфтваффе пришлось оставить многие самолеты на земле и сократить программы подготовки летных экипажей. В июне, когда наступил День «Д», сократившиеся эскадрильи Геринга не смогли оказать вермахту необходимую поддержку. Поскольку потери английской и американской авиации уменьшились, то воздушные бомбардировки Германии достигли огромного размаха. Если в обычном авианалете в марте 1943 г. около 1000 машин несли 4000 тонн бомб, то к февралю 1944 г. эти цифры утроились; к июлю союзники направляли против Германии 5250 самолетов всех типов с бомбовой нагрузкой 20 000 тонн. В течение этого года и первых месяцев 1945 г. авиация союзников превратила в руины все крупные города рейха. К ноябрю 1944 г. из-за бомбежек железнодорожной сети стало практически невозможно доставлять сталь Рура на машиностроительные заводы в других частях Германии.
Деморализующее воздействие дневных рейдов ВВС США было огромным: напуганные граждане рейха глядели, как огромные соединения вражеских самолетов безбоязненно пролетают над их родиной, исчеркивая все небо инверсионными следами. «Белые полосы медленно двигались от края горизонта, – писал очевидец полета бомбардировочных групп Восьмой воздушной армии, – медленно, неторопливо, прямым курсом. Они подлетели ближе. Когда наши глаза пригляделись к ярким лучам, мы увидели окутанные солнечным светом яркие точки на острие полос; аккуратными эскадрильями они двигались вперед – одна, через несколько минут вторая, потом третья, четвертая, пятая… Люди рядом с нами стали считать эти маленькие серебристые точки. Вскоре они дошли до четырех сотен. А им все не было конца»37.
158 немецких городов испытали налеты союзников различной силы. Типичным примером является Брауншвейг, который подвергся двенадцати налетам, разрушившим треть его строений и убившим 2905 человек. С сентября 1939 г. по декабрь 1943 г. в Эссене, центре сталелитейной промышленности, воздушная тревога объявлялась 635 раз, а за последующие девять месяцев – еще 198. После каждого сигнала тревоги испуганные горожане часами прятались в убежищах и бункерах. Воздушные налеты на сельское население Германии начались лишь в 1945 г., но крестьяне и прежде не чувствовали себя в безопасности: так, ночью 17 января 1943 г. в маленькой сельской коммуне Нойплётцин в Бранденбурге (к западу от Берлина) от случайной бомбы погибло восемь человек. Рядом с их могилами был воздвигнут крест с такими словами: «Жестокая смерть похитила их посреди обыденной жизни. Вера в победу превозмогает скорбь»38.
С ростом разрушения возрастала и ненависть нацистов к летчикам, которые их несли: Мартин Борман, секретарь и приближенный Гитлера, 30 мая 1944 г. разослал местным властям приказ не наказывать за убийство экипажей сбитых вражеских самолетов. Зафиксировано около четырехсот случаев, когда британских и американских летчиков, выпрыгнувших с парашютом или совершивших аварийную посадку, убивали при поимке. Особую ненависть вызывали пилоты истребителей-бомбардировщиков, которые на последнем этапе войны почти не несли потерь над Германией. Задокументировано, в частности, убийство четырех членов экипажа 24 марта 1944 г. в Бохуме; 26 августа семеро американцев убиты в Рюссельсхайме; 13 декабря в Эссене разъяренной толпой забиты до смерти три члена экипажа Королевских ВВС. В феврале 1945 г. застрелен гестаповцами член заводской пожарной команды, активно протестовавший против жестокого обращения с пойманными летчиками.
Немецким горожанам приходилось проводить в подвалах и убежищах до 12 часов в сутки. Всеобщее недовольство вызывало то, что нацистские чиновники укрываются в самых надежных убежищах. В одном из донесений отмечалось, что члены нацистской партии «устроились с несколькими ящиками пива» в общественном бомбоубежище в Бохуме, в то время как менее удачливые горожане оставались под бомбежкой. Гитлер выделил огромные ресурсы на обеспечение собственной безопасности: на строительстве его берлинского бункера и штаб-квартиры в Восточной Пруссии работали 28 000 человек, уложившие миллион кубометров бетона – больше, чем ушло на все общественные бомбоубежища Германии в 1943–1944 гг. Двадцатидвухлетняя женщина из службы обеспечения ВВС с отвращением описывает ночь, проведенную в общественном бомбоубежище Крефельда в ноябре 1944 г.:
«Ближе к входу разновозрастные мужчины и женщины наливаются шнапсом… Из-за густых облаков табачного дыма невозможно уснуть. Из одного угла доносятся истерические женские взвизги и пьяное бормотание мужчин… Дети и старики спят вперемежку со взрослыми на дощатых нарах и стульях, укутавшись в шерстяные одеяла и изодранные тряпки. Повсюду измученные опустившиеся люди, изможденные лица… ужасная духота от запаха грязного белья, пота и спертого воздуха, так что почти невозможно дышать. Где-то в другом конце бомбоубежища тихо плачет ребенок, с другой стороны доносятся стоны и храп»39.
Суровые кары ожидали мародеров, пойманных в разрушенных домах. 5 марта 1943 г. на развалинах разбомбленного Эссена полицейский поймал Казимира Петролинаса, шестидесятидевятилетнего литовца, укравшего три покореженные железные миски стоимостью 1 рейхсмарку. Он был осужден особым трибуналом, и через считаные часы расстрельная команда привела приговор в исполнение. В марте 1944 г. восемнадцатилетняя Илзе Митце предстала перед судом за кражу восьми ночных рубашек, пяти пар панталон и тринадцати пар чулок после налета союзников на Хаген в октябре 1943 г. В ее защиту было сказано, что прежде она помогала откапывать людей из-под развалин. Ее работодатель, упомянув о ее «сложном характере» и «любви к сладкому», добавил, что она была «работящей и добропорядочной». Врач из Хагена, давая показания, охарактеризовал Илзе как «глупую, наглую и лживую психопатку»40. Девушка была приговорена к смертной казни – приговор вызвал протесты даже у городского руководства службы безопасности. Митце тем не менее в мае 1944 г. была гильотинирована в Дортмунде, и расклеенные на стенах домов плакаты в назидание другим рассказывали прохожим о ее горестной судьбе.
Немецким горожанам выпало на долю гораздо больше ужасов и разрушений, чем британцам во время налетов люфтваффе в 1940–1941 гг.: каждое успешное бомбометание представляло собой адское зрелище. Матильда Вольф-Монкебург описывала огненный вал в Гамбурге в июле 1943 г. «Целых два часа длился этот раздирающий барабанные перепонки кошмар, и вокруг было сплошное пламя. Никто не разговаривал. При каждом колоссальном взрыве потрясенные люди готовились к самому худшему. Когда раздавался грохот, головы автоматически опускались, а лица искажались от ужаса»41.
Гротескные картины разрушений выходили за границы воображения. Урсула Гебел пишет о налете на Берлин в ноябре 1943 г., когда разбомбили городской зоопарк: «Еще вчера вечером… я была в слоновнике и смотрела, как шесть слоних и слоненок выделывали трюки под руководством своего дрессировщика. В ту же ночь все семеро сгорели заживо… Гиппопотам-самец спасся в своем бассейне, [а] все медведи, белые и бурые, верблюды, страусы, все птицы, хищные и остальные, сгорели. Все аквариумы высохли; крокодилы уцелели, но замерзли в ноябрьском холоде, и змеи тоже. Слон по имени Сиам, гиппопотам и несколько обезьян – вот и все, что осталось от зоопарка»42.
Марта Грос жила в Дармштадте неподалеку от Франкфурта. В ночь на 12 сентября 1944 г. этот крупный промышленный город подвергся налету Пятой группы бомбардировочной авиации; погибло не менее 9000 человек.
«Мы стояли в самом дальнем конце убежища, – рассказывает она. – Там были капитан Р. в парадной форме, я, Г. и фройляйн Х., державшиеся за руки и слушавшие гуденье [самолетов] над нами. Один из первых взрывов был где-то неподалеку. Мое сердце затрепетало, раздался ужасающий треск, стены затряслись. Мы услышали, как что-то затрещало, обрушилось, а потом зашипело пламя. На нас полетела штукатурка, и мы думали, что сейчас обрушится потолок. Через полминуты раздался второй страшный взрыв, дверь распахнулась, и я увидела, как падает лестничный пролет, объятый ярким пламенем, и сверху льется моря огня. Горели противопожарные экраны.
Я крикнула: “Бежим наружу!” – но капитан Р. схватил меня: “Стойте здесь, они еще над нами”. В этот момент обрушился дом напротив. К нам рванулся пятиметровый язык пламени; в нашу сторону полетели комоды с распахнутыми дверцами и другая мебель. Чудовищное давление вжало нас в стену. Теперь Р. завопил: “Выходите и держитесь за руки!” Приложив всю свою силу, он вытащил меня из-под деревянных обломков. Я бросила свой денежный ящик, потянула за собой фройляйн Х., а она уцепилась за г-на Г. Мы пролезли в дыру, ведущую во двор. Наш дом горел. Я видела, как падают лестницы, видела, как огонь охватывает мои кровати. В центре сада было ужасно жарко и так дымно, что мы встали на колени и опустили головы как можно ниже, временами зачерпывая землю и прижимая ее к своим пылающим лицам»43.
В подвалах и убежищах под расположенной неподалеку больницей, при тусклом аварийном освещении, пострадавшим (большинство из них потом умерли) прикладывали к ужасным ожогам листы бумаги, смоченные растительным маслом. Водопровод отключился. Воздух был насыщен зловонием горящей плоти. Доктора оперировали часами, совершенно выбиваясь из сил. Некоторые трупы остались неповрежденными – эти люди погибли от удушья или внутренних повреждений, вызванных взрывом. Многие ослепли из-за едкого дыма и кружащихся в воздухе горящих частиц. Отти Белл описала, как рядом с ними раздался взрыв: «Послышался грохот, свет погас, радио умолкло. Мы все опустились на колени, широко раскрыв рты. Моя невестка громко молилась о спасении наших жизней. Наш щенок, которому едва исполнилось полгода, в ужасе лаял»44.
Домохозяйка Грета Зигель рассказывала: «Мы все оцепенели… Старухи в ночных рубашках и чепцах привалились к садовым оградам, дрожа от ужаса и холода. У обожженных вздулись волдыри на лицах, на шее, везде. У одной женщины кожа полосами свисала с лица… Я взглянула на обуглившийся труп, лежавший ничком, он был сантиметров шестьдесят длиной. Они все были такие… В парке герцогского дворца мы видели бесчисленные тела, почти все обнаженные: на одном только носок, другие в одних подвязках или с кусочком рубашки; одна молодая белокурая девушка словно бы улыбалась»45. Задохнувшиеся от дыма сидели в подвалах подобно привидениям, закутанные в одеяла и с закрытыми тканью лицами: «Стояло жуткое зловоние». Утром 13 сентября, по словам Марты Грос, «в городе стояла мертвенная тишина, призрачная и ужасающая. Это утро было даже неестественнее предыдущей ночи. Ни птицы, ни зеленого дерева, ни людей, одни только трупы». Оттилия Белл: «Вокруг были только дымящиеся развалины. На нашей километровой улице не осталось ни одного целого дома»46.
С 1943 по 1945 г. подобные сцены повторялись в немецких городах день за днем, ночь за ночью. Страдал не только моральный дух гражданского населения: горевали и солдаты на далеких полях сражений, получая подобные известия из дома, а порой и наблюдая разрушения собственными глазами. «Ну и побывка у меня была! – пишет немецкий солдат, вернувшийся в 1944 г. с Восточного фронта. – Мы слышали, конечно, что союзники бомбят немецкие города. Но то, что мы видели из окон [поезда], превзошло все наши опасения. Это зрелище потрясло нас до глубины души. Разве за это мы воевали на Восточном фронте?.. У гражданских серые уставшие лица, и в некоторых мы видели даже упрек, словно это по нашей вине их дома разрушены, а многие близкие сгорели»47. Не избежала подобной судьбы и Италия. Лейтенант Пьетро Остеллино писал домой из Северной Африки: «Я сегодня слышал, что вражеская авиация снова бомбила наш великий и прекрасный Турин… Когда бомбят открытые города – это омерзительно. Когда авиация срывает свою ярость на нас, это ладно. Мы солдаты и должны переносить последствия войны. Но по отношению к беззащитному населению это акт бесчеловечной дикости и жестокости»48.
В 1944–1945 гг. англо-американские стратегические бомбардировки стали высшим проявлением промышленной мощи и технического мастерства этих стран. Поля Восточной и Южной Англии были усеяны оплетенными спиралями колючей проволоки авиабазами тренировочной, транспортной, истребительной и бомбардировочной авиации. В одном лишь Норфолке было 110 летных полей американских и британских ВВС, каждое по 250 га земли; на каждой базе бомбардировочной авиации было около 2500 наземного персонала (в том числе около 400 женщин) и меняющиеся экипажи 250 самолетов. Эта война велась планомерно, в соответствии с ежедневным смертоносным графиком, растянувшемся на годы.
В последние месяцы войны потери американской и британской авиации резко сократились, но все равно боевые вылеты никогда не были безопасным занятием. Экипаж Алана Гэмбла, представлявший собой типичную для того времени многонациональную смесь (пилот из Австралии, хвостовой стрелок из Америки, штурман и средний стрелок – шотландцы, остальные – англичане), начал свои боевые вылеты в феврале 1945 г., намереваясь «дойти до финиша… Мы надеялись снискать себе славу»49. Все они имели по полному циклу вылетов в Королевской бомбардировочной авиации. Днем 7 февраля они вместе с сотней других бомбардировщиков Lancaster отправились в рейд на нефтеочистительный завод в г. Ванне-Эйкель. Подлетая к французскому побережью, они увидели перед собой черное грозовое облако и набрали максимальную высоту, чтобы в него не попасть. Самолет стал быстро обледеневать, и вскоре его, как выразился Гэмбл, «мотало из стороны в сторону, как пьяную утку».
Они продолжали лететь тем же курсом, но после спора по внутренней связи решили отбомбиться по расположенному неподалеку Крефельду (городу в том же Руре). Самолет летел на высоте 2500 м, и сразу после сброса бомб появился сильнейший крен: ветер с правого борта дул так сильно, «словно хотел вокруг нас обмотаться». Lancaster перевернулся и вошел в штопор. «Экипажу приготовиться покинуть самолет!» – скомандовал Джефф, их пилот, пытаясь восстановить управление. Гэмбл, не сомневаясь в неминуемой гибели, стал молиться: «Дорогой Боженька, ладно, пусть я умру, но чтобы это хоть было не очень больно». Вдруг самолет на минуту выровнялся. Члены экипажа надели парашюты и поочередно выпрыгнули через передний люк. Гэмбл боялся, что его снесет прямо в бурную реку, но ему удалось приземлиться на суше. Экипажу необычайно повезло: все его члены благополучно приземлились и провели оставшиеся три месяца войны в лагере военнопленных.
Города подвергались нещадным бомбардировкам до самого конца войны. Жительница Брауншвейга писала 9 марта 1945 г.: «Самолеты появляются над Берлином ежедневно, а то и дважды в день. Бедные, бедные люди. Как они выдерживают такие страдания? Все измучены до крайности»50. Берлинец Карл Дойтман писал об одном из налетов американских ВВС: «Даже за метровыми стенами бомбоубежища мы больше часа слышали один лишь ужасный грохот и гром ковровой бомбардировки, а свет мигал и иногда полностью угасал. …Когда мы вышли из бункера, солнце полностью исчезло, небо потемнело от туч. Огромное море дыма от бесчисленных больших и малых пожаров нависало над всем центром города. …На Нойбургерштрассе… разбомбили ремесленное училище для девочек; сотни девочек укрывались там в подвале. Впоследствии родители стояли перед изувеченными трупами, с которых ударной волной сорвало одежду, и не могли опознать своих дочерей». Из дневника жителя Хагена за 15 марта 1945 г.: «В обществе царят страх и паника. В городе не осталось ни одного целого общественного здания, ни одного магазина и, наверное, ни одной улицы. Я потрясен до глубины души и не могу описать все эти ужасы. В воздухе только жуткое шипение и рев. Я стою бок о бок с другими в полной растерянности, не представляя себе, что делать»51.
Немногие британцы и американцы беспокоились об участи разрушаемой бомбежками Германии – в некоторой степени из-за того, что правительства планомерно вводили их в заблуждение о сути этой кампании: реальность ковровых бомбардировок и планирование налетов на жилые районы маскировались формулировками о промышленных объектах. ВВС США, придерживавшиеся концепции точного бомбометания – как по моральным соображениям, так и в соответствии со своей военной доктриной, – никогда не признавали официально, что их операции, особенно управляемое радаром «слепое бомбометание», наносят почти такой же ущерб гражданскому населению и его собственности, как и воздушные налеты Королевских ВВС. Более того, это было бы слишком – просить народы стран-союзников, пострадавших от немецкой агрессии, заботиться о жертвах среди мирного населения Германии.
Некоторые информированные британцы больше беспокоились о разрушении памятников архитектуры, чем о гибели людей: так, член парламента от национал-лейбористской партии и эстет Гарольд Никольсон выразил возмущение безразличием общественности к разрушению культурного наследия Европы. «Можно поставить в упрек демократическому образованию, – писал он в журнале Spectator в феврале 1944 г., за год до бомбежки Дрездена, – что народы Британии и Америки безразличны или даже враждебны к этим высшим проявлениям человеческого разума. Нашим лидерам не к лицу столь небрежное восприятие своей ответственности. Нашим внукам будет горько, что мы, которым следовало непреклонно отстаивать европейское наследие, вместо этого отвернулись»52.
Никольсон был прав, предполагая, что грядущие поколения будут питать отвращение к стратегическим бомбардировкам, но природу этого отвращения он оценил неверно: в XXI в. ковровые бомбардировки мирного населения порождают эмоции более сильные, чем разрушение великолепных дворцов. Немало немцев и даже отдельные англосаксы ставят знак морального равенства между злодеяниями нацистов, убивавших невинных людей, в особенности евреев, и злодеяниями союзников, сжигавших германские города. Но такой подход неверен. Целью бомбардировок был разгром стран оси и освобождение Европы. Нацистские массовые убийства не только погубили гораздо больше людей, но даже не были направлены на достижение стратегических целей. Они производились исключительно ради идеологических и расовых целей Третьего рейха. Главной причиной чрезмерных бомбежек в 1945 г., когда война, несомненно, близилась к концу, был технологический детерминизм: поскольку могучие военно-воздушные силы существуют, то их надлежит использовать по назначению. Годы сражений с беспощадным врагом притупили чувства союзников и приглушили их человеколюбивые инстинкты. В этом нет ничего необычного.
После окончания войны американские и британские летчики, участвовавшие в стратегических бомбардировках Германии, с изумлением увидели, что их вклад в победу, связанный с самопожертвованием и опасностью для жизни, подвергается критике и даже шельмованию. Благодаря их налетам военная экономика нацистского рейха рухнула, но рухнула она слишком поздно для того, чтобы бомбардировочная авиация успела снискать славу, которую она, по мнению командования ВВС, более чем заслужила. Еще немного, и сухопутные силы союзников завершили бы разгром рейха собственными силами. Бомбардировочная авиация внесла значительный вклад в победу, но достигла ужасающей зрелости слишком поздно и не смогла настоять на собственном видении своих заслуг.
Критики пришли к выводу, что союзники заплатили неприемлемо высокую моральную цену за второстепенное стратегическое достижение. Вот что сказал сэр Артур Харрис: «Все сводится к тому, что никто не любит бомбардировщики, которые швыряют на вас бомбы, и все любят истребители, которые сбивают эти бомбардировщики»53. Он же как-то с горечью заметил: «Я не намерен… войти в историю как автор или единственный исполнитель стратегических планов по разрушению городов Германии»54. Он утверждал, что «никогда не обладал стратегическим руководством бомбардировочной кампанией… только тактическим руководством, с помощью которого исполнялись полученные… стратегические директивы».
Он цитирует фразу генерала Джона Бургойна после признания поражения в американской Войне за независимость: «Я ожидаю, что правительство выразит свое недовольство традиционным для всех стран и всех времен образом: перенесет вину с отдающего приказы на их исполнителя». «В моем случае, – добавил Харрис, – боюсь, выразиться точнее было бы невозможно». В его словах есть доля правды. Харрис был суровым командиром и несимпатичным человеком с навязчивым стремлением уничтожать немецкие города; в нем воплотился дух Древнего Рима с его девизом «Карфаген должен быть разрушен!» Но, если начальники Харриса были не согласны с тем, как он руководил британской бомбардировочной авиацией, они были обязаны отстранить его от командования. Иными словами, Черчилль и высшее военное руководство позволили Харрису довести до конца ту самую политику, которую они же поручили ему исполнять еще в 1942 г.: Харрис был исполнителем, а не создателем стратегии ковровых бомбардировок.
Несправедливо, что сегодня во всех странах пилоты истребителей являются предметом обожания, в котором отказано бомбардировщикам. Нравственное осуждение стратегических бомбардировок следует направить на тех, кто их спровоцировал. Уничтожение гражданского населения в любом случае достойно скорби, но гитлеровская Германия представляла собой историческое зло. До последнего дня войны нацисты причиняли ужасные страдания невинным людям. Разрушение немецких городов и смерть множества их жителей – цена, которую пришлось заплатить их народу за чудовищный ущерб, нанесенный западной цивилизации, и цена эта гораздо меньше того зла, которое Германия причинила остальной Европе.
20. Жертвы
1. Хозяева и рабы
Почти каждый гражданин стран – участниц войны как-нибудь пострадал, но степень этих страданий очень различалась. Историки описывают события преимущественно в терминах вооруженных столкновений, которые, безусловно, и определили исход конфликта. Но его следует понимать и как факт, изменивший жизнь сотен миллионов людей, многие из которых никогда не видели ни одного поля сражения. Страх увечья или смерти – общий для всех, особенно в наступившем веке авиабомбардировок. Но помимо этого люди страдали от многих других несчастий: от голода и болезней, отсутствия любимых, распада общин. Мучительны были и менее значительные проблемы, вроде невозможности преподнести подарок близкому человеку. «День рождения Евы, – пишет о своей жене 22 июля 1944 г. в Дрездене Виктор Клемперер, еврей, у которого нацисты конфисковали все имущество. – Снова с пустыми руками, даже без цветочка»1. При этом, чтобы мучительно страдать, совершенно необязательно было находиться под пятой оси: Сталин депортировал на восток огромное количество советских граждан, принадлежавших к национальным меньшинствам, которых он подозревал в нелояльности, в особенности чеченцев и крымских татар, – всего 3,5 млн человек. Вследствие этого умерло несчетное количество людей, в том числе от тифа, который разразился во время их транспортировки. Их мучения, в отличие от страданий гитлеровских жертв, задокументированы скудно, но известно, что среди депортированных было четыре Героя Советского Союза – бериевские чистки никого не щадили.
Среди прочих жертв СССР было 1,5 млн поляков, сосланных в Сибирь или в ГУЛАГ в 1940–1941 гг. во исполнение сталинской политики этнической чистки. По крайней мере 350 000 погибло от голода или болезней, еще 30 000 было расстреляно. Эдвард Матыка, двадцатилетний солдат, наивно полагал, что русские не будут препятствовать его бегству в Румынию из оккупированного немцами района Польши. Но в январе 1941 г. он был арестован советским патрулем, помещен в тюрьму и приговорен к пяти годам каторжных работ за «нелегальное пересечение границы и попытку шпионажа в интересах врагов СССР». В октябре, после многонедельного путешествия на лагерных баржах, он и его товарищи были принуждены пройти 65 км до своего лагеря по жестокому морозу. «Четыреста теней шли друг за другом медленно, с трудом, оставляя следы в глубоком снегу… Мы шли через лес, и колонна начинала растягиваться и редеть по мере того, как из нее выбывали слабые и имевшие скарб».
Следующие полтора года они провели в лагере в ужасных лишениях. В некоторые дни, даже в лагерной больнице, Матыка просыпался с инеем в волосах. Каждый день погибало в среднем двенадцать человек. О своем отчаянии поляк пишет: «Я был так далеко от всех, кто мне дорог, и лежал больной среди неизвестных мне умирающих людей. Я знал, что, если я умру, я буду забыт, как все те безжизненные тела, которые выносили каждый день, и моя семья никогда не узнает, что со мной случилось. Я плакал, как беспомощное обиженное дитя, и молился о чуде». Его послали на работы за полярный круг в лагерь под названием Усть-Уса на производство мясных консервов для заключенных. К тому времени, когда он и его товарищи наконец освободились, они голыми руками построили железную дорогу протяженностью 1000 км. Матыка горько писал: «Наверное, под каждой шпалой лежат кости поляков и других узников»2.
Феликс Лахман, еще один польский узник ГУЛАГА, впоследствии написал горькое стихотворение:
Блохи клопы клопы блохи Еще клопы еще блохи Крысы вши мошки мухи И истребляющие хлеб мыши Грязь слякоть нет мыла Смрад вонь нет силы Нет веры нет надежды Ощупью в темноте Наши постели голые доски Наши соседи одни безумцы Наши мечты шеренги Американских танков3.В отчаянных обстоятельствах СССР июля 1941 г. Сталин амнистировал 50 295 поляков из лагерей и тюрем вместе с 26 297 военнопленными и 265 248 из специальных поселений и ссылки. Значительное количество солдат впоследствии присоединилось к Первой Польской армии, организованной на территории Советского Союза. В следующем году 115 000 других поляков, из которых 73 000 были военными, а остальные – женщины и дети, изумились, получив разрешение покинуть СССР через Персию, где они передавались под ответственность Британии. Несмотря на то что министр иностранных дел Энтони Иден признавал страшную участь поляков, которые «живут в душераздирающих условиях, больные и умирающие от голода», новые хозяева без радости приняли на себя это бремя. В июне 1942 г. британские колониальные власти в Каире писали в МИД, выражая озабоченность масштабом польской миграции: «Как ни жестоко это звучит, если эти поляки умрут в России, дело войны никак не пострадает. Если им [разрешат] проследовать в Персию, мы, в отличие от русских, не сможем позволить им умереть, и делу войны с нашей стороны будет нанесен серьезный ущерб. Должны быть приняты меры, чтобы эти люди не покинули СССР до того, как мы подготовимся к их приему… сколько бы человек ни умерло в результате»4.
Этот бесстыдно черствый анализ иллюстрирует огрубение некоторых из тех, кто руководил усилиями союзников по ведению войны, перед лицом стольких конкурирующих трагедий. Польская миграция все равно состоялась: британский чиновник от медицины в Персии, ответственный за прием беженцев, докладывал, что 40 % больны малярией и практически все дизентерией, поносом, недоеданием или тифом. Прошло почти два года, прежде чем эти польские солдаты по состоянию здоровья смогли присоединиться к армии союзников в Италии, где они с честью воевали до конца войны. Их близких перебрасывали из лагеря в лагерь в гуманных, но все равно нерадостных условиях английского плена. Многие были переправлены в Индию, а оттуда в 1945 г. в Британию, где большинство решило остаться до конца жизни. Пусть поведение британцев по отношению к этим полякам было небезупречным, но прежде всего они – жертвы жестокого преследования со стороны СССР, державы, примкнувшей к демократическим странам в предполагаемом «крестовом походе во имя свободы».
Тем временем в Европе приблизительно 20 млн человек были перемещены со своих довоенных мест, часто при ужасных обстоятельствах. Как-то вечером в 1940 г. еврей из Лодзи Шмулек Голдберг позвал свою девушку Розу в ближайший спортивный клуб, где они провели много счастливых часов. Теперь клуб был поврежден бомбой и забит досками. Они бродили по заброшенному спортивному залу, где Шмулек однажды выиграл конкурс по танцам в паре со своей матерью. «Я в последний раз надел свою яркую одежду и коричневую фетровую шляпу. Мы остановились, и я повернулся к Розе. “Меня зовут Шмулек Голдберг”, – сказал я тоном официального представления. “Меня зовут Роза”, – сказала она, и ее глаза блестели от слез. Я поклонился, а она в ответ сделала реверанс. Мы вальсировали в тишине под музыку, которая звучала лишь в наших сердцах»5. Этой ночью, посреди всхлипов и долгих объятий Розы, Шмулек сказал ей свое последнее «прощай». Он бежал из Лодзи и выжил, хотя последние годы войны провел в Освенциме. Своей девушки он больше не видел никогда.
Одним из главных чувств сотен миллионов людей стало чувство совершенной над ними несправедливости: они не заслужили всех этих бедствий, опасности, лишений, одиночества и ужаса, которые выбросили их из повседневной жизни в чуждую и смертельно опасную среду. «Я не считаю, что я плох, – писал британский артиллерист лейтенант Джон Гест, – и не верю, что большинство людей, включая немцев, плохи, по крайней мере заведомо не настолько плохи, чтобы по заслугам быть ввергнутыми в такую войну»6.
Разумеется, люди в странах под управлением оси находились в худшем положении: почти все попали под гнет как солдат врага, так и новых коллаборационистских властей. Вот что написал малайский китаец Чин Кион: «Прежний общественный порядок перевернулся. Те, кто вчера был никем, стали большими шишками. Бывшие подонки и отбросы общества, такие, как каторжане, известные мошенники, прохиндеи и неудачники, стали новой элитой, наслаждающейся официальной благосклонностью и властью»7. На Яве две молодые голландки, путешествующие с матерью в безнадежно переполненном поезде, были поражены, не получив тех мест, к которым они привыкли. Пожилой индонезиец заметил их смятение. «Ya Njonja, daly Iain sekarang, – язвительно сказал он матери девушек. – Да, мадам, теперь все по-другому».
Эта голландская семья вскоре стала жертвой гораздо худших бедствий. Элизабет ван Кампен, дочь плантатора, провела годы между своим пятнадцатым и восемнадцатым днем рождения в японском лагере интернированных с матерью и двумя сестрами, едва цепляясь за жизнь. Она страдала от недоедания, авитаминоза, вшей, болела дизентерией и пережила несколько приступов малярии. Миссис ван Кампен потеряла большинство зубов; ее муж погиб от рук японской полиции кэмпэнтай. Элизабет пыталась сохранить рассудок, грезя о своем идиллическом колониальном детстве и о мире за пределами их стен, но «как можно мечтать запертым в грязной, переполненной тюрьме, когда лежишь на вонючем матрасе, полном насекомых? Как можно мечтать, когда твой желудок умоляет о пище? Как можно мечтать без музыки? Мне было 17 лет, но я стала бояться любых грез»8.
В оккупированных государствах закон больше не имел абсолютной власти, но становился тем, чем захватчики хотели его сделать. Не многие немцы были столь щепетильны, как чиновник абвера Гельмут фон Мольтке, который во время визита в Осло обнаружил, что живет в реквизированном норвежском доме. «Чувство, что мы вошли в чужой дом, сидим там, как воры, когда хозяин, по моим сведениям, находится в концлагере, было отвратительным»9. В апреле 1940 г. в Лодзи семья Шлезак была выселена из своей маленькой квартиры и магазина, которые были отданы их соседям, этническим немцам. Мать Ежи горько плакала. «Мой дорогой отец был кротким великаном. Я никогда не видел, чтобы он выходил из себя. Когда он смотрел, как Бухгольцы забирают наш дом и магазин, он трясся от гнева, но не мог ничего сказать в присутствии двух людей из гестапо»10.
Немецкие и японские авантюристы, не сумевшие достичь высокого положения и уважения в собственном обществе, стали проконсулами в новых владениях своих стран. Такасе Тору, могущественная фигура в Сингапуре под властью Японии с 1942 по 1945 г., насмехался над ведущими китайскими предпринимателями: «Я уже три раз был в Малайе и видел многих из вас за обеденным столом… но тогда вы не обратили на меня внимания»11. Японцы потребовали «в дар» от китайцев 500 млн стрейтсдолларов, переименовали много улиц и перевели время на токийское – на два часа вперед. В 1942 г., во время короткого «медового месяца» между бирманцами и их «освободителями», труппа классического японского театра исполняла во время выступления в Рангуне такую песню:
Будем плясать весело! Если плясать весело, Нужно плясать в Токио. Гоп! Гоп! Среди цветов в Токио12.Но из-за своей наглости и жестокости японцы быстро утратили благорасположение бирманцев. Подобным образом и малайцы были в ужасе от поведения своих новых хозяев, в том числе от их привычки мочиться на людях. Местное население возмущала японская традиция выражать свое неудовольствие с помощью пощечины. Оккупанты неохотно изменили эту практику в 1943 г., постановив, что только высшие офицеры, начиная с полковника, могут бить туземцев. Однако на практике к этому ограничению мало кто прислушивался. Кристофер Бэйли и Тим Харпер, яркие летописцы азиатских событий, писали: «Японцы вряд ли могли похвастаться бόльшим уважением к местной культуре, чем британцы, и во всяком случае были более жестоки»13.
Ганс Франк, нацистский правитель Польши, в 1942 г. написал в дневнике: «Гуманность – слово, которое мы не смеем употреблять… Власть и полная уверенность в возможности применять силу без какого-либо противодействия есть самый сладкий и пагубный яд, который только можно ввести в сферу управления». Это важное утверждение, поскольку оно запечатлевает то радостное возбуждение, которое пережили многие немцы и японцы, обнаружив себя вкупе со своими местными приспешниками на постах, дающих им абсолютную власть над жизнью и смертью. В мирное время поведение мужчин и женщин ограничено не только законом, но и социальными условностями; даже те, у кого нет внутренних нравственных запретов на грабеж, причинение боли и убийство, находятся под властью механизма, не позволяющего им это делать. Но люди, оказавшиеся у власти при тоталитарных режимах, среди коих заметное место занимал Советский Союз, познали освобождение от всех ограничений и от гарантий святости человеческой жизни, с одним лишь условием: убийства должны лить воду на мельницу системы, которой эти люди служили. Эта огромная, ужасная свобода будоражила своих обладателей: те немногие высокопоставленные нацистские чиновники, которые впоследствии давали откровенные показания, описывали свой опыт могущества в лирических выражениях.
Жертвам, привыкшим к жизни в упорядоченных сообществах, было трудно осознать последствия своего полного бессилия. Пропасть между буржуазным обществом с его законной деятельностью, с одной стороны, и входом в Освенцим с надписью «Arbeit Macht Frei», с другой, была слишком велика для немедленного постижения. Оккупация и потеря независимости казались и так достаточно тяжелой участью; только постепенно стало понятно, что могут быть более глубокие уровни страдания. Руфь Майер, молодая еврейская беженка из Австрии, живущая в Осло, 25 апреля 1941 г. написала о своих попытках получить американскую визу: «Была в американском консульстве по этому поводу. Обещали точно дать визу после войны. Но до этого никак… Надо иметь терпение»14. Несчастная девушка еще не понимала, что невозможность добиться визы – не просто досадное неудобство, а вопрос жизни и смерти, причем ее собственной: через пять месяцев она была депортирована и убита. Даже в 1944 г. Эдит Габор, восемнадцатилетняя дочь будапештского торговца бриллиантами, описывает, как, получив известия о судьбе европейского еврейства, «мы думали: “Ну, это происходит с другими людьми, в других странах”»15. Лично она была напугана, но напугана недостаточно. В этом же году ее отправили в первый из череды концлагерей, где она чудом выжила в невыразимых мучениях. Вся ее семья, кроме одного брата, погибла в газовых камерах.
Многие люди встретили смерть далеко от поля боя. Наиболее драматична судьба европейских евреев, однако миллионы других гражданских лиц – русских, поляков, югославов, греков, китайцев, малайцев, вьетнамцев, индийцев – были истреблены в результате преднамеренного убийства, случайного взрыва, болезней или голода. Их смерть была не менее ужасной от того, что случилась при неизвестных обстоятельствах, в какой-нибудь разрушенной деревне, а не в Освенциме или Майданеке и не сопровождалась какой-либо искупительной возможностью сопротивления или получения наград. Гельмут фон Мольтке из абвера был потрясен известием о массовых расстрелах заложников на оккупированных территориях. 21 октября 1941 г. он написал жене:
«В одной сербской области две деревни сожжены дотла, казнено 1700 мужчин и 240 женщин. Это “наказание” за нападение на троих немецких солдат. В Греции в одной деревне расстреляно 220 мужчин. Деревню сожгли, женщин и детей оставили рыдать по погибшим мужьям, отцам и домам. Во Франции прямо сейчас идут массовые расстрелы. Наверняка более 1000 человек истребляются подобным образом каждый день, и еще 1000 немецких мужчин приучаются убивать. И все это детский лепет по сравнению с тем, что происходит в Польше и России. Могу ли я, зная об этом, сидеть в своей теплой квартире и пить чай? Не становлюсь ли я причастным к этому? Что я скажу, когда меня спросят: “А что ты делал в это время?” В субботу начались облавы на берлинских евреев»16.
Сегодня холокост часто обсуждается в отрыве от других фактов. В каком-то смысле это логично, поскольку евреи были специально выделены для геноцида. Однако в учетной документации Освенцима, самого известного из лагерей смерти, подчеркивается количество людей других национальностей, разделивших судьбу еврейских узников. Наиболее точные статистические данные показывают, что всего в лагерь поступило 1,1 млн евреев, из которых 100 000 выжило; из 140 000 поляков выжила половина; из 23 000 цыган погибли все, кроме 2000; умерли все 15 000 советских военнопленных; из оставшихся 25 000 людей других национальностей, в основном политзаключенных, была убита половина. Помимо почти 6 млн евреев, убитых нацистами, в немецком плену умерло более 3 млн русских, и огромное число нееврейских гражданских лиц было зверски убито в СССР, Польше, Югославии, Греции и других оккупированных государствах.
В связи с этим кажется важным оценивать холокост на общем фоне того, как Гитлер правил своей империей. Одним из самых трогательных и просвещенных защитников подобного контекста была Руфь Майер. Двадцатидвухлетняя беженка в Осло, всего за месяц до своей собственной депортации и убийства в Освенциме, написала в дневнике: «Если замкнуться в себе и смотреть на эти гонения и муки евреев только с точки зрения еврея, развивается некий вид комплекса, который медленно, но непременно приведет к психологическому кризису. Единственное решение – увидеть еврейский вопрос в более широком контексте… с точки зрения угнетаемых чехов и норвежцев, угнетаемых рабочих… Мы станем богаче, лишь когда поймем, что не только мы – раса мучеников. Что кроме нас страдает еще бессчетное множество, которое будет страдать таким образом до конца времен… если мы… если мы не будем бороться за лучшую…»17 Здесь Руфь обрывает мысль, с раздражением отмечая стойкость своего собственного инстинктивного желания видеть еврейскую трагедию как уникальную, но спутанность мыслей не умаляет благородство и альтруизм слов этой весьма молодой женщины, произнесенных на пороге могилы.
Одной из самых больших ошибок Гитлера, с точки зрения его же собственных интересов, оказалась попытка одновременно с ведением войны обустроить попавшие под его власть восточные территории в соответствии с нацистской идеологией. Практически все параллели между Гитлером и Черчиллем бесплодны, но одна кажется не лишенной смысла: британский лидер вызывал раздражение своих министров, а также немалого количества своих сограждан отказом серьезно заняться вопросом внутренних социальных реформ до достижения победы. Немецкий руководитель, наоборот, начал решительное преображение покоренных на востоке стран через несколько недель после оккупации. Он провел масштабные высылки коренного населения, чтобы освободить место для немецких колонистов, и осуществил массовые убийства, особенно евреев и общественно-политических активистов, независимо от того, противились ли они его гегемонии или нет. Человеческая «цена вопроса», разумеется, не волновала нацистов, но эти действия дезорганизовали экономическую и сельскохозяйственную сферу гитлеровской военной машины. Некоторые представители народов, причисленных к низшим расам, пошли на службу к немцам ради пропитания и других благ, или из ненависти к евреям, или просто ради удовольствия от собственного господства и жестокости, однако безудержное насилие озлобило миллионы бывших подданных Сталина, которые могли бы стать добровольными приспешниками немцев.
В оккупированной Западной Европе в 1940–1941 гг. нацисты нашли много активных или потенциальных сотрудников18. Руководители вишистской Франции были готовы вступить в партнерство с рейхом, которое могло бы найти поддержку многих жителей Франции и предположительно привело бы к войне Франции против Великобритании. Но гитлеровская экономическая эксплуатация подвластной Петену страны, особенно навязанный завышенный курс марки против франка, постепенно обозлила французов еще до введения в 1943 г. принудительных работ в Германии, ненавидимых всеми Service de Travail Obligatoire.
Нацистские массовые депортации из Польши, Чехословакии и Украины нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственному производству. Оказалось, что многие из этнических немецких колонистов, определенных для замены коренных жителей, не имеют ни охоты, ни должной квалификации для выполнения таких функций. Все успешные империи прошлого отчасти опирались на верховенство силы, но отчасти и на какую-то компенсацию покоренным народам за подчинение в виде стабильности, процветания и права. Нацисты же, наоборот, предлагали только насилие, коррупцию и управленческую некомпетентность. Они могли бы возразить, что своими репрессиями успешно подавили любое существенное сопротивление своей оккупации везде, кроме Югославии и СССР. Это правда, но только часть правды.
Многие оккупированные страны, и особенно Франция, по принуждению внесли значительный вклад в военную экономику Германии: все вместе они обеспечивали около 9,3 % вооружений рейха, а сельское хозяйство Дании покрывало 10 % немецких продовольственных нужд. Но Гитлер оказался бы в лучшем положении, если бы предложил покоренным народам стимулы, а не только угрозы, поощрения, драконовские конфискации имущества и продукции. Нацистское представление об экономике было примитивным до гротеска. Они рассматривали прирост благосостояния как игру, в которой для выигрыша Германии кто-то другой обязательно должен проиграть. В результате этого начиная с 1940 г. империя Гитлера постоянно разграблялась, чтобы финансировать войну, что не могло не кончиться ее банкротством.
До нацистской иерархии медленно доходило, как глупо убивать потенциальных рабов во время нехватки рабочей силы из-за мобилизации большинства трудоспособного населения Германии. Адам Туз рассчитал, что немцами были убиты или брошены умирать 7 млн мужчин трудоспособного возраста, в основном евреев, поляков и советских военнопленных, большинство между 1941 и 1943 гг. Он описывает холокост как «катастрофическое уничтожение рабочей силы»19. В 1941−1942 гг. нацисты считали, что сложности с обеспечением германского народа пропитанием легче всего устранить путем уничтожения каждого нежеланного рта в их досягаемости. 16 сентября 1941 г. на совещании в Берлине, где присутствовал Геринг, обсуждалась нехватка продовольствия. Рейхсмаршал заявил, что было бы немыслимо урезать пайки гражданского населения Германии, «принимая во внимание наши настроения»: люди Гитлера требовали как морального, так и материального подтверждения того, что война – стоящее дело.
Единственный выход, рассудили нацисты, – уменьшить обеспечение местного населения на оккупированных территориях и советских военнопленных. 13 ноября генерал-квартирмейстер Эдуард Вагнер сказал своим начальникам отделов, что «военнопленные, которые не работают, должны будут голодать». Таким образом, советские узники начали умирать в огромных количествах, одни от голода, а другие от рук охранников, которым было дано неограниченное право убивать, чтобы контролировать поголовье доведенных до отчаяния людей, отданных на их милость. К 1 февраля 1942 г. погибло почти 60 % из 3,35 млн советских пленных; к 1945 г. умерло 3,3 млн из 5,7 млн взятых в плен.
Только к 1943 г нацисты осознали, что у голодных ртов имеются также полезные руки: они запоздало признали разумность и даже необходимость сохранять пленных для поддержания сокращающейся промышленной рабочей силы Германии. Когда новую политику претворили в жизнь, Геринг благодушно замечал, что русские выполняли 80 % работ по производству Ju-87 Stuka. К осени 1944 г. почти 8 млн иностранных рабочих и военнопленных были заняты в немецкой экономике – 20 % всей ее рабочей силы. BMW использовала 16 000 пленных только на своем мюнхенском заводе; хотя с ними по-прежнему обращались с узаконенной жестокостью, их паек был увеличен ровно настолько, чтобы поддерживать жизнь. Работодатели в промышленности просили о том, чтобы наказания производились за пределами рабочих помещений, а не на территории фабрики на виду у всех: не хотели огорчать немецких сотрудников. Огромная сеть охраняемых кварталов была устроена в каждом большом немецком городе и вокруг них, чтобы вместить иностранцев всех мастей. В районе Мюнхена было 120 учреждений для военнопленных, 286 бараков и общежитий для гражданских лиц и публичный дом для них, а также семь подразделений концлагерей, включая одно из отделений Дахау, – всего 80 000 койко-мест.
Основная часть немецкого гражданского населения не может с достоверностью заявлять, что не знала о концлагерях и системе рабского труда: маленьких девочек, живших неподалеку от Равенсбрюка, застали за игрой в лагерных охранниц. Пленных широко использовали на тушении пожаров, спасательных работах и разборе завалов после авианалетов. Их также отправляли разбираться с неразорвавшимися бомбами, и это было настолько опасно, что охранниками таких отрядов предпочитали ставить эсэсовцев, осужденных за уголовные преступления. Чтобы обеспечить постоянную доступность рабов, в городах были устроены филиалы лагерей. Например, узников Заксенхаузена отправляли в Берлин, где их за полосатую одежду называли «зебрами». В Оснабрюке матери жаловались эсэсовцам, что дети на школьном дворе вынуждены наблюдать, как охранники бьют заключенных. В СС ответили, что «если дети еще недостаточно суровы, им необходимо стать тверже»20.
Местные власти обычно ценили этот дешевый труд, который мэр Дуйсбурга назвал «весьма удовлетворительным». Но некоторые штатские порицали мнимое «потакание»: прораб на дорожных работах написал в марте 1944 г.: «Мы все еще слишком мягки к военнопленным и другим трудовым отрядам на наших улицах. По-моему, лучше выбросить одного человека за борт, чем позволить, чтобы мы все пошли ко дну»21. Эсэсовцы часто использовали пленных для поиска ценностей в разрушенных зданиях ради своей личной выгоды – в Дюссельдорфе двое мужчин были убиты, чтобы они не могли разоблачить прибыльный бизнес своих тюремщиков. Гражданские врачи часто подписывали фальшивые свидетельства о причинах смерти застреленных или забитых до смерти узников. В этом, как и во многом другом, немецкая медицинская братия проявила готовность прислуживать нацистскому режиму. Узники на принудительных работах продолжали умирать даже тогда, когда их поставили на службу индустрии рейха – отчасти потому, что сохранялся разрыв между потребностью в их услугах и желанием нацистов кормить их. По некоторым подсчетам, погибло 170 000 из 2,7 млн угнанных на работы советских граждан, а также 130 000 поляков и 32 000 пленных.
Однако начиная с 1943 г. смертность среди пленных резко упала. Даже некоторых евреев оставляли в живых: например, рабочих огромного комплекса IG Farben рядом с Освенцимом. Главные зверства холокоста (кроме уничтожения венгерских евреев) были уже позади. Иностранные работники и рабы никогда не были адекватной заменой немецкой рабочей силе – считалось, что они отстают в труде от немцев минимум на 15 %, а может, и на 30 %22. Было глупостью и варварством полагать, что голодающие и подвергающиеся насилию субъекты рабского труда могут достичь такой же производительности, как те, к кому относятся хотя бы с минимальной гуманностью. Система концлагерей, из которых СС желали сделать доходные предприятия, была неэффективна даже по своим правилам, но только рабский труд дал Германии возможность вести войну до 1945 г.
2. Убийство евреев
Корпус литературы о холокосте огромен, и все же никто не может внятно объяснить, почему нацисты не побоялись экономических издержек уничтожения еврейского народа, направляя и без того скудные человеческие и транспортные ресурсы на программу массового убийства в то время, когда исход войны все еще находился в подвешенном состоянии. Возможно, ответ заключается в извращенной сосредоточенности на евреях не только национал-социалистической идеологии, но и всей политики Германии на всем протяжении глобального конфликта. Нацисты были всегда полны решимости использовать карт-бланш, выданный правительству, ведущему тотальную войну, для достижения целей, которые иначе представляли бы серьезные трудности даже по меркам тоталитарного режима. На ключевой партийной встрече 12 ноября 1938 г., сразу после Хрустальной ночи, Геринг заявил: «Само собой разумеется, что если в ближайшем будущем Германский рейх вступит в конфликт с иностранными державами, то мы в Германии первым делом окончательно урегулируем вопрос с евреями».
В это время нацистские установки все еще поощряли эмиграцию евреев рейха, но статья, опубликованная в ноябрьском выпуске эсэсовского журнала Schwartze Korps за 1939 г., настаивала на решимости «действенно и определенно покончить с еврейством в Германии, добившись его полного уничтожения». Подобные заявления делались во множестве – во всеуслышание, публично – ведущими деятелями нацистов: Гитлер произнес свое печально известное «пророчество» в обращении к рейхстагу 30 января 1939 г., утверждая, что война приведет к «истреблению европейского еврейства». Он стремился предельно четко дать понять, что каждый еврей в его досягаемости является заложником «хорошего поведения» западных держав. Если британцы и французы откажутся уступить его амбициям – прежде всего если они решатся дать им отпор силой, – последствия будут на их совести.
Западные державы относились к подобным замечаниям как к гиперболам. Даже когда Гитлер приступил к неистовому завоеванию целого полушария, западным демократиям было трудно постичь, как люди из высокообразованной и издревле цивилизованной европейской нации могут следовать сумасбродной риторике своих вождей и осуществлять геноцид. Несмотря на растущую гору свидетельств нацистских преступлений, это заблуждение сохранялось в некоторой степени до 1945 г. и даже позднее.
Согласно нацистской программе эвтаназии Т4, запущенной в июле 1939 г., умерщвлялись немецкие и польские пациенты психиатрических клиник, признанные «непригодными к дальнейшему существованию». В 1940 г. уничтожали в среднем 5000 человек в месяц. Большинство из них погибли в газовой камере, хотя некоторых расстреляли. Операцию осуществили гестапо и СС с помощью медицинского персонала; около 4000−5000 из 70 000 жертв были евреями. Программа Т4 обладает большой исторической значимостью, потому что на раннем этапе она показала готовность немецкого правительства запустить процесс истребления, скрупулезно расписанный из Берлина, чтобы уничтожить группу людей, которая в глазах Третьего рейха была лишней. Как только одна группа была целиком искоренена, на пути холокоста больше не стояло никаких нравственных барьеров: проблемы, с которыми сталкивалось нацистское руководство, теперь сводились только к временным рамкам и логистическим задачам.
Более двух лет после начала войны сохранялся приоритет обеспечения победы, ради которого пришлось отложить тотальное уничтожение европейского еврейства. С августа 1939 г. по лето 1942 г., когда программа лагерей смерти достигла своего полного размаха, нацисты удовлетворялись крупномасштабными убийствами, носившими произвольный и оппортунистический характер. В первые месяцы вторжения в Польшу было убито около 10 000 ее жителей – и евреи, и неевреи, которых сочли враждебными немецким интересам. Пять выделенных айзатцгрупп СС – отрядов смерти – следовали за передовыми армейскими частями. Их командиры обладали широкой свободой выбора жертв, и некоторые из них воспользовались такими правами, чтобы уничтожать проституток, цыган и душевнобольных. 60 000 польских евреев было отделено от других военнопленных для дальнейшего устранения; все еврейское население Польши – 1,7 млн – перемещалось в гетто. В начале 1940 г. нацисты начали принудительное выселение 600 000 евреев с тех территорий страны, которые стали имперскими округами; депортированные были переданы под власть генерал-губернаторства, управлявшегося независимо. В течение нескольких месяцев погибло большое количество людей, перевезенных без обеспечения каким-либо кровом или пищей.
На этом этапе нацистская политика все еще была непоследовательной. Было много дискуссий по поводу депортации: в мае 1940 г. Гиммлер представил Гитлеру меморандум о возможности отправки европейских евреев в Африку или на Мадагаскар. Рейхсфюрер СС упомянул радикальную альтернативу «большевистского метода физического истребления народа», но отверг ее как «несоответствующую германскому духу и невозможную». Все соглашались с тем, что как можно больше евреев должно погибнуть просто благодаря определенным формам управления оккупированными территориями; но фанатичная идея систематического убийства еще не прозвучала.
В течение последующих двух лет, особенно после вторжения в СССР, немцы убивали евреев по своей прихоти в масштабе, в значительной степени определяемом доступными человеческими и иными ресурсами. Немецкий сержант из пекарской роты вспоминает: «Я видел, как людей ловили, а потом был вынужден отворачиваться, потому что их забивали дубинками насмерть на наших глазах… Очень многие немецкие солдаты стояли и смотрели и литовцы тоже. Они не выражали ни одобрения, ни порицания – просто смотрели совершенно равнодушно»23. Небольшая группа немецких офицеров проявила мужество, заявив протест. Полковник Вальтер Брунс, инженер, случайно ставший свидетелем убийства евреев во время конной прогулки в Румбульском лесу 30 ноября 1941 г., послал официальную бумагу группе армий «Север». Также он лично посетил штаб-квартиру армии в Ангербурге, куда доставил копию своего доклада. Официального ответа не последовало, но глава штаба призвал в будущем производить подобные убийства «с большей осмотрительностью»24.
Карательных отрядов создавалось относительно мало, и они были немногочисленны; несколько раз они устраивали бойню впечатляющих масштабов, особенно на Украине, но жертвы все еще измерялись десятками тысяч. Энергичными усилиями моторизованной бригады СС в болотах Припяти в начале 1941 г. было уничтожено 6504 евреев. Итоговый отчет подразделения за месяц упоминал 15 878 убитых, однако реальный итог, вероятно, был 25 000. Логистические трудности крупномасштабных убийств оказались огромными, даже когда были введены трудосберегающие методы (например, сгон жертв в общие могилы перед расстрелом). С таким вялым темпом процесс «решения еврейского вопроса Европы» растянулся бы на десятилетия, и в конце лета 1941 г. командование СС стало требовать гораздо более радикального и всестороннего подхода. В сентябре айнзатцгруппа С предложила «урабатывать» евреев до смерти: «Если мы откажемся от использования еврейской рабочей силы, хозяйственное восстановление украинской промышленности… практически невозможно. Есть только одна возможность… решения еврейской проблемы через полномасштабное использование еврейской рабочей силы. Это приведет к постепенной ликвидации еврейства»25.
В конце июля 1941 г. была введена новая политика: восточноевропейских евреев собирали в гетто, где ими можно легче было управлять и использовать их на работах, и при этом освобождалось жилье. Вермахт всей душой поддерживал эту меру, потому что она помогала разрешить его административные трудности в тылу. Среди еврейских жертв этого периода значилось в особенности много женщин и детей, но, осмыслив практические сложности убийства в промышленных масштабах, мало кто из офицеров СС был уже готов к столь амбициозной цели, как истребление целой нации. Зимой 1941–1942 гг. они сосредоточились на уплотнении гетто, потом на завершении региональных чисток путем убийства всех евреев вне гетто, особенно в сельских районах. Условия жизни в гетто не поддавались описанию: с августа 1941 г. каждый месяц из 338 000 евреев варшавского гетто от голода и болезней умирало 5500; аналогичный уровень смертности отмечался и в других местах.
Победа над СССР все еще считалась неизбежной. Большинство нацистских лидеров предпочитало отложить «окончательное решение» до ее достижения, с последующим высвобождением ресурсов. Однако Генрих Гиммлер не был столь терпелив: он рассматривал быстрое уничтожение евреев в качестве национального приоритета, а также как способ расширения своей личной власти. Он воспользовался своим мандатом рейхскомиссара для «укрепления немецкой нации», хотя на этом этапе Гитлер еще не принял решение о «германизации» оккупированной советской территории. Подчеркивать центральную роль влияния СС на холокост кажется банальным, однако сделать это необходимо. Самый могущественный орган нацистской Германии неотступно следовал плану уничтожения евреев, практически независимо от того, как это могло сказаться на ведении войны. По наблюдению Джона Лукаша, Гиммлер гораздо более жестко добивался своей цели, нежели Гитлер26.
В сентябре 1941 г. фюрер подтвердил победу Гиммлера в борьбе против Альфреда Розенберга за власть над Восточной Европой: рейхсфюрер СС получил карт-бланш на этнические чистки на востоке. Это решение ознаменовало собой начало систематической кампании геноцида внутри Третьего рейха. В предвкушении маячившей на горизонте победы ставились задачи, которые стали значительной помехой военным усилиям Германии по мере приближения ее поражения. И в то же время им никогда не был дан «задний ход»: Гиммлер добивался истребления евреев с сосредоточенностью и последовательностью, которая явно отсутствовала в любом другом аспекте нацистской политики. Рациональный анализ затруднительного положения Германии в конце 1941 г., казалось бы, наводил на мысль, что надо посвятить все усилия тому, чтобы выиграть войну, прежде всего против Советского Союза. Если бы эта цель была достигнута, Третий рейх мог бы строить новый порядок по своему желанию; если нет, то национал-социализм был обречен. Но Гиммлер взял на СС обязательства, которые не могли внести вклад в победу Германии и даже отвлекали средства от ее достижения.
В течение осени и зимы 1941 г. темпы убийств росли: множество городов и деревень систематически очищались от евреев. В октябре, когда советский диверсионный отряд взорвал здание, в которое только что въехала румынская комендатура в Одессе, румынские войска с помощью немецких СС убили около 40 000 городских евреев. 18 и 19 октября эсэсовцы убили 8000 еврейских жителей Мариуполя, неделей позже – еще 1800 в Таганроге. Это продолжалось неделя за неделей, в городах, о которых мир никогда не слышал: Скадовск и Феодосия, Керчь и Джанкой, Николаев и Херсон. Уничтожение пациентов психиатрических лечебниц было само собой разумеющимся, независимо от их религиозной принадлежности. СС также расстреляли большое количество пленных, у которых они установили «азиатскую внешность», и начали работать над истреблением цыган, которое сделалось систематическим в 1942 г. Лагеря военнопленных прочесывали в поисках советских евреев и комиссаров; признанные таковыми были вывезены и расстреляны. Представляется важным подчеркнуть, что к моменту, когда было достигнуто согласие об «окончательном решении», уже были убиты или заморены голодом по крайней мере два миллиона советских военнопленных. Еще до того, как было дано благословение на истребление евреев, были разрушены все моральные преграды и создан прецедент массовых убийств.
Зимой 1941 г. сохранялась управленческая неразбериха по поводу того, оставлять ли в живых евреев, годных к принудительному труду. Командиры на местах проводили разную политику: в Каунасе 26 сентября было убито 1608 мужчин, женщин и детей «больных или подозреваемых в заразности», за чем последовало 1845 убитых при «карательной операции» 4 октября и 9200 после нового отбора 29 октября. 30 октября глава немецкой гражданской администрации Слуцка (Белоруссия) заявил официальный протест генеральному комиссару Минска по поводу убийства городских евреев. «Мы просто не можем обойтись без еврейских ремесленников, – заявил он, – потому что они незаменимы для поддержания экономики… Все жизненно важные производства будут парализованы одним махом, если ликвидировать всех евреев».
По его словам, его жалобы были отметены командиром полицейского батальона, производившего убийства, которые выразил изумление и «объяснил, что он получил инструкции… сделать город свободным от евреев без исключения, как сделали в других городах. Чистки должны производиться по политическим мотивам, экономические факторы никогда не играли роли… Во время акции сам город представлял жуткое зрелище… Евреи, среди которых были и ремесленники, были подвергнуты жесточайшему обращению с ужасающим варварством. Казалось, что речь идет не об акции против евреев, а о целой революции»27. Все это, конечно, не подействовало на Гиммлера и его офицеров: 29–30 ноября за пределами города было расстреляно более 10 000 жителей рижского гетто и еще 20 000 две недели спустя. К декабрю большинство евреев в странах Балтии были мертвы; в убийствах с энтузиазмом участвовали тысячи коллаборационистов, нанятых немцами как «местные добровольческие отряды». До конца войны латыши, литовцы, эстонцы и украинцы играли важную роль в воплощении гиммлеровской программы уничтожения евреев – в конце концов, в помощь СС было завербовано более 300 000 тех самых людей, которые в противном случае могли бы служить в гитлеровской армии.
Вермахт оказывал полную поддержку операциям Гиммлера, хотя большинство убийств производил СС. 10 августа 1941 г. командующий Шестой армией Вальтер Рейхенау ссылался в приказе на «необходимые казни преступных, большевистских и, главным образом, еврейских элементов», которые должны произвести СС. 20 ноября Манштейн описывал евреев как «посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной армией». 30 июля Карл-Генрих Штюльпнагель из 17-й армии наказывал своим подразделениям не расстреливать гражданское население без разбора, а вместо этого сконцентрироваться на «евреях и коммунистах». Вермахт регулярно обеспечивал логистическую поддержку убийствам СС, а также выделял войска для охраны полей смерти. Зафиксировано много случаев, когда армейские части участвовали в расстрелах, несмотря на распоряжения высшего командования не допускать, чтобы солдаты пятнали этим свою честь. Деятельность советских партизан давала предлог для «операций по обеспечению безопасности» наподобие той, которая описывается в сохранившемся приказе командующего 707-й дивизией вермахта в Белоруссии. «Евреи, – пишет он 16 октября 1941 г., – являются единственной опорой для выживания партизан сейчас и в течение зимы. Поэтому мы должны осуществлять их бескомпромиссное истребление». Без активного содействия вермахта массовые убийства масштаба 1941−1942 гг. были бы невозможны. К концу 1941 г. более полумиллиона восточноевропейских евреев было в могиле.
Уничтожение европейского еврейства приобрело даже более высокую позицию в списке приоритетов нацистов: Гитлер убедил себя в том, что подписанная в августе 1941 г. Атлантическая хартия, а также намечающееся вступление Америки в войну стали результатом еврейского влияния в правительстве США. Это сделало еще более безотлагательной его решимость убить их единоверцев в Европе. В последующие месяцы и годы германский лидер пришел к мысли, что эта цель не менее важна, чем военная победа, и даже является условием последней. Всякие попытки найти рациональное зерно в нацистской стратегии, особенно начиная с 1941 г., разбиваются о стену подобной логики.
Петер Лонгерих28, один из авторитетных историков холокоста, убедительно доказал, что нацистская верхушка пришла к мысли осуществить «окончательное решение» через специальные лагеря смерти только в конце 1941 г.: «Руководство в центре и исполнители на местах взаимно подстрекали друг друга»29. Лишь в ноябре 1941 г. началось возведение первого лагеря смерти в Белжеце недалеко от Люблина. Лонгерих цитирует свидетельства того, что до самого конца года ключевые офицеры СС все еще обсуждали массовые депортации как лучшую альтернативу уничтожению и в основном были озабочены тем, как организовать и мобилизовать евреев для рабского труда. Той осенью была резко усилена антисемитская пропаганда на территории рейха, чтобы подготовить общественное мнение к депортации немецких евреев на Восток. Даже если разница между отправкой обреченных в пустыню, где, как ожидалось, они умрут от голода, и отравлением их газом в массовом порядке кажется незначительной, тем не менее она важна для понимания эволюции холокоста.
Когда преданность США делу союзников стала явной, Гитлер больше не видел причины сохранять жизнь евреев, оказавшихся в пределах его досягаемости. «Осенью 1941 г., – пишет Лонгерих, – нацистское руководство стало по всем фронтам вести войну именно как войну “против евреев”»30. Началось строительство газовых камер в Хелмно, Белжеце, Освенциме и других местах. Газвагены уже использовались для убийства душевнобольных пациентов в Германии и других частях нацистской империи. Гиммлер приветствовал более широкое применение подобной технологии, в немалой степени с целью избавить своих людей от психологической нагрузки массовых расстрелов. К осени 1941 г. с помощью газа «циклон Б» убивали отдельных узников в Освенциме и кое-где еще, однако на этом этапе большинство жертв не были евреями. Контингент уничтожаемых определялся по инициативе снизу – местными офицерами СС, а не ясной центральной директивой.
В середине октября 1941 г. начались массовые депортации евреев рейха, которых тысячами отправляли в Лодзь, Ригу, Каунас и Минск. Среди намеченных жертв было немало самоубийств, и в свете дальнейших событий трудно предположить, что избравшие этот путь поступили опрометчиво. Ганс Михаэлис был юристом на пенсии из Шарлоттенбурга. Непосредственно перед отправкой в лагерь он послал за своей племянницей. «Мария, – сказал он, – у меня осталось немного времени. Что мне делать? Поддаться ужасной участи или оборвать жизнь?» Его племянница написала: «Мы говорим. Мы рассматриваем обе возможности. Мы спрашиваем себя, что бы посоветовала… его покойная жена. Опять он хватается за часы». Потом он сказал: «У меня здесь осталось максимум 50 часов!.. Благодарение Господу, что моя Гертруда умерла своей смертью, до Гитлера. Что бы я отдал за такую же судьбу!.. Мария, как бежит время!» В конце концов, при расставании она сказала: «Дядя Ганс, Вы поймете, как поступить. Прощайте!»31 Ганс Михаэлис выпил яд.
Жительница Берлина Хильда Майкле наблюдала вывоз городских евреев: «К своему прискорбию, я должна сказать, что многие люди стояли в дверях, выражая удовольствие при виде жалкой колонны. “Посмотри на этих нахальных евреев! – закричал кто-то. – Сейчас они смеются, но пришел их последний час”»32. Жертвам разрешили взять с собой по 50 кг багажа. Все ценности у них отобрали на станции отправления, где произвели личный обыск и потребовали плату за проезд. Кладь сложили в багажные вагоны, и хозяева ее никогда больше не видели. Освободившееся жилье поступило в распоряжение местных властей, его отдали новым владельцам. Риторика Розенберга и Геббельса, подтверждающая факты депортации перед всем миром, была бескомпромиссной. На пресс-конференции в ноябре 1941 г. Розенберг заявил: «На Востоке все еще живет около 6 млн евреев, и этот вопрос может быть решен только биологическим истреблением всего европейского еврейства. Еврейский вопрос в Германии будет решен только тогда, когда последний еврей покинет немецкую территорию, а в Европе лишь тогда, когда на всем континенте до самого Урала не останется ни одного еврея».
Хоть ответственность за холокост и несут нацисты, в их преступлениях им помогали некоторые, если не большинство, режимы оккупированной Европы. Антисемитизм, хоть и менее убийственный, чем в Германии, был распространен повсюду. Михаил Себастиан, еврейский писатель, на короткое время призванный в румынскую армию, отмечал отношение многих своих однополчан, которое помогло им согласиться с нацистским господством в румынском государстве: «Войчита Аурел, мой товарищ по 21-й пехотной, вчера сказал кое-что о капитане Капсунэану, что в двух словах объясняет весь стиль румынской политики: “Он настоящий злющий ублюдок, может и побить, и обругать. Но есть в нем одна хорошая черта: он не выносит жидов и нам тоже позволяет их потрепать”». Себастиан писал: «Это в точности то утешение, которое немцы предлагают чехам, и полякам, и румынам: они тоже готовы его предоставить»33. Немецкая оккупация Франции узаконила французский антисемитизм и до того широко распространенный: вишистское правительство с готовностью перешло к явной дискриминации и репрессиям.
Так много видных нацистов открыто говорили о своих намерениях по отношению к евреям, что остается лишь удивляться, как это власти союзников не хотели понимать их слова буквально. Информированные граждане как в Британии, так и в Америке делали надлежащие выводы по поводу происходящего, подкрепленные свидетельствами очевидцев из Восточной Европы. Бланш Дагдейл, страстный британский борец за интересы евреев, написала в письме, опубликованном в Spectator в декабре того же года: «В марте 1942 г. Гиммлер посетил Польшу и постановил, что к концу года 50 % еврейского населения должно быть “истреблено”… и похоже, что с тех пор темпы увеличились. Теперь немецкая программа требует исчезновения всех евреев… Массовые убийства, неслыханные от начала цивилизации, начались немедленно после издания приказа»34. Госпожа Дагдейл описывает депортации, указывает на Белжец, Собибор и Треблинку как на лагеря смерти. «Кажется несомненным, что польскому еврейству уже нельзя будет помочь, если кампания уничтожения не будет остановлена до конца войны». Гельмут фон Мольтке из абвера информировал британцев секретным письмом через Стокгольм в марте 1943 г.: «По крайней мере девять десятых [немецкого] населения не знают, что мы убили сотни тысяч евреев. Они продолжают верить, что те были просто сегрегированы… дальше на восток… Если сказать этим людям, что случилось на самом деле, они ответят: “Да вы просто жертва британской пропаганды”»35.
Среди наций союзников наблюдалась двусмысленность, если не хуже, по отношению к самому масштабному из нацистских преступлений. Антисемитизм глубоко укоренен в российской истории и мироощущении: например, на Пасху 1942 г. один из бесчисленных слухов, носящихся по Москве, утверждал, что евреи производили ритуальные убийства православных детей – отвратительный старый восточноевропейский «кровавый навет» на евреев36. В 1944 г. в докладе НКВД говорилось, что в народе слышно, что «Гитлер правильно сделал, что побил евреев»37. Разоблачение самого факта существования лагерей смерти поставило Москву перед дилеммой, которую советские власти так никогда до конца не разрешили. Они не могли рукоплескать убийству нацистами евреев, но один историк назвал холокост «неперевариваемым комом в брюхе советского триумфа»38. Признать его чудовищные размеры значило бы урезать в пользу евреев часть всепоглощающего чувства советского народа, что именно он стал главной жертвой, а народ отнюдь не был готов делиться этой славой. В военных депешах советских корреспондентов все упоминания мучений, выпавших исключительно на долю евреев, изымались цензурой. В 1945 г., когда русские вывалили обвинения на своих побежденных противников, наблюдательные немцы заметили, что практически единственным отсутствующим нареканием было преследование евреев39.
В Польше, где антисемитизм был издавна распространен, как свидетельство измены евреев распространялись отчеты о том, что они приветствовали Красную армию в сентябре 1939 г. Когда в 1943 г. евреи варшавского гетто устроили короткое и заранее обреченное на провал восстание, 5 мая польская националистическая подпольная газета написала: «Во время советской оккупации… евреи регулярно сдирали с наших солдат оружие, убивали их, предавали лидеров наших общин и открыто переходили на сторону оккупантов. [В одном маленьком городе], который в 1939 г. был в руках Советов… евреи построили триумфальную арку для прохода советских войск и все вырядились в красные повязки и кокарды. Таково было и остается их отношение к Польше. Каждый поляк должен это помнить»40. Весной 1944 г. несколько польских солдат дезертировало из польского корпуса в Шотландии из-за отвращения к антисемитизму, который, по их словам, был не менее явным в эмигрантской армии, нежели на родине.
Не были чужды таким чувствам и англосаксы. Британский солдат Лен Ингланд был потрясен мнениями многих своих соседей по казарме, похожими на те, которые позже опишет Ирвин Шоу, рассказывая об американской армии в романе «Молодые львы». Ингланд пишет: «Двое самых умных людей из всех, которых я пока встретил, – убежденные ненавистники евреев. Обычно используется аргумент: “А где же евреи в армии? Их нет, потому что все они смогли найти себе работенку поприятнее или увильнуть от призыва. Точно так же евреи всегда первыми покидают опасные участки. В их руках все деньги, они завладели всей страной. Отдельно взятый еврей может быть весьма приятным человеком, но как нация они корень всех зол”»41.
Мюррей Мендельсон, американский армейский инженер, отец которого эмигрировал из Варшавы в 1914 г., замечал если не активный, то латентный антисемитизм в своих казармах. Его образование и ум вызывали подозрение товарищей, бывших шахтеров или строителей. Они прозвали его «Мозг», но без восхищения, «не потому, что я был такой уж умный, но по сравнению с собой. Я научился быть незаметным»42. Когда люди из роты 506-го парашютно-десантного полка проклинали своего ненавистного командира лейтенанта Собеля, они называли его «чертовый еврей»43. Даже в июне 1945 г, когда концлагеря были явлены всему миру, генерал Джордж Паттон, все больше терявший рассудок, поносил либералов, которые «настаивают на том, что перемещенные лица – человеческие создания, что не является верным особенно по отношению к евреям, которые ниже животных».
Хотя Черчилль в самых горячих выражениях порицал нацистскую программу уничтожения евреев, его правительство, как и администрация Франклина Рузвельта, не желало принимать большие количества еврейских беженцев, даже если бы нашлась возможность уговорить немцев их выпустить или обменять. Когда в ноябре 1938 г. среди американцев провели опрос, думают ли они, что сбежавшим от Гитлера евреям нужно предоставить особые иммиграционные права для въезда в США, 23 % сказали «да», 77 % – «нет». В августе 1944 г. около 44 % австралийцев, которых спрашивали, согласились бы они на поселение еврейских беженцев в пустынных северных районах их страны, отвергли эту мысль, поддержали ее лишь 37 %. Еще один опрос общественного мнения по поводу разрешения евреям въехать в США уже в конце декабря 1944 г. показал, что 61 % американцев думает, что им не стоит предоставлять приоритетные права по сравнению с другими заявителями44. Чиновник британской колониальной администрации цинично прокомментировал доклад о лагерях смерти от декабря 1942 г.: «Знакомый треп. Евреи навредили своему делу, слишком уж жалуясь в прежнее время»45. Подобным образом чиновник МИД считал предосудительными особые ходатайства «этих ноющих евреев».
Осенью 1942 г. польский подпольщик Ян Карский пробрался в Лондон после фантастической одиссеи через всю Европу, чтобы привезти свидетельство очевидца не только о страданиях своей страны, но и конкретно об условиях в еврейских гетто и о чрезвычайном, по его мнению, достижении – проникновении в нацистский лагерь смерти Белжец. Несмотря на то что его учтиво принимал польский премьер-министр в изгнании генерал Сикорский, министр иностранных дел Энтони Иден, а позже в Вашингтоне президент Рузвельт, Карский страдал от гнетущего осознания того, что ужасы, которые он описывал, каким-то образом теряли силу и масштаб в безопасных, неоккупированных союзнических столицах. «В Лондоне все эти вещи выглядели мелкими, – писал он. – Лондон был центром большого военного колеса, спицы которого были сделаны из миллиардов долларов, армад бомбардировщиков и кораблей и спотыкающихся армий, несущих большие потери. Потом опять-таки люди спрашивали, какие жертвы принесла Польша по сравнению с безмерным героизмом, жертвой и страданием русских людей? Кто такие поляки?.. Нам, полякам, не повезло в этой войне»46. Собственные лидеры отговаривали Карского от чрезмерного выпячивания гонений на евреев, чтобы это не ослабило силу его донесения о судьбе Польши в целом.
Артур Шлезингер, достаточно широко информированный благодаря своей работе в Управлении стратегических служб, писал о своей осведомленности по поводу судьбы европейских евреев в 1944 г.: «Большинство из нас все еще полагали, что идет увеличение преследований, а не совершенно новая варварская политика геноцида… Я не могу найти ни одного коллеги, который зафиксировал бы момент явного откровения об “окончательном решении”»47. Похожие слова находим у британского разведчика Ноэля Аннана: «Требовалось какое-то время… на то, чтобы до нас дошла чудовищность преступлений Германии против евреев. В разведке мы знали о газовых печах, но не о том масштабе, тщательности и бюрократической эффективности, с которыми разыскивались и уничтожались евреи. К концу войны никто, насколько я помню, не осознавал, что количество мертвых евреев исчисляется миллионами»48. Во всем архиве британской разведки за военный период не встречается ни одного упоминания – по крайней мере ни одного сохранившегося упоминания – о преследовании евреев или холокосте, скорее всего, потому, что секретным службам никогда не поручалось исследовать этот вопрос.
Вопреки большинству современных популярных мифов было бы технически весьма затруднительно бомбить транспортные артерии, ведшие к лагерям смерти, особенно в 1942 г., когда происходили наиболее массовые расправы. Лидеры союзников рассматривали донесения о муках евреев в контексте злодеяний, совершаемых по отношению к населению на оккупированных территориях по всей Европе. Американский дипломат Джордж Болл позднее написал: «Возможно, мы были настолько поглощены мыслями о грязных ужасах войны, что не придали должного значения такому невыразимому кошмару. Еще можно предположить, что идея массового истребления была настолько далека от традиционных понятий большинства американцев, что мы инстинктивно отказывались верить в нее». Многие европейцы и американцы, которых привели в ужас зверства немцев в Бельгии в 1914 г., после Первой мировой войны гневно заключили, что они попались на крючок пропаганды, потому что выяснилось, что убийства мирного населения были раздуты. В следующую мировую войну западные державы решительно настроились не позволить снова сбить себя с толку. Порядочности британцев и американцев делает честь, хоть в данном случае и сомнительную, что многие люди не хотели предположить в своих врагах такого варварства, которое впоследствии выяснилось. В 1944 г. Джордж Оруэлл написал: «“Зверства” теперь считаются синонимом “газетной утки”. Истории о немецких концлагерях это повесть о зверствах: следовательно, они – фальшивка, так рассуждал обычный человек»49. Опросы подтверждали, что большинство американцев продолжали считать немцев в основе своей приличными и мирными людьми, совращенными с пути истинного вождями. В мае 1945 г., когда кинохроники о концлагерях показали всему миру, 53,7 % американских респондентов сказали социологам, что, по их мнению, только малая часть немцев «по природе жестоки и бесчеловечны»50.
Ничто из вышесказанного ни в малейшей степени не уменьшает ответственности нацистов и немецкого народа за холокост. Но следует признать, что, даже когда стали доступными многочисленные свидетельства, союзнические народы медлили с реакцией на лагеря смерти. Хотя для спасения их заключенных можно было сделать немного, не больше, чем для миллионов советских узников, умерших в руках немцев, в документах союзников за этот период преобладает безразличие, которое не делает чести Британии или США. Хотя в англосаксонском обществе евреи и не преследовались, особой любви к ним тоже никто не испытывал. До 1945 г. сохранялось решительное официальное нежелание дать оценку их трагедии отдельно от участи других гитлеровских жертв и оккупированных европейских народов. Подобная бесчувственность представляется объяснимой, но справедливо тревожит потомков.
Зимой 1941/42 г. депортированных из Германии евреев по большей части расстреливали сразу по прибытии в пункт назначения на востоке, но эти убийства оставляли на усмотрение местных командиров СС: не было общего приказа, обязывающего сохранять узникам жизнь или сразу уничтожить. В конце ноября в дело эксцентрично вмешался лично Гиммлер, приказав временно прекратить убийства евреев рейха, в отличие от восточноевропейских евреев, хотя и этот запрет был в скором времени снят. В значительной степени региональная автономия и логистическое удобство – где-то нехватка жилья и продовольствия, где-то, наоборот, потребность в рабочих руках – все еще определяли, кого убьют, а кого оставят в живых. Но в течение всей зимы продолжались крупномасштабные убийства восточноевропейских евреев, особенно непригодных к труду. В Сербии тысячи евреев и цыган погибали в отместку за деятельность партизан: немецкие командиры на местах знали, что, отдавая этим людям приоритет в качестве жертв, они гарантированно зарабатывают себе очки в глазах Берлина.
Нацистскому руководству оставался только один шаг: приказать перейти от убийств по усмотрению местного начальства и локально к убийствам по непосредственному приказу сверху, чтобы обеспечить согласованную политику полного истребления. В речи 12 декабря 1941 г. после объявления войны США Гитлер четко выразил преданность делу уничтожения евреев, которые якобы и спровоцировали всемирный конфликт. Воплощение в жизнь программы геноцида было поручено заместителю руководителя СС Рейнхарду Гейдриху, которому позже Гитлер посвятил возвышенный некролог: «Он обладал характером редкой чистоты и всепроникающим ясным умом. Он был исполнен неподкупного чувства справедливости. Честные и приличные люди всегда могли положиться на его рыцарский дух и человеческое понимание». Эти добродетели Гейдрих умело скрывал 20 января 1942 г., когда на Ванзейской конференции наметил конкретные вехи проекта лагерей смерти. Данные о том, что он выразил явную готовность убить всех евреев Европы, отсутствуют, не в последней степени из-за того, что на этом пути еще стояли огромные логистические препятствия. Большая роль все еще отводилась голоду; по мере необходимости жертв можно было заставлять работать до смерти. Но намеченная цель больше не вызывала сомнений: «окончательное решение» еврейского вопроса будет осуществляться поэтапно, и только с последней стадией следует подождать до конца войны.
Состоялась подробная дискуссия о строительстве лагерей уничтожения и выгодах использования газа. Принципиальным исходом конференции стала договоренность, согласно которой СС получили абсолютную власть над судьбой европейских евреев; никакое другое учреждение рейха не могло апеллировать против их решений; и впредь все меры будут направлены на всеобъемлющую чистку нацистской империи от чужеродного элемента. Все это было внедрено с необыкновенной скоростью: в середине марта 1942 г. почти три четверти жертв холокоста еще были в живых, а одиннадцать месяцев спустя столько же было мертво.
Советник министерства поинтересовался у командира бригады СС Одило Глобочника, не благоразумнее ли сжигать, а не хоронить тела еврейских жертв нацистов: «После нас может прийти поколение, которое не поймет всего этого!» Глобочник ответил: «Господа, если когда-нибудь родится столь жалкое и малодушное поколение, которое не поймет нашего великого достижения, все дело национал-социализма тщетно… Нужно закопать бронзовые таблички, гласящие, что именно мы имели мужество выполнить эту важную и столь необходимую задачу»51. И все же, хотя нацистское руководство постоянно и открыто подтверждало свою приверженность задаче полного уничтожения евреев в Европе, конкретное воплощение «окончательного решения» оставалось в строгом секрете: даже Гитлер и его приспешники боялись реакции мирового сообщества и особенно того впечатления, которое лагери смерти могли произвести на их собственный народ.
Весной 1942 г. Гиммлер усовершенствовал план по использованию лагерного труда как для производства оружия, так и для экономической выгоды СС. Однако повальная некомпетентность и коррупция привели к тому, что под маркой СС было произведено мало ценного для рейха товара; наоборот, программа концлагерей расходовала транспорт, человеческие и другие экономические ресурсы Германии. Хотя к работе, в основном примитивной, принуждали миллионы узников, СС никогда серьезно не пытались примирить свое желание выжать из рабов пользу с логической, казалось бы, необходимостью минимально гуманного обращения. Поскольку их главной целью оставалась всеобщая смерть обреченных, лагеря не смогли произвести почти ничего, кроме страшного урожая человеческих волос, золотых зубов и ношеной одежды.
В начале июня 1942 г., во время дальнейших массовых депортаций из области Люблина и Галичины, СС расширило свою политику казни жертв непосредственно по прибытии в лагерные приемники. От концепции переселения евреев на Восток отказались, хотя фиговый листок от нее остался. Лидеры Германии теперь надеялись, что летнее наступление в СССР положит конец войне, а с ней необходимости рабского труда евреев. Правительство Словакии разрешило отправку 50 000 своих граждан в Освенцим. Ввели программу депортации западноевропейских евреев, осуществляемую в сотрудничестве с национальными силами безопасности – нацистской империи не хватало ресурсов, чтобы произвести чистку оккупированных территорий без помощи местных бюрократических и полицейских органов. Среди явно выраженных целей немецкого правительства значилась и эта: превратить как можно больше иностранных режимов в соучастников по уничтожению евреев. И здесь немецкие власти добилось значительного успеха.
Потомков поражает легкость, с которой нацисты нашли так много обычных людей (как гласит заглавие классического труда Кристофера Браунинга), готовых хладнокровно убивать огромные количества невинных, всех возрастов и обоих полов. В то же время в нашем современном опыте есть достаточные свидетельства, что многие готовы убивать по приказу, если уверены, что исполняют желания тех, кто для них является признанным авторитетом. Сотни тысяч русских участвовали в убийствах миллионов своих соотечественников по приказанию Сталина и Берии еще до того, как оформился замысел холокоста. Немецкие генералы, возможно, не убивали мирных жителей, но охотно или даже с восторгом соглашались с тем, что это делают другие.
Послевоенные свидетельства подтверждают, что воплощение в жизнь «окончательного решения» требовало лишь чуточку терпения и тренировки для преодоления колебаний некоторых убийц-новичков. 13 июля 1942 г. 101-й резервный полицейский батальон прибыл эшелоном грузовиков в польскую деревню Йозефов, среди жителей которой насчитывалось 1800 евреев. В основном резервисты среднего возраста из Гамбурга, по прибытии они получили приказ собраться вокруг своего командира, пятидесятитрехлетнего майора Вильгельма Траппа, профессионального полицейского, которого его подразделение ласково называло «папаша Трапп». Срывающимся голосом и со слезами на глазах он сказал им, что перед ними стоит очень неприятная задача, предписанная высшими инстанциями: арестовать всех евреев в деревне, отправить в лагерь мужчин трудоспособного возраста, а остальных убить. Он сказал, что это оправданно участием евреев в партизанском движении, а также в подстрекательстве к американскому бойкоту, причинившему ущерб Германии. Потом он предложил всем, кто чувствует себя не в силах исполнить этот тяжкий долг, отойти в сторону. И действительно, несколько полицейских вышли из строя, а после начала бойни количество «отказников» увеличилось. По крайней мере двадцати из них было разрешено вернуться в казармы.
Однако оставшихся набралось достаточно, чтобы сделать дело: один человек позже вспоминал, что его первая жертва тщетно взывала о милости, ссылаясь на свои боевые заслуги в Первой мировой. Георг Кагелер, тридцатисемилетний портной, убил первую доставшуюся ему порцию достаточно легко, но затем вступил в разговор с матерью и дочерью из Касселя, которые должны были умереть следующими. Он обратился к руководителю своего отряда с просьбой освободить его, и был направлен охранять рыночную площадь, а за него потрудились другие. Еще один из покинувших ряды расстреливающих во время бойни объяснил это тем, что его раздражало отсутствие мастерства у напарника: «Он всегда целился слишком высоко, наносил жертвам ужасные раны. Во многих случаях сносил жертвам целиком затылок, мозги брызгали во все стороны. Я просто не мог больше на это смотреть»52. Один член батальона, Вальтер Циммерман, позже свидетельствовал: «Я не могу припомнить ни одного случая, когда кого-нибудь принуждали продолжать участвовать в экзекуциях, если он заявлял, что больше не может… Всегда находились товарищи, которым было легче расстреливать евреев, чем остальным, поэтому руководители отрядов без труда отбирали стрелков»53.
Кристофер Браунинг рассказывает о том, как в течение последующих недель и месяцев большинство членов 101-го резервного полицейского батальона преодолели первоначальное отвращение и стали закоренелыми убийцами. Разумеется, они подкреплялись алкоголем, чтобы сделать свои обязанности переносимыми, но исполняли их со все возрастающей жестокостью. Лейтенант Хартвиг Гнаде, например, выродился из обычного убийцы в настоящего садиста: во время массового убийства в Ломазах 16 августа, ожидая, пока 1700 евреев выкопают собственную общую могилу, он выбрал двадцать пожилых длиннобородых евреев и заставил их ползать перед ним голышом. Пока они исполняли этот приказ, он заорал своему отряду: «”Где мои унтер-офицеры? У вас все еще нет дубинок?” Унтер-офицеры побежали на опушку леса, принесли себе дубинки, и энергично избили ими евреев»54. К ноябрю 1943 г., когда 101-й батальон завершил свой вклад в холокост, его пятьсот членов убили как минимум 38 000 евреев, а еще 45 000 затолкали в поезда на Треблинку. Браунинг не нашел никаких свидетельств, чтобы к тем, кто отказывался убивать, применялись хоть какие-нибудь санкции: в одном из самых высокообразованных обществ Европы удалось без всякого принуждения найти людей, готовых убивать всех, кого их правители сочли врагами государства.
Когда убийцы обрушивались на еврейские общины, многие верующие взывали о помощи к Всевышнему. Девятнадцатилетний дядя Эфраима Блайхмана был расстрелян польскими жандармами после того, как в его доме было найдено свежее мясо, а его двоюродная сестра Бруха была убита падальщиками, польстившимися на свежий хлеб. Юный Блайхман думал: «Если эта трагедия была Божьей волей, ничего нельзя поделать. Но моя семья… полагалась не на людей, а на Бога, что Он исправит ситуацию. Я не мог ни согласиться с их философией, ни поспорить с ней. Машина пропаганды и постоянные издевательства запугали нас до состояния апатии. [Они] чувствовали, что бессильны». Когда Эфраим услышал, что немецкая депортация неминуема, он убежал в лес, и выжил, скрываясь много месяцев. «Мы делили лес с совами, змеями, кабанами и оленями. Ветреными ночами ветви деревьев издавали странные звуки. В тени кустов мерещились злоумышленники, готовые наброситься на нас. Заслышав приближение животных, мы пугались, что это идут наши враги. Прошло много времени, прежде чем мы привыкли к ночам в лесу»55. К концу 1942 г. все советские евреи на территориях, контролируемых нацистами, были убиты. После этого, даже когда положение Германии на фронтах ухудшалось, темпы убийств росли. В 1943 г. состоялись массовые депортации из Греции и Болгарии. Восстание в Варшавском гетто в апреле того же года спровоцировало усиление преследований в Польше, Нидерландах, Бельгии, Франции, Хорватии и Словакии.
Сохранилось множество выдающихся свидетельств жертв холокоста, но одно из самых удивительных открылось миру только шестьдесят лет спустя после смерти автора. Ирен Немировски родилась в Киеве в 1903 г. в семье богатого банкира, который переехал от украинских гетто и погромов в большой особняк в Санкт-Петербурге. Единственный ребенок, она выросла в роскоши, регулярно путешествуя с семьей во Францию. Немировски сбежали от революции в 1917 г., претерпели немало страданий, прежде чем два года спустя сумели добраться до Парижа, где отец снова заработал себе состояние. Ирен писала с четырнадцатилетнего возраста. В 1927 г. она опубликовала свою первую новеллу; к началу войны Ирен занимала прочное место во французской литературе как автор девяти романов, в том числе одного экранизированного, была замужем и растила двух дочерей. В 1940 г., когда немцы оккупировали Париж, она уехала в деревню Исси-л’Эвек, департамент Соны и Луары, сняла там дом. В следующем году Ирен приступила к написанию трилогии о войне, сравнимой по эпическому размаху со знаменитым романом Льва Толстого. Она не питала иллюзий по поводу собственной участи, и в 1942 г. в отчаянии написала: «Пусть уж это закончится так или иначе!» Несмотря на обращение Немировски в католичество, спастись от развязанной нацистской охоты на ее единоплеменников Ирен не было суждено: 13 июля она была арестована французской полицией и депортирована в Освенцим, а 17 августа ее убили в Биркенау (Бжезинке). Вскоре погиб и ее муж.
Немировски успела завершить первые два тома своей замечательной работы. Ее дочери, которые скрывались и выжили, чудесным образом спасли ее рукописи, заполненные мельчайшим шрифтом: не хватало чернил и бумаги. Более полувека дочери не могли найти в себе силы прочитать то, что осталось им на память от матери. Затем одна из них, Дениз, кропотливо расшифровала рукопись с помощью увеличительного стекла и не без колебаний передала ее издателю. «Французская сюита» была опубликована во Франции в 2004 г. и стала мировой сенсацией. Первый том воссоздает жизнь Франции июня 1940 г., судьбу миллионов беженцев. Второй описывает отношения между немецким солдатом оккупационной армии и француженкой. Поразительно, как эта писательница-еврейка, сознавая свою обреченность, с пронзительным состраданием передает чувства и поведение тех, кто станет ее убийцами. Ее описание французского общества во время оккупации, его страданий, тихих проявлений мужества, а также предательств, составляет одно из самых замечательных литературных достояний войны. Холодный, взвешенный анализ уравновешивается горячим состраданием, явленным тогда, когда автор сама ожидала смерти и знала, что в ее гибели французы пособничают немцам. Теперь Немировски получила признание как один из самых замечательных свидетелей своего времени и трагедии своего народа.
Хотя огромное количество немцев прямо или косвенно соглашалось с убийством евреев, небольшая группка проявила огромное мужество, со смертельным риском для себя помогая гонимым. Молодой берлинский сапожник Август Коссман, коммунист, два года скрывал в своей квартирке Ирму Симон, ее мужа и сына. Мать подростка Эриха Ноймана, владелица кафе в Шарлоттенбурге, прятала молодого еврея, друга семьи, в течение пяти месяцев. Еврейский беженец Макс Кракауэр в конце войны составил список всех берлинцев, которые помогли ему в его долгой борьбе за жизнь, и вспомнил шестьдесят шесть имен. Мать Риты Книрш укрывала молодого человека по имени Соломон Штрайм, друга семьи, говоря своей дочери: «Рита, не говори об этом никому!.. Не могу же я просто выгнать этого затравленного человека»56. Такие мужественные люди спасали честь германской цивилизации.
В 1944 г., когда нацисты оккупировали Венгрию и Словакию, пришел черед большинства живших там евреев (их насчитали 750 000 человек) подниматься на борт поезда, чтобы погибнуть в последних массовых бойнях холокоста. После этого, по мере приближения победы союзников, шансы выживших на тот момент евреев увеличивались: больше людей были готовы пойти на риск и предоставить им укрытие. Но почти все из тех, кого Гитлер избрал приоритетной жертвой, были уже мертвы.
21. Поле битвы – Европа
В ноябре 1943 г. Гитлер объявил генералам о своем стратегическом решении: Восточный фронт больше никаких подкреплений не получит. Новую стратегию он мотивировал тем, что на Востоке немецкая армия и так удерживает обширную буферную зону, отделяющую рейх от русских, а подкрепления нужны в Италии, где высадились и закрепились англо-американские войска, и во Франции, где они явно намерены вскоре высадиться. Но в то самое время, когда Гитлер собирался переключиться на угрозы со стороны западных союзников, 14 января 1944 г. русские возобновили наступление на севере. Разумной реакцией немцев стало бы стратегическое отступление, поскольку осада Ленинграда потеряла реальную значимость, но фюрер после недолгих колебаний вновь приказал войскам удерживать занятые позиции. «У Гитлера получалось мыслить статически, а не динамически, – печально констатировал немецкий офицер Рольф-Гельмут Шредер много лет спустя. – Если бы он не мешал генералам заниматься своим делом, многое могло бы сложиться совсем иначе»1. Русские прорвали немецкую оборону; 27 января Сталин официально заявил об освобождении Ленинграда. Гитлер отправил спасать положение своего фаворита генерала Моделя, но новый командующий за месяц отступил почти на 200 км, на заранее подготовленные позиции вдоль Невы и Чудско-Псковского бассейна. Наступившая весенняя распутица, как обычно, прервала все дальнейшие операции.
Неоднократные атаки советских войск с января по март имели малый успех. Погода мешала обеим сторонам, но наступавшим русским она мешала больше. 11 февраля Жуков убедил Сталина разрешить еще одну попытку окружения немцев. На этот раз он рассчитывал отрезать шесть немецких дивизий на западном берегу Днепра, между двумя советскими укрепленными плацдармами. Этот маневр увенчался успехом и принес Коневу маршальские звезды, однако 17 февраля 30 000 немцев вырвались из окружения; вермахт вновь продемонстрировал, как яростно он способен сражаться в отчаянной ситуации.
Южнее три Украинских фронта в марте пробивали себе путь на запад. Командующие немецкими войсками, стоявшими у них на пути, Клейст и Манштейн, спасая свои войска от угрозы уничтожения, проигнорировали однозначный запрет Берлина на существенные отступления. Гитлер в ответ сместил обоих фельдмаршалов, заменив их на Моделя и жестокого Фердинанда Шернера, считая, что его беспощадность поможет спасти положение. Шернер организовал упорную оборону Крыма, хотя сам не считал это разумным; в конце концов ему пришлось смириться с неизбежным: 12 мая из стопятидесятитысячного севастопольского гарнизона удалось эвакуировать морем лишь 27 000. Русские обороняли Севастополь 250 дней, а немцы сдали крепость всего лишь за неделю.
Капитан Николай Белов писал с фронта в середине апреля: «Масса грязи и воды, и полагаю, что эта незадача уже до лета»2. Той весной условия жизни русских изменились к лучшему. Люфтваффе не могло выделять много самолетов для бомбардировок городов и гражданского населения. Во многих местах немецкие пленные начали разбирать развалины. На бывших полях сражений, раскинувшихся на тысячи квадратных километров, солдаты и гражданские продвигались среди покореженной техники, пустых окопов, неразряженных мин и сожженных деревень. Гражданские с их мизерным рационом 300 г хлеба в день завидовали пайкам немецких военнопленных, хотя и признавали, что немцы хорошо работают. НКВД и СМЕРШ («советская бацилла подозрительности»3, по выражению Кэтрин Мерридейл) беспощадно вылавливали возможных предателей, коллаборационистов и шпионов на территориях, ранее оккупированных Германией. Так, на центральной площади Чернигова несколько февральских дней качались на виселице тела четырех предателей, в том числе одной женщины.
В Киеве приезжим указывали на некоторых местных девиц: «Они за кусок колбасы к немцам ложились»4. Беженцы потянулись обратно в город, они везли свое жалкое имущество на повозках и тележках. Снова пошли трамваи, открылись некоторые магазины; в уличных колонках появилась вода, и даже периодически давали электричество. Но люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы купить хоть какую-то еду, а дома по-прежнему лежали в развалинах. Кое-где на стенах до сих пор висели нацистские пропагандистские листовки и плакаты «Гитлера-освободителя». Нужда и лишения были обычным делом для десятков миллионов россиян; когда корреспондента газеты «Правда» Лазаря Бронтмана на улице Ельска остановили трое маленьких детей, он подумал, что попросят денег или хлеба. Но они спросили: «Дяденька, нет ли у вас маленького карандаша? В школе писать нечем». Бронтман дал им карандаш. «Забыв даже поблагодарить, они торопливо пошли по улице, изо всех сил рассматривая приобретение и, видимо, споря, кому им владеть»5.
В мае 1944 г. русским противостояло 2 200 000 немецких войск; Гитлер потерял покой от мысли, что от самой западной точки Восточного фронта до Берлина осталось всего лишь 900 км. Он предполагал, что летом главный советский удар будет направлен на север Украины, и распределил немецкие силы соответствующим образом. Но Гитлер ошибся: целью операции «Багратион», самого грандиозного советского наступления той войны, был участок группы армий «Центр». Запланированная на июнь, эта операция задействовала огромные ресурсы, которыми теперь располагала Красная армия. 2 400 000 солдат и 5200 танков были нацелены вначале на Минск; на втором этапе операции Второй Балтийский и Первый Украинский фронты должны были нанести удары с обоих флангов и совершить прорыв. Операция «Багратион» была крайне амбициозным замыслом, но новые возможности Красной армии и слабость вермахта позволяли проводить наступления такого масштаба.
Много лестных слов было сказано об изощренности и эффективности британских и американских отвлекающих операций во Второй мировой войне; гораздо меньше похвал досталось не уступающим в ловкости успехам советской дезинформации, которая становилась все более изощренной в 1943 г. и достигла своей вершины в операции «Багратион»6. Серьезные ресурсы были выделены на сооружение макетов танков, орудий и укреплений, фальшивых дорог и переправ: немцы должны были поверить, что главное направление удара русских – северная Украина. Одновременно с этим советские войска, стоявшие перед армиями группы «Центр», не скрываясь, укрепляли свои оборонительные рубежи, а подкрепления подтягивались только ночью, в полной темноте, и до последнего момента находились в 50–100 км от линии фронта. Исполнители приказов Жукова – ограниченное количество высших офицеров – знали только то, что их непосредственно касалось. Немцы выявили 60 % советских сил, противостоявших группе «Центр», но не заметили гвардейскую танковую армию и потому предполагали, что в распоряжении советских войск есть лишь 1800 танков и самоходных артиллерийских установок – вместо 5200, которыми на деле обладали русские. Начальник разведки вермахта на Восточном фронте, опытнейший Рейнхард Гелен, был совершенно одурачен русской маскировкой, не уступавшей по мастерству и значимости аналогичным англо-американским операциям перед Днем «Д». Как только русские завершили подготовку к наступлению, иллюзиям Гитлера насчет ситуации на Восточном фронте настал конец.
Той весной весь мир считал, что вклад англо-американских союзников в борьбу с фашизмом слишком мал в сравнении с вкладом Советов. Командир польского корпуса в Италии генерал Владислав Андерс в середине апреля с грустью пишет: «Война течет все так же: Красная армия одерживает победу за победой, а британская или терпит поражения, как в Бирме, или вместе с американцами сидит без движения в Италии»7. Открытием второго фронта обычно считают высадку западных союзников в Нормандии, хотя к тому времени на юге Европы примерно десятая часть германских сил, включая лучшие части вермахта, уже отражала натиск союзнических войск в горной цепи, расположенной южнее Рима, и на побережье к северу от него. Непрекращающиеся атаки союзников на немецкие позиции у Монте-Кассино отличались плохой координацией действий, некомпетентностью и отсутствием военной смекалки. Бенедиктинский монастырь VI в. был разрушен до основания, потрачены тысячи тонн бомб и снарядов, погибло множество британцев, индийцев, поляков и новозеландцев, а немцы все так же удерживали свои позиции.
Англо-американский корпус, высадившийся в январе, по личному настоянию Черчилля, севернее, у Анцио, оказался заперт на узком плацдарме, который немцы яростно и настойчиво атаковали. «Мы вернулись во времена Первой мировой, – писал молодой офицер шотландского подразделения, державшего оборону у Анцио. – Месим вязкую глину. Подбитые танки. Холодно. Боже, как холодно. На могилах пробитые осколками каски. Куски колючей проволоки. Деревья похожи на рыбьи скелеты…»8 Однообразие окопного быта и непрестанные бомбардировки притупляли чувства людей. «Когда люди слишком долго находятся под огнем, страдает эффективность в целом и боевая эффективность в частности»9, – писал американский подполковник Джек Тоффи. Существование в осаде, за линией фронта причудливо одомашнивается: «Этот плацдарм – самое сумасшедшее место, какое мне только доводилось видеть, – писал американский офицер-связист своему брату в Нью-Джерси. – Ребята обзавелись здесь хозяйством: лошади, куры, домашняя живность, велосипеды и всякое другое, что осталось тут от населения»10. Некоторые даже заводили огородики.
В феврале немцы предприняли мощную контратаку по всему периметру обороны. «Никогда не видел столько мертвецов вокруг», – говорил один капрал, ирландец. Один сержант, глядя, как свиньи обнюхивают убитых на ничейной земле, грустно размышлял: «Разве мы сражаемся ради того, чтобы нас сожрали свиньи?»11 Немцам наступление на Анцио обошлось не дешевле, чем союзникам. «Боевой дух не слишком высок; четыре с половиной года войны начинают действовать на нервы», – писал один из солдат Кессельринга, несколько смягчая реальное положение дел. Другой немец 28 января отмечает, что уже неделю не разувался: «В воздухе грохот и свист. Вокруг повсюду рвутся снаряды»12. Февральское наступление обошлось немцам в 5400 убитых и раненых, и в журнале боевых действий отмечалось: «Очень сложно эвакуировать раненых. Весь санитарный транспорт уничтожен, включая бронированные машины, так что приходится использовать самоходные орудия и “Тигры”»13. Некоторые подразделения союзников были разбиты и устремились в тыл; то же происходило и с немецкими частями, попавшими под истребительный огонь союзников. Англо-американская артиллерия выпустила 158 000 снарядов – по десять на каждый снаряд вермахта.
Тем временем на юге войска союзников по-прежнему топтались в горах, но и их противнику тоже было нечем похвастаться. Командующий германскими силами в Кассино генерал Фридолин фон Зегнер унд Эттерлин говорил помощнику: «Поганое это дело – сражаться и сражаться, когда знаешь, что мы проиграли эту войну… Оптимизм – это эликсир жизни для слабых». Фон Зегнер, один из немногих бесспорно «хороших немцев», сражался, как подобает отличному профессиональному вояке. Но на его солдат обрушился адский огонь бомбежек и артобстрелов союзников, сровнявший с землей и монастырь на горе, и город под горой. Взрывной волной людей швыряло как «клочки бумаги». Немецкий лейтенант описывает мартовские воздушные налеты: «Мы даже друг друга больше не видели. Можно было разве что дотронуться до соседа. Нас окутала ночная мгла, а во рту был вкус горелой земли»14. Но едва оседали облака пыли и пехота и танки союзников шли в атаку, как немцы открывали ответный огонь. Воронки и каменные обломки – результат бомбежек – атакующим мешали больше, чем оборонявшимся. «К сожалению, мы сражаемся с лучшими в мире солдатами – какие бойцы!» – с сожалением писал Бруку 22 марта генерал Александер.
Прорыв вглубь Италии случился слишком поздно и был настолько скромных размеров, что его нельзя было воспринимать как триумф. 12 мая Александер провел свою первую грамотно спланированную операцию: союзные войска начали две атаки одновременно. Обманутый Кессельринг, опасаясь еще одной массированной высадки у себя в тылу, отвел резервы назад. Французский экспедиционный корпус генерала Альфонса Жюэна сыграл решающую роль в прорыве немецкой обороны на юго-западе от Кассино, а польские войска прорвались севернее монастыря. Американцы атаковали слева, от моря. Германский фронт был смят, и немцы начали общее отступление на север. 23 мая Александер приказал наступать с плацдарма у Анцио, который четыре месяца находился в осаде. Во многих немецких частях оставалось не больше трети личного состава. «Мое сердце истекает кровью, когда я смотрю на мой прекрасный батальон, – писал жене один офицер. – …Надеюсь, что вскоре увижу тебя, в лучшие времена»15.
Операция Diadem (такое кодовое название получило майское наступление) оказалась единственной возможностью союзников в период с 1943 по 1945 г. нанести сокрушительное поражение армиям Кессельринга в Италии, отрезав им путь к отступлению. История о том, как генерал Марк Кларк пренебрег этой возможностью из-за навязчивого стремления к славе завоевателя Рима, превратилась в легенду войны. Неподчинение Кларка приказам выявило его непригодность к роли командующего армией. Значительную часть ответственности за медлительность в проведении операции Diadem следует возложить на генерала Александера – слабого главнокомандующего, который не сумел обуздать англофоба Кларка. 4 июня Рим пал, а Кессельринг отвел войска на Готскую линию – новую, хорошо укрепленную позицию, пересекающую Апеннины с северо-востока на юго-запад, от Ла Специи на западном побережье Италии до Пезаро на восточном.
Но в июне 1944 г. в Италии союзников ждало разочарование, сопоставимое с их неудачами на других фронтах: вермахт проявил волю и мастерство, ускользая из котлов как на Западном, так и на Восточном фронте. Русские тоже вновь и вновь пытались окружить немецкие армии, которые снова и снова вырывались из окружения. Возможно, если бы Кларк и перерезал итальянские дороги севернее, то отступающие войска Кессельринга все равно бы вырвались из окружения. Операции Diadem не удалось превратить тактический успех в стратегический; эту неудачу можно сравнить с прорывом большой части окруженных немцев из «фалезского мешка» в Нормандии несколькими неделями позднее и с нежеланием американцев отрезать Рунштедту путь к отступлению из «выступа» в январе 1945 г.
В Италии союзники довольствовались тем, что вырвались из зимнего тупика и продвинулись на 400 км. Когда стало ясно, что решительная победа на Итальянском театре военных действий не достигнута, американцы, к негодованию Черчилля, стали настаивать на том, чтобы свернуть кампанию: они вывели шесть американских и французских дивизий для участия в битве за Францию. За следующие 8 месяцев войны для Вашингтона единственным оправданием малосущественных операций в Италии было лишь то, что они связывали двенадцать немецких дивизий, которые иначе использовались бы в боях против войск Эйзенхауэра или Жукова.
Гитлер воспринял известия об итальянском отступлении с несвойственным ему фатализмом. Поздней весной 1944 г. он уже знал, что через считаные недели его армиям предстоит отражать крупное наступление русских. Германии было необходимо отразить неизбежное англо-американское вторжение во Францию. Если бы удалось сбросить десант в море, вряд ли западные союзники снова решились бы в том году форсировать Ла-Манш, и тогда немцы могли бы перебросить значительную часть сил на русский фронт, серьезно повысив шансы отразить наступление Сталина. Пусть это был нереальный сценарий (а именно так считали немецкие генералы), но он был вскормлен теми надеждами, на которых Гитлер строил свою стратегию. Все было поставлено на исход вторжения Эйзенхауэра.
Союзники не хуже Гитлера осознавали, что на карту поставлено очень многое. Если сравнивать силы противоборствующих сторон на бумаге, то шансы англо-американцев выглядели предпочтительнее, в первую очередь из-за их подавляющего превосходства в воздухе. С другой стороны, результаты средиземноморских десантных операций союзников не навевали благодушие: при высадке в Сицилии царил хаос, в Салерно и Анцио – тоже, и все было на волоске от катастрофы. Британцам никогда не нравилась идея большого десанта во Франции: когда генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган был назначен главным планировщиком Дня «Д» в 1943 г., он «не сомневался в том, что этот проект не пользуется особенной благосклонностью военного министерства, разве что в качестве высококачественной учебной операции… Британцы с самого начала присоединились к этой операции с крайней неохотой, и это еще очень мягко сказано»16. К маю 1944 г. Черчилль и Брук еще не пришли в себя после Анцио.
Американскому и британскому командующим авиацией также не нравилась идея высадки. Они верили, что можно быстро сломить Германию стратегическими бомбардировками, и возмущались, что придется перенацелить самолеты на поддержку десанта. У Черчилля имелись возражения против бомбежки французской железнодорожной сети, что неизбежно привело бы к жертвам среди мирного населения. Подобная мягкотелость вызывала раздражение у главнокомандующего бомбардировочной авиацией Артура Харриса: «Лично мне было плевать, что я могу убить французов. Им следовало самим воевать за себя. Но меня в то время запугивал Уинстон»17. Рузвельт, Маршалл и Эйзенхауэр взяли верх над британским премьером. В течение войны около 70 000 французов погибло от бомб союзников: в «сопутствующих потерях» во Франции оказалось почти на треть больше погибших гражданских, чем при налетах люфтваффе на Британию. Бомбардировки сыграли крайне важную роль в замедлении переброски немецких сил после Дня «Д», но за это пришлось заплатить высокую цену.
Если народы государств-союзников с нетерпением ждали вторжения во Францию, то некоторые из непосредственных участников событий проявляли гораздо меньший энтузиазм: британские солдаты, уже много лет воевавшие в Северной Африке и Италии, не рвались снова рисковать жизнью в Нормандии. Они считали, что настал черед других. «Кто-нибудь, кроме нас, еще сражается в этой войне?18» – с ожесточением спрашивали хайлендеры – солдаты 51-й дивизии, которые, по мнению одного из их командиров, «скорее размякли, чем окрепли» за те полгода, которые они пробыли в Англии, вернувшись со Средиземноморского театра военных действий. Еще один «средиземноморский» ветеран – Третья бронетанковая дивизия – «накануне Дня “Д” практически поднял мятеж, – пишет позднее майор Энтони Кершо из их бригады. – Они расписали стены своих казарм в Олдершоте лозунгами наподобие “Нет второму фронту!”, и если бы не их новый командир – лучший из всех, кого я встречал за всю войну, – я уверен, что они бы и в самом деле взбунтовались»19.
Лишь немногие британские соединения, воевавшие в Средиземноморье, активно сражались в северо-западной Европе; впрочем, это неудивительно: ветераны косо смотрели на миллионы британских и американских солдат, еще не нюхнувших пороха. Ко времени Дня «Д» прошло уже 30 месяцев после Пёрл-Харбора, половина восьмимиллионной армии США уже отправилась за океан, но многие еще совсем не имели боевого опыта. Так, 24-я пехотная дивизия провела 19 месяцев на гарнизонной службе на Гавайских островах, а потом еще 7 месяцев в Австралии, обучаясь войне в джунглях; в ней были кадровые солдаты еще довоенных времен, которые получили право демобилизоваться и вернуться в Штаты даже до того, как их дивизия впервые вступила в бой. Русские к тому времени дрались уже три года, а в армии США лишь с десяток частей успело повоевать с немцами. В британской армии дело обстояло подобным же образом: многие солдаты с 1940 г. проходили подготовку в Англии; согласно статистике, к маю 1944 г. лишь меньшая часть армии Черчилля успела понюхать пороху (если учитывать войска, которые несли вспомогательную или гарнизонную службу и не участвовали в сражениях). Кампании, в которых сражались войска Монтгомери, были тяжелыми и кровавыми, но короткими в сравнении с баталиями на других фронтах.
День «Д» состоялся лишь благодаря непреклонному американскому давлению на британское руководство, но, как ни парадоксально, командование высадкой было поручено британцам: Монтгомери возглавил британские и американские сухопутные войска, Рамсей – флот, а Ли-Мэллори – воздушные силы. Хотя верховным главнокомандующим был Дуайт Эйзенхауэр, Монтгомери надеялся, что будет осуществлять оперативное командование до самого взятия Берлина, а его американский босс будет выполнять представительские функции; непробиваемо толстокожий «маленький генерал» стремился к этой честолюбивой цели до последних месяцев войны.
Тщательное планирование и огромные военные ресурсы сулили операции Overlord высокие шансы на успех, но погодные сюрпризы и высокий боевой уровень немецкой армии вселяли тревогу во многих британских и американских офицеров. Провал операции был чреват самыми разными последствиями, включая падение духа в странах союзников по обе стороны Атлантики, смещение командной верхушки; это нанесло бы тяжелейший удар по престижу западных союзников, которых Сталин и так высмеивал за бессилие, равно как и по авторитету Рузвельта и Черчилля. Немецкая армия представляла собой грозную силу даже после трех лет изнурительной войны на Востоке. В сражении с 60 дивизиями фон Рунштедта войскам Эйзенхауэра было совершенно необходимо иметь преимущество в боевой мощи. Но армия вторжения столько сил оставляла в тылу и во вспомогательных войсках, что даже в 1945 г., достигнув максимальной мощи, союзники развернули только 60 американских и 20 британских и канадских боевых дивизий. Преимущество в авиации вместе с бронетанковой и артиллерийской мощью должно было возместить недостаток пехоты.
Черчилль и Рузвельт заслужили благодарность своих народов, оттянув День «Д» до 1944 г., когда мощь союзников значительно возросла, а германская, наоборот, серьезно ослабла. Потери западных союзников в Европе были бы значительно больше, если бы вторжение произошло раньше. Для молодых людей, высаживавшихся в Нормандии 6 июня 1944 г., эти соображения, конечно, ничего не значили: они думали лишь о смертельной опасности, которой им грозил прорыв гитлеровского Атлантического вала. Вторжение началось ночью 5 июня с десантирования британской и двух американских воздушно-десантных дивизий. Десант приземлился неорганизованно, но достиг своих целей: сбить с толку немцев и обезопасить фланги зоны высадки; парашютисты вступали в бой с вражескими войсками, проявляя боевой дух, подобающий элитным подразделениям.
Сержант Мики Маккалум никогда не забудет свою первую перестрелку через несколько часов после приземления. Немецкий пулеметчик смертельно ранил его товарища, рядового Билла Эттли. Маккалум спросил у Эттли, тяжело ли его ранили. Солдат ответил: «Я умираю, сержант Мики, но мы должны покончить с этой проклятой войной, ведь так? Ты и сам это знаешь»20. Маккалум не знает, откуда родом был Эттли, но, судя по его акценту, откуда-то с Восточного побережья. Сержанта до глубины души тронуло, что в последние минуты жизни Эттли думал о деле, а не о себе. В последующие часы и дни многие молодые люди проявили такое же мужество и тоже пожертвовали жизнью. К рассвету 6 июня шесть пехотных дивизий с приданной им бронетехникой высадились на пляжи Нормандии на пятидесятикилометровом участке: одна канадская и две британские дивизии слева, три американские справа.
Операция Overlord стала крупнейшей в истории общевойсковой операцией. В первой волне десантирования 5300 различных плавсредств переправили 150 000 человек и 15 000 танков; с воздуха их поддерживали 12 000 самолетов. Тем утром на французском побережье разворачивалась драма, какой не видел мир. Британские и канадские войска высадились на прибрежных участках с кодовыми названиями Sword, Juno и Gold; с помощью новейшей бронетехники они преодолели заграждения, многие из которых защищали «осттруппен» – добровольцы из восточных стран, покоренных гитлеровской империей. «Мой танк первым оказался на берегу, и немцы стали лупить из пулемета, – рассказывал сержант-канадец Лео Гарьепи. – Но до них дошло, что мы танк, только когда мы остановились на берегу и сбросили свой полотняный фальшборт, поплавковое шасси. Тогда они сообразили, что мы – “Шерманы”»21. Рядовой Джим Картрайт из Южно-ланкаширского полка рассказывал: «Как только я выбрался на берег, мне сразу захотелось убраться подальше от воды. Наверное, я промчался по пляжу как заяц».
Американцы захватили участок Utah в основании Шербурского полуострова с очень небольшими потерями. «Знаете, пусть это выглядит как-то по-дурацки, но это было похоже на учения, – удивлялся один солдат. – Мы выбрались на берег, как вереница детей, и прошли по пляжу. Над нами пролетела пара снарядов, но ни один не взорвался рядом с нами. Я даже слегка огорчился, даже разочаровался как-то»22. Но восточнее, на пляже Omaha, американцы понесли самые тяжелые за этот день потери – более 800 человек убитыми. Оборонявшееся немецкое подразделение, пусть не элитное, было лучше тех, что защищали побережье Ла-Манша; они открыли ураганный огонь по десанту. «Никто не двигался вперед, – писал корреспондент агентства Associated Press Дон Уайтхед. – Раненые лежат в холодной воде, на гальке… “Господи, пусть я вернусь на корабль”, – хнычет молоденький солдат в полузабытье. Рядом с ним дрожащий парень голыми руками зарывается в песок. Снаряды рвутся со всех сторон, некоторые так близко, что на нас рушатся потоки воды и грязи»23.
Один солдат писал: «Кто-то плакал от страха, кто-то обделался. Я лежал там вместе с другими, слишком ошеломленный, чтобы куда-то двигаться. Никто ничего не делал – все только лежали. Это был какой-то массовый паралич. Я не видел ни одного офицера. В какой-то момент меня что-то ударило по руке. Я решил, что это пуля. Но это оказалась чья-то напрочь оторванная рука. Это было уже чересчур». До середины утра высадка на Omaha была на грани срыва; только после нескольких часов полного бездействия образовались небольшие группы решительных парней, среди которых были заметны рейнджеры; они взобрались на скалы над морем и понемногу одолели оборонявшихся.
Когда известие о вторжении во Францию прозвучало по радио, церкви Америки и Англии наполнились людьми, многие из которых молились впервые – молились за тех, кто воюет. Американские радиоканалы убрали рекламные паузы: миллионы взволнованных слушателей с нетерпением ждали военные сводки и прямые репортажи с прибрежных плацдармов. Прекратились забастовки на предприятиях; многочисленные доноры-добровольцы отправились на пункты переливания крови. Миллионы угнетенных и запуганных жителей Европы ощутили эмоциональный подъем. Виктор Клемперер, еврей из Дрездена, больше других имел причины радоваться, но прошлые разочарования приучили его к осмотрительности. Он сравнивает свою реакцию с реакцией жены: «Ева очень разволновалась, у нее даже колени задрожали. Сам же я оставался совершенно спокоен, я был уже – или еще – не способен волноваться… Я не надеялся дожить до конца этой пытки, этих лет рабства»24.
Волновались и гитлеровские солдаты во Франции. «Утром 6 июня мы увидели всю мощь англичан и американцев, – писал один солдат своей жене в письме, которое впоследствии было найдено на его теле. – По всему морю у берега выстроился флот: маленькие суденышки и большие корабли собрались как на парад, на грандиозное представление. Если кто сам не видел, ни за что не поверит. Свист снарядов и грохот взрывов вокруг нас создавали музыку наихудшего сорта. Наше подразделение сильно пострадало – ты и дети должны радоваться, что я остался жив. Нас уцелела совсем маленькая горстка»25. Десантник люфтваффе лейтенант Мартин Поппель, который многие годы был убежденным нацистом, не сомневавшимся в победе рейха, 6 июня пишет: «Выходит, что это действительно большой день для союзников – и, к сожалению, также и для нас»26. Гейр фон Швеппенбург, командовавший танковой группой «Запад», считал, что Роммель, руководивший организацией обороны Атлантического вала, напрасно сделал ставку на «оборону передовых рубежей». Фон Швеппенбург настаивал на том, чтобы отвести танковые дивизии назад и сгруппировать их для контратаки. Однако же, как и большинство мыслящих немецких офицеров, он понимал, что поражение неизбежно: «Без авиации, которой у нас крайне недостаточно, мы не в силах противостоять высадке десанта или захвату плацдарма, которые предпримут союзники»27.
Поздно вечером 6 июня – слишком поздно для надежды на успех – 21-я танковая дивизия контратаковала британский плацдарм, но ее легко остановили с помощью противотанковых ружей и танков Sherman Firefly с 17-фунтовой пушкой. К сумеркам войска Эйзенхауэра надежно закрепились на побережье, удерживая плацдармы от 0,5 до 5 км в глубину, а в последующие дни объединили их. С немецкой стороны Мартин Поппель писал: «Мы все думаем, что [наш] батальон бросят в бой в одиночку, с ничтожными шансами на успех… Ребята дико нервничают… Все до чертиков перетрухали в эту жуткую ночь, и мне только руганью удалось заставить их двигаться»28.
Курсирующие между кораблями и побережьем десантные суда подвозили подкрепления, и на исходе второго дня операции у Монтгомери на пляжах было уже 300 000 человек. Первые истребители союзников взлетали с местных импровизированных полевых аэродромов. Люфтваффе было настолько истощено многомесячной битвой над Германией, что его самолеты почти не беспокоили войска вторжения. Пилоты союзников поражались контрасту между своими позициями на берегу, где безбоязненно передвигались длинные колонны машин, и полной неподвижностью вражеских позиций: немцы понимали, что любое движение навлечет удар истребителей-бомбардировщиков. Лишь в краткие летние ночи войска Роммеля перемещались и получали подкрепления; сам Роммель вскоре был обстрелян со штурмовика и получил тяжелые ранения.
День «Д» обошелся британцам, американцам и канадцам в 3000 убитых – ничтожная цена за столь значительное стратегическое достижение. Население Нормандии, однако, серьезно пострадало во время освобождения, потеряв убитыми в тот день столько же, сколько и армия вторжения. Местных жителей поражало бесцеремонное отношение солдат союзников к чужому имуществу; подразделение по связям с гражданской администрацией в городке Уистреам отмечает: «Повальное мародерство в войсках. Сегодня был подорван британский престиж»29. Француженка описывала, как канадцы обшаривали ее дом в Коломбьере: «Они совершили налет на всю деревню. С тачками и грузовиками; крали, грабили, тащили все подряд… Они ругались между собой, кто что возьмет. Хватали вещи, обувь, еду, деньги из нашего сейфа. Мой отец не смог их остановить. Мебель исчезла; украли даже мою швейную машинку»30. Мародерство свирепствовало в войсках Эйзенхауэра до конца войны, практически без всякого противодействия со стороны командиров. Между тем в ходе жестокой битвы, развернувшейся на северо-западе Франции, около 20 000 человек из числа местного населения погибло под бомбами и снарядами союзников.
Эйзенхауэр и его генералы изначально понимали, что «битва наращивания сил» после Дня «Д» будет иметь не меньшее значение, чем сама высадка: если немцы быстрее подтянут свои войска в Нормандию, то сумеют сбросить союзников в море – на что, собственно, надеялся и на чем настаивал Гитлер. Благодаря бесценному вкладу специалистов по дезинформации – превосходно исполненной операции Fortitude – немцы были убеждены в постоянной угрозе для Па-де-Кале и потому долгое время держали там значительные силы. Авиация союзников разрушила железнодорожную сеть и мосты, затруднив переброску подкреплений, но тем не менее в течение июня и июля все новые части подтягивались в Нормандию и сразу же отправлялись в мясорубку войны. Продлившаяся 12 недель операция была, без всяких сомнений, самой дорогостоящей для западных союзников: только в Нормандии уровень потерь временами можно было сравнить с потерями на Восточном фронте. День «Д» имеет большое символическое значение и вызывает восхищение у потомков, но последовавшие за ним сражения были гораздо кровопролитнее: так, рота D Оксфордширского и Бэкингемширского полка легкой пехоты (который носил прозвище «Бык и Олени») утром 6 июня триумфально захватила «Пегасов мост» через Канский канал, потеряв лишь двух человек убитыми и 14 ранеными, а на следующей день потеряла 60 человек в безрезультатной стычке у Эсковиля.
Перед британскими войсками на восточном фланге Монтгомери поставил сложные задачи, включая взятие города Кан. Момент внезапности был упущен (что, впрочем, неудивительно) 6 июня, когда высадившиеся войска, продвигаясь от моря, застряли в лабиринте немецких опорных пунктов и спешно развернутых заградительных групп. Жестокие схватки последующих дней позволили объединить и несколько расширить береговые плацдармы, но немецкие части, в особенности 12-я танковая дивизия СС, не дали союзникам осуществить решительный прорыв. Британцы снова и снова шли в наступление, и каждый раз вражеские танки и пехота с неизменной решительностью отбивали их атаки.
«В ходе атаки нужно было пересечь почти километр открытого поля рядом с Камбским лесом, – писал офицер Собственного Его Величества Шотландского полка пограничной стражи. – Едва мы тронулись с исходного рубежа, как последовала яростная реакция противника, накрывшего выдвинувшиеся роты огнем удобно расположенных пулеметов и интенсивным минометным обстрелом. Ситуация совершенно походила на сражения Первой мировой войны… Мы видели, как трассирующие пули срезают стебли»31. Рядовой Роберт Макдафф из Уилтширского полка говорил: «Одна из сцен, которые навсегда останутся в моей памяти, – это облепленные мухами руки и ноги на обочине дороги. Запах был ужасный. Кого-то убили, кто-то ушел навсегда… Когда бы не Божья милость, то же было бы и со мной»32. Бригадир Фрэнк Ричардсон, один из самых способных офицеров штаба Монтгомери, писал впоследствии о немцах, которыми безгранично восхищался: «Я часто поражался, как нам вообще удалось с ними справиться»33.
Но вермахт был способен и на чудовищные ошибки, которые совершал во множестве и в Нормандии. Немецкие командиры не сразу отреагировали на то, что днем союзники способны поражать все, что движется. «Здесь мы видели одну из самых жутких картин этой войны, – писал немецкий сержант 8 июня возле Бруэ. – Враг тяжелыми орудиями буквально разорвал на куски соединения Танковой учебной дивизии. [Вездеходы] и снаряжение разбиты; тут же валяются на земле и даже висят на деревьях части тел мертвых товарищей. Царит жуткая тишина»34. 9 июля десяток «Пантер» 12-й бронетанковой дивизии двинулись в отчаянное наступление против канадцев, закрепившихся в Бретвиле. Сержант СС Моравец описывает последовавшие за этим события:
«Вся рота двигалась как единое целое, на высокой скорости, без остановок, широким фронтом… Раздался глухой удар, нас качнуло, как если бы слетела гусеница, и машина остановилась. Когда я взглянул налево, я вдруг увидел, что с левофлангового танка сорвало башню. И тут же раздался еще один небольшой взрыв, и мой танк загорелся… Пауль Файт, стрелок, сидевший передо мной, не мог двигаться. Я выпрыгнул наружу, а потом увидел, что из открытого люка вырывается огонь, как из паяльной лампы… Слева горели другие танки… У всех без исключения экипажей обгорели лица и руки… Вражеская пехота обстреливала всю окружающую местность»35.
За считаные минуты семь «Пантер» было подбито из противотанковых ружей; командир, вернувшийся после лечения от полученных в прежних боях ран, увидел свою дивизию изрядно потрепанной. Его приводила в ярость бессмысленность этих атак: «Я готов был рыдать от ярости и скорби». Американцы провели ряд тяжелых сражений, чтобы овладеть Шербурским полуостровом, где из-за крошечных полей, крутых берегов и густых живых изгородей местных бокажных[22] ландшафтов малейшее продвижение вперед обходилось атакующим войскам очень дорого. «Нам пришлось их оттуда выковыривать, – рассказывал пехотный офицер-американец. – Это было медленное и осторожное занятие, без всякой лихости. Наши ребята не мчались в атаку по открытой местности… Вначале попробовали, но быстро усвоили полученный урок. Они двигались мелкими группками, не больше отделения, в нескольких метрах друг от друга, вплотную к живым изгородям, окружавшим поле со всех сторон. Пару метров проползли, присели, подождали, двинулись дальше»36. Солдаты американских воздушно-десантных дивизий думали, что после Дня «Д» их выведут для подготовки к другой высадке, но они оставались в Нормандии пять недель и внесли важный вклад в исход битвы: они дрались энергично и решительно – качества, которых недоставало многим пехотным частям. В оперативном донесении Первой американской армии подчеркивалась «безотлагательная необходимость воспитания наступательного духа у солдат-пехотинцев… Во многих частях такое поведение не проявляется длительное время после вступления в битву, а в некоторых частях не проявляется вообще. В то же время подразделения с особо отобранным составом, такие как десантники или рейнджеры, с самого начала проявляют агрессивный дух»37.
Любая попытка немецких войск перейти в атаку пресекалась артиллерийским огнем, истребителями-бомбардировщиками и противотанковыми ружьями, но стратегическая необходимость заставляла союзников не просто обороняться, а наступать. Британцы потеряли много танков в череде безуспешных попыток прорваться к Кану и дальше. Небольшие продвижения вперед зачастую сводились на нет контратаками противника. «Мы [англичане] по своей природе склонны обороняться, а немцы и агрессоры по своей природе, и бойцы по своему характеру, – писал майор Энтони Кершо. – Мы не слишком лихие солдаты, а английская кавалерия никогда не выделялась»38. Атаки пехоты союзников были лишены изобретательности, координация с танками оставалась слабой.
На исход сражений в первую очередь влияют общая мощь, полководческое искусство и боеспособность армии; все это полностью относится и к битве в Нормандии. Важную роль также играет качество вооружения (и в особенности бронетанковой техники) противоборствующих сторон. Британская и американская армии имели отличную артиллерию. Американцы вооружили свою пехоту хорошей полуавтоматической винтовкой (M1 Garand), но плохим ручным пулеметом (Browning М1918). Их базука (ручная противотанковая ракета калибра 2,36, названная так в честь причудливого духового инструмента, изобретенного американским комиком Бобом Бернсом) имела недостаточную бронепробивную силу. Британская армия могла похвастаться надежной винтовкой Lee-Enfield Мк4 калибра 303 и любимым солдатами ручным пулеметом Bren.
У немцев оружие было лучше; в частности, они были способны создать необыкновенно мощный огневой заслон с помощью MG42 (пулемета с ленточной подачей, который союзники называли Spandau); было выпущено около 750 000 таких пулеметов. В бою рокот MG42 с его скорострельностью 1200 выстрелов в минуту звучал гораздо убедительнее грохота Bren или Browning с их 500 выстрелами в минуту. У британцев и американцев тоже были тяжелые пулеметы, Vickers и Browning, но MG42 – несложный в производстве, позволявший сменить ствол за пять секунд – был важнейшим фактором эффективности германской армии. То же относится и к фаустпатрону – переносному противотанковому оружию, смертельно опасному на короткой дистанции, значительно превосходящему американскую базуку или британский противотанковый гранатомет PIAT. Фаустпатроны, которые Германия выпускала по 200 000 в месяц, сыграли важную роль в борьбе с танками союзников в 1944–1945 гг., когда у вермахта возникла нехватка в противотанковых ружьях. Многофункциональное 88-миллиметровое орудие и шестиствольный миномет Nebelwerfer также представляли собой грозное оружие.
Все европейские армии пользовались автоматами в ближнем бою. У британцев был 9-миллиметровый Sten – качественное оружие, выпускавшееся миллионами штук и стоившее меньше 3 фунтов. Американский Thompson 45-го калибра отличался высокой надежностью, но его изготовление обходилось в 50 фунтов стерлингов за штуку. В большинстве американских частей в 1944–1945 гг. был на вооружении более простой и дешевый автомат M3 по прозвищу «маслёнка». Солдаты союзников с завистью смотрели на немецкие автоматы MP38 и MP40. Они называли их «шмайссерами», хотя конструктор Шмайссер не имел отношения к их созданию – их производили заводы Бертольда Гайпеля. До конца войны немцы также выпускали в небольших количествах прекрасный автомат MP43, предтечу следующего поколения европейского пехотного оружия.
Но более серьезной проблемой союзников были танки: количественное преимущество мало что значило, когда снаряды британских и американских танков отскакивали от мощной брони немецких Panther и Tiger, а вот попадание их снаряда в Sherman, Churchill или Cromwell почти наверняка оказывалось гибельным. «Язык пламени лизнул башню, а рот наполнился песком и горелой краской, – писал ошеломленный британский офицер-танкист после того, как его «Кромвель» был подбит 88-миллиметровым снарядом «Тигра». – “Живо все наружу!” – завопил я и выпрыгнул из танка… Там был мой экипаж, они попрятались в кустах смородины, все каким-то чудом остались живы. Джо, водитель, бледный и дрожащий, припал к земле с револьвером в руке. Он был похож на загнанную в угол крысу… “Тигр”, целый и невредимый, уезжал, его командир махал пилоткой и смеялся… У нас так тряслись руки, что мы едва смогли поднести спички к своим сигаретам»39. Хотя у союзников имелся несравнимо больший бронетанковый ресурс, превосходство немецких танков крайне угнетающе действовало на моральный дух союзных войск. Капитан Чарльз Фаррел писал: «Наверное, не найдется такого британского командира танка, который бы с радостью не обменял свои “дополнительные льготы” на танк такого же класса, как немецкие “Тигр” или “Пантера”»40.
«Мы все были изрядно испуганы, – писал британский офицер-танкист о ночи, проведенной на хребте Бюргебю во время одного из самых ожесточенных танковых столкновений, – и двое из танка капрала моей группы пришли и сказали, что лучше пойдут под трибунал, чем останутся здесь. Я объяснил, что мы здесь все чувствуем примерно то же самое, но нам никто не предлагает выбора»41. Через два дня, когда один из танков этого офицера был подбит, экипаж выбрался из танка. «Я больше никогда не встречал стрелка и радиста. Их нужно было показать психиатру, и наш врач отослал их в тыл. Эти парни участвовали практически во всех сражениях, где только побывал наш полк, и всем им приходилось покидать подбитый танк с десяток раз, не меньше».
Питеру Хеннеси велели выяснить, что случилось с другим «Шерманом» его роты, который вдруг остановился в нескольких метрах перед ними. Механик-водитель выбрался наружу, поднялся вверх по холму, заглянул в башню и стремглав кинулся назад. «Господи! Там одни мертвецы. Жуткое кровавое месиво»42. 88-миллиметровый снаряд пробил броню танка, рикошетом убил всех в башне и завершил свой путь в спине механика. Через несколько мгновений открылся водительский люк подбитого танка и оттуда показался ошеломленный водитель – единственный выживший член экипажа.
Не только средиземноморские ветераны считали Французскую кампанию ужасным испытанием; многие необстрелянные новички пришли в ужас от такого жестокого крещения огнем. «В Нормандии было множество проблем, а некоторые подразделения британской армии оказались не в лучшей форме, – пишет лейтенант Майкл Керр. – [Они] слишком долго пробыли в Британии, прежде чем пойти в бой»43. Некоторые необстрелянные части не спешили выполнять поставленные задачи с необходимой отдачей: 18 июня один офицер войск СС с недоумением описывал следовавшую за танками британскую пехоту: «Идут как на прогулке: руки в карманах, винтовки за плечами, сигарета во рту»44.
Лейтенант Тони Финукейн считал, что военная доктрина, основанная на артиллерийской и авиационной поддержке, разлагает необходимый пехоте боевой дух. Его собственное подразделение, рассказывал он, шло в атаку, «зная, что при первом же выстреле из “шпандау” можно залечь и проваляться до конца дня. Обойдемся без этих атак, бросков, преследований – кто чересчур усердствовал с этой ерундой, тех обычно накрывали наши собственные 25-фунтовки»45. Финукейн считал, что ответственность за многие проблемы лежала на командирах бригад и дивизий, которые иногда были немногим опытнее своих солдат. «Дело необязательно в том, что дома, на островах, армию плохо подготовили. Скорее в том, что многие старшие офицеры были неопытными, а некоторые вообще считали, что они выше этого, и не проходили обучение».
Трудно себе представить, как тягостен для солдат приказ идти в атаку. Кен Таут описывал, как развивалась обычная танковая атака: «Передние танки мучительно медленно выдвигались к первым заросшим пустырям. Их осмотрительность понемногу передавалась всей колонне, заставляя плестись черепашьим шагом… Утро тянулось; неторопливое движение времени лишь подчеркивалось нашим тряским, десять метров за раз, продвижением вперед, а тем временем мы, словно инкубаторные цыплята, извивались в своих тесных клетках, пытаясь размять затекающие ноги, плечи и зады»46. Офицер уланского полка направил танк прямо в лес, приказав своей роте следовать за ним. Командир следующего танка начал говорить по внутренней связи, забыв выключить перед этим свой передатчик, и вся рота слышала, как он командует: «Водителю взять влево, водителю взять влево!» Последовал ответ: «Но он едет влево, сержант». «Я отлично вижу, что он едет вправо, но я не поеду за этим б***ским прид***ом, это охр***нно опасно!»47
«В тот день был настоящий ад», – пишет командир британской роты, с необычной для союзников откровенностью описывая, что происходило с его подразделением 25 июня.
«Первой неприятной неожиданностью стало то, что мы должны были идти в атаку под прикрытием дымзавесы, но на деле мы оказались совершенно без прикрытия… Два солдата из моей роты этого не выдержали и прострелили себе ноги, один за другим… Мы пошли вперед, меня свалило с ног взрывной волной от снаряда, но я отделался одной касательной ранкой… Где мои парни? Их нет. Я вернулся: “Давай, вперед!” Снова перелез через живую изгородь, а ребят опять нет. Опять вернулся: “Живо вперед!” Они пошли через другие изгороди… Чертова бойня; падают убитые. Пленные из гитлерюгенда… Во время атаки один мой взвод побежал, и Таг Уилсон, мой заместитель, вернул их назад под дулом пистолета. Нас контратаковали пехота и два танка. Тот же взвод опять побежал… Наконец все успокоилось. Враг отступил, оставив два подбитых танка и много убитых»48.
Пехотинцы и танкисты почти всегда относились к тактике друг друга с недоверием. «Мы обсуждали предстоящую атаку в манере мягкой, деликатной торговли, обычной между пехотинцем и танкистом, – писал британский пехотный лейтенант Норман Крэг о споре с офицером-танкистом. – Я надеялся договориться, чтобы перед нами шли танки; он вежливо настаивал на обратном. Пехота считала танк непобедимым левиафаном, который нужно посылать во всякое наступление; танкисты относились к пехоте как к расходному материалу, полезному для подавления противотанковых орудий»49. В течение всей кампании на северо-востоке Европы высшие офицеры союзников с досадой говорят о рабской привязанности пехотинцев к артиллерии. Форрест Поуг записал замечания некоторых американских командиров: «Они все время твердят, что пехота не укрылась, не воспользовалась артподготовкой, вяло наступает, плохо окапывается. [При сильном обстреле] окапывание для них спасительно, но во время курса молодого бойца мы вырыли только один одиночный окоп. Артиллерия применяется больше, чем необходимо. Я сам много раз слышал на командных пунктах, когда кто-то говорил, что видел двух-трех немцев в нескольких сотнях ярдов отсюда. И по ним часто выпускали от 5 до 30 снарядов»50.
Многое зависело от младшего командного состава, и немало храбрых младших командиров погибло. «Человеческая агрессивность имеет волшебное свойство испаряться, как только начинается стрельба, – писал Норман Крэг, – и тогда на человека воздействуют и гонят его вперед только два источника – внешнее принуждение и внутреннее чувство самоуважения… Храбрость по сути своей есть конкуренция и подражание»51. Командир британского пехотного батальона сказал: «Если брать в среднем, то во взводе из двадцати пяти человек пятеро будут драться изо всех сил… а пятнадцать… последуют их примеру. Остальные ни на что не годны. Это относится и ко всему пехотному корпусу; если младшие командиры и сержанты не подадут пример, то дело плохо»52.
Офицер-танкист Майкл Рэтбоун писал: «Я вытащил револьвер, чтобы остановить удирающую пехоту: они бежали мимо моего танка, когда мы чинили поврежденную миной гусеницу. Я молил Бога, чтобы нам больше никогда не пришлось воевать вместе с 59-й дивизией»53. О том же пишет другой офицер бронетанковых войск, Питер Селери: «Мы часто осуждали пехоту… Я помню, как разбежался пехотный батальон после необычайно сильного минометного обстрела и разрывов в воздухе. Им было лень как следует окапываться, и они потеряли офицеров и кучу сержантов. Оборону удержал Кенсингтонский пулеметный батальон при поддержке наших танков»54. Стрелки обычно несли гораздо более тяжелые потери, чем танковые экипажи, и отлично это понимали.
Большинство солдат в своем первом бою пугались меньше, чем потом, когда они осознавали реальность происходящего. Когда американский пехотинец Ройс Лапп высадился во Франции, «никто из нас не был так уж напуган, потому что мы не представляли себе, что нас ждет»55. Американские кавалеристы с любопытством столпились вокруг первого увиденного ими трупа – это был немецкий офицер. Их командир, лейтенант Лайман Диркс, в мирной жизни двадцативосьмилетний почтовый работник из города Брайанта, штат Иллинойс, обратился к ним с прочувствованной речью. «Я сказал им, что многие из нас тоже, весьма вероятно, не переживут войну. Мы должны быть как одна семья. Я не жду от них геройства, но если они струсят, то им придется всю жизнь прожить с этим клеймом. Я все это им говорил, но на самом деле я обращался к самому себе»56.
В Нормандии недалеко от одного канадского сержанта разорвался снаряд, и он воскликнул: «Проклятье и еще раз проклятье!» Кто-то из только что высадившегося пополнения спросил, не ранен ли он. Сержант ответил, что он не ранен, «просто обмочил только что штаны. “Когда все начинается, – сказал он, – у него каждый раз так, а потом все приходит в норму…” Потом я почувствовал, что я тоже не в порядке. Что-то теплое стекало у меня по ногам, и это была не кровь. Это была моча. “Сержант, я тоже обмочился…” Он ухмыльнулся и сказал: ”Добро пожаловать на войну!”»57 Одного попавшего в плен канадца доставили в штаб полка СС под сильной бомбежкой союзной авиации. К его удивлению, офицеры штаба сидели под столом для карт и под аккомпанемент губной гармошки с энтузиазмом распевали: «На Рейн, на Рейн! Кто станет в строй немецкий Рейн закрыть собой?» Канадец покачал головой и растерянно пробормотал: «Война – веселая штука!»58 Непропорционально высок был риск для некоторых скромных с виду военных профессий. «В большинстве сражений первым погибает телефонист, который тянет провод»59, – сказал по этому поводу капитан-артиллерист войск СС Карл Годау. Во времена, когда немногие подразделения имели средства тактической радиосвязи, все зависело от полевых телефонных линий, и линейные телефонисты, восстанавливая перебитый осколком снаряда или оборванный проехавшим танком провод, подставляли себя под вражеский огонь и часто погибали.
Старший сержант-танкист, захваченный в плен американцами, во время допроса привел сравнение между Восточным и Западным фронтами: «Русский ни на миг не дает тебе забыть… что ты дерешься на его земле, что ты – часть силы, которую он ненавидит. Он готов переносить огромные трудности… Да, в среднем русский солдат оснащен хуже американца, но это компенсируется такой стойкостью, которую я не могу ни с чем сравнить. Если надо срастить перебитый провод, то пусть убьют девятерых, следом поползет десятый и сделает то, что нужно. Вы, американцы, хорошо владеете своим снаряжением, и оно у вас превосходное. Но русской стойкости у вас нет»60.
Хотя в Нормандии обе стороны несли тяжелые потери, но потери немцев были больше, и им было нечем их восполнить. Уже 16 июня потери 12-й бронетанковой дивизии Курта Мейера составили 1149 человек убитыми и ранеными, а количество танков сократилось вдвое; Мейер писал об инструктаже на своем командном пункте: «Я вижу озабоченные лица… Мы не говорим об этом вслух, но знаем, что надвигается катастрофа… Наблюдая громадное морское и авиационное превосходство врага, мы можем предсказать, что он прорвет наши оборонительные позиции… Мы уже сейчас действуем на пределе возможного. Уже не получаем ни подкреплений на замену убитым и раненым товарищам, ни танков, ни орудий»61. Фриц Циммер из мотопехоты СС в конце июня писал в своем дневнике, что их рота сократилась до 18 человек; неделей позже, 8 июля, состоялось его последнее сражение в этой войне:
«С 6:30 до 8:00 опять ураганный огонь. Потом томми атакуют большим количеством пехоты и танков. Мы сражаемся как можем, но понимаем, что наше положение безнадежно. Уцелевшие пытаются отойти, и тут мы видим, что уже окружены… Я как можно быстрее под непрекращающимся обстрелом пополз назад. Другие мои товарищи тоже пытались, но у них не получилось. До сих пор не понимаю, как уцелел, когда снаряды разрывались буквально в двух-трех метрах спереди, сзади и по бокам. Уши закладывало от визга осколков. Я отполз метров на двести от наших позиций. Это было нелегко, почти все время на животе и только изредка на четвереньках – и так километра три-четыре. Я прятался в высокой пшенице, и наступавшие томми пробегали в пяти-шести шагах, не замечая меня. Я почти совсем выдохся; локти и колени ужасно болели, в горле пересохло, но я полз вперед. Тут растительность поредела, и мне пришлось пересечь открытое место. Мне уже осталось с десяток метров до следующего пшеничного поля, как вдруг появились трое томми и взяли меня в плен. Мне тут же дали воды и сигарету. В месте сбора пленных я увидел своего унтершарфюрера и других товарищей из моей роты»62.
Десантник люфтваффе Мартин Поппель с 22 июля лежал в госпитале, оправляясь от ран, полученных в Нормандии, и все больше переживал за судьбу своего народа. «За что эти несчастные придурки на фронте и измученные гражданские в тылу заслужили такое тяжкое наказание? У нас есть много тревожащих вопросов о будущем и о перспективах в этой затянувшейся войне. Даже у самых преданных из нас появились сомнения»63. Еще один солдат пишет своей жене 12 августа: «Моя дорогая Ирми. Тут все не очень хорошо, чтобы не сказать больше, но ты знаешь мое бодрое отношение к жизни… Человек – раб привычки. Канонада пушек и взрывы бомб, которые вначале так жутко трепали мне нервы, через два-три дня перестали вселять страх… Последние три дня установилась чудесная летняя погода – солнечная, теплая и безоблачная, – так не соответствующая всему тому, что нас окружает. Ну, ладно, в конце концов, все обернется к лучшему. Ты просто верь в мою удачу так же крепко, как верю я, и жизнь станет радостнее; целую тебя тысячу раз, моя дорогая Ирми, тебя и детей. Твой Ферд»64.
Его товарищ писал семье 10 августа: «Мои дорогие жена и дорогие дети… рокот орудий стал еще ближе. Когда я это слышу, мысли мои летят к вам, мои дорогие, и я задаюсь вопросом, увижу ли вас когда-нибудь вновь. Я могу погибнуть в любой миг. Что готовит мне судьба?.. Прошлой ночью я видел вас во сне. О, как это было прекрасно! Можешь ли ты представить, моя дорогая, каково мне было пробудиться от этой идиллии среди грохота орудий? Я ношу ваши образы в сердце. У меня такое тяжкое чувство. Как бы я хотел полететь домой, к вам, мои родные! Что-то готовит мне судьба? Если бы мне позволили провести несколько восхитительных дней в Фаллингбостеле, с тобой, моя дорогая преданная супруга!» Оба письма были найдены американским солдатом на трупах немецких солдат.
Тем летом людей в Америке и Британии мало что занимало, кроме наступления их армий в Нормандии. А вот Гитлеру в Берлине приходилось думать и о второй, еще более страшной угрозе. Меньше чем через три недели после высадки союзников в Нормандии советские войска на Восточном фронте начали операцию «Багратион» – крупнейшее наступление всей войны и последнее советское наступление на своей территории. Гитлер запретил стратегические отступления, и поэтому той весной его войскам пришлось защищать более чем двухтысячекилометровый фронт, располагая крайне ограниченными резервами. Две трети всей немецкой армии и так сражалось с русскими, но, чтобы противостоять наступлению 2,4 млн человек и более 5000 танков – в два раза больше, чем огневая мощь советских наступлений 1943 г., – этого было мало.
1 мая 1944 г. Сталин в обращении к своему народу сказал: «Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге»65. И теперь экипажи танков писали на своих машинах не «На Берлин!», а «На логово врага!». 22 июня три советских фронта под командованием Жукова атаковали семисоттысячную группу армий «Центр». Одновременно в немецких тылах развернулась партизанская «рельсовая война», почти перерезавшая коммуникации фельдмаршалу Эрнсту Бушу. На фронте 600 км длиной русские сосредоточили для артподготовки артиллерийскую мощь в 250 орудий на километр. Во многом благодаря битве западных союзников с люфтваффе в небе над Германией Красная армия имела подавляющее преимущество в воздухе.
Когда пехота и танки Жукова в клубах дыма и пыли ринулись на прорыв позиций врага, немецкие телефоны молчали, связь с командованием была прервана. Подразделения Буша, тщетно пытавшиеся выполнить приказ Гитлера об упорной, жесткой обороне, были уничтожены на месте. Гарнизоны Витебска, Орши, Могилева и Бобруйска, объявленных «крепостями», должны были держаться до последнего человека. Последствия оказались катастрофическими. Русские непреодолимой волной пронеслись мимо «крепостей» и устремились на запад. 28 июня на место поспешно смещенного Буша был назначен Модель, но спасти положение было невозможно. 4 июля пал Минск; к северу от него русские рвались к Балтике и вскоре окружили Ригу.
Красная армия никогда не отличалась особенным тактическим искусством (за исключением разве что ночных вылазок против противника): в этом отношении русские уступали западным союзникам. Британский аналитик пишет: «В советском мышлении концепция экономии сил играет малую роль. Если для англичанина разбивать орех кувалдой – ошибочное решение и признак незрелости ума… то русский считает, что кувалда именно для того и предназначена»66. В русском наступлении особенно важную роль играли массированная артподготовка и самоубийственные танковые и пехотные атаки, во главе которых обычно шли штрафбаты. Эти дисциплинарные подразделения состояли из политических или военных преступников, которые могли заслужить помилование, но с гораздо большей вероятностью – погибнуть. В дисциплинарных батальонах воевало 442 700 человек, и мало кто из них уцелел. Даже на этом этапе войны русские потери оставались выше немецких. Любому солдату трудно объяснить гражданским, что с ним происходило на войне, но русскому солдату это особенно трудно. Даже в победные годы, с 1943 по 1945 г., потери победоносной Красной армии составляли около 25 % в каждом сражении – таких потерь англо-американцы, за редкими исключениями, не знали. Из 403 272 русских солдат, прошедших обучение на танкиста в течение войны, погибло 310 000.
Поэт Давид Самойлов отмечал: «Это была последняя война, в которой большинство солдат были крестьяне»67. Частично из-за этого солдаты Сталина были суевернее других солдат. Так, например, считалось дурной приметой ругаться, заряжая орудие; многие носили образки и нательные кресты. Очень немногие официально признавали себя приверженцами гонимого христианства, но крестились перед атакой многие. Большую роль во фронтовой жизни играла песня. Солдаты пели во время маршей и сидя вечером вокруг костров – в основном сентиментальные баллады, лишенные цинизма, характерного для песен британских солдат. Фронтовики быстро погибали или получали ранение; по приблизительным подсчетам, русские солдаты проводили вместе в среднем три месяца. Но они утверждали, что за неделю узнавали друг о друге больше, чем за годы гражданской жизни. Красная армия не давала своим солдатам ни сексуального воспитания, ни презервативов. Заболевших венерическими болезнями иногда наказывали тем, что лишали медицинской помощи. Иногда вместе с боевыми частями шли дети, потерявшие дом и семью; только армия могла дать им хоть какую-то надежду на выживание.
Судя по советскому донесению от 25 августа 1944 г., немецкие войска продолжали успешно обороняться: «Использование противником самоходных артиллерийских орудий и танков для прикрытия отступления затрудняет нам вступление в контакт с их пехотой. В этих условиях наша пехота часто действует нерешительно… В ходе последних боев значительно изменился состав воинских частей, и в первую очередь – стрелковых полков. Основным контингентом является новое пополнение. Количество военнослужащих – рядовых, находящихся на фронте… с 1941 г. – исчисляется единицами… По отзывам некоторых офицеров и рядовых, ветеранов войны, пополненцы не обладают еще боевой закалкой»68. Советские операции отличались вопиющей неумелостью, нередко вызванной пьянством. Жестокость офицеров по отношению к солдатам можно объяснить тем, что даже в 1944–1945 гг. русские солдаты продолжали дезертировать к немцам. О подданных Сталина, так же как и о японцах, можно сказать, что их варварское отношение к другим нациям просто-напросто отражает отношение к ним их властителей. Зато высшее командование русских с блестящей уверенностью управляло крупными силами и прекрасно координировало действия всех родов войск, оснащенных полученными от американцев средствами связи.
В 1944–1945 гг. Красная армия наступала быстрее армий Эйзенхауэра отчасти из-за того, что советские солдаты жили «на подножном корме» и их уровень снабжения был гораздо скромнее; они оставались пасынками этой войны. Длинный список обеспечения войск англо-американцев, на зависть их русским союзникам, включал бритвенные лезвия, дезинфекционные камеры, карандаши, чернила, ножи, фонари, свечи и даже игры. Единственным стимулятором морального духа красноармейцев была водка, и некоторые солдаты объединяли порции и поочередно потребляли большие дозы, напиваясь до бесчувствия. До конца войны многие солдаты на фронте недоедали, страдали от зубной боли, вшивости, геморроя, кровоточивости десен, а иногда и от туберкулеза.
Важнейшим преимуществом русских в этой войне была готовность нести практически неограниченные жертвы; кроме этого, все знали, какие жесточайшие наказания ждут тех, кто дрогнет или потерпит поражение. Русские подразделения не могли, подобно западным союзникам, залечь и ждать, когда артиллерийская и авиационная поддержка поможет им преодолеть немецкое сопротивление. Они были обязаны наступать, невзирая на сопротивление противника или минные поля: всегда найдутся новые солдаты взамен погибших. 5 июля начался первый этап операции «Багратион», завершившийся разгромом Пятой немецкой армии. С советской стороны Первая танковая армия и Четвертая армия потеряли примерно по 130 000 из 165 000 человек, с которыми вступили в это сражение. В русский тыл брели огромные колонны пленных немцев, грязных и оборванных, – остатки некогда непобедимого вермахта. Затем Первый Белорусский фронт повернул к западу, на Варшаву, а две другие группы армий нацелились на Восточную Пруссию и Литву. 13 июля Первый Украинский фронт начал наступление в направлении Вислы. К концу месяца Вильнюс и Брест-Литовск перешли в руки русских.
У поляков в 1944 г. была в ходу грустная притча о птичке, которая, упав с неба, угодила в коровью лепешку, откуда ее затем вытащила кошка. Мораль этой шутки такова: «Не всяк тот друг, кто вытащит тебя из дерьма». Благодаря советскому «освобождению» Польши, которое началось с операции «Багратион», польский народ сменил одну тиранию на другую. 14 июля Ставка издала директиву всем советским командующим фронтами: «Наши войска… вошли в соприкосновение с польскими вооруженными отрядами, которыми руководит польское эмигрантское правительство. Эти отряды ведут себя подозрительно и действуют сплошь и рядом против интересов Красной армии… Ни в какие отношения и соглашения с этими польскими отрядами не вступать. Немедленно по обнаружении личный состав этих отрядов разоружать и направлять на специально организованные пункты сбора для проверки»69. Русские уничтожили тысячи поляков, единственным преступлением которых была приверженность демократическим свободам. Что еще более возмутительно, Советы отказались поддержать августовское Варшавское восстание. Древняя ненависть русских к польскому народу в 1944–1945 гг. вылилась в необузданное насилие по отношению ко всем полякам, к мужчинам и женщинам без разбора.
Когда Красная армия уже вышла к Висле, Карельский фронт в глубине Финляндии все никак не мог пробиться через линию Маннергейма, которую финны так самоотверженно отстаивали в 1940 г. Финский народ дорого заплатил за повторно брошенный Сталину вызов: 2 сентября финское правительство подписало перемирие и навсегда лишилось территорий на востоке страны. Гитлер не соглашался эвакуировать Курляндский полуостров в Латвии, как ни убеждали его генералы, что обороняющиеся там войска гораздо больше пригодятся для защиты Германии. Курляндская группировка – 21 дивизия, 149 000 человек, 42 генерала – оставалась в окружении вплоть до мая 1945 г.
После триумфального завершения операции «Багратион» русские заявили, что в ходе операции было уничтожено 2000 танков, 400 000 немецких солдат и офицеров были убиты и 158 000 взяты в плен. Победителей поражали плохие физические данные пленных немцев. «Они все такие жалкие, – писал один солдат. – Похожи на банковских клерков. Многие вообще в очках»70. К концу августа 1944 г. русские стояли на Висле, недалеко от Варшавы, подошли к границам Восточной Пруссии. Они блокировали Ригу, а на юге вышли к Дунаю. За два месяца они продвинулись на 700 км. Советский офицер поражался бесчисленным разбитым танкам, мимо которых его подразделение проходило по пути на запад; он сравнивал их с «опустившимися на колени верблюдами»71. Красная армия испробовала вкус побед на полях битв, а перед ее бойцами впервые открылись все возможности, которые дает война на чужой земле. «Одну ночь ты спишь под открытым небом, следующую нежишься на перине в спальне у аристократа, – писал Геннадий Петров своим родственникам на Украине. – Я еще жив и ни на что не жалуюсь, кроме отсутствия музыкальных записей и фотопленки»72.
20 августа на левом фланге советского фронта два Украинских фронта двинулись на Юго-Восточную Европу, преследуя цели скорее политические, чем военные. Сталин, намереваясь захватить основную часть Балкан раньше своих западных союзников, сначала бросил свои войска на Румынию, и 23 августа она капитулировала, перешла на сторону Советов и стала помогать Красной армии изгонять немцев из своей страны. Смена сюзерена дорого обошлась румынам: к 25 октября их армия потеряла 25 000 человек. 5 сентября Россия объявила войну Болгарии, официально сражавшейся только с англо-американцами. Болгары перед лицом несметной советской мощи капитулировали через четыре дня. В Софии обосновалось коммунистическое правительство, а Красная армия могла перебросить силы в Трансильванию и Югославию; 19 октября пал Белград.
Только путч, подстроенный нацистами в Будапеште 15 октября, помешал венгерскому правительству капитулировать перед Советами, и с 30 декабря Будапешт оказался в осаде. Летние советские наступления вынудили Гитлера осознать, что основную часть Балкан отстоять невозможно. В конце октября немцы начали вывод войск из Греции. Командующий на этом театре военных действий фельдмаршал Вейхс стремился использовать свои 600 000 солдат – в основном обслуживающий персонал и ограниченно пригодные к армейской службе войска в Албании и Югославии – для защиты правого фланга группы армий «Юг». Положение немцев стало крайне тяжелым по всему Восточному фронту. Триумф Советов откладывался только из-за проблем материально-технического обеспечения огромных войсковых масс при почти полном отсутствии автомобильных дорог и сильно поврежденной железнодорожной сети; советские армии остановились для перевооружения и перегруппировки. Гитлеровские генералы понимали, что, когда русские вновь перейдут в наступление, вермахт ждет неизбежный разгром.
Если бы великие войны велись на рациональной основе, то именно теперь Германии следовало капитулировать – как это было в 1918 г., не дожидаясь, пока фатерланд превратится в поле сражения. В 1944 г. многие крупнейшие германские города уже были разрушены бомбардировками союзников, которые к этому времени достигли своего апогея. Люфтваффе понесло невосполнимые потери, армии не хватало горючего, людей, танков, автомобилей, артиллерии. Нацистские вожди были полны решимости драться до конца, ведь их ждала лишь смерть от руки победителей. Трудно сказать, действительно ли Гитлер надеялся на то, что судьба вновь повернется к нему лицом. Так или иначе, он всецело отдался тотальной, бесконечной войне. Если уж ему не удалось победить, то в последние месяцы правления он намеревался устроить гигантский катаклизм, тризну по своим титаническим амбициям.
Потомков больше всего поражает, что и другие немцы тоже не смогли осознать своего поражения, свергнуть нацистов и спасти сотни тысяч жизней, прекратив сопротивление. Подобная инициатива могла исходить только от военачальников. Единственная полномасштабная попытка военных обезглавить нацистский режим – заговор 20 июля 1944 г. – была проведена с вопиющей некомпетентностью, без должной решимости и при участии ограниченного числа офицеров. Легенда об антинацистском сопротивлении создавалась в послевоенной Германии (и поддерживается сейчас) в основном ради возрождения чувства самоуважения. Если бы полковник Клаус фон Штауффенберг остался в ставке фюрера и лично взорвал принесенную им бомбу, а не поспешил вернуться в Берлин, ему почти наверняка удалось бы убить Гитлера. У других офицеров тоже была такая возможность, но ради нее пришлось бы пожертвовать жизнью.
Однако из-за извращенного чувства долга большинство руководителей вермахта, к их вечному позору, до самого конца хранило верность нацистскому режиму. В своем кругу немецкие генералы часто высмеивали характер и манеры нацистских бандитов, их абсурдные методы правления, но в то же время оставались рабски преданными фюреру. На встрече с генералитетом 27 января 1944 г. Гитлер потребовал от каждого клятвы в фанатической верности идеям национал-социализма, и Манштейн выкрикнул: «И так оно и будет, мой фюрер!» Впоследствии он утверждал, что иронизировал, но мало кто ему поверил. Манштейн и другие офицеры вермахта высоко ценили свою честь – честь членов военной касты, верных солдатскому долгу и присяге Гитлеру – и ставили ее превыше интересов общества, которому призваны служить. Они явно или неявно решили воевать и умереть слугами Третьего рейха, а не защитниками своего народа, в интересах которого следовало заключить мир на любых условиях или даже без всяких условий. Офицер-танкист войск СС Губерт Майер в ярости пишет о заговоре 20 июля: «Невозможно себе представить, чтобы солдаты пытались устроить заговор против высшего военного руководства и одновременно вели жестокие оборонительные сражения с врагом, который требует “безоговорочной капитуляции”, отказываясь обсуждать прекращение огня или даже заключение мира»73. Многие офицеры вермахта, даже враждебно относившиеся к нацистам, разделяли его чувства.
В марте 1943 г. служивший в абвере антифашист Гельмут фон Мольтке переправил из Стокгольма своему бывшему оксфордскому наставнику написанное по-английски тайное письмо, в котором объяснял, почему Гитлер все еще пользуется поддержкой большинства населения: «Очень многие пользовались благами Третьего [рейха] и знают, что с концом Третьего [рейха] им тоже наступит конец. В эту категорию входят не пара сотен, а сотни тысяч. Кроме того, есть такие, кто поддерживал наци в противовес иностранному давлению и теперь вряд ли найдет простой выход из этой ситуации; даже если они считают, что наци не правы, они скажут, что их неправота уравновешивает ту неправоту, которую причинили нам прежде… Есть такие, кто… говорит: если мы проиграем войну, наши враги нас сожрут, так что мы должны изо всех сил поддерживать Гитлера»74. Мольтке считал, что немецкие солдаты «часто попадали в ситуацию, в которой есть единственный выбор: сражаться. Их мысли полностью заняты врагом, как мысли домохозяйки заняты домашними делами». Он повторял фразу, сказанную Гитлером Манштейну: «Германский генерал и солдат никогда не должен чувствовать себя в безопасности, а не то ему захочется отдохнуть; он всегда должен знать, что окружен врагами спереди и сзади и что ему нужно лишь одно – сражаться». Анализ фон Мольтке оставался верным и в 1945 г.
Отчаяние военных передавалось гражданскому населению. Пожилая жительница Гамбурга Матильда Вольф-Монкебург 25 июня 1944 г. писала: «Больше никто не смеется, исчезли беспечные и радостные люди… Мы ждем финала»75. Несколькими неделями позже она добавила: «Целыми днями у нас нет воды; нас окружают расколотые, побитые и поношенные вещи; о путешествиях нечего даже и думать; покупать нечего; остается жить подобно растению. Жизнь лишилась бы всякого смысла, если бы не книги и не люди, которых любишь и о судьбе которых беспокоишься днем и ночью»76.
Немецкое военное руководство, открещивавшееся впоследствии от ответственности за нацистские преступления, заслужило презрение потомков, потворствуя управлявшим Германией убийцам. Чтобы на последнем этапе войны организовать восстание во имя сохранения народа, нужно было иметь нравственное мужество, которым обладали очень немногие немецкие офицеры. Они помнили то побоище, которое устроили в России, и не ждали пощады от солдат Сталина; страх перед близящимся советским отмщением послужил главной мотивацией для миллионов немецких солдат. Этим извращенным и фальшивым оправданием объясняют покорность немецких генералов Гитлеру. Но подобные доводы не выдерживают критики, ведь сопротивление могло разве что отсрочить неизбежное возмездие. Однако даже умные офицеры тешили себя надеждой, что западные союзники используют их в борьбе с русскими. Кадровый офицер капитан Рольф-Гельмут Шрёдер верил, что американцы, победив Германию, повернут оружие против Советского Союза: «Мы считали невероятным, чтобы американцы позволили русским захватить Германию»77.
Колесо войны продолжало катиться, бессмысленно круша все на своем пути. В последние месяцы войны некоторые немецкие солдаты с нескрываемой радостью сдавались в плен, но другие продолжали упорно сражаться. Немцы проявляли гораздо большее самопожертвование, чем французы в 1940 г., да и большинство британских войск, попадавших в похожие ситуации. Стойкость солдат вермахта в определенной степени объяснялось страхом перед наказанием – дезертиров, которые в последние месяцы войны исчислялись тысячами, объявляли предателями и безжалостно расстреливали. С 1914 по 1918 г. в армии кайзера было вынесено 150 смертных приговоров, и лишь 48 из них приведено в исполнение. А с 1939 по 1945 г. официально зарегистрировано более 15 000 казней по приговору военного суда, реальное же их количество было значительно больше. Но кроме страха наказания играли важную роль и реалии войны: враг на соседней улице или на соседнем поле. Даже в предсмертной агонии Третий рейх мог заставить многих немцев проявить чудеса бессмысленного упорства.
* * *
За месяц битвы в Нормандии англо-американские войска надежно закрепились на плацдарме 30 км глубиной. Плохая погода мешала наносить удары с воздуха и десантировать подкрепления. Малейшее продвижение вперед требовало огромных усилий, а уровень потерь весьма беспокоил союзников, в особенности британцев. Когда в ходе операции Epsom в конце июня не удалось окружить Кан – город, который предполагалось захватить еще в День «Д», – Монтгомери вызвал на подмогу тяжелую бомбардировочную авиацию: «ланкастеры» к вечеру 7 июля нанесли по Кану серьезные удары, и это позволило британским и канадским подразделениям захватить северные руины города. 18 июля союзники начали операцию Goodwood по захвату Фалеза, в ней участвовали огромные бронетанковые силы. К исходу второго дня операции Монтгомери остановил наступление, потеряв 4000 человек и 500 танков – треть всей британской бронетехники в Нормандии. Новые «шерманы» появились достаточно быстро, но союзники получили хороший урок. «Нервы у нас были на пределе, – пишет командир танка Джон Кроппер о настроениях своего экипажа к концу июля. – Ричи и Кит затеяли ссору (по-моему, из-за музыки). Через считаные секунды они буквально орали друг на друга. Мне пришлось резко их одернуть, чтобы это прекратилось… Потом они очень долго молча дулись друг на друга»78.
Тем временем на правом фланге союзников Первая армия генерала Омара Брэдли с трудом продиралась сквозь бокаж, где немцы, в придачу к пересеченному рельефу, еще и затопили низины. Американцы потеряли 40 000 человек за две недели, пока не пробились на сухую землю у Сен-Ло, где уже можно было развернуть большое танковое наступление. Операция Cobra началась с массированных бомбардировок, разбивших подходившую к фронту немецкую Танковую учебную дивизию. 25 июля американцы, наступая на Кутанс, встретили лишь слабое сопротивление: немецкие войска в Нормандии были разбиты. Армия Брэдли вскоре повернула на юг, преследуя отступающих немцев. 30 июля пал Авранш, а захват неповрежденного моста у Понтобо открыл путь на запад в Бретань, на юг к Луаре, на восток к Сене и в так называемый Парижско-Орлеанский проход. Паттон, командовавшей недавно сформированной американской Первой армией, направил корпус в прорыв на юго-восток, к Майенну и Ле Ману, куда американцы дошли за неделю, преодолев 120 км.
Немецкому командованию стало ясно, что, хотя оборона в целом держится, уже пора думать о стратегическом отступлении. Но Гитлер настоял на новой контратаке (союзники узнали о ней благодаря дешифратору Ultra). 7 августа, еще до рассвета, преемник Роммеля фон Клюге начал массированное контрнаступление, намереваясь вбить клин между Первой и Третьей американскими армиями. За ночь танкисты отбили Мортен и продвинулись на 10 км. С рассветом, однако, их постигла катастрофа. Истребители-бомбардировщики союзников быстро уничтожили 40 из 70 наступавших танков. Четыре следующих дня немцы пытались продолжить наступление, но американская пехота при мощной артиллерийской поддержке удержала свои позиции.
Наступление Монтгомери развивалось медленно. Вечером 7 августа Вторая канадская армия Крерара пошла в наступление южнее Кана. За ночь канадские танки продвинулись вперед, но вскоре после рассвета наступление захлебнулось. Канадские и польские танковые части имели численное преимущество, но им недоставало опыта; кроме того, они попали под удар собственной авиации, уничтожившей несколько передовых подразделений, и наступление вновь застопорилось. Не принося результата, бои на дороге в Фалез продолжались до 10 августа. Частям Монтгомери противостояла основная масса оставшейся у немцев бронетехники, и все же их, конечно, раздражало, что они продвигаются так медленно, в то время как к западу от них американцы начали стремительное наступление.
Войска Паттона двигались так быстро, что Брэдли решил попытаться отрезать 21 немецкую дивизию – вернее, то, что от них осталось. Если бы Третья армия повернула на север к Алансону, а канадцы взяли Фалез, то их бы разделяло всего лишь 22 км. Монтгомери одобрил этот план. Один из корпусов Паттона, встречая незначительное сопротивление, двинулся на Алансон, прошел сквозь город и к вечеру 12 августа вышел к окраинам Аржантана. Здесь Брэдли принял одно из самых спорных решений этой кампании: прекратил наступление. Как он впоследствии утверждал, он опасался, что ночью его части могут по ошибке вступить во встречный бой с канадцами, продвигавшимися с противоположной стороны, но эта причина не выдерживает серьезной критики. Более вероятно (и возможно, более разумно), что он не решился со своими слабыми силами «встать на пути у раненого тигра» – отступающих немцев.
Канадцы продолжали вести тяжелые бои. Снова и снова они вступали в бой с яростно сражавшимися немецкими арьергардными частями, иногда отбивавшимися до последнего солдата. Происходили танковые бои необычайной силы: например, утром 8 августа танк Нортгемптонширского территориального полка Sherman Firefly с 17-фунтовой пушкой подбил три тяжелых «Тигра» и средний танк Mk IV, а часом позже другой немецкий Mk IV, скрытно двигавшийся по овражку, подбил семь танков того же полка, прежде чем уничтожили его самого. 16 августа наконец канадцы дошли до Фалеза, а двадцатью часами ранее американские и французские войска в ходе операции Anvil высадились в Южной Франции, встретив лишь слабое сопротивление. В тот день армия Паттона стремительно продвигалась на восток, встречая лишь малочисленные немецкие войска и многочисленные толпы ликующих французов – и в тот же день Гитлер дал согласие на стратегическое отступление из Нормандии.
На 150 000 немцев, запертых в так называемом Фалезском мешке, обрушились безжалостные воздушные и артиллерийские налеты союзников. «Казалось, что вся земля в долине движется, – писал в районе Трена офицер союзных войск. – …идут, едут и бегут люди, движутся колонны повозок, автомобилей, и, когда восходит солнце, оно освещает такое множество целей… Рай для артиллерии, и все этим пользуются… Справа от нас – известная зона сплошного поражения, и весь день над ней стоит рев пикирующих “Тайфунов” и поднимаются все новые столбы дыма, закрывая горизонт… исчерпывающая картина разбитой армии в миниатюре. Бегущее отделение пехоты, его обгоняют мотоциклисты, за которыми едет тягач с орудием, а их всех перегоняет облепленная людьми “Пантера”, выжимающая чуть ли не 50 км/ч»79.
Вечером 19 августа польские и американские части встретились у Шамбуа, как бы перехватив горловину Фалезского мешка. Истребители-бомбардировщики союзников уничтожили тысячи машин окруженных немцев. Но еще целых два дня немцы понемногу выбирались из окружения. Вермахт потерял у Фалеза 10 000 убитыми, и в пять раз больше попало в плен. «Мой водитель горел, – писал Герберт Вальтер, воевавший в мотопехоте СС. – Мне пулей пробило руку. Я прыгнул на железнодорожную колею и побежал». Получив еще одно ранение в ногу, он сумел преодолеть еще 100 м, прежде чем «меня грохнуло по затылку здоровенным молотом – это пуля вошла под ухом и вышла через щеку. Я захлебывался кровью. Рядом оказались два американца, которые на меня смотрели, и два французских солдата, которые хотели меня прикончить»80. Но значительному количеству окруженных удалось выйти из мешка. Военные историки, не колеблясь, утверждают, что немецкие войска во Франции были полностью уничтожены, однако это не совсем верно. Потери вермахта за всю кампанию составили около 240 000 человек; было разбито 40 дивизий. Замечательным успехом немцев, однако же, можно считать то, что с 19 по 31 августа они успели переправить на восточный берег Сены еще 240 000 человек и 25 000 единиц подвижных средств.
По течению Сены ниже Руана неподвижно стояла практически невредимая колонна немецких танков и автомобилей 8 км длиной, ожидая, пока саперы починят разбомбленный железнодорожный мост – единственно возможный путь для переправы; авиации союзников все это время мешал сильный дождь. Редкий артиллерийский огонь приводил к некоторым потерям, но тысячи людей и машин вскоре продолжили свой путь в Германию. Многие переправились через Сену у Эльбёфа на импровизированном пароме из двух барж военно-морского флота. Пусть это были лишь остатки армии, но в последующие месяцы они сослужили Гитлеру неоценимую службу, составив костяк создававшейся на ходу западной линии обороны рейха. Офицер танковых войск СС Герберт Ринк писал: «Мы были оглушены и обессилены. За Западным валом мы соединились с разбитыми, обескровленными немецкими частями, со всеми, кто прошел через ужасающую, сокрушительную шестисоткилометровую битву… Истощенные и обессиленные, мы вышли из преисподней Кана, вырвались из Фалезского мешка, проделали изнурительное отступление через Францию и кишащую партизанами Бельгию – и здесь мы восстановили силы и веру в себя»81. Пусть даже последнее утверждение Ринка было и некоторым преувеличением – бесспорно, Рунштедт, который стал главнокомандующим Западным фронтом после самоубийства фон Клюге, был способен создать новую линию обороны и отстоять ее.
Немцы оставили Париж без боя. 25 августа танковая дивизия Леклерка из Свободной Франции вошла в Париж; к тому времени Сопротивление уже объявило, что самостоятельно изгнало немцев из столицы – легенда, положившая начало возрождению национального самоуважения французов. Союзные армии на хвосте у отступавших немцев дошли до Бельгии и освободили Брюссель. 1 сентября Эйзенхауэр принял на себя оперативное командование англо-американскими силами, отодвинув Монтгомери на пост командира 21-й англо-канадской группы армий; Монтгомери в виде утешительного приза получил звание фельдмаршала. Западные союзники были уверены, что победой в Нормандии они поставили Германию на грань поражения. Основная часть Франции освобождена, и это обошлось им всего в 40 000 убитыми. В начале сентября 1944 г. англо-американцы надеялись закончить войну до конца года. Осуществление их надежд изрядно затянулось, хотя, как писал командующий танковой группой «Запад» Гейр фон Швеппенбург, «оставшаяся часть войны была всего лишь затянувшимся эпилогом»82.
22. Япония: вопреки судьбе
Война необыкновенно расточительна, потому что большая часть усилий, которые прилагают противоборствующие стороны, оказываются бесполезными, а цена этих усилий – человеческие жизни. Историкам легко выделить не только битвы, но и целые кампании, которые не стоило начинать, потому что их результат уже был предопределен чередой событий в другом месте. Большие усилия и человеческие жертвы вносят лишь небольшой вклад в окончательную победу. Но, когда большие силы уже собраны и развернуты, их используют почти наверняка. Пока противник отказывается признавать поражение, считается постыдным, если армия просто стоит на своих позициях, а бомбы лежат на складах. К концу 1944 г. военно-морские силы США полностью господствовали в Тихом океане. Блокада гарантированно вела к распаду военной машины противника, полностью зависевшего от импорта топлива и сырья; американским подводным лодкам удалось затянуть удавку на шее Японии, добившись того, чего подводному флоту Германии не удалось сделать с Великобританией. Военная история знает лишь несколько случаев, когда столь значительных результатов удавалось достичь такими малыми силами: 16 000 человек, что составляло 1,6 % от всей численности флота, а количество лодок, одновременно находящихся в походе, никогда не превышало пятидесяти. Американские подводные лодки обеспечили 55 % потерь всех военных грузов Японии, потопив 1300 судов общим водоизмещением более 6 млн тонн; самая обильная жатва истребления пришлась на октябрь 1944 г., когда они пустили на дно 322 265 тонн груза. Хотя после этого потери Японии снизились, это произошло лишь потому, что по морю отправлялось мало груза, который могли потопить американцы: валовой импорт Японии упал на 40 %.
Удивительно, что страна Хирохито начала войну, зная, насколько важны и уязвимы ее морские маршруты снабжения, и не уделив серьезного внимания защите торговых караванов; режим Токио строил огромные военные корабли для объединенного флота, а количество новых судов сопровождения было недопустимо малым. В технике противолодочной борьбы Япония серьезно отставала от других участников войны. Возможности японских радаров и бортового противолодочного оборудования были настолько низки, что американские подводные лодки нередко могли двигаться в надводном положении при свете дня.
В то время как Германия потеряла 781 подводную лодку, а Япония – 128, императорскому флоту Японии удалось потопить лишь 41 американскую подводную лодку, еще шесть затонули в результате аварии. Американские подводники несли потери, сопоставимые с потерями среди экипажей самолетов: погибал почти каждый четвертый, но результаты, которых они достигли, были настолько важны, что такие жертвы были более чем оправданными. Капиталовложения США в промышленные ресурсы для постройки подводных лодок составляли малую часть огромных сумм, щедро тратившихся на бомбардировщики B-29 Superfortress, которые с опозданием начали участвовать в боях, а вклад подводного флота в победу был гораздо значительнее.
Японские островные гарнизоны оказались изолированы, лишены мобильности, им угрожал голод. Солдат на Бугенвиле 14 сентября 1944 г. писал: «Старая дружба заканчивается, когда солдаты голодают. Каждый солдат старается утолить только свой собственный голод. Это гораздо страшнее, чем отражение атак противника. В наших рядах идет жестокая война. Неужели наши духовные силы упали до такой степени?»1 Американское господство в воздухе и на море лишало Японию какой-либо возможности провести эффективный стратегический контрудар. У японских солдат, матросов и летчиков все еще оставалось немало возможностей, чтобы храбро погибнуть, неся страдания и смерть недругам и угнетенным подданным своей империи. Но судьба страны была решена.
У союзников не имелось оправданной необходимости начинать крупные наземные операции в Юго-Восточной Азии или, если уж об этом зашла речь, на Филиппинах. Если бы они просто продолжили морскую блокаду и бомбардировки с воздуха, японцы вскоре начали бы голодать, а их лишенная нефти военная машина оказалась бы бессильна. Однако из-за природы войны, демократии и мировой геополитики это «со временем» многих не устраивало. Весной 1944 г. все считали, что силы союзников должны наступать на японцев везде, где только возможно. Британцы два года сражались с ними на северо-восточной границе Индии, не добившись значительных успехов, но теперь наконец появились ресурсы, включая большое количество американских военно-транспортных самолетов, что позволило начать наступление с подавляющим превосходством.
Черчилль выступал против наземной операции для захвата Бирмы, генерал Стилвелл («Уксусный Джо») горько жаловался Маршаллу в июле 1944 г. на то, что «[британцы] просто не хотят воевать в Бирме или восстановить коммуникации с Китаем». Так оно и было. «В настоящее время Индия не является базой, пригодной для начала крупномасштабных операций, – утверждалось в совместном англо-американском отчете весной 1944 г. – Транспортная система страны уже перегружена, политическая ситуация – неудовлетворительна, а экономическое положение – сомнительно»2. В этом документе говорилось, что Австралия предлагает гораздо более благоприятные возможности для базирования войск. Солдаты Британской империи постоянно терпели неудачи в ходе боевых действий в джунглях; Черчилль склонялся к идее высадки морского десанта в Южной Бирме, ниже Рангуна, или, еще лучше, на северной оконечности Суматры для захвата плацдарма, с которого можно было начать наступление на Малайю.
Однако Вашингтон отказался обеспечить морскую перевозку десанта просто для того, чтобы дать возможность Британии – как Рузвельт и его начальники штабов видели это – отбить у захватчика свои восточные владения. Американцы уже не очень старались подсластить предложенную Черчиллю пилюлю и не скрывали своих намерений определять дальнейший ход войны на Востоке. Представитель США, прибывший с визитом в Лондон, прямо заявил: «Теперь наша очередь вести игру в Азии»3. Американцы потребовали провести наземное наступление на Северную Бирму с целью открыть путь из Индии в Китай, контролируемый Чан Кайши.
Чан Кайши отказался ввести в бой свои войска для развития успеха, пока британские войска не начнут наступление из Ассама. Великобритания неохотно приняла требования американцев, хотя и Черчилль, и его командующий на театре военных действий генерал-лейтенант Уильям Слим признавали, что при любом исходе кампании вклад Четырнадцатой армии в поражение Японии слишком мал по сравнению с Тихоокеанской кампанией Америки. Первоначальный план союзников на 1944 г. предполагал, что две дивизии Слима развернут новое наступление в Араканском прибрежном районе; две индийские дивизии начнут разведку боем из Ассама в Северную Бирму, а в это время Стилвелл разовьет натиск на юг из Китая, чтобы взять Мьичину и разблокировать Бирманское шоссе. Последнюю операцию планировалось проводить при поддержке расширенной группировки чиндитов численностью шесть бригад, которые намеревались перебросить по воздуху в Северную Бирму в тыл японских войск, а затем организовать их снабжение силами американской военно-транспортной авиации.
Но, когда союзники начали концентрировать войска, противник предвосхитил их намерения: две японские дивизии пошли в наступление в Аракане и связали британские силы, а затем начали масштабное наступление вглубь Ассама с целью взятия Импхала. Эта операция отличалась крайней самонадеянностью, особенно если учесть численность развернутых против них индийских и британских войск. Не имея превосходства в воздухе, всего лишь с несколькими танками и орудиями, японцы совершали безумный шаг: отправили свою пехоту за сотни километров по труднопроходимому ландшафту штурмовать позиции Слима. Японское наступление дало англичанам возможность, которая им раньше никогда не выпадала: воевать на подготовленных позициях, с мощной артиллерией, при поддержке бронетанковых частей и авиации.
Наступающие в Аракане были остановлены и разгромлены настолько быстро и на такой обширной территории, что Слим смог перебросить по воздуху часть своих войск в северо-восточном направлении, чтобы усилить защиту Импхала и Кохимы, важнейших транспортных узлов, удаленных друг от друга на 160 км. Сражения, произошедшие там весной 1944 г., были самыми ожесточенными за всю войну на британском восточном фронте. Погодные условия в Ассаме и Бирме были так же ужасны, как на Тихом океане, к этому добавлялась опасность гористой местности: еще до того, как солдаты шли в бой с противником, простые переходы по крутым склонам изматывали их почти до предела. «Физические нагрузки, которые приходилось испытывать, трудно даже осознать»4, – вспоминал офицер связи 1-го батальона Королевского Норфолкского полка лейтенант Сэм Хорнор.
«Сочетание жары, влажности, высоты и склонов почти на всей территории превращает жизнь в сущий ад даже для самых выносливых. Ты с усилием вдыхаешь, и тебе мерещится, что воздух просто не идет в легкие, ты стараешься шагать вверх по склону, пока не понимаешь, что у тебя не ноги, а спички, ты постоянно вытираешь глаза от заливающего их соленого пота. Потом ты вдруг замечаешь, что сердце колотится так сильно, что оно вроде сейчас разорвется… Затем, невзирая на тысячу причин умереть от сердечного приступа, ты выползаешь на вершину холма, и оказывается, что это лишь гребень, а настоящая вершина далеко впереди… Ты забываешь о японцах, ты забываешь о времени, ты забываешь голод и жажду. Все, о чем ты думаешь, – это о следующем привале».
Горнист Берт Мей говорил о Кохиме: «Это была просто вонючая дыра. Все растения мертвые… Пиявки немедленно впивались в любую открытую часть тела. Ты брал горящую сигарету, прижигал ей хвост, и – шлеп! – она отваливалась»5. В течение нескольких недель с начала наступления японцев (7 марта) стрелка весов качалась в неопределенности. Японцы окружили позиции Слима. В Динапуре, за Кохимой, где располагались воинские склады, началась паника. Лейтенант Тревор Хайетт из Дорсетского полка позже говорил: «Ничего хуже не придумаешь, чем база снабжения, охваченная истерикой. Все, кто там служил, никогда не думали, что им придется по-настоящему воевать, все они просто мечтали о том, чтобы куда-нибудь сбежать. “Бери все, что хочешь, – говорили они. – Если есть время, распишись вот тут”»6. Затем подтянулась пехота и вступила в бой. Каждый день происходили яростные столкновения с применением стрелкового оружия и гранат в ближнем бою, потому что японцы атаковали снова и снова.
Бывший теннисный корт окружного комиссара стал центром борьбы за Кохиму: лишь несколько метров отделяли позиции Королевского Западно-Кентского полка от позиций их противника. «Мы расстреливали их на теннисном корте, мы уничтожали их гранатами на этом теннисном корте, – рассказывал командир роты Джон Уинстенли. – Мы держались, потому что у меня была постоянная радиосвязь с артиллеристами, а японцы, казалось, никак не могли придумать что-то новое, чтобы ошеломить нас. Пока они строились, они кричали по-английски: “Сдавайтесь!”.. Это был самый подходящий момент вызвать на них артиллерийский и минометный огонь… Они вели себя как идиоты и снова, и снова повторяли свою дурацкую ошибку. До этого мы сражались с японцами в Аракане и помнили, как они закалывали штыками раненых и пленных… Для нас они лишились права считаться людьми, и мы считали их паразитами, которых нужно истребить. Это было важно, ведь мы по натуре мирные люди, но, если нас разозлить, мы очень хорошо деремся»7.
Поле боя вскоре превратилось в выжженную землю, почерневшую безжизненную пустыню, взрывы уничтожили всю растительность, кругом были воронки и окопы, валялись гирлянды разноцветных парашютов, на которых сбрасывались грузы, предназначенные для гарнизона. Зловоние смерти и разлагающейся плоти пропитывало все вокруг. «Мы отбивали их атаки каждый вечер, – вспоминал майор Фрэнки Бошелл, командир роты Беркширского полка, которая сменила роту Западно-Кентского полка. На второй вечер они начали атаковать в 19 часов, а последняя их атака пришлась на 4 часа утра. Они наступали волнами, как летят голуби в сезон охоты. Чаще всего им удавалось занять часть позиций нашего батальона, поэтому нам приходилось подниматься в контратаку»8. Его рота из 120 солдат потеряла половину в Кохиме, потери других подразделений оказались на том же уровне. Сержант Бен Маккрей писал: «Нервное напряжение было невыносимым. Ты мог сесть и рыдать в три ручья. Часто можно было видеть, как кто-то плачет, все были ужасно подавлены происходящим. Ты голоден, замерзаешь, промок до костей и думаешь: “Когда я наконец выберусь отсюда?” Никто не выбирался, это было невозможно»9. Сержант Берт Фитт забросал гранатами три блиндажа, а затем столкнулся с японцем и вдруг понял, что в его пулемете Bren кончились патроны. «Когда дело доходит до рукопашной схватки, ты понимаешь, что либо ты, либо тебя… Ты бросаешься вперед и надеешься на лучшее… Я въехал ему пулеметом прямо в лицо… Он еще падал, а я уже вцепился ему в горло… Мне удалось отомкнуть штык от его винтовки, и им я его прикончил»10.
В тех боях существовала очень тонкая грань между храбростью, которая вдохновляла окружающих, и бахвальством, которое многие презирали. Бойцы 1-го батальона Королевского Норфолкского полка не знали, как относиться к поведению своего помпезного командира, полковника Роберта Скотта. В самый разгар бойни Скотт воодушевленно обращался к своим стрелкам: «Ладно вам, парни, тут нечего бояться, вы лучше этих маленьких желтых ублюдков»11. Когда ему поранил кожу на голове случайный осколок, он погрозил кулаком в сторону японских позиций и сказал: «Самый большой парень на нашей чертовой позиции, и даже по нему вы промахнулись! Если бы вы служили в моем чертовом батальоне, я снял бы с вас надбавку за квалификацию!» Капитан Майкл Фултон сказал знакомому офицеру: «Ну что, Сэм, пора и мне пойти и заслужить свой Военный крест»12. Фултон побежал вперед, и через несколько секунд ему в голову попала пуля. В боях при Кохиме 1-й батальон Королевского Норфолкского полка потерял 11 офицеров и 79 сержантов и солдат убитыми и 13 офицеров и 150 сержантов и солдат – ранеными.
«Почти все японцы погибли, не пытаясь спастись бегством, – писал командир роты британского Пограничного полка после вечернего боя, который пришлось вести южнее, на Импхальской равнине. – Один горел на большой поляне, и его желтые конечности почернели и блестели, как у какого-то фантастического негра, другой, который смело шел в бой, убит и лежит в нелепой позе, из груди у него торчит штык, похожий на гигантскую стрелу, еще трое, уже раненные, бежали в спасительные заросли высокого бамбука шириной метров тридцать»13. Некоторые солдаты не смогли выдержать тяжести боев. «В тот день я впервые увидел, как дала трещину выдержка двоих бойцов, – записал тот же офицер после еще одной яростной стычки в районе Импхала. – Один капрал, двухметровый детина, весь день, съежившись, прятался в окопе, другой, из подкрепления, посреди ночи, когда было все спокойно, внезапно сорвался с места и побежал, а потом кто-то остановил его штыком».
Опустошительные артналеты, мощные действия бронетанковых подразделений и авиации постепенно уменьшили численность атакующих. Танк Lee-Grant съезжал по крутым террасам, почерневшим от многодневной бомбардировки, ради того, чтобы отбить обратно теннисный корт в Кохиме, и в упор стрелял в окопы, где прятались японцы. Командующий японскими войсками генерал Ренья Мутагучи начал наступление, не озаботившись путями поставок, а Королевские ВВС ежедневно совершали налеты на его линии снабжения. Вскоре в войсках, ведущих осаду, начался голод. 31 мая без приказа сверху командующий японскими войсками в районе Кохимы дал приказ к отступлению, которое переросло в паническое бегство. 18 июля Мутагучи, как многие до него, смирился с неизбежным: остатки японских сил, осаждавших Импхал, предприняли тяжелый, мучительный переход к реке Чиндуин; их мучил голод, изнурял серпантин горных дорог, атаковали самолеты и обстреливала пехота союзников, преследовавшая их по пятам.
Измученный японский солдат писал: «Под дождем было невозможно сидеть, и мы ненадолго засыпали стоя. Повсюду лежали тела наших товарищей, которые прокладывали нам путь по этой дороге, – распухшие от дождя и источавшие зловоние. Даже опираясь на палки, мы снова и снова падали среди трупов, споткнувшись о камень или о корень дерева, обнаженный дождем, а затем поднимались и из последних сил пытались сделать еще шаг, затем еще шаг»14. Результатом двух сражений в районе Импхала и Кохимы стало самое сокрушительное поражение, которое когда-либо терпела армия Японии: из 85 000 сражавшихся потери составили 53 000 человек. Из них 30 000 – невозвратные потери, причем в бою погибло не больше людей, чем от болезней и голода. Войска Мутагучи лишились всех танков, артиллерии и вьючных животных, и это была незаменимая потеря. Нигде еще на Тихоокеанском театре военных действий войска императора Хирохито не терпели столь тяжелого поражения.
После почти трех лет поражений на Востоке британцы наконец-то одержали победу, поднявшую их боевой дух. Им еще предстояла тяжелая кампания 1945 г. по освобождению Бирмы, осложненная очень длинными маршрутами снабжения, но Слим знал, что он сломал хребет японской армии в Юго-Восточной Азии, доказав, что он действительно самый способный и самый популярный британский войсковой командир этой войны. Что касается японцев, то Мутагучи никогда не надеялся завоевать Индию, но питал надежду, что появление Индийской национальной армии, сражающейся с британцами, может стать толчком к началу всеобщего восстания против британского правления. Однако же поведение ИНА дискредитировало ее, а победа в Ассаме и последующее наступление Слима в Бирму временно укрепили британскую власть в Индии. Стремление индийского народа к независимости не уменьшилось, но забастовки и уличные беспорядки утихли.
Важнейшие битвы 1944 г. происходили гораздо восточнее. Тем летом благодаря колоссальной концентрации ресурсов, особенно боевых кораблей и самолетов, на Тихоокеанском театре военных действий Америке удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг Японии. Солдаты продолжали погибать, а суда идти ко дну, но в противостоянии США и Японии произошел коренной перелом. Главный корабельный старшина Роджер Бонд с авианосца Saratoga так описывал ситуацию: «Когда мы вышли в Тихий океан после… января 1944 г., события и ситуация существенно отличались от тех, что происходили раньше… Я уже не был бойцом группировки, которая проигрывала кампанию и которую теснил противник»15. Японцы все еще яростно сражались, но их везде отбрасывали.
На Бугенвиле, как и на многих других островах, солдаты Хирохито заплатили высокую цену за глупые, бесполезные атаки пехоты на укрепленные позиции обороняющихся. Один американец записал в марте 1944 г.: «Изуродованные тела солдат противника сгребали в кучи, в большинстве случаев они были так изувечены, что было невозможно подсчитать их потери. То тут, то там попадались оторванная нога, рука или кисть… Однажды на заграждении из колючей проволоки образовалась лестница из тел убитых японских солдат. Пять убитых солдат противника лежали друг на друге, в том порядке, в котором они один за другим пытались преодолеть заграждение, прячась за телами убитых, а потом, погибнув, становились частью этой баррикады. Дальше от периметра, там, где параллельно ему протекал небольшой ручей, лежали тела японцев, уничтоженных разрывами тысяч минометных снарядов: они, как страусы, прятали головы под любым предметом, который находили поблизости»16.
К 1944 г. Соединенные Штаты производили так много судов и самолетов, что оказалось возможным направить большие силы на Тихоокеанский театр военных действий. Выполнению доктрины «Германия – в первую очередь» всегда препятствовала значительно более сильная неприязнь американского народа к японцам и желание командования ВМС США победить в войне на Востоке. Пока на русском фронте еще решался исход противостояния, переключаться на японцев было преждевременно и опасно. Однако теперь стало ясно, что армии Сталина торжествуют победу, а вермахт доживает последние дни. Силы Эйзенхауэра в Европе были относительно велики, но недостаточны для того, чтобы в одиночку противостоять легионам Гитлера. Войска англичан и американцев были хорошо укомплектованы танками, пушками, автомобилями и самолетами, но им хронически не хватало пехоты. Кроме того, тихоокеанские кампании из-за их отдаленности поглощали огромные транспортные ресурсы союзников, непомерно большие по отношению к относительно скромной численности сражающихся войск.
Служба на Тихоокеанском театре военных действий отличалась от войны в Европе как небо от земли, прежде всего из-за географической изоляции. Пилот американской морской авиации Сэмюель Хайнс писал: «Здесь военная жизнь была всем, что у тебя есть: вокруг ни истории, ни памятников прошлого, ни городов, которые ты знал по книгам. Здесь не было ничего, что могло напомнить солдату о его прежней жизни, – ни цивилизации, ни баров, некуда пойти, и даже дезертировать было некуда»17. Солдаты, которым приходилось в течение многих месяцев жить под открытым небом в условиях тропического климата, теряли боеспособность из-за болезней и раздражения кожи, еще не успев столкнуться с противником. Морской пехотинец Фрейзер Уэст описал характерную проблему на Бугенвиле: «Это была не дизентерия… Это жуткая дождевая диарея, от плохой воды… очень быстро развивалась диарея… Конечно же, стресс тоже оказывал сильное воздействие. Раньше мы даже не знали значение слова “стресс”, но со временем мы хорошо поняли, что это такое»18.
Десантные операции в Тихоокеанском регионе стали рутиной, хотя очень опасной и требующей напряжения сил. Один американский солдат писал: «Даже при наилучших условиях этап выгрузки при десантной операции – это очень тяжелая и выматывающая работа. Когда же высокие волны обрушиваются на узкую полоску прибрежного подлеска джунглей, времени у вас только до заката, а сверху жарит ноябрьское солнце южных морей, такая задача становилась просто кошмарной пыткой. Рабочие группы из последних сил старались доставить боеприпасы, горючее, снаряжение, транспорт, паек и воду с кораблей на берег выше линии прилива. Командиры десантных групп лихорадочно искали для выгрузки сухой пятачок хоть несколько квадратных метров размером, а видели перед собой только огромное болото по всему берегу. Морские пчелы[23] и инженерные войска ломали головы и срывали спины, отчаянно пытаясь построить хоть какую-то дорогу до возвышенности, где можно поставить на стоянку транспорт, сложить горючее и боеприпасы. Но никакой возвышенности не было видно на тысячи метров вокруг – лишь несколько разбросанных заболоченных островков, окруженных воняющим, липким болотом. И час за часом катера ревели моторами и неслись к берегу, доверху набитые припасами»19.
Самой важной тихоокеанской операцией 1944 г. стало занятие Марианских островов – ключа к внутреннему кольцу обороны Японии. Когда морская пехота американцев начала высадку на Сайпан, Тиньян и Гуам, Объединенный флот Японии выдвинулся навстречу наступавшим, навстречу величайшей в той войне битве авианосцев. «Судьба империи зависит от этого сражения», – заявил адмирал Соэму Тоёда 13 июня, когда его суда под командованием адмирала Дзисабуро Одзава шли навстречу кораблям Спрюэнса.
Но благодаря Ultra американцам в очередной раз стали известны планы противника. Японцы планировали нанести массированный удар подводными лодками и силами авиации наземного базирования и ослабить флот США перед главным сражением. Вместо этого 17 из 25 подводных лодок Тоёды были потоплены, а его аэродромы на Гуаме и Тиньяне уничтожены американскими бомбардировками.
Обе стороны развернули огромные силы, но у американцев был перевес над японцами примерно 2 к 1 на море и в воздухе: 956 самолетов против 473 японских, 15 авианосцев против 9 – в пять раз больше, чем силы США у острова Мидуэй. Когда Одзава засек суда Спрюэнса, он решил, что перехватил инициативу, и 19 июня в 8:30 начал авиаатаку. Но самолеты были вскоре обнаружены американским радаром, и адмиралу Марку Митшеру ушло срочное сообщение: «Большие телеги, азимут 265 градусов, 125 миль, высота 24 000». Его начальник штаба капитан Арли Берк позже вспоминал: «Это было как раз то, чего мы ждали, поэтому мы подняли все свои истребители, все наши силы»20.
Дальше произошло то, что позже назвали «Большая Марианская охота на индеек»: из 373 самолетов Одзавы только 130 вернулись обратно, японской авиации не удалось причинить значительный ущерб американскому флоту. Еще 50 японских самолетов были сбиты над Гуамом. «[Японцы] были просто уничтожены, – рассказывал Берк. – Это было понятно из их переговоров по радио». В оперативном зале авианосца специалисты по радиоперехвату слушали радиообмен противника. Когда наконец японский офицер воздушного командного пункта управления авиацией мрачно запросил у своего командира разрешение на посадку, американский офицер радиоперехвата сказал: «Давайте собьем его». Берк ответил с жалостливой снисходительностью: «Нет, не надо его сбивать. Сегодня он принес больше пользы Соединенным Штатам, чем любой из нас. Пусть возвращается домой». Американские подводные лодки торпедировали флагманское судно Одзавы, новый авианосец Taiho и старый Shokaku. Этот успех обошелся американцам лишь в 29 потерянных самолетов; остальные суда Тоёды повернули назад.
Всю ночь авианосцы Митшера (Оперативное соединение № 58) на полном ходу преследовали отступающих японцев, а на следующий день после полудня американские самолеты-разведчики засекли флотилию Одзавы. Митшер принял смелое, авантюрное решение нанести удар с максимального удаления, зная, что его 216 самолетам придется возвращаться в темноте. Так велики были ресурсы США и так высоки были ставки, что адмирал мог пожертвовать всей своей палубной авиацией. Полные боевого азарта пилоты обнаружили японцев, одним из первых завидел их пилот пикирующего бомбардировщика Дон Льюис.
«Авианосец под нами выглядел большим, огромным, почти нереальным. На секунду я почувствовал огромную радость. Я часто мечтал о чем-то подобном. Потом я испугался сам себе. Где я вообще нахожусь? Наверное, я сошел с ума… Вдоль обоих бортов авианосца подо мной мигало множество красных точек… Он медленно поворачивал на левый борт. Он остановился. Что еще можно было желать? Я потянул рычаг сброса бомбы, почувствовал, что бомба оторвалась, и повернул обратно. У меня слезились глаза, болели уши, высотомер показывал 1500 футов. Небо представляло собой массу черно-белых клубов дыма, и в их гуще летели самолеты, в них попадал зенитный огонь, они загорались и падали в воду под нами. Странно, что человек может быть очарован даже такими ужасными сценами»21.
В ходе этого вылета американская авиация потопила еще один авианосец, Hiyu, и повредила два других; у японцев осталось 35 самолетов, сами они смогли уничтожить лишь 20 американских самолетов. Группировка Митшера потеряла еще 80 самолетов, у которых по пути назад кончилось топливо или которые разбились при попытке сесть на палубу в темноте, но большинство экипажей спаслось. Заводы США могли быстро изготовить новый самолет вместо утраченного, в то время как промышленность Японии уже не успевала восполнить потери Одзавы. Спрюэнса критиковали за выход из боя в этот момент, за утрату якобы существовавшей возможности завершить уничтожение отступающих японцев. Но он причинил огромный и невосполнимый ущерб флоту Тоёды, и не было нужды рисковать в опасных водах собственными кораблями и, возможно, успехом всей Марианской операции. В битве в Филиппинском море Спрюэнс продемонстрировал мудрость и проницательность, которые редко удавалось показать его коллеге и сопернику – «Быку» Хэлси. Сражение подтвердило, что по боевому мастерству, а также по мощи военно-морских сил американцы теперь полностью превосходят противника. До самого конца войны мастерство пилотов Японии постоянно снижалось, а иногда им просто недоставало храбрости. Американские самолеты морского базирования, особенно истребители Hellcat, господствовали в небе даже после того, как в японские войска стал поступать новый самолет, имевший сопоставимые характеристики.
Но победа в море вблизи Марианских островов не могла предотвратить кровавые сражения на берегу. Первой целью морских пехотинцев стал Сайпан; его длина более 22 км и наличие возвышенностей позволили японцам развернуть эшелонированную оборону гарнизона численностью 32 000 человек. 15 июня, когда 77 000 американских морских пехотинцев вброд вышли на берег, их встретил пулеметный и артиллерийский огонь, от которого они потеряли 4000 убитыми за первые двое суток. Штабисты предполагали, что битва продлится три дня, но взятие острова заняло три недели: обороняющихся приходилось выкуривать из бункеров, продвигаясь в глубину обороны метр за метром. Для поддержки морской пехоты в бой была введена дивизия сухопутных сил; после безуспешной попытки занять густо заросшую лесом позицию противника, которую солдаты мрачно окрестили «Гребень пурпурных сердец», ее командир был отправлен в отставку. Но день за днем, пока сотни тысяч их соотечественников вели такое же яростное сражение в Нормандии, американские войска медленно пробивали себе путь вглубь острова.
Ночью с 6 на 7 июля 3000 японцев, чувствуя приближение конца войны, с криками «Банзай!» устремились в бессмысленное, самоубийственное наступление, в ходе которого после яростного ближнего боя их скосил кинжальный огонь американцев. «У нас почти не было оружия, – рассказал один из немногих оставшихся в живых, флотский казначей Нода Мицухару. – У некоторых были только лопаты, у других – палки»22. Один американский офицер сказал по этому поводу: «Это напомнило мне сцену из старых фильмов, в которой показано безумно несущееся стадо. Камера находится в углублении в земле, и вы видите, что стадо несется на нее, а потом животные перепрыгивают через нее и несутся дальше. А вот японцы все не кончались и не кончались. Я уже и не надеялся, что они вообще кончатся»23.
Мицухару лежал перед американскими позициями с двумя пулями в животе и увидел группу своих товарищей, которые ползли к нему. Один поднял гранату и позвал: «Эй ты, моряк! Не пойдешь с нами?» Потом раненый услышал крик: «Да здравствует император!» – а затем прогремел взрыв. «Несколько солдат разорвало на куски, взрыв разметал во все стороны частицы их плоти… их головы были размозжены, валил густой дым». Сам Мицухару выжил, и его взяли в плен. 9 июля организованное сопротивление на острове было подавлено, но еще долгие недели маленькие отряды оставшихся в живых японцев продолжали нападать на американцев. Довольно много солдат и гражданских жителей (последние – частично по принуждению) совершили самоубийство, спрыгнув с утесов вблизи Марпи-Пойнт.
21 июля американцы начали высадку на Гуаме, более крупном острове около 55 км длиной; это было жизненно важной задачей, потому что там находился единственный надежный источник водоснабжения в гряде Марианских островов, а также лучшая гавань. Длительное сопротивление японского гарнизона численностью 19 000 человек на Сайпане дало японцам время на постройку мощных береговых укреплений, но американцы перед высадкой провели очень длительный и эффективный огневой налет, сочетавший бомбардировку с воздуха и артобстрел с кораблей. На острове воцарился полный хаос: организованное сопротивление скоро прекратилось, хотя для начала масштабной программы американцев по строительству летного поля потребовалось еще три недели на подавление отдельных опорных пунктов и установление контроля над островом. В реальности на Гуаме пехотинцам пришлось продолжать патрулирование и вступать в стычки с небольшими группами японских солдат до самого конца войны.
24 июля морская пехота высадилась на третьем важном острове Марианских островов: небольшом острове Тиньян. Командовал ей генерал-лейтенант Холланд Смит, эта операция считается самой успешной высадкой морского десанта в кампании. Организованное сопротивление было подавлено за 12 дней, хотя, как обычно, оставшиеся в живых японские солдаты отказались сдаться.
«Нигде раньше я не встречал наиболее характерного примера поведения японца, чем около взлетно-посадочной полосы на закате»24, – писал корреспондент Time Роберт Шеррод.
«Я выкапывал для себя стрелковую ячейку на ночь, когда один солдат крикнул: “Там япошка под бревнами!” Офицер охраны командного пункта сомневался, но он дал несколько фугасных гранат солдату и приказал ему уничтожить япошку. Потом из ямы резко просвистела японская пуля, и из-под бревен выскочил тощий маленький человечек полтора метра ростом и стал угрожать нам штыком. Один из американских бойцов бросил гранату, и она оглушила японца. Он с трудом поднялся, направил штык себе в живот и попытался распороть его традиционным движением харакири. Ему не удалось выпустить себе кишки. Кто-то пристрелил япошку из карабина. Но, как все японцы, он не сразу помер. Даже после того как в него попали четыре пули, он поднялся на одно колено. Тогда один американец выстрелил ему в голову».
Тысячи таких инцидентов помогают понять, почему американские морские пехотинцы и солдаты, сражавшиеся на Тихоокеанском театре военных действий, считали солдат противника смертельно опасными дикими животными.
Информированные японцы знали, что острова Японии, на которых миллионы зданий были построены из дерева и бумаги, теперь могли подвергнуться бомбардировкам; после захвата аэродромов на Марианских островах города Японии оказались в пределах досягаемости американских бомбардировщиков. Прибрежные сражения показали, что готовность японских солдат к самопожертвованию могла дорого обойтись американцам при каждой их победе, но огневая мощь наступающих была непреодолима. Подводные лодки Нимица наносили колоссальный урон торговому флоту Японии, что делало нежизнеспособной страну, зависящую от импорта. Сочетание морской блокады и бомбардировок с воздуха обеспечивали поражение Японии, даже если американские сухопутные силы не стали бы продвигаться далее. Но японское правительство предпочло продолжать сопротивление: непреклонные милитаристы, которые диктовали политику Токио, считали, что если им удастся показать американцам, что цена вторжения на территорию Японии будет непомерно высока, то можно еще рассчитывать на переговоры и сохранить по крайней мере завоеванные территории в Китае.
Пока морская пехота сражалась за Марианские острова, на юго-западе Тихоокеанского театра военных действий США вели намного более спорную кампанию. Генерал Дуглас Макартур, главнокомандующий в этом регионе, был одержим идеей сыграть роль освободителя 17 млн жителей Филиппин, где он провел долгие годы. Бывший командующий сухопутными силами, имевший на родине влиятельных друзей правых убеждений, в 1944 г. Макартур подумывал о том, чтобы выставить на президентских выборах свою кандидатуру против Рузвельта, и оставил эту идею, только когда стало ясно, что он не добьется ни выдвижения от республиканцев, ни тем более победы над тогдашним хозяином Белого дома. Он оставался очень значительной фигурой, начальники штабов находились под его влиянием, а пропаганда подняла его популярность на такую высоту, что уволить его было практически невозможно, несмотря на допущенные им грубые промахи.
Штабисты ВМС утверждали, что после захвата американцами авиабаз на Марианских островах можно было просто оставить большую японскую группировку на Филиппинах изнемогать в безнадежности, пока американские силы атаковали бы Иводзиму, Окинаву, а затем собственно Японские острова. Изучалась возможность проведения ограниченных операций для захвата некоторых аэродромов и гаваней на Филиппинах, но то, что произошло на самом деле, принципиально отличалось от этих планов и предположений. Макартур решил очистить от противника весь архипелаг и приступил к выполнению своего замысла. Хотя он не получил официальной санкции комитета начальников штабов на выполнение этой задачи, в Вашингтоне не было никого, кто имел бы достаточно веса или проницательности, чтобы остановить его. В записке Макартуру Маршалл однажды предупредил: «Помните, ВМС – на нашей стороне», – но верховный главнокомандующий на Юго-Западном Тихоокеанском ТВД прислушиваться не стал.
В сентябре 1944 г. авианосцы Третьего флота адмирала Хэлси, находившиеся вблизи Южных Филиппин, разгромили остатки ВВС Японии. Лишь 12-го числа американцы совершили 2400 боевых вылетов и уничтожили 200 вражеских самолетов в небе и на земле. Нимиц и Макартур договорились, что до высадки сухопутных сил на Филиппинах необходимо занять укрепленный остров Пелелиу. 15 сентября солдаты 1-й дивизии морской пехоты при мощной поддержке авиации и боевых кораблей начали высадку десанта: японский гарнизон численностью 10 000 человек при поддержке орудий, установленных в мощных укреплениях, оказывал упорное сопротивление. Последовавшая кампания, в которой также участвовала дивизия сухопутных сил США, оказалась кошмаром. Необходимо было тратить огромные количества боеприпасов и сил, чтобы, бункер за бункером, продвигаться вглубь обороны противника. Позже подсчитали, что на одного уничтоженного оборонявшегося японца американцам пришлось выпустить 1500 артиллерийских снарядов. Японцы, как всегда, сражались почти до последнего: прежде чем 24 ноября командующий гарнизона Пелелиу полковник Кунио Накагава совершил самоубийство, потери американцев составили 1950 человек. Битва небольшого масштаба проходила яростно и имела сомнительную ценность для общей стратегии США. Она просто еще раз подтвердила, что взятие передовых тихоокеанских баз Японии будет нелегкой задачей.
20 октября 1944 г. четыре дивизии сухопутных сил начали высадку на острове Лейте в центре архипелага Филиппин. Они встретили слабое сопротивление, и после полудня плацдарм высадки сочли достаточно безопасным для того, чтобы Макартур самолично вышел на берег и произнес высокопарную речь освободителя, которая транслировалась по радио.
Однако после этого американским солдатам пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями: сражаться в грязи, под дождем с упорно сопротивлявшимися японцами. Штаб Макартура проигнорировал предупреждения специалистов инженерных войск о том, что Лейте не подходит для обустройства аэродрома, и авиационная поддержка американских войск теперь полностью зависела от палубной авиации флота. Полковник Боннер Феллерс, офицер по связям с общественностью штаба Макартура, был известен тем, что в 1942 г. ежедневно отправлял из Каира радиограммы о действиях и планах англичан, которые перехватывал Роммель. В этот раз Феллерс снова оконфузился, так как несколько раз объявлял о победе на Лейте, пока солдаты Макартура все еще вели смертельный бой.
Неделя за неделей, месяц за месяцем погода и горы, насекомые и огонь противника, истощение и болота изматывали пехотинцев на острове. «Они утратили всякое представление о пройденном пути; внизу под ними все расплылось, затянулось туманной дымкой, и они забыли, как мучительно было преодолевать тот или иной отрезок пути, – писал Норман Мейлер, служивший на Филиппинах, передавая вымышленному патрулю в своем романе собственные печальные воспоминания. – Как ватага пьяниц, они шли, шатаясь из стороны в сторону, с опущенной головой, с повисшими вдоль тела руками… Плечи стерты ремнями, под болтавшимися патронташами появились кровоподтеки, винтовки били по бедрам, и на них образовались мозоли… Точно так же, как [носильщики], они забыли обо всем и больше уже не думали о себе, перестали воспринимать себя. Они были лишь сосудами, до краев наполненными страданием»25.
Пока американцы мучительно прокладывали себе путь по острову Лейте, на море противник предпринял отчаянную попытку сорвать кампанию. Императорский флот Японии направил четыре скудно обеспеченных самолетами авианосца, которые должны были совершить отвлекающий маневр с севера и ценой своего почти неизбежного уничтожения заставить Третий флот Хэлси отойти с занятых позиций. Тем временем хорошо вооруженные японские части начали продвижение к заливу Лейте, где они планировали атаковать американскую десантную армаду и ее относительно слабую морскую группировку поддержки – Седьмой флот адмирала Томаса Кинкейда. Операция Sho-Go была изначально обречена: как ни старались изобретательные японцы внести хаос в ряды противника, стратегическое превосходство американцев было подавляющим. Но изменение японских шифров и радиомолчание их флота в море не позволили Хэлси и Кинкейду предвосхитить события. Только 24 октября была обнаружена мощная боевая эскадра под командованием вице-адмирала Такео Куриты, когда она входила в море Сибуян между островами Лусон, Панай и Лейте.
Американские подводные лодки быстро потопили два крейсера группировки, а силами палубной авиации Третьего флота был уничтожен огромный линейный корабль Musashi и повреждены другие суда. Курита отвернул, очевидно, признавая поражение. Импульсивный Хэлси, считая, что он прогнал японцев, после этого устремился на север со всей своей группой из 65 судов, преследуя авианосную группу-ловушку Одзавы, обнаруженную разведывательной авиацией.
Той ночью 24-го, пока Хэлси под всеми парами мчался к далекому горизонту, Седьмой флот вел собственное знаменитое сражение. Вторая японская эскадра была замечена на подходе в залив Лейте с юга, она шла по проливу Суригао. Для отражения нападения Кинкейд развернул старые линейные корабли огневой поддержки вместе с крейсерами, эскадренными миноносцами и торпедными катерами. Затем началась драматическая битва. В темноте, вскоре осветившейся вспышками пламени, американские торпедные катера причинили незначительный ущерб группе японских военных кораблей. Но незадолго до 4 часов утра торпеды эскадренного миноносца и огонь с радарной корректировкой из четырнадцатидюймовых и шестнадцатидюймовых орудий главного калибра основных кораблей Кинкейда отправили на дно японские линейные корабли Yamashiro и Fuso вместе с тремя кораблями сопровождения. Тяжелый крейсер Mogami и легкий крейсер Abukuma были также повреждены и позже потоплены американской авиацией. Оставшиеся на плаву корабли японской тактической группы развернулись; два тяжелых крейсера и пять эскадренных миноносцев поспешно отступили. Американцы потеряли лишь 39 человек убитыми, большинство – от огня своих войск в темноте. Это был не бой, а избиение: в действиях японцев проявились не только низкий уровень техники и артиллерийского дела, но и готовность к самоубийству. У боевой эскадры не было реальной перспективы пересечь узкий пролив Суригао и добиться существенного результата, разве что на их стороне оказался бы фактор внезапности, а ответные действия американцев были бы так же слабы, как двумя годами ранее при сходных обстоятельствах у острова Саво. Это исключалось. Японцы шли навстречу гибели и мужественно встретили ее.
Но один из самых замечательных и, несомненно, самых странных эпизодов военно-морских сражений в истории был еще впереди. В течение ночи японский линейный флот, потрепанный самолетами Хэлси, еще раз развернулся; затем двинулся на восток через пролив Сан-Бернардино, далее он направился на юг, к заливу Лейте, никем не обнаруженный даже после наступления рассвета и не встречая никакого сопротивления. Незадолго до семи утра шесть малых эскортных авианосцев и семь кораблей сопровождения оперативного соединения 77.4.3 контр-адмирала Клифтона Спрага, увековеченного радиопозывным Taffy 3, подоспели с позиций, которые они занимали до рассвета, как раздался взволнованный голос радиста противолодочного патрульного самолета, сообщавшего об обнаружении четырех японских линкоров, восьми крейсеров и эсминцах сопровождения на дистанции меньше 35 км.
С понятной несдержанностью Спраг воскликнул: «Этот сукин сын Хэлси оставил нас с голой задницей!» Его корабли, тихоходные плавучие платформы, обеспечивавшие авиационную поддержку войск Макартура, сражавшихся на берегу, изо всех сил пытались отойти на безопасную дистанцию и одновременно с них взлетали все самолеты, которые могли взлететь. Несмотря на это, японцы вскоре уже вели беглый огонь по группе Taffy 3.
Адмиралу Курите, командующему японской эскадрой, представилась возможность с легкостью уничтожить маленькую, очень слабую американскую тактическую группу. Эскадренные миноносцы и самолеты Спрага с необыкновенной храбростью наносили удар за ударом по противнику, но им не хватало численности и противокорабельных бомб. Линейные корабли Кинкейда оставались далеко на юге, на расстоянии многих часов полного хода, после ночной дуэли в проливе Суригао. Моряки и летчики эскортных авианосцев знали, что им одним придется отбивать нападение линейного флота противника. Многие пилоты показали чудеса доблести, хотя некоторые не выдержали напряжения, вызванного необходимостью совершать по несколько вылетов: один пилот вернулся на Manila Bay, но отказался совершать еще один вылет, третью за сегодня торпедную атаку. Капитан Фитцхью Ли вызвал молодого пилота на мостик. «Он был потрясен, ведь он только что видел, как сбивают его товарищей… У нас оставалась лишь одна торпеда… Другого пилота на борту корабля не было – наши все летали. Поэтому мы подвесили торпеду на его самолет, я прямо на мостике дал ему наставления, похлопал по спине и сказал: “Давай-ка, постарайся все сделать, как надо”. Он совершил третий вылет и остался жив»26.
Японцы провели несколько схваток на расстоянии прямого выстрела, и благодаря шквальному огню им удалось потопить три американских корабля сопровождения и один авианосец группы Taffy 3; примерно 50 американских самолетов были сбиты, пока они атаковали Объединенный флот. Но авиации американцев удалось потопить крейсеры Chokai, Suzuya и Chikuma, и нервы Куриты не выдержали. Обеспокоенный энергичным сопротивлением американцев, он решил, что столкнулся с частью Третьего флота, большие корабли которого скоро вступят в бой и уничтожат его, и спустя 143 минуты после первых выстрелов орудий прекратил атаку и развернулся для отхода. Героизм группы Taffy 3 помог отразить нападение линейного флота – к изумлению тысяч американских моряков, еще утром считавших, что они обречены.
Затем, когда с Филиппин нанесли удар японские самолеты с пилотами-камикадзе, американцы потеряли еще один эскортный авианосец, который затонул, а еще два были серьезно повреждены. Самолеты Хэлси атаковали эскадру-ловушку Одзавы, потопив все четыре авианосца, легкий крейсер и два эскадренных миноносца. Затем Третий флот повернул на юг, чтобы выслушать обвинения в том, что он бросил эскадру в проливе Лейте без защиты. Безрассудство Хэлси заслуживало наказания и даже отставки. Но учитывая размах торжества американцев по поводу победы в крупнейшем морском сражении в истории, которое стало известно как сражение в заливе Лейте, его сумасбродство оставили без последствий.
Японцы ввели в бой 64 корабля против 216 американских и двух австралийских кораблей. Потери боевых кораблей японцев составили 285 000 тонн водоизмещения, американцев – лишь 29 000 тонн; потери личного состава США – 2803 человека убитыми против более 11 000 у Японии. По завершении операции Sho-Go императорский флот Японии лишился четырех авианосцев, трех линкоров, десяти крейсеров и девяти эсминцев. Американцы потеряли три малых авианосца, два эсминца и сторожевой корабль. Несколько американских кораблей были серьезно повреждены и затонули бы, если бы не энергия и храбрость групп обеспечения живучести, которые работали, невзирая на горящее топливо, разорванные паропроводы и вражеский огонь.
Сражение в заливе Лейте ярко продемонстрировало полный упадок военно-морского мастерства Японии – артиллерийского дела, искусства судовождения, навыков идентификации судов – и боевого духа. Японские адмиралы проводили операцию Sho-Go так, словно заранее готовились к поражению. Казалось, они скорее намеревались погибнуть, чем сражаться, – странная перемена для воинов, которые в 1941–1942 гг. показали себя самоотверженными и опытными бойцами. Ранее во многих сражениях на Тихом океане у американцев было преимущество за счет разведданных радиоперехвата, которого они были лишены в сражении в заливе Лейте. Из-за грубых ошибок Хэлси боевая мощь 3-го флота никогда не использовалась полностью. Но все же при каждом новом повороте событий ВМС США одерживали победу над противником. Для дополнительной безопасности разворачивались технические системы, особенно радары, дававшие американцам преимущество. Уничтожение авианосных сил Японии позволило пилотам Хэлси и Кинкейда летать, почти не встречая сопротивления. Но главным итогом битвы можно считать то, что императорский флот Японии был сломлен морально и физически.
Остров Лейте был занят в конце декабря; после этого, 9 января 1945 г., американские войска высадились на главном острове Филиппин – Лусоне – и начали продлившуюся до самого конца войны кампанию против японских сил под командованием целеустремленного и опытного генерала Томоюки Ямаситы, «Малайского тигра», героя 1942 г. Столичную Манилу сровняли с землей за несколько недель боев, в ходе которых японские моряки сражались чуть ли не до последнего матроса. Эти же бойцы зверски расправлялись с гражданским населением без всякой военной необходимости, чтобы продемонстрировать решимость Японии нести всем вокруг насилие, издевательства и смерть, прежде чем принять собственную судьбу.
Множество филиппинцев, избежавших японской расправы, погибли от огня американской артиллерии; Манила лежала в руинах, было бы издевательством именовать это «освобождением». До 100 000 граждан страны погибли в руинах своей столицы, а вместе с ними 1000 американцев и 16 000 японцев. Ямасита отступил в гористый центр острова, заросший густым лесом, и продолжал оборонять постоянно сокращавшийся периметр до августа 1945 г.
Восьмая армия США под командованием Эйхельбергера систематически проводила десантные операции на Филиппинах до конца войны, занимая острова один за другим, иногда с жестокими и кровопролитными боями. Макартур мог утверждать, что он отбил архипелаг и нанес поражение японским оккупантам. Но, поскольку японских солдат было невозможно перебросить ни на какой другой участок фронта, где они могли бы повлиять на исход войны, они оставались просто заключенными на Филиппинах, как это случилось с большим, но бесполезным гитлеровским гарнизоном на занятых немцами Нормандских островах.
«Филиппинская кампания была ошибкой, – утверждает современный японский историк Кацутоси Хандо, который пережил войну. – Макартур предпринял ее по личным соображениям. Япония проиграла войну, как только были потеряны Марианские острова». Народ Филиппин, которому Макартур признавался в любви, заплатил за его эгоизм высокую цену – жизнями мирных граждан, погибших в результате боев, расправ, голода и болезней, количество которых приближается к полумиллиону, а также тысячами уничтоженных жилищ. Для филиппинцев и для военной мощи союзников обернулось страшным бедствием неумение президента Рузвельта и начальников штабов сдерживать амбиции Макартура в рамках здравого смысла. В 1944 г. победоносное наступление США на Японию не вызывало сомнений, но ошибочные решения верховного главнокомандующего на Юго-Западном Тихоокеанском театре военных действий омрачили радость побед.
23. Германия в осаде
В начале сентября 1944 г. лидеры многих стран антигитлеровской коалиции (что примечательно, за исключением Уинстона Черчилля) предполагали, что окончательная победа над Третьим рейхом – вопрос ближайших недель. Многие немцы склонялись к такому же мнению и печально готовились к моменту, когда в их страну вторгнутся завоеватели. Немецкий сержант Пикерс писал своей жене в Саарлуи: «И ты, и я живем в постоянной смертельной опасности. Я поставил крест на своей жизни: очень сомневаюсь, что выйду из всего этого живым. Поэтому посылаю тебе и детям свое последнее прости»1. Отец солдата Йозефа Роллера пишет ему из Трира: «Я закопал весь фарфор, все серебро и большой ковер на конюшне. Маленький ковер в подвале у Анни. Фарфор Анни я замуровал там, где стоит вино. Так что, если нам придется отсюда уйти, ты знаешь, где что найти, но копай осторожно, чтобы ничего не разбить. Итак, Йозеф, удачи тебе и не высовывайся; наилучшие пожелания и поцелуи от всех нас. Твой папа»2.
Немцы считали, что если русские прорвутся на Востоке, то все пропало. «Останется разве что принять яд», – сказала Матильде Вольф-Монкебург ее гамбургская соседка «так обыденно, словно посоветовала испечь оладьи к завтрашнему обеду»3. Тем удивительнее, что многие убежденные нацисты по-прежнему на что-то упрямо надеялись. Маленького Конрада Мозера отправили в один из приютов, созданных специально для эвакуированных детей; приют разместили в баварском Айхштадте рядом с лагерем для военнопленных, надеясь, что из-за этого союзники не станут его бомбить. В конце 1944 г. за Конрадом приехал старший брат Ганс, чтобы забрать его домой, в Нюрнберг; управляющий приютом сказал ему с осуждением в голосе: «Я знаю, почему вы хотите забрать мальчика. Вы не верите в нашу окончательную победу!» Ганс Мозер покачал головой: «Я приехал в отпуск с Восточного фронта»4. Он отвез Конрада к родителям, и с ними ребенок пережил войну.
Большинство немецких городов уже были разрушены бомбардировками. Эмми Зуппанц из Марбурга писала сыну на Западный фронт о жизни семьи: «Кафе Kaefer по-прежнему работает с 6:30 до 9 утра и с 5 до 10 или 11 вечера. Во время последней бомбежки от потолка отвалились куски лепнины, зато зеркала, как ни удивительно, остались целы. Окна в кафе и в квартире наверху, конечно, разбились. У Бурши были два кролика, один довольно большой белый кролик, которого он назвал Ганси, а второй серый, поменьше, которому мы не успели дать имя и две недели назад съели. Повариха хотела приготовить и Ганси, но не стала. Вчера Бурши пришел ко мне с известием, что Ганси принесла семерых крольчат! Зепп, город… просто ужасает»5. Подобные новости из дома угнетали солдат, сражавшихся не на жизнь, а на смерть вдали от своих семей.
Зато победное шествие армий западных союзников по Франции, среди ликующих толп, словно опьянило и солдат, и их командиров. Американский солдат Эдвин Вуд писал о волнении от этого марша: «Тебе девятнадцать; тебе девятнадцать лет, и ты пехотинец; тебе девятнадцать лет, и ты сражаешься за освобождение Франции от нацистов летом 1944 г.! В те жаркие и безоблачные дни, когда пчелы жужжали у нас над головами, а мы выкрикивали странные фразы из непонятных нам слов мужчинам и женщинам, встречавших нас так, словно мы были богами… В тот славный миг была жива мечта о свободе, и каждый из нас был великаном трехметрового роста»6. Сэр Артур Харрис утверждает, что благодаря поддержке американских и британских ВВС сухопутные силы во Франции «устроили себе променад»7. Конечно, это огромное преувеличение, характерное для командования и британских, и американских военно-воздушных сил; в то же время нельзя не отметить, что осенью 1944 г. западные союзники освободили Францию и Бельгию ценою гораздо меньших потерь, чем рассчитывало командование. Многочисленные перехваченные радиограммы Ultra свидетельствовали о том, что гитлеровские армии уничтожены, а их генералы пребывают в отчаянии. Поэтому Эйзенхауэр и его подчиненные на какое-то время впали в беспечность. Казалось, что немцы уже поставлены на колени, а впереди открываются ошеломляющие возможности, нужно только немного рискнуть. И вот Монтгомери убедил Эйзенхауэра, что есть возможность нанести победный удар на северном участке фронта: захватить мост через Рейн у голландского города Арнема, и по этому мосту союзные войска хлынут в Германию.
До сих пор не угасают яростные споры о том, могли ли западные союзники выиграть войну в 1944 г., ворвавшись в Германию на плечах у разгромленного во Франции вермахта. Вполне возможно, что если бы американская Первая армия Ходжеса действовала энергичнее, то она бы прорвала линию Зигфрида у Ахена. Паттон уверяет, что добился бы великих побед, если бы его танки получили необходимое горючее, но это сомнительно: на южном участке, где стояла его армия, был сложный рельеф, и немецкие войска, используя для обороны ряд горных позиций и рек, препятствовали наступлению Паттона до апреля 1945 г.
Англо-американские войска в начале сентября переводили дух после броска на восток. Седьмая американская армия Пэтча 15 августа высадилась на юге Франции, двинулась на север по долине Роны, встречая лишь слабое сопротивление противника, и 12 сентября встретилась с войсками Паттона у Шатильона-на-Сене. Генерал-лейтенант Джейк Деверс возглавил только что сформированную франко-американскую Шестую группу армий на правом фланге союзников. Теперь войска Эйзенхауэра образовали сплошную линию фронта от Ла-Манша до швейцарской границы.
Но в их распоряжении по-прежнему не было ни одного крупного порта. Французская железнодорожная сеть была сильно разрушена бомбардировками. Некоторые штабные офицеры сетовали на чрезмерные, по их мнению, бомбардировки при подготовке Дня «Д»; впрочем, возможность судить об этом появилась лишь задним числом, после успешного завершения битвы за Нормандию. Снабжать двухмиллионную армию горючим, боеприпасами и провиантом по автомобильным дорогам было крайне сложно. Почти все снаряжение нужно было везти на грузовиках сотни километров – от побережья до действующей армии. Вскоре важную роль в системе снабжения стал играть Марсель. «Пока мы не возьмем Антверпен, – писал Эйзенхауэр Маршаллу, – мы так и будем трястись над каждым патроном»8. Многие танки и грузовики нуждались в ремонте. Так же, как в свое время вермахт позволил британцам эвакуироваться к себе на острова во время немецкого блицкрига 1940 г., так и теперь вспышка «болезни победителей» у союзников позволила противнику перегруппировать силы. К тому времени, как Монтгомери начал амбициозную операцию Market Garden, нацеленную на прорыв к Рейну, немцы вновь обрели потерянную устойчивость. Их стратегическое положение по-прежнему было безнадежным, но они держали оборону с настойчивостью и упорством, давая решительный отпор наступательным действиям союзников.
17 сентября три воздушно-десантные дивизии союзников высадились в Голландии; перед 82-й и 101-й американскими дивизиями стояла задача занять переправы рек и каналов от фронта союзников и до Арнема; 1-я британская десантная дивизия должна была захватить мост через Рейн и удерживать плацдарм перед ним. Большое соединение было отправлено в зону десантирования на север от великой реки. Американцы выполнили почти все поставленные задачи, несмотря на задержку, вызванную тем, что немцы уничтожили разборный мост Бейли в районе Сона. А вот британцы, которые десантировались слишком далеко от вспомогательных сил Монтгомери, сразу же столкнулись с трудностями. По данным перехвата Ultra, остатки 9-й и 10-й танковых дивизий СС были отправлены на переформирование в Арнем. Командование союзников знало, что эти части были разбиты в Нормандии, и не стало принимать их в расчет, но немцы отреагировали на внезапную высадку британского десанта с характерным для них яростным упорством. Поспешно собранные местные силы, по большей части тыловой административный и обслуживающий персонал, устроили импровизированные заслоны и существенно замедлили продвижение парашютистов к мосту. Фаворит Гитлера генерал-фельдмаршал Модель, «пожарный» Восточного фронта, был направлен руководить немецкой обороной. Отдельные подразделения 1-й воздушно-десантной дивизии, которым явно не хватало боевого духа и тактических навыков, были разбиты и уничтожены по частям при попытке захватить Арнем. Даже малого количества немецких бронемашин на подходах к городу оказалось достаточно, чтобы разбить десантные части, у которых было мало противотанкового вооружения и совсем не имелось танков.
Единственный добравшийся до моста батальон смог занять плацдарм только с северной его стороны и был отрезан от деблокирующих бронетанковых сил Рейном и быстро прибывавшими немецкими подкреплениями. Из-за того, что британцы решили десантировать свою 1-ю парашютную дивизию в стороне от Арнема, прошло 4 часа с момента, как открылся первый купол, до того, как подполковник Джон Фрост пешком добрался до моста: моторизованным частям немцев этого времени хватило с лихвой. Британцам следовало захватить переправы через Рейн, сбросив десант с планеров непосредственно на цели, как это сделали немцы в Голландии в 1940 г. и сами британцы на Канском канале в День «Д». Такое десантирование привело бы к потерям, но эти потери все равно оказались бы меньше, чем при штурме города. Начиная с вечера 17 сентября британцы в Арнеме и за его пределами лишь боролись за выживание, потеряв всякую надежду выполнить поставленные перед ними задачи.
Впрочем, даже если бы британские парашютисты захватили обе стороны моста, в плане Монтгомери был более важный просчет, который, вероятно, пресек бы его честолюбивые замыслы. Деблокирующим силам предстояло за три дня пройти почти 100 км от канала Маас – Шельда до Арнема, имея в распоряжении единственную голландскую дорогу (наступать напрямик, без дорог, было невозможно, поскольку земля была слишком мягкой для бронетехники). В первые же минуты марша гвардейской бронетанковой дивизии немцы подбили ее головные танки противотанковым оружием, а поддерживавшая танки пехота увязла в мелких стычках. Американские десантные войска сделали все, что от них требовалось, захватив основные переправы, но наступление союзников вскоре выбилось из графика. Немцы, получив исчерпывающую информацию о планах союзников, сумели перегруппировать силы. Случилось так, что план операции Market Garden был найден на теле погибшего американского штабного офицера, неразумно взявшего его с собой; через несколько часов документ был уже на столе у Моделя, и тот полностью реализовал свои полководческие таланты.
20 сентября, когда деблокирующий корпус XXX с опозданием дошел до Неймегена, парашютисты 82-й дивизии Гэвина под сильным огнем противника героически форсировали реку. Они захватили плацдарм на другом берегу, что позволило танкам гвардейской бронетанковой дивизии пересечь мост, чудом избежав потерь. Затем, прежде чем британцы возобновили наступление на Арнем, последовала еще одна, необъяснимая для американцев, задержка в сутки длиной. По правде говоря, эта задержка уже не играла особой роли. Битва была проиграна: немцы собрали достаточно сил, чтобы удержать южные подходы к Арнему. Сопротивление британских парашютистов на дальнем берегу не играло особой роли, и Монтгомери признал свое поражение. В ночь на 25 сентября 2000 человек из 1-й десантной дивизии переправились через Рейн по течению вниз, еще 2000 спаслись другими способами, а 6000 попали в плен. 1485 британских парашютистов погибло (около 16 % от всего состава участвовавших в операции частей), 1-я десантная дивизия была расформирована; кроме того, погибло 474 человека летного состава. Потери 82-й десантной дивизии США составили 1432 человека, 101-й – 2118. Немцы потеряли 1300 убитыми; также погибло 453 человека из числа гражданского населения, в том числе от бомбежек союзников.
Апологеты операции Market Garden (и в особенности Монтгомери) говорят о значительном успехе: союзники сумели удержать глубокий выступ в глубину Голландии. Следует, однако, заметить, что с этого выступа союзники никуда не продвинулись до самого февраля 1945 г. После битвы за Арнем две десантные дивизии США восемь недель вели тяжелые бои, чтобы удержать захваченную в сентябре территорию, хотя со стратегической точки зрения это не имело смысла. Битва за Арнем была стратегической ошибкой с ничтожными шансами на успех. Британские генералы, ответственные за ее исполнение (в частности, генерал-лейтенант Фредерик Браунинг), проявили постыдную некомпетентность и заслуживали отставки с позором, а отнюдь не славы, доставшейся им из-за традиционного стремления британской пропаганды выдавать катастрофы за победы.
Главной проблемой Монтгомери было его исступленное стремление к славе, что часто шло вразрез со стратегическими интересами союзного командования. Генерал Джейк Деверс, один из лучших и наименее известных американских командующих группами армий в той войне, впоследствии писал о неизбежном между народами различии в целях и средствах, даже если они совместно стремятся победить общего врага: «Это относится не только к высшему политическому уровню… это естественная черта и для профессиональных военных… Вряд ли стоит ожидать от военнослужащих, которые относятся к разным нациям, но служат под единым командованием, что они быстро и охотно подчинят свои взгляды взглядам командира, представляющего другую нацию, если этот командир… не убедит их, что это отвечает их национальным интересам, как личным, так и коллективным»9. Эйзенхауэру такой подход был чужд, и потому его подчиненные часто конкурировали с ним и преследовали собственные цели. Из-за тщеславного стремления Монтгомери лично нанести Германии смертельный удар союзные армии предприняли единственную большую операцию, на которую были способны той осенью, причем избрав для этого самую неподходящую местность для обеспечения тылового снабжения. Он не смог понять, что очистить устье Шельды и сделать Антверпен базой снабжения союзников – гораздо более важная и более осуществимая задача. Стремясь захватить мост через Рейн, командующий союзниками, образно говоря, высоко замахнулся, да низко ударил.
Британская сельскохозяйственная работница Мюриел Грин писала в своем дневнике об унынии, охватившем все страны союзников, после того как стало известно о провале Арнемской операции. «Мы все думали, что война вот-вот окончится, а теперь услышали о таких жертвах, что я совсем расстроилась. Я даже и не сомневалась, что мы победим, и поэтому все эти беды кажутся еще горше»10. Война близилась к концу, и тем тяжелее было родственникам погибших перенести смерть любимых, с которыми они надеялись насладиться плодами победы. Айвор Роуберри, 21-летний бухгалтер-стажер, убитый во время службы связистом в Южно-Стаффордширском полку, оставил родителям письмо, в котором отразились чувства многих солдат разных народов:
«Я надеюсь, что ты… никогда не получишь это письмо… Завтра мы идем в бой. Пока что мы не знаем точно, что за дело нам предстоит, но наверняка это будет опасное дело, которое заберет много жизней, может быть, и моя будет среди них. Ну что же, мама, я не боюсь умереть. Конечно, я люблю эту жизнь – и последние два года я строил планы, и мечтал, и воображал для себя прекрасное будущее. Я бы хотел, чтобы это будущее стало явью, но все случится не по моей воле, а по воле Бога, и если моя жертва сделает мир чуточку лучше, то я полностью готов принести эту жертву. Не пойми меня неправильно, мама, я не ура-патриот… Англия – маленькая великая страна, самая лучшая из всех, но я не могу сказать от всего сердца, что за нее стоит драться. И я не воображаю себя доблестным крестоносцем, сражающимся за свободу Европы. Я бы хотел так думать, но я бы только дурачил сам себя. Нет, мама, мой маленький мир строится вокруг тебя и включает папу, всех домашних, моих друзей из В[улверхэмп]тона – вот за что стоит драться, – и если это укрепит твою безопасность и как-то улучшит твою судьбу, то за это стоит и умереть»11.
Надежды союзников войти в Германию – и даже выиграть войну – в 1944 г. рухнули не в конце сентября после провала операции Market Garden. Нет, они постепенно увядали в последующие недели, пока солдаты барахтались в море грязи и мелких неприятностей. Трагической попытке прорыва к Арнему досталось чересчур много внимания: даже если бы Монтгомери удалось захватить мост через Рейн, вряд ли он смог бы ворваться через него в Германию. Более перспективные возможности лежали на пути американской Первой армии Ходжеса – к Ахену и через границу Германии; в начале и середине сентября этот ближайший участок гитлеровского Западного вала был слабо защищен, но американцам, с 12 по 15 сентября непрерывно атаковавшим немцев, прорвать их оборону не удалось. Ходжес был самым непримечательным из всех американских командармов, и его осеннее наступление шло медленно и неуклюже. Прошло еще пять недель, прежде чем Первая армия заняла руины Ахена. Если бы здесь командовал Паттон, то, возможно, он бы сумел быстро прорвать линию Зигфрида. Но Третья армия Паттона весь сентябрь билась о Мец, проклиная зарядившие дожди, а единственным результатом этих сражений стали бесконечные списки убитых и раненых.
Следующей серьезной неудачей Ходжеса стал Хартгенский лес, который Ходжес считал угрозой своему правому флангу и тылу. В чащобах Хартгенского леса четыре американские дивизии два месяца вели отчаянные кровопролитные бои. Немцы бились с бульдожьим упрямством, взимая высокую цену за каждую отвоеванную пядь своей земли, и когда Первая армия к началу декабря вышла на Рурскую равнину, надежд на скорую победу уже не оставалось. Тем временем армии Монтгомери всю осень были вынуждены зачищать устье Шельды, чтобы выйти к Антверпену. В середине сентября, когда немцы были дезорганизованы, это можно было сделать за считаные дни, теперь же весь октябрь и ноябрь прошли в тяжелых боях на полузатопленной равнине. Подразделения союзников вновь и вновь под жестоким огнем немцев шли в атаку вдоль узких дамб.
Устье Шельды защищали не танковые войска СС или элитные пехотные части, а прозванная «дивизией белого хлеба» 70-я дивизия, сформированная из больных, которых один немецкий морской офицер нелестно охарактеризовал как «апатичный недисциплинированный сброд». Впрочем, чтобы стрелять из пулеметов и минометов в наступающих по равнине, особого умения не нужно: неделя за неделей эти хворые немцы успешно противостояли лучшим частям канадской армии. Командир личного Ее Величества полка стрелков писал об «ужасающих условиях жизни, в которых для выполнения простейших действий требуется огромное мужество. Идти в атаку приходится между дамбами, простреливаемыми противником. Пройти через польдер[24] означает идти вброд, иногда по грудь в воде, без малейшей возможности укрыться. Минометный огонь, на который немцы большие мастера, размолачивает любой пункт сбора… Для стрелка непривычно сражаться здесь, где нет больших решающих сражений, а одна лишь бесконечная неизменная битва»12. Большинство атак предпринималось силами взвода, наступающего шеренгой по одному. Пулеметный огонь немцев был настолько смертоносным, что соотношение убитых к раненым было на 50 % выше обычного.
За неделю сражения в Брескенском котле одна только канадская бригада потеряла 533 человека, в том числе 111 убитыми. К концу ноября одна дивизия потеряла 2077 человек, из них 544 убитыми и пропавшими без вести; потери другой дивизии составили 3650 человек за 33 дня – по 405 человек на каждый пехотный батальон. Такой уровень потерь немногим уступает потерям канадских войск в битве при Пашендейле в ноябре 1917 г. – битве, которая считается одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. Даже больные, почти непригодные к действительной службе немецкие солдаты смогли удерживать фронт, когда бункеры защищали их от всего, кроме прямого попадания снаряда: безлесный ландшафт сводил на нет любые тактические ухищрения наступающих, а использовать танки не представлялось возможным.
Десантная операция на полуострове Вальхерен 1 ноября была неорганизованной и стоила многих жертв; только через неделю тяжелых боев удалось заставить немцев сдаться. Первый конвой союзников разгрузился в порту Антверпена лишь 28 ноября. Учитывая то, что антверпенские доки каким-то чудом удалось захватить в целости и сохранности еще в сентябре, а проблема снабжения армий союзников стояла ребром с конца августа и до этого времени, можно сделать вывод, что медлительность с захватом устья Шельды стала самой крупной ошибкой всей кампании.
Ответственность за это ложится на командиров союзников всех уровней, начиная с Эйзенхауэра. Но оперативную ответственность нес Монтгомери – генерал, считавший себя мастером военных действий, так что основная вина ложится на него. «К началу зимы американцы перестали считать Монти забавным, – писал генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган, – а если говорить о [Беделле] Смите и Брэдли… презрение перерастало в неприкрытую ненависть»13.
Западные союзники упустили возможность прорваться в Германию в сентябре – возможность крайне маловероятную, поскольку к этому времени они не обладали достаточной боевой мощью, чтобы выиграть войну в 1944 г., из-за того, что поддались эйфории побед во Франции. Им недоставало энергии и изобретательности, чтобы преодолеть проблемы со снабжением, как в свое время делал вермахт при наступлении. Существует мнение, что армия Эйзенхауэра не смогла нанести Германии решающий удар из-за нехватки войск и обеспечения, которые вопреки стратегии «Германия в первую очередь» ушли на Тихоокеанскую кампанию 1944 г. Это мнение представляется спорным. И в американской, и в британской армиях постоянно не хватало пехоты при избытке противотанковых и зенитных подразделений. У Монтгомери в 21-й группе армий было лишь 47 120 первоклассных пехотинцев – 4,1 % от общей численности армии, а из высадившихся в Нормандии 662 000 британских солдат в пехоте значилось только 82 00014. В течение зимы некоторые противотанковые и зенитные подразделения были разбиты, и их личный состав превратился в пехоту, но до самого завершения кампании слишком мало британских и американских солдат сражалось и слишком много занималось несущественными задачами. На тактике союзников плохо сказывалась чрезмерная зависимость от механизированных средств передвижения.
Англо-американцы не смогли превратить большую победу в решающую и поплатились за это месяцами сражений. Wacht, газета Девятнадцатой немецкой армии, 1 октября писала: «Англичане, а еще больше американцы всю войну старались избегать больших потерь… Они не готовы к полной самоотверженности, к честному солдатскому самопожертвованию… Американская пехота идет в наступление только вслед за танковым клином, атакует только после потока бомб и снарядов. И как только они встречают немецкое сопротивление, они тут же откладывают наступление до следующего дня и мощной артподготовки»15. Конечно, это тенденциозный взгляд, но трудно назвать его полностью неверным.
Зима 1944 г. в Западной Европе выдалась на редкость дождливая. С самого октября погода играла на руку немцам, препятствуя любым боевым действиям. «Господин генерал, – писал 11 ноября Эйзенхауэр Маршаллу, – меня чрезвычайно удручает погода»16. Погодные условия досаждали обеим воюющим сторонам, но союзникам, которые стремились вперед, они досаждали больше. Из-за размокшей земли было совершенно невозможно двигаться по бездорожью; танки увязали в грязи по самое днище, а автомобили – по самые оси; авиационные вылеты сократились до минимума, а немцы использовали для обороны любую водную преграду.
Британцы, столкнувшись с истощением людских резервов страны, стремились снизить потери до минимума; всю зиму они медленно продвигались по восточной Голландии, иногда неделями не двигаясь с места. Неймеген был всего лишь в 50 км от Везеля, но между ними лежал лес Рейхсвальд; от захвата Неймегена и до переправы британцев через Рейн у Везеля 23 марта 1945 г. прошло шесть месяцев.
При всей популярности Паттона его Третья армия весьма медленно двигалась через Эльзас и Лотарингию и вышла к границе Германии только к середине декабря. Шестая группа армий генерала Джейка Деверса, справа от Паттона, встретила ожесточенное сопротивление немцев, оборонявших плацдарм на западном берегу верхнего Рейна (так называемый «Кольмарский мешок»). Во время боев на Вогезах рядовой Уильям Цушида, санитар, писал родителям:
«Здесь жуткая неразбериха. В моем мозгу какая-то беспорядочная смесь из раненых и больных, из обычных ночных страхов и ожидания рассвета. Остальное я стараюсь выкинуть из головы как можно быстрее, уж слишком оно мерзкое. Надеюсь, все те, кто в армии сидит на “теплых местечках”, понимают, что чувствуют люди в боевых частях, днем и ночью… Я иногда впадаю в такое оцепенение, что, когда выпадает свободная минутка, приходится заставлять себя что-нибудь почитать, журнал или старое письмо. Все сводится к тому, что ты думаешь, сейчас тебе поесть или потом, или надеешься отыскать сухое место для ночлега, или надеешься, что потери будут меньше. Надежды, одни надежды»17.
Рядовой 1-го класса десантник Билл Тру был тронут до глубины души, когда однажды вечером во время битвы за Голландию в его окоп, который он делил с другим солдатом, пришла маленькая девочка и принесла две подушки. Это был крошечный отзвук мирной жизни, которая до того момента казалась ему невообразимо далекой.
У союзников, несмотря на то что корабли стали разгружаться в Антверпене, продолжались проблемы со снабжением. Их солдаты нуждались в гораздо более разнообразных продуктах питания и удобствах, чем солдаты вермахта, и даже для скромных боевых задач расходовали чересчур много боеприпасов. Продвигавшиеся по Европе войска Эйзенхауэра вели себя гораздо пристойнее, чем русские, но, конечно, чуть ли не все солдаты, живущие в постоянном страхе смерти, склонны расхищать чужое имущество. Голландский врач описывает свои чувства от посещения находившегося сразу за линией фронта городка Венрай, где разместились британские солдаты: «Не могу описать словами, как я был потрясен, увидев, как разграблен и разрушен город. Я встретил пожилого английского офицера, его слова говорят сами за себя: “Я в высшей степени сожалею и стыжусь; наша армия лишилась здесь своей чести”»18.
На Западном фронте, в отличие от Восточного, убийство пленных никогда не считалось законным, но солдаты Эйзенхауэра тоже совершали преступления такого рода. Один канадский солдат рассказывает, как в Голландии во время патрулирования они захватили восьмерых «безлошадных» немецких танкистов, которые пробирались к своим. Их офицер хорошо говорил по-английски, и противники несколько минут поболтали о погоде, о холоде, о том, как было бы здорово разжечь костер. Они как раз шли мимо фермы, разговаривая о том, что там могут быть самогон и поросята; вот бы их поджарить! Канадец потом говорил: «Для него война закончилась, и он, я думаю, был этому рад»19. Потом канадский лейтенант вдруг повернулся к своему пулеметчику и сказал: «Пристрели их». Немецкий офицер – тот, который шутил, – «побежал вперед, обхватив себя руками, и что-то сказал, а наш парень с “Бреном” дал очередь… Двое, я помню, дергались, как лососи на остроге, и этот парень, “Блонди” с Кейп-Бретона – мы звали его “Блонди”, потому что он все хвастался, какой он был крутой шахтер, – он добил этих двух из пистолета… Я думаю, в наших документах это зафиксировано как уничтожение немецкого патруля. Никто из нас на это особенно и внимания не обратил… Но я вам скажу, что, если бы такое случилось со мной на год раньше, так я бы, наверно, все кишки из себя выблевал».
Союзники с огромным трудом продвигались к границам Германии, преодолевая метр за метром. Рядовой Роберт Котловиц, попав под убийственный пулеметный огонь немцев во время ноябрьского наступления в Эльзасе, через несколько секунд вдруг осознал, что из всего отделения он один остался жив и невредим:
«С этого момента на меня наваливалась растерянность, дезориентация; я помню запах жидкой грязи в ноздрях… слюна мгновенно пересохла во рту и наступило обезвоживание; неестественно острое ощущение собственного тела, как если бы я держал всю его тяжесть; мой собственный худой иссохший скелет, в ожидании лежащий на земле; тяжеловесное наличие растущих из него конечностей, прикрытый каской череп, вибрирующий торс и беззащитную промежность. Нежные гениталии, подтянувшиеся к тазу, и мочевой пузырь, нестерпимо раздутый… Звуки ружейного и пулеметного огня, человеческих голосов, зовущих на помощь, орущих от боли или ужаса, – голоса наших ребят, вначале неразличимые, непривычные по тембру и тону. И жужжание в моей собственной голове, стремящееся заглушить звуки, обрушившиеся на меня снаружи»20.
Он пролежал без движения до темноты, а потом его вынесли санитары. У него развился военный невроз; на передовую Котловиц больше не вернулся. Британский лейтенант Тони Финукейн описывал, как его батальон «шел на сближение с противником» в Голландии: «Мы растянулись по равнине, и это было похоже на непринужденную прогулку под вечерним солнцем. Когда мы уже приближались к месту и люди уже собирались поскорее окапываться, пока не стемнело, вдруг в нескольких десятках метров от себя мы увидели множество людей в сером, которые шли примерно в таком же построении. Представляете?! Два батальона сошлись на открытом месте! Через считаные секунды две маленькие пехотные армии вступили в настоящее боевое столкновение (а заодно и столпотворение). У нас огневой поддержки не было вообще, а наши враги (мы их обычно именовали “подлыми гуннами”) открыли огонь из чего-то вроде двадцатимиллиметровой зенитной пушки. Но в этой стычке с примерно равными шансами мы оказались лучше. Они отошли где-то на полмили»21.
Но каждая такая стычка, пусть даже победная, для британцев означала потерю времени и безвозвратные утраты. К декабрю, когда взвод Финукейна оказался в Клеве, из 35 человек в нем уцелело лишь 11. Когда их бригадир осматривал передовые позиции, ему доложили об убыли в стрелковых подразделениях, и он сказал со вздохом: «Вот о чем я все время твержу генералу. Пропорционально к общей численности потери выглядят не такими уж страшными, но все они приходятся на боевые части»22. Говорят, что Алан Брук как-то сожалел, что британские войска волею обстоятельств оказались на левом, а не на правом фланге армии Эйзенхауэра23. Начальник британского генштаба полагал, что на юге армия Монтгомери действовала бы более эффективно, чем американцы. В этом вопросе он, несомненно, заблуждался. Его суждения свидетельствуют лишь о недоверии между американцами и англичанами, которое особенно ярко проявлялось в неприязненных генеральских разборах неудач и поражений союзника.
Интересно, что Сталин той зимой высоко оценил действия англо-американцев – лучше, чем когда-либо раньше, несмотря на то что между союзниками возникли трения из-за того, что русские отказались поддержать поляков в их злополучном Варшавском восстании. «Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии, – говорил он на заседании Моссовета 6 ноября 1944 г., – нужно считать тот факт, что Красная армия вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущие годы, а совместно с войсками наших союзников. Тегеранская конференция не прошла даром. Решение Тегеранской конференции о совместном ударе по Германии с запада, востока и юга стало осуществляться с поразительной точностью… Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий срок сломить сопротивление немецких войск и вышибить их из пределов Советского Союза. Но также несомненно и то, что без мощных наступательных операций Красной армии летом этого года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников не смогли бы так быстро расправиться с немецкими войсками и вышибить их из пределов средней Италии, Франции, Бельгии. Задача состоит в том, чтобы держать Германию и впредь в тисках между двумя фронтами»24.
В декабре выпал снег, и армиям Эйзенхауэра пришлось привыкать к холоду, а затем, когда позволили погодные условия, продолжать наступление. Человеку невоенному трудно себе представить, каково жить зимой под открытым небом, неделя за неделей, месяц за месяцем. «Наша палатка и одежда промокли и наполовину задубели, – писал американский солдат Джордж Нил. – Я до того закоченел, что мне было уже почти наплевать, что со мной происходит». В его темном окопе «температура упала гораздо ниже нуля. Полужидкая слякоть на дне ячейки превратилась в камень. Мы просто лежали там в позах эмбрионов и проклинали все на свете… Мы с ребятами сходились на том, что невозможно себе представить более отчаявшихся, несчастных и унылых созданий, чем мы тогда»25. Так чувствовали себя миллионы солдат по обе стороны фронта с октября 1944 г. по март 1945 г. На фронте не редкостью была «окопная стопа»[25], особенно в тех частях, где падал боевой дух и люди переставали следить за собой. Дизентерия считалась обычным явлением. Процесс опорожнения желудка и связанные с этим проблемы стали навязчивой мыслью для миллионов фронтовиков. В полевых условиях многие не добегали до отхожего места, а некоторые не успевали даже снять штаны перед дефекацией.
Воевать вообще ужасно, но воевать в обгаженной одежде ужасно вдвойне. У танковых экипажей имелась своя унизительная специфика. Немецкий механик-водитель пишет: «Сквозь смотровую щель мне часто приходилось видеть занятное зрелище, как бравые вояки, со спущенными до лодыжек штанами, цепляясь за башню мчащегося танка, изо всех сил тужатся, отчаянно надеясь совершить почти невозможное»26. Пехотинец Ги Сайер во время отступления с Дона потерял контроль над кишечником и понемногу привык, как и остальные пассажиры их грузовика, трястись сквозь бесконечные снега в грязи собственных фекалий. Рядовой первого класса Дональд Шу страдал от той же напасти во время битвы за Арденны. Когда ему удавалось опорожниться в деревянный ящик из-под боеприпасов, «задница слишком болела, чтоб еще ее и подтирать, так что просто натягивал штаны и возвращался в свой окоп. Никто тебе не скажет, что ты воняешь, потому что все воняют»27.
Роберт Котловиц в Эльзасе сидел, сжавшись в окопе, и вдруг его кишечник взорвался. Роберт отскочил в сторону, содрал с себя штаны и присел на корточки. «Господи Исусе! Убирайся на свое место!» – крикнул его приятель. Котловиц, занятый требованиями своего тела, лишь виновато взглянул на него.
«Тут откуда-то неподалеку долетел звук винтовочного выстрела, и в метре позади меня, расплескав грязь, в землю ударила пуля… Я посмотрел вперед, не вставая с корточек и прикрывая глаза ладонью, и увидел немецкого солдата – от пояса и выше… в паре сотен метров от меня… он смеялся. Я очень ярко себе все это представляю: детали его формы, эти их торчащие погоны на плечах, высокий воротник, непокрытая голова. Мне даже показалось, что я вижу его зубы… Еще один выстрел – и снова промах… Опять всплеск грязи. Но на этот раз я уже был на ногах, подхватил свои штаны и в следующий миг уже был в своем окопе… Я думаю, сукин сын нарочно по мне промахнулся… он просто хотел чем-то развлечься после обеда, чтобы не так скучно было, – тут-то я ему и подвернулся»28.
Гораздо худшие переживания выпали на долю раненых в кишечник. Медсестра армии США Дороти Биверс отмечала, что пациенты ее полевого госпиталя переносили ампутацию конечностей с показной стойкостью, зато те, кому вывели прямую кишку во внешний калосборник, нередко «рыдали при виде собственных испражнений в мешке»29. Невозможно перечислить все несчастья и невзгоды, проистекавшие от пуль, взрывов, болезней и природных явлений.
Зимой 1944 г. Гитлер уже знал о предстоящем наступлении Красной армии. И он, невзирая на тяжелые погодные условия, приказал нанести сокрушительный удар по армиям Эйзенхауэра, чтобы разбить их до начала советского наступления. Вопреки яростному сопротивлению своих генералов, Гитлер приказал нанести удар на Западном фронте в самое «невоенное» время года и самом неожиданном для союзников месте: в Арденнском лесу, на стыке границ Германии, Бельгии и Люксембурга. Целью наступления был захват Антверпена и разрыв фронта союзников. Были созданы две новые танковые армии, выделены тридцать дивизий и запас драгоценного горючего. «Если вы будете храбрыми, старательными и изобретательными, – слушали промерзшие фольксгренадеры приказ от 16 декабря, – то вы поедете на американских грузовиках, объедаясь прекрасной американской едой. Если же вы будете глупы, трусливы и ленивы, вы пройдете весь путь до Ла-Манша пешком, в холоде и голоде»30.
В тот же день 16 декабря операция Autumn Mist началась с наступления на самый слабый участок обороны Первой американской армии Ходжеса. Для союзников это оказалось полной тактической и стратегической неожиданностью: немцы прорвались на участке 60 км шириной; охваченные паникой американские войска были разбиты и беспорядочно отступали с пути танковых дивизий СС; авиация союзников не могла прийти на помощь из-за густого тумана. За два дня немцы пробили огромную дыру – «выступ» – в американской линии фронта. Британский начальник разведки войск Эйзенхауэра генерал-майор Кеннет Стронг несет значительную долю ответственности за то, что не смог распознать опасность сосредоточения немецких сил на Арденнах, выявленного с помощью дешифратора Ultra. Стронг сообщил главнокомандующему, что обнаруженные в этом районе немецкие соединения находятся на отдыхе и переформировании. Основная ошибка многих американских и британских высших офицеров состояла в том, что они уверовали в свое превосходство и поэтому не рассматривали всерьез возможность массированного немецкого наступления.
Лейтенант Тони Муди оказался одним из множества юных американцев, которых ошеломило это немецкое наступление. «Вначале я не испугался – меня больше пугала неопределенность: перед нами не были поставлены задачи, мы не знали, где находятся немцы. Мы устали, у нас не было еды, совсем мало боеприпасов. Была паника, был хаос. Если ты думаешь, что тебя окружили превосходящие силы противника, ты драпаешь со всех ног. Я был деморализован, чувствовал себя совсем погано. Обморозился. Сильно переживал из-за этого. Я все думал: “Боже мой, во что это я влип? Сколько я еще смогу выдержать?” Вдруг выяснилось, что я остался совсем один, и я пошел оттуда прочь. Набрел на батальонный медпункт и там свалился… проспал двадцать четыре часа. Сознание стирает многие образы, но я запомнил чувство безнадежности, отчаяния. Просто хочешь умереть. Нам казалось, что немцы гораздо лучше обучены, лучше оснащены, они лучше дерутся, чем мы»31.
«Царил страх, – писал Дональд Берждет из 101-й десантной дивизии, которая сыграла решающую роль в стабилизации положения на фронте, в то время как солдаты других частей спасались бегством. – Страх распространяется быстрее лесного пожара, как чума. Если кто-то побежал, скоро за ним побегут другие. И все пропало: бегут толпы, у всех безумные глаза, всех подгоняет страх»32. Рядовой первого класса Гарольд Линдстром из Александрии, штат Миннесота, впал в такое отчаяние, что с завистью глядел на трупы немцев. «Они выглядели так спокойно. Война для них закончилась. Они больше не мерзли». Иногда он даже завидовал товарищам, которые решились прибегнуть к членовредительству: «Никто не узнает, сколько ран были настоящими, а сколько – самострелами»33. Командир пехотной роты пишет о боевых действиях у Стумона 21 декабря: «Стоял такой туман, что один мой солдат заметил немецкий пулемет только в десяти метрах впереди… Все были перепуганы до крайности. Лишились силы духа даже те, которые раньше казались несгибаемыми»34.
Молодой пехотинец рассказывает о том, что делал, когда ранило его соседа по окопу: «Гордона прошило пулеметной очередью от левого бедра и направо по диагонали до пояса. Он… сказал мне, что и желудок тоже прострелен… Мы были отрезаны… Мы остались в окопах одни, и оба понимали, что ему предстоит умереть. Морфина у нас не было. Мы не могли облегчить [боль], и я попытался его “отключить”. Я снял с него каску, задрал ему голову и ударил в челюсть изо всех сил, потому что он хотел потерять сознание. Но не получилось, и тогда я ударил его каской по голове, но опять не получилось. Ничего не получалось. Он так понемногу и замерз до смерти, истек кровью и умер»35.
Гражданскому населению Бельгии сильно досталось от обеих воюющих сторон. Немцы, ненадолго вернувшись в освобожденные было города и деревни, нашли время расправиться со множеством мирных бельгийцев, приговорив их к смерти за сопротивление или просто казнив в назидание другим. Жестокость некоторых подчиненных Моделя вполне отвечала ядовитой характеристике немцев в 1944–1945 гг.: раз уж им предстояло проиграть войну и (возможно) умереть, то они хотели прихватить с собой как можно больше врагов. Отчаянное положение бельгийцев еще больше усугубляли бомбежки и артобстрелы союзников: так, в маленьком городке Уффализ погибли 192 человека: все, кроме восьмерых, от бомб союзников; 27 погибших были моложе 15 лет; выжившим достались лишь развалины и голод36. Двадцать обитателей деревни Сенле, неподалеку от Бастони, погибли при бомбардировке, разрушившей все дома без исключения. Восемь человек из этих двадцати были членами семьи Дидье: Жозеф (42 года), Мари-Анжель (16), Алис (15), Рене (13), Люсиль (11), Бернадетт (9), Люсьен (8) и Ноэль (6 лет). По всему полю сражений в Бельгии и Люксембурге беспрепятственно рыскали мародеры как из немецких, так и из союзнических войск.
Вначале танкисты Моделя радовались победам, а командование союзников пребывало в потрясении и растерянности. Небольшой отряд переодетых в американскую форму англоговорящих диверсантов под командованием Отто Скорцени вызвал эпидемию страха перед «пятой колонной», и союзники начали расстреливать всякого переодетого солдата противника. Новогодний налет на аэродромы союзников обошелся люфтваффе в три сотни машин, а уничтожить удалось 156 американских и британских самолетов, которые легко заменили новыми. Эти налеты усиливали смятение военачальников Эйзенхауэра, но на самом деле стратегические трудности англо-американских сил были далеко не так серьезны, как это им вначале представлялось. У них имелись мощные резервы, немцам же катастрофически недоставало танков, авиации, горючего и квалифицированных людских ресурсов. За грозными танковыми дивизиями СС шла пехота, своим боевым духом значительно уступавшая победоносному вермахту образца 1940–1941 гг. Тыловое обеспечение немецкого ударного кулака через теснины Арденн также сопровождалось огромными проблемами; после нескольких дней наступления танки Моделя остановились из-за нехватки горючего.
Отступление союзников все же не переросло в бегство благодаря упорному сопротивлению некоторых американских частей, наиболее сильному на краях «выступа». Подтянулись американские резервы, в том числе две воздушно-десантные дивизии. Один из солдат Брэдли видел, как отходят в тыл выжившие в жестокой битве у Шено 20–21 декабря. «Жалкие остатки 1-го батальона вяло, не держа строй, брели назад по дороге: жуткий контраст с тем бравым батальоном, что всего лишь считаные дни назад шел той же дороге вперед, полный боевого задора и веселья. Заросшие щетиной, с красными от усталости глазами, грязные с ног до головы, они шли, глядя перед собой безучастным взглядом. Никто не разговаривал… Они вписали в историю страницу, о которой еще мало кто знал… настолько смешались места, события и подразделения в ведьмином котле этой битвы»37. К союзникам каждый день подходили все новые подкрепления, а когда американская артиллерия начала сокрушительный обстрел, положение немцев стало стремительно ухудшаться. «Мы с моим сержантом прыгнули в ров, – писал старший сержант СС Карл Ляйтнер о том, что он пережил 21 декабря. – Минут через десять снаряд разорвался справа от нас – похоже, попал в дерево. Мой сержант, видимо, получил тяжелое ранение в горло – он захрипел и вскоре умер. Меня самого ранило осколком в правое бедро. Потом снаряд ударил в дерево позади. Один осколок попал мне в левую лодыжку, другими мне посекло правую ступню и лодыжку. Я наполовину укрылся под своим убитым товарищем… Осколками еще одного снаряда меня ранило в левое плечо»38. Только через несколько часов Ляйтнера эвакуировали на перевязочный пункт, и все это время американский обстрел не ослабевал.
Монтгомери принял командование северным сектором фронта и выделил значительные силы для отражения немецкого наступления, если оно достигнет британских танковых соединений, чего по большей части не случилось. 22 декабря погода улучшилась настолько, что авиация союзников смогла летать – с печальными последствиями для немецких танков. Бронированный германский кулак продвинулся максимум на 100 км до Фуа-Нотр-Дам, самой дальней точки, но 3 января, когда у танков Моделя закончились и горючее, и наступательный порыв, их контратаковали с севера и с юга армии Паттона и Ходжеса. 16 января американские клещи, преодолевая глубокий снег и сопротивление противника, сомкнулись возле Уффализа. Немцы из полумиллионной группировки потеряли 100 000 человек, почти всю бронетехнику и авиацию. Капитан вермахта Рольф-Гельмут Шредер рассказывал о своем участии в «сражении за Выступ»: «Мы закончили его там же, где и начали; и тогда я уже понимал: это конец»39. В январе 1945 г. Шредер осознал неизбежность поражения Германии – то, что не желал принимать месяцем ранее.
Союзникам недостало отваги окружить отступавших немцев: части Моделя отступали в полном порядке, и американцы не столько теснили их, сколько догоняли. Эйзенхауэр, переживший тяжелое потрясение от кампании на северо-западе Европы, вполне удовлетворился возвращением на прежние позиции. Битва в Арденнах придала некоторым командирам осмотрительность, сохранившуюся до конца войны. По едкому выражению сэра Фредерика Моргана, «американцы непривычны к несчастьям, которые британцы воспринимают как мелкие случайности на неизбежно ухабистой дороге к окончательной победе»40.
«Отчет о победе обычно довольно банален и скучен, – писал авторитетный американский историк Мартин Блюменсон. – Командиры, как правило, отличаются не храбростью, а опытом, и не отчаянностью, а благоразумием, и Джордж Паттон в этом отношении, конечно, заметное исключение из правил»41. И если репутация Паттона как энергичного командира только выиграла благодаря восстановлению фронта в Арденнах, то его тяга к необдуманным поступкам осталась неизменной. Посетив полевой госпиталь, он чуть было не повторил ошибку наподобие того давнего инцидента на Сицилии с больными военным неврозом. Спросив у одного солдата, при каких обстоятельствах он был ранен, Паттон взорвался, услышав в ответ: «Я выстрелил себе в ногу». Потом этот раненый, у которого была раздроблена лодыжка, добавил: «Генерал, я побывал в Африке, на Сицилии, во Франции и вот теперь в Германии. Если бы я хотел “откосить” от армии, я бы уже давно “откосил”». «Извини, сынок, я был неправ», – сказал Паттон42.
Больше всего от наступления в Арденнах пострадали немцы. Многие теперь надеялись лишь на то, что их города и деревни захватят не русские, а западные союзники. Но после потрясений декабря 1944 г. Эйзенхауэр строил свои стратегические планы гораздо осмотрительнее. Его армии медлительно продвигались вглубь Германии, принимая все возможные меры, чтобы защитить фланги от немецких контратак.
А вот русским на Восточном фронте потери Гитлера пришлись весьма кстати: когда 12 января 1945 г. они начали свое грандиозное наступление, множество немецких танков, которые могли бы им противостоять, лежали на Арденнах грудами искореженного железа. Арденнское сражение, исчерпавшее танковые резервы немцев, ускорило конец гитлеровской Германии, причем худшим для немецкого народа образом. В результате дорогу к столице Гитлера проложили не американцы и британцы, а именно Красная армия. Лишь 28 января силы Эйзенхауэра вновь вышли на рубежи, которые занимали до начала гитлеровской операции Autumn Mist.
В то время как битва в Арденнах красовалась в заголовках газет по всему миру, в Италии англо-американские войска продолжали свое неблагодарное, мучительно медленное наступление на север полуострова. Солдат союзных армий в Италии все больше изводили мысли о том, что перенесенные ими тяготы принесли незначительные результаты и вряд ли получат признание в глазах общественности. В некоторых частях дисциплина расшаталась до опасного уровня. Лейтенант Алекс Боулби писал, что взвод его пехотного батальона, узнав, что презираемый ими офицер представлен к награждению Военным крестом, подал коллективный протест. Представление было отозвано, но Боулби чувствовал, что его бойцы с неохотой идут в патруль, в атаку и вообще готовы взбунтоваться43. Впрочем, отмечалось, что подразделение Боулби было нетипично слабым и многие другие подразделения сохраняли высокий боевой дух и стремление к победе, и это, несомненно, правда. Но, когда солдаты знали, что исход войны решается не здесь, их было нелегко заставить рисковать жизнью, а то и жертвовать собой.
Весной 1945 г. союзники наконец-то получили хороших командующих, и заключительная фаза итальянской кампании прошла гораздо удачнее. Луциан Траскотт в декабре 1944 г. сменил генерала Кларка на посту командующего Пятой армии США, а в Восьмой британской армии Ричард Маккрири занял место Оливера Лиза. Оба новых командующих проявили воображение, которого так недоставало их предшественникам: в частности, они не увлекались лобовыми атаками. Вытеснение немецких войск, пусть даже и изрядно потрепанных, из долины реки По было прекрасным военным достижением – слишком запоздалым, увы, чтобы существенно повлиять на эндшпиль этой войны.
Но среди сражавшихся в Италии находились и те, у кого были особые причины для недовольства исходом итальянской кампании. В начале февраля 1945 г. на Ялтинской конференции было решено, что освобожденную от нацистов Польшу возглавит коммунистическое правительство, а восточная часть страны останется у Советского Союза. 13 февраля командир Польского корпуса в Италии генерал-майор Владислав Андерс в письме британскому главнокомандующему говорит о жертвах, которые понесли его бойцы начиная с 1942 г.: «Мы идем по пути, который считаем своей битвой за освобождение Польши, оставляя за собой могилы тысяч наших товарищей по оружию. Поэтому солдаты Второго Польского корпуса считают последние решения конференции трех держав вопиющей несправедливостью… Этот солдат теперь спрашивает меня, в чем же цель его борьбы? И сегодня я не могу ответить на этот вопрос»44. Андерс был решительно настроен отвести свой корпус с фронта, и Маккрири еле отговорил его. Поляки цеплялись за несбыточную надежду на то, что их ратный вклад поможет изменить решения Ялтинской конференции. Но на самом деле каждая из воюющих сторон намеревалась определить будущее оккупированных ей стран в соответствии с собственными воззрениями. Солдаты Сталина уже вошли в Польшу, ради которой Британия и Франция вступили в эту войну, а западные армии были еще далеко.
24. Падение Третьего рейха
1. Будапешт: в глазу урагана
В конце октября 1944 г. Генрих Гиммлер, находясь в Восточной Пруссии, произнес апокалиптическую речь, в которой наметил задачи последней линии обороны рейха: «Наши враги должны знать, что каждый километр, который они пройдут вглубь нашей страны, будет стоить им рек крови. Они окажутся на минном поле из живых мин, которыми станут фанатичные бескомпромиссные истребители; на каждом этаже каждого городского дома, в каждой деревне, на каждой ферме, в каждом лесу займут оборону мужчины, подростки и старики, а если потребуется – то и женщины, и девочки». В следующие месяцы на Восточном фронте его замыслы были в значительной степени воплощены: 1,2 млн немецких солдат и около четверти миллиона человек гражданского населения погибли, тщетно пытаясь остановить наступление русских. Погибло множество граждан тех стран, правительства которых опрометчиво заключили союз с Третьим рейхом в годы его господства в Европе. Такая же судьба постигла и тех, кто добровольно стал служить идеям нацизма. Треть всех потерь Германии на Востоке пришлась на последние месяцы войны – эти жертвы были принесены во имя воплощения безумных планов нацистского руководства.
Среди тех, кто оказался на пути колоссальной советской военной машины, было девятимиллионное население Венгрии – страны, где популярна мрачная шутка: дескать, мы героически проиграли все войны, которые вели на протяжении 500 лет. Теперь же венгров ожидала расплата за поддержку проигрывающей стороны в самом ужасном конфликте в истории. В начале декабря 1944 г. под ослабевающим огнем оборонявшихся русские форсировали Дунай, как всегда, не считаясь с потерями. Венгерский гусар долго разглядывал тела погибших, сваленные кучами на берегу реки, а затем, потрясенный, повернулся к офицеру и спросил: «Господин лейтенант, если они так обращаются со своими солдатами, что они делают с противником?»1 После одной из атак Красной армии к северу от Будапешта обороняющиеся сняли с колючей проволоки корчащееся тело.
«Обритый наголо юный новобранец с монгольскими скулами лежит на спине, – записал один венгр. – Шевелятся только его губы. У него полностью оторваны ноги и по локоть – руки. Культи облеплены толстым слоем земли, смешанной с кровью и сгнившими листьями. Я наклоняюсь к нему совсем близко. “Будапешт… Будапешт…” – шепчет он в агонии… Может, ему мерещится город с богатыми трофеями и красивыми женщинами… И вдруг, к собственному удивлению, я достаю пистолет, приставляю его к виску умирающего и нажимаю на курок»2.
Вскоре венгерская столица оказалась в центре одного из самых ожесточенных сражений войны, которое было едва замечено на Западе, потому что совпало сначала с наступлением Гитлера на Арденны, а затем с массированным наступлением русских севернее. В последние дни декабря, несмотря на глубокий снег, Второй Украинский фронт маршала Родиона Малиновского сомкнул кольцо вокруг города. Путч, организованный нацистами, сорвал попытку венгерского правительства сдаться Сталину. В результате страна оказалась в руках фашистского режима, пользующегося поддержкой вооруженного ополчения венгерской экстремистской партии «Скрещенные стрелы». Войска гарнизона сражались на стороне Германии, хотя непрерывный поток дезертиров свидетельствовал о стремительном падении боевого духа войск.
Любопытно, что гражданское население оставалось совершенно не осведомленным о надвигающейся катастрофе: театры и кино в Будапеште не закрывались до Нового года. 23 декабря, когда в оперном театре шла «Аида», на авансцену перед опущенным занавесом вышел актер, одетый в солдатское обмундирование. Он передал поздравления с фронта зрителями в полупустом партере, выразил удовлетворение тем, что все ведут себя спокойнее и оптимистичнее, чем несколько недель назад, а затем, как вспоминал один из зрителей, «обещал, что Будапешт останется венгерским и что нашей чудесной столице нечего бояться»3. Семьи украшали рождественские елки «отражателями»: серебристыми полосками фольги, которые сбрасывались с британских и американских бомбардировщиков для помех немецким радарам. Из миллиона жителей города многие проигнорировали неминуемую угрозу и не воспользовались возможностью бегства на Запад. Некоторые с нетерпением ждали момента, когда можно будет приветствовать русских освободителей. Слушая приближающуюся канонаду артиллерии Малиновского, либеральный политический деятель Имре Чечи писал: «Это самая красивая рождественская музыка. Неужели нас скоро освободят? Да поможет нам Бог, и да настанет конец правлению этих бандитов»4.
Сталин приказал взять Будапешт и сначала надеялся сделать это без боя: даже когда русские почти закончили окружение столицы, они оставили открытым коридор на западе для отхода гарнизона. Немецкий командующий фронтом хотел оставить город; Гитлер, с присущим ему фанатизмом, настаивал, чтобы город обороняли до последнего. На позициях оставались примерно 50 000 немецких и 45 000 венгерских солдат, с самого начала понимавших, что их положение безнадежно. Один артиллерийский дивизион был укомплектован украинцами в польском обмундировании с немецкими знаками различия. О бронекавалерийской дивизии СС говорили, что ее личный состав «полностью деморализован», а три венгерских полка полиции СС считались «крайне ненадежными». Генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух, командовавший германскими войсками, не выходил из бункера шесть недель, а его вид выражал безграничное уныние. Одному венгерскому генералу настолько опротивели бесчисленные случаи дезертирства своих солдат, что он надменно заявил, что «не собирается жертвовать своей военной карьерой»5, и устранился от командования, сказавшись больным.
Однако, как это часто бывает, после вступления в бой воюющие стороны лишились возможности выйти из смертельной схватки, которая развивалась уже по собственным законам. С 30 декабря тысяча советских орудий начали массированный артобстрел Будапешта по 10 часов ежедневно, а в промежутках происходили воздушные налеты. Жители города укрывались в подвалах, которые не спасли многих от смерти в дыму и огне пожаров. Через три дня русские танки и пехота начали наступление, сокращая периметр немецкого плацдарма на берегу Дуная со стороны Пешта и одновременно метр за метром продвигаясь в Буду.
Венгерский офицер артиллерии капитан Шандор Ханак готовился отразить наступление противника 7 января, укрываясь за деревянным забором городского ипподрома. «Русские… шли на нас по дорожке ипподрома, они пели, взявшись за руки… по-видимому, они были пьяны. Мы повалили забор, дали залп осколочными гранатами и открыли пулеметный огонь в их гущу. Они побежали на трибуны, по которым открыли огонь штурмовые орудия, и обстрел трибун продолжался, сектор за сектором, пока русские не превратились в кровавое месиво. Немцы подсчитали, что их потери составили примерно 800 человек»6. Наконец, когда оборонявшихся вытеснили с плацдармов перед мостами в Пеште и были взорваны мосты через Дунай, гарнизон в Буде продолжал сопротивление, сражаясь за каждую улицу и каждый дом. В некоторых местах русские гнали перед собой пленных, которые в отчаянии кричали: «Мы венгры!» – но в них стреляли с обеих сторон. Может показаться невероятным, но группа из 70 русских перешла на сторону обороняющихся, сказав, что они больше боятся отступать и попасть под пулеметный огонь заградительных отрядов НКВД во второй линии собственных порядков, чем оторваться от них и сдаться в плен7. Вынужденные союзники Сталина несли тяжелые потери: 16 января румынский корпус доложил, что потери с октября составили 23 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести – больше 60 % численности.
Для подноса боеприпасов под огнем русские мобилизовали злополучных местных жителей. Русские продвигались вперед, улица за улицей, но встречали отпор и несли тяжелые потери всегда, когда оказывались на открытом пространстве, простреливаемом немецкими и венгерскими силами. Положение обороняющихся было еще хуже: рядовой Денеш Васс карабкался по раненым из гражданских и военных, которые лежали в коридорах командного пункта его подразделения. Чья-то рука поднялась и вцепилась в его шинель. «Это была красивая светловолосая девушка примерно 18–20 лет. Она шепотом попросила меня: “Возьми пистолет и застрели меня”. Я посмотрел на нее внимательнее и с ужасом понял, что у нее нет обеих ног»8.
Все жители города – мужчины, женщины и дети – ужасно голодали. Были съедены все 25 000 лошадей гарнизона. Из 2500 животных в зоопарке выжили только 14, остальные погибли под советским огнем или были забиты на мясо; в течение нескольких недель по рельсам в подземных туннелях бродил лев, пока его не поймал советский отряд, специально направленный для этой цели. После собрания в штабе 26 января один немецкий офицер записал следующее: «Уходя из зала после собрания, некоторые командиры вслух возмущались тупым упрямством Гитлера. Даже в СС многие начинают сомневаться в разумности его руководства»9. Высокопоставленный венгерский генерал 1 февраля докладывал в министерство обороны: «Положение со снабжением невыносимо. Дневной паек на следующие пять дней составляет: 5 г свиного жира, 1 ломтик хлеба и немного конины… Постоянно увеличивается распространение вшей среди солдат, особенно среди раненых. Есть уже шесть случаев сыпного тифа»10. Люфтваффе продолжала сбрасывать мизерное количество продовольствия, основная часть которого оказывалась на территории, занятой русскими войсками. Голодающих горожан, пытавшихся в поисках пищи вскрыть сброшенные с парашютом контейнеры, убивали на месте. В родильном отделении больницы нянечки прижимали к груди лишившихся матерей младенцев, чтобы хотя бы немного согреть их своими телами, пока младенцы медленно умирали от голода.
На протяжении всей осады продолжалось истребление евреев Будапешта. Утром 24 декабря боевики партии «Скрещенные стрелы» приехали на автомобилях к еврейскому детдому на улице Михая Мункачи, вывели детей и нянечек во внутренний двор находившихся поблизости Радецких казарм и построили их в одну шеренгу перед пулеметом. Детей спасла внезапная атака русских, которая принудила палачей спасаться бегством, но родителей этих детей депортировали и казнили задолго до этого счастливого дня. Множество других евреев выводили на набережную Дуная и там расстреливали; лишь горстке узников удалось бежать, спрыгнув в ледяную реку
Офицер венгерской пехоты сделал замечание мальчишке из ополчения «Скрещенных стрел», который избивал старуху в колонне евреев, обреченных на расстрел: «Сынок, у тебя есть мать? Как ты можешь так поступать?» Мальчик небрежно отвечал: «Дядя, это всего лишь еврейка…»11 С середины октября 1944 г. до падения Будапешта в городе погибли или пропали без вести примерно 105 453 еврея. Оставшиеся в живых влачили жалкое существование. Вот описание очевидца сцены в гетто:
«По узкой улице Казинци, низко склонив голову, толкают тележку ослабевшие мужчины. На грохочущей колымаге трясутся обнаженные человеческие тела, желтые, как воск, негнущаяся рука одного из мертвецов, вся в черных пятнах, свесилась с тележки и колотится о спицы колеса. Они останавливаются перед банями Казинци, за обветшалым фасадом свалены тела умерших, заледеневшие и твердые, как дерево… Я пересек площадь Клаузал. В центре площади вокруг мертвой лошади сидели на корточках и стояли на коленях люди и ножами кромсали труп, добывая мясо. Желтые и синие кишки, похожие на желе, с холодным блеском вывалились из распоротого брюха изуродованной мертвой лошади»12.
Шведский дипломат Рауль Валленберг, который, как многие, оказался в ловушке в Будапеште, пытался помешать уничтожению евреев, предупреждая немецких командиров, что им придется за это отвечать. Но убийства продолжались, иногда вместе с евреями убивали венгерских полицейских, которых направляли для защиты евреев. Впоследствии Валленберга убили русские.
К началу февраля немецкие потери продолжали расти, а запасы – истощаться; большая часть Будапешта лежала в руинах. Повсюду бушевали тысячи пожаров, один за другим пожирая дворцы, коттеджи, общественные здания и многоэтажные дома. Круглые сутки слышались взрывы и артиллерийский огонь. Советские самолеты на бреющем полете расстреливали и бомбили город, раненые солдаты беспомощно лежали на виду атакующих самолетов и кричали от безысходности. Повсюду наблюдались гротескные сцены: например, противотанковая пушка, замаскированная персидскими коврами из реквизита оперного театра. Напуганные лошади, рыдающие женщины и дети; паникующие солдаты то пытались удрать, то забивались в любую щель в поисках укрытия.
Бои шли одновременно в разных частях города. В результате атак и контратак здания несколько раз переходили из рук в руки. Венгерских солдат, которые дезертировали во все бόльших количествах и переходили на сторону русских, ставили перед жестоким выбором: вступить в Красную армию и сражаться против своих бывших товарищей или отправиться в Сибирь. Те, кто выбирал первое, в качестве знака различия получали на шапку красную ленту, вырезанную из парашютного шелка, и немедленно возвращались обратно в бой. Удивительно, но русские относились к этим предателям по-товарищески: например, один командующий стрелкового корпуса пригласил венгерских офицеров на ужин. После войны выяснилось, что смертность среди тех, кто выбрал плен, и потери среди вступивших в Красную армию оказались примерно равны. В неразберихе, когда каждый искал себе союзника, венгерские коммунистические группы Сопротивления старались как-нибудь помочь советским войскам (например, убивая главарей и боевиков партии «Скрещенные стрелы»). В конце января множество заключенных оппозиционеров были расстреляны своими соотечественниками на террасе Королевского дворца, большинство из них – после пыток.
11 февраля 1945 г. сопротивление в Буде прекратилось. Командующий венгерской зенитной артиллерией разоружил немецких военнослужащих в своем штабе в отеле Gellert, поднял белый флаг и приказал солдатам расстреливать любого, кто не подчинится приказу и будет продолжать сопротивление. В эту же ночь остатки гарнизона и старшие офицеры предприняли попытку вырваться из окружения: одни – малыми группами, другие – толпами. Большинство из них скосил советский огонь, потери были настолько велики, что на открытых пространствах лежали груды мертвых тел. Командир бронекавалерийской дивизии СС и трое его офицеров выбрали самоубийство, когда стало ясно, что им не удастся спастись бегством. Еще 26 рядовых СС застрелились в саду дома на улице Диошарок. Командир бронетанковой дивизии был убит советским пулеметным огнем. Пожилой венгерский полковник Янош Вертесси перебегал улицу, споткнулся, упал ничком и выбил свой последний зуб. «Не мой день», – сказал он с сожалением, вспомнив, что ровно 30 лет назад его, пилота Первой мировой войны, сбили и взяли в плен. Вскоре после этого его схватили и расстреляли бойцы Красной армии.
Две тысячи раненых солдат лежали в подвалах Королевского дворца. Свидетель, который случайно обнаружил их, рассказывал: «Гной, кровь, гангрена, экскременты, пот, моча, табачный дым и порох смешались в удушливом зловонии»13. Обреченный гарнизон погрузился в панику и междоусобицы. Два солдата ворвались в операционную, где хирурги только что вскрыли живот раненого бойца, и начали стрелять друг в друга через операционный стол. Вскоре после этого здание охватил пожар, в котором погибли почти все раненые. В штабе генерала Пфеффер-Вильденбруха молодой сержант надел брошенную форму своего командира, и его немедленно застрелил обезумевший рядовой. В общественных зданиях города среди разрезанных картин, разбитого фарфора, поломанной мебели и брошенных личных вещей бесцельно бродили отставшие от частей солдаты. Повсюду бушевали пожары.
Часть оборонявшихся попыталась спастись бегством через канализацию, освещая путь свечами, они шли вброд по нечистотам, которые иногда доходили им до пояса, а сверху, с улицы, доносился шум жестокого боя. Они наткнулись на тело красивой, элегантной женщины в шубе и шелковых чулках, которая по-прежнему крепко стискивала в руке свою сумочку, и стали строить предположения, кто она такая. Через несколько сот метров уровень воды поднялся слишком высоко и дальнейшее продвижение стало невозможным. Большинству, включая Пфеффер-Вильденбруха, пришлось подняться наверх и выбраться через люки на улицу, где их вскоре взяли в плен советские солдаты. Примерно 16 000 человек, солдаты и гражданские, покинули город, добрались до холмов, окружавших город, и там бесцельно бродили или прятались. Дерзкие беглецы захватили советскую хлебовозку и немедленно устроили перестрелку, сражаясь за ее содержимое. Те, кто продолжал брести на запад, вышли из леса и оказались на открытом пространстве Жамбекского бассейна. Они представляли собой прекрасную мишень на фоне снега, и советские снайперы и пулеметчики уничтожали их сотнями. В городе также происходило массовое уничтожение солдат, охваченных паникой. Советский офицер записал: «Несмотря на огромные потери, гитлеровцы продолжили продвигаться к выходу из города, но вскоре наткнулись на наши “катюши”, которые в упор стали расстреливать их залпами. Это было ужасное зрелище»14. Из 43 900 солдат Будапештского гарнизона только 700 добрались 11 февраля до немецких передовых позиций на западе; из оставшихся 17 000 были убиты и больше 22 000 взяты в плен.
На Будапешт опустилась мертвая тишина. Пятнадцатилетний Ласло Десео побрел обратно в квартиру своей семьи после того, как первые русские штурмом прошли через нее. «Хотелось выть, проходя по комнатам. Там валялось восемь мертвых лошадей. Стены были красными от крови на высоту человеческого роста, кругом грязь и обломки. Все двери, шкафы, мебель и окна сломаны. Штукатурка обвалилась. Приходилось наступать на мертвых лошадей. Они были мягкими и пружинили. Если на них попрыгать, около пулевых отверстий с шипением появляются кровавые пузырьки».
Выжившие начали осторожно выбираться из развалин. Их смущала непредсказуемость поведения победителей: некоторые русские, войдя в квартиру, убивали всю семью, другие вместо этого принимались забавляться игрушками, а затем уходили, никого не тронув. Один венгерский писатель так отзывался о завоевателях: «Они были простые и жестокие, как дети. После того как миллионы людей были уничтожены Лениным, Троцким, Сталиным или погибли на войне, смерть для них превратилась в обыденное явление. Они убивали без ненависти и позволяли убивать себя без сопротивления»15. Было много расстрелов, особенно русских, взятых в плен в немецкой форме. Застрелили несколько почтальонов и кондукторов трамвая, потому что русские принимали их кители за форму боевиков партии «Скрещенные стрелы». Методичное разграбление банков и коллекций произведений искусства проводилось под надзором НКВД, особое внимание уделялось собраниям известных коллекционеров из числа венгерских евреев; добытое отправлялось в Москву. Большинство выживших женщин Будапешта, всех возрастов, от 10 до 90 лет, включая беременных, подвергались насилию. Тяжелое положение жертв насилия еще более ухудшалось тем, что солдаты заражали их венерическими заболеваниями, а во всей Венгрии не было лекарств. Епископ Йозеф Грош в отчаянии записал: «Возможно, именно это творилось в Иерусалиме, когда пророк Иеремия писал свой “Плач”».
Венгерские коммунисты умоляли советское командование обуздать бесчинства солдат. «Совершенно ненормально восхвалять Красную армию на плакатах, на партийных собраниях, на заводах и повсюду, – горестно сетовало одно из таких обращений в конце февраля, – если людей, которые пережили тиранию, теперь, как скот, гонят по дорогам российские солдаты, постоянно оставляя за собой трупы. Товарищей, направленных в сельскую местность для распределения земли, крестьяне спрашивают, какой толк им получать землю, если их лошадей с пастбищ забрали русские. Они не могут пахать носом». Такие ходатайства не приносили результатов. Сталин решил, что грабеж и насилие станут законной наградой для его солдат за их жертвы. Поляков, югославов, чехов и венгров постигла та же судьба, что была уготована немцам.
В Будапеште, еще до того, как пала последняя линия обороны, вновь открылся первый кинотеатр, в котором показывали советский пропагандистский фильм «Битва за Орел». Почти немедленно началась работа по установке памятников советским героям войны на площадях и в парках. Выдержавшим неимоверные страдания венграм очень хотелось снова смеяться, и среди руин вскоре появились шумные кабаре. Комик Кальман Латабар выходил на сцену под непрекращающиеся аплодисменты, которые переходили в овацию, когда он задирал рукава и штанину и изображал советских «освободителей» Венгрии, демонстрируя гирлянды наручных часов. Несколько месяцев спустя его застрелили бы за гораздо меньшую вольность.
Взятие Будапешта обошлось русским примерно в 80 000 убитых и четверть миллиона раненых. Приблизительно 38 000 гражданского населения умерли в осаде, еще десятки тысяч были высланы в Советский Союз для принудительного труда, из них многие не вернулись обратно. Немецкие и венгерские войска потеряли примерно 40 000 убитыми, и 63 000 солдат были взяты в плен. Эта дикая, бесполезная битва считалась бы грандиозной, если бы произошла на англо-американском фронте. Но на самом деле только венгры обратили внимание на ее ужасы. Через три месяца ее затмила подобная же драма намного большего масштаба, которая развернулась в столице гитлеровской Германии.
2. Продвижение Эйзенхауэра к Эльбе
В первые месяцы 1945 г. большинство немцев относились к появлению американских и британских войск в своей стране как к незаслуженной агрессии; притом что многие понимали, что Гитлер привел их к катастрофе, немцам было нелегко принять последствия для собственной повседневной жизни. Солдаты американского 273-го дивизиона полевой артиллерии заняли дом, в котором жила, по словам одного из солдат, «маленькая, похожая на птицу женщина, одетая в черное, которая неверной походкой вышла из боковой двери. Как только она увидела, что мы разграбили ее поленницу, она принялась орать что-то по-немецки. Пока мы утаскивали охапки дров, она разрыдалась и непрерывно вопила, время от времени задыхаясь на полуслове». Американцы потолковали между собой и решили, что эти вопли не заслуживают внимания. «Вот черт, – сказал Френчи, – эта баба такая же, как все фрицы»16. Так же реагировал деревенский парень из отделения ефрейтора Чарльза Феликса, когда разговорчивая немецкая женщина пожаловалась, что явившиеся к ней американские солдаты поцарапали мебель в ее доме. «Как мне надоели эти проклятые фрицы! – запротестовал солдат. – Мы попали сюда на войну из-за них, а она еще смеет жаловаться насчет мебели! Эй, дамочка, посмотрите-ка, как выглядит поломанная мебель!»17 Он схватил стул и швырнул его об стену. Очень немногие из солдат союзных сил вели себя благородно по отношению к гражданским: рядовой из инженерного взвода под командованием Аарона Ларкина заплакал, когда ему приказали выселить немецкую семью из дома, чтобы разместить там военных18; ефрейтор Гарольд Линдстром ощутил угрызения совести, когда улегся в женской спальне на перину в полном обмундировании и в солдатских ботинках19.
Главный военный прокурор сухопутных сил США отмечал резкое увеличение количества изнасилований, после того как союзные силы вошли на территорию Германии. «Мы были солдатами армии завоевателей и прибыли как завоеватели, – говорилось в его послевоенном сообщении. – Только в исключительных случаях жертвы из числа немецких женщин оказывали решительное сопротивление вооруженным насильникам… Очевидно, что жертвы изнасилований были полностью запуганы… Их страх был небезоснователен, поскольку во многих случаях немецкие граждане, пытавшиеся помешать солдатам осуществить изнасилование, были беспощадно убиты»20. Репортер Stars & Stripes в марте 1945 г. написал заметку о большом количестве изнасилований в земле Рейнланд, но ее задержал цензор, как это происходило и с другими «негативными сообщениями» о поведении союзных войск в Германии.
Разумеется, также было большое количество «полудобровольных» половых актов, способствовавших резкому росту венерических заболеваний, поскольку немецкие женщины, чтобы прокормить семью, часто в отчаянии продавали единственный товар, пользовавшийся спросом. Многие из солдат союзных сил испытывали отвращение к бесстыдству немцев: даже самые образованные из подданных Гитлера усвоили понятие о привилегиях высшей расы. Немецкие аристократы, хозяева замка на севере Германии, пригласили шотландских гвардейцев в замок; шотландцы были потрясены, обнаружив в прилегающем парке небольшой концентрационный лагерь, в котором содержалось двести истощенных голодом рабов. Когда британский офицер выразил протест, хозяин замка недоуменно ответил: «Майор, вы не понимаете. Эти люди – животные, с ними можно обращаться только как с животными».
Последние битвы англо-американских сил оказались несравненно менее кровопролитными, чем сражения на Востоке, потому что это устраивало обе стороны. Британский лейтенант Питер Уайт окриком остановил спасавшегося бегством немца: «Я прицелился ему между лопатками, с отвращением понуждая себя выстрелить в спину бегущему… но тут он осознал безнадежность своей попытки. К моей радости, он резко развернулся, швырнул винтовку в снег и быстро и четко поднял руки вверх. Затем громко и испуганно заговорил на ломаном английском: «Не стреляйте, пожалуйста, сэр!.. Гитлер плохой!.. Не стреляйте… Камрад, пожалуйста!» В то же время он внезапно сунул руку под одежду, из-за чего я чуть не выстрелил в него, потому что я боялся, что он вытащит пистолет или гранату. Вместо этого передо мной на цепочке закачались золотые карманные часы, которые он протягивал мне в качестве выкупа»21.
Западные союзники продвигались по Германии так же размеренно, как и ранее в ходе кампании с октября 1944 г. Они стремились добиться полного уничтожения нацизма, заплатив разумную цену человеческими жизнями, и занимали рубежи, согласованные с русскими, и лишь несколько раз временно прихватывали дополнительный плацдарм. Немецкие войска продолжали сопротивление, но мало кто проявлял фанатизм, как прежде в сражениях на Восточном фронте. Теперь главной задачей для побежденных было дезертировать и не оказаться убитым одной из противоборствующих сторон. Американский санитар Лео Литвак рассказал, как он оказывал помощь пожилому немцу, который был ранен при попытке добраться до американской линии обороны без оружия, очевидно, чтобы сдаться в плен:
«На нем была серая шерстяная форма и кепка, у него были огромные глаза, помятое и небритое лицо, рот кривился, когда раненый приглушенно стонал: “О-о-о… О-о-о…” Он увидел красные кресты на моих нарукавных повязках и каске, потянулся ко мне и закричал: “Фатер!” (“Отец!”). Сквозь дыру в его брюках торчал обломок бедренной кости. Я разрезал его брюки, обнажив рану в середине бедра. Он обгадился, экскременты были маленькие, твердые – серые комки, такие оставляют в лесу животные. Они провалились в штанину и облепили все вокруг перелома. От ужасного зловония было трудно дышать. Я посыпал торчащую кость сульфамидным порошком, закрыл ее компрессом, привязал свободный конец шины выше раны высоко на бедре. Его лицо быстро серело из-за надвигающегося шока. Он сказал: “Фатер, их штербе” (“Отец, я умираю”). Я сделал ему укол морфия в бедро. Ему не полегчало, и я ввел ему еще восьмую грана. Потом начался шок – синие губы, холодный пот, серая кожа, расширенные зрачки, пульс слабый и мерцающий… Я желал ему смерти, чтобы его страдания закончились поскорее ради нас обоих»22.
Основные силы вермахта и войск СС противостояли армиям Жукова, Конева и Рокоссовского: русские выставили 6,7 млн человек на фронте, простиравшемся от Балтийского до Адриатического моря. Заключительная смертельная схватка между силами двух соперничающих тиранов – Сталина и Гитлера – стала одним из самых ужасных военных столкновений в истории войн, в то время как армии Эйзенхауэра ожидали за кулисами. Происходящее было совершенно иррационально, потому что результат не вызывал сомнений, но нацистам удалось убедить достаточное количество солдат предпринять последнее жертвенное усилие. Было известно и о судьбе тех, кто уклонился от оказанной чести: школьный учитель из Восточной Пруссии Эннер Пфлаг говорил, что его перестал удивлять вид повешенных с плакатами на шее «Я дезертир» или «Я не смог защитить родину», потому что их было слишком много23.
Даже югославские партизаны Тито неохотно признавали, что отступление вермахта при превосходящих силах противника было впечатляющим. Милован Джилас писал: «Немецкие войска оставили о себе память героизма, хотя из-за господства нацизма никто во всем мире не был готов признать это… Голодные и полуодетые немецкие солдаты расчищали горные оползни, штурмовали скалистые пики, пробивали обходы. Самолеты союзников использовали их для неторопливой учебной стрельбы. У них кончалось топливо… [Они] убивали своих тяжелораненых… В конце концов, они прорвались, оставив память о своем боевом мужестве. Конечно же, немецкая армия могла воевать… без массовых убийств и газовых камер»24.
Герда, невеста парашютиста Мартина Поппеля, оказалась одной из многих немок, кто запоздало вышел из-под влияния нацистского режима, увидев, какие несчастья он принес ее стране. В январе 1945 г. она писала жениху, который служил в Голландии: «Уже нет сил терпеть этот ужасный вой бомб. Постоянно слышать этот вой, ожидать смерти в любой момент, в темном подвале, где ничего не видно, это, конечно, по-настоящему чудесная жизнь. Хоть бы это прекратилось, они на самом деле ожидают слишком многого от людей. Ты еще помнишь озеро? Кажется, мы там впервые поцеловались! Там ничего не осталось, замечательные кафе Brand и Bohning и ратуша полностью сгорели. Не хочу об этом даже и говорить. Но ты сможешь представить. Ты видел Мюнхен. Неужели все будет разрушено? Похоже, что все так и будет. Почему позволяют нашим солдатам идти на верную, бесполезную смерть, почему они позволяют, чтобы все в Германии разрушалось, зачем все эти страдания, зачем?» Позже она добавила: «Если ты будешь преданным последователем этих людей после войны – ты знаешь, о ком я говорю, – нам обязательно придется расстаться. Что они сделали из нашей красивой, великолепной Германии? Просто плакать хочется. И страшно подумать о том, как те, другие, поработят нас»25.
Истории, которые изображают армии и дивизии Гитлера в 1945 г. как серьезные боевые формирования, – насмешка над реальным положением вещей. От любого подразделения уцелели только ошметки: у них почти не осталось танков, орудий, транспорта. С июня 1944 г. по март 1945 г. вермахт потерял три миллиона винтовок, в последних кампаниях не хватало даже стрелкового оружия. Многие солдаты были в ужасном физическом состоянии; в медицинском отчете из парашютной артиллерийской батареи от 10 января говорилось, что из 79 солдат все, кроме двоих, завшивели, у 18 экзема, вызванная недоеданием. Усилия, направленные на поддержание дисциплины, вызывали насмешки; солдатам первого батальона 1120-го Фольксгренадерского полка наверняка показалось абсурдной нелепостью, что в январе, как раз когда рушился сам рейх, их командир, майор Байс, издал приказ о наказаниях за неаккуратность: «Винтовки носить на правом плече, дулом кверху. Если я снова увижу “воскресного спортсмена”, у которого винтовка будет дулом вниз, я объявлю ему семь суток строгого ареста. Свежая грязь похвальна для солдата, но застарелая говорит о лености. Если я еще раз увижу хоть одного солдата с “львиной гривой” или какой-то еще неуставной прической, я лично остригу его»26.
Старая армейская традиция – всегда держать солдата занятым, чтобы он слишком много не думал, особенно если ситуация неблагоприятная. В самом начале 1945 г., когда ситуация на фронте для Германии стала ужасной, командир бронетанковой роты лейтенант Тони Саурма решил заполнить свободное время своих бойцов лекциями: однажды он целый час рассказывал им о Соединенных Штатах, о Кукурузном поясе, промышленных областях и больших городах. Так же, как и его аудитория, он знал, что эта страна вскоре станет играть важную роль в их судьбах, если им повезет и они выживут27. Удивительнее всего было не то, что сотни тысяч немцев сбежали с поля боя в последние месяцы войны, а то, что другие продолжали сопротивление, а некоторые даже считали свое положение приемлемым. В середине февраля командир бронетанкового взвода СС, служивший в Венгрии, так описывал военный быт вблизи фронта: «Паек просто отличный. Мы научились от гражданского населения по-разному использовать паприку. Люди здесь очень дружелюбны. По вечерам мы ездили смотреть кино в Нове Замки»28.
На совещании объединенного комитета начальников штабов армий союзников, проходившем 1 февраля на Мальте перед ялтинской встречей на высшем уровне, был утвержден план Эйзенхауэра возложить задачу нанесения главного удара на этой последней стадии кампании на Двадцать первую группу армий Монтгомери на севере Германии, усиленную Девятой армией США Симпсона. Тяжелой бомбардировочной авиации была поставлена задача уничтожить транспортную инфраструктуру Германии по пути продвижения русских, включая такие железнодорожные узлы, как Дрезден[26] и Лейпциг.
Но наземное наступление продвигалось медленнее, чем ожидалось. Следующее крупное наступление Монтгомери, операция Veritable, столкнулось с затруднениями в Рейхвальдском лесу; соединения Симпсона не смогли продвинуться, потому что немцы затопили значительные области в полосе наступления и наводнение спало лишь после 23 февраля. После тяжелых боев 10 марта силы Монтгомери подошли к Рейну между голландской границей и Кобленцем. В этой отчаянной ситуации Гитлер прибег к излюбленному средству: смене генералов. Кессельринг, который блестяще организовал оборону Италии, стал преемником фон Рундштедта, приняв командование на западе. Но все же Кессельрингу, как и его предшественнику, не удалось провести последовательную кампанию, имея 55 ослабленных дивизий против 85 полностью укомплектованных соединений Эйзенхауэра при господстве союзной авиации. 7 марта Первая армия Ходжеса захватила железнодорожный мост имени Людендорфа в районе Ремагена и немедленно приступила к созданию периметра на восточном берегу; 22 марта Паттон занял плацдарм южнее, перед мостом в районе Оппенхайма. Последние немецкие войска на западном берегу Рейна были уничтожены три дня спустя. 24-го числа войска Монтгомери осуществили операцию по форсированию Рейна на широком фронте в районе Везеля, в ходе которой тяжелые потери понесли только воздушно-десантные подразделения, спускавшиеся на парашютах на противоположный берег: как оказалось, по крайней мере зенитной артиллерией обороняющиеся были обеспечены хорошо.
В конце месяца передовые части Брэдли соединились с силами Симпсона в районе Липпштадта, и группа армий B Моделя оказалась в так называемом Рурском котле; Модель застрелился 17 апреля, а 317 000 человек попали в плен к союзникам. Теперь уже американцы, а не британцы имели лучшие возможности для быстрого заключительного наступления. К ярости Монтгомери, его соединениям досталась второстепенная задача зачистки Северной Германии до Гамбурга и Любека. Считалось, что необходимо перебросить войска к основанию Датского полуострова, чтобы защитить Данию от угрозы советской оккупации. Эйзенхауэр формально отказался от наступления на Берлин и соответственно информировал Сталина. Он повернул две армии на юг, к австрийской границе, чтобы предупредить любую попытку нацистов создать «национальный редут», который мог бы использоваться для продолжения войны после встречи русских и англо-американских сил на севере Германии. «Национальный редут» был плодом воображения штабной разведки Эйзенхауэра; такое разделение сил значительно ослабило натиск в направлении главного удара и позволило русским занять Чехословакию.
Однако трудно убедительно обосновать утверждение, будто иное течение событий изменило бы послевоенную политическую карту Европы, как заявляли критики командующего англо-американскими силами. Оккупационные зоны союзников были согласованы несколькими месяцами ранее и утверждены на Ялтинской конференции в феврале. Русские добрались до Восточной Европы первыми. Чтобы помешать их захватническим планам и спасти Центральную Европу от советской тирании, сменившей нацистскую, западным союзникам потребовалось бы вести совершенно другую и гораздо более жестокую войну, потери в которой были бы гораздо выше. Им пришлось бы рассматривать перспективу, весьма вероятную: сражаться с Красной армией, а не только с вермахтом. Такой курс был в политическом и военном отношении невероятен вопреки мечтам Черчилля восстановить свободу Восточной Европы силой.
Навязчивая идея Сталина взять Берлин совпадала с мнением его народа: они рассматривали этот символический триумф как единственный возможный итог борьбы, осуществление всего, за что они сражались с 1941 г. Возможно, с военной точки зрения для сил Эйзенхауэра эта задача – достичь гитлеровской столицы, прежде чем в нее войдет Красная армия, – была выполнима, но сама попытка могла бы вызвать столкновение между союзниками. Русские оскорбились бы при малейшей угрозе лишить их заслуженной награды.
Поведение советской стороны в марте и апреле обуславливалось паранойей насчет намерений Запада. Сталин снова и снова лгал Вашингтону и Лондону, изображая безразличие к Берлину в качестве военной цели; он не допускал и мысли о том, что американцы и англичане откажутся от возможности обогнать Красную армию в наступлении к столице Германии. Советское окружение Берлина было продиктовано не только необходимостью освобождения города от войск Гитлера, но и желанием отрезать подступы к городу для армий Рузвельта и Черчилля. Была еще одна дополнительная причина: русские отчаянно пытались захватить нацистских ученых-ядерщиков и материалы их исследований. Зная от своих агентов на Западе, что американцы близки к созданию атомной бомбы, Сталин хотел заполучить все, что могло бы вдохнуть силы в аналогичный советский проект: институт физики имени кайзера Вильгельма в Далеме считался важнейшей целью для Красной армии.
На заключительном этапе войны на Западном фронте англо-американские войска продвигались вперед, встречая вялое и плохо организованное сопротивление. Как всегда, на пехоту пришлась основная тяжесть задачи по уничтожению очагов сопротивления. Служба в составе экипажа танка была далеко не синекурой, но за прошедшие шесть недель кампании на северо-западе Европы танковый батальон шотландской гвардии, например, потерял убитыми только одного офицера и еще семь военнослужащих рангом ниже; несколько бойцов были ранены. За тот же самый период пехота второго батальона шотландской гвардии потеряла убитыми девять офицеров и 76 рядовых; 17 офицеров и 248 рядовых были ранены. Некоторые подразделения союзников столкнулись с группами фанатиков, упорно оборонявших переправы через реки и важные пересечения дорог. Одно за другим эти препятствия преодолевались, пока победители не подошли к Эльбе. 12 апреля Первая армия получила приказ остановить наступление, не доходя до Дрездена, и ждать подхода советских сил. Русские и американские передовые дозоры встретились в районе небольшого саксонского городка Штрела на Эльбе утром 24 апреля, после чего в этот же день выше по течению, в районе Торгау, произошла широко известная встреча, которая сопровождалась бурным ликованием англо-американских военных и осторожным и неестественно формальной реакцией русских. Англичане дошли до балтийского порта Любек 2 мая, чем развеяли опасения союзников, что советские войска попытаются занять Данию. К счастью для датчан, внимание русских было полностью сосредоточено на другом месте: Берлине – столице и последнем оплоте нацизма.
3. Берлин: последняя битва
Сталин взял на себя ответственность за заключительные крупные военные операции, в основном с целью затмить личную популярность Жукова, чьи обязанности таким образом сводились к командованию Первым Белорусским фронтом. 12 января советские войска начали общее наступление с плацдармов вдоль Вислы. Лавина танков и пехоты русских, десятикратно превосходящая обороняющихся, устремилась на запад, сокрушая все на своем пути. В сводке новостей 20-го числа берлинское радио почти истерически охарактеризовало советское наступление как «массовое вторжение, которое по масштабу и угрозе возможно сравнить с нашествиями монголов, гуннов и татар прежних эпох».
Комментатор Ганс Фриче утверждал, что целью врага является «полное уничтожение» и что поражение «будет означать конец цивилизации». Он утверждал, что у немцев есть преимущество благодаря коротким коммуникациям и их «страстной решимости защитить свою Родину». Он назвал Германию «последним бастионом Европы в защите от орд варваров, надвигающихся из восточных степей». И с огорчением заявил, что англичане отказались стать союзниками немецкого народа в его борьбе против большевиков; уже не отрицая существования угрозы поражения, как это часто бывало в прошлом, нацисты призывали народ к отчаянному сопротивлению в явно безвыходной ситуации. «Руководство Германии столкнулось с самым серьезным кризисом за всю войну, – заявило берлинское радио 22 января. – Больше нельзя отступать или прекращать активное сопротивление, потому что наши армии защищают территорию, жизненно важную для немецкой военной промышленности… От каждого немца требуется приложить величайшие усилия. Немецкий народ с энтузиазмом откликается на этот призыв, потому что все знают, что наше руководство ранее всегда было способно исправить положение, невзирая на любые трудности».
Если народ Гитлера был охвачен отчаянием, народ Сталина ликовал: военный корреспондент Василий Гроссман писал о чувстве «неистовой радости», охватившем его, когда он, свидетель столь многих битв с 1941 г., наблюдал за форсированием Вислы. Немного позже он писал: «Мне захотелось крикнуть, позвать тех братьев-бойцов, что лежат в русской, украинской, белорусской и польской земле, спят вечным сном на поле брани: “Товарищи, слышите вы нас? Мы дошли!”»29 Потери в ходе Висло-Одерской операции были огромными даже по меркам Восточного фронта: русские уничтожали все части, которые встречали на пути. Только в январе погибло 450 000 немцев; в каждый из следующих трех месяцев – более 280 000, включая погибших в результате англо-американских бомбежек Дрездена, Лейпцига и других восточных городов. В ходе последних четырех месяцев войны погибло больше немцев, чем в 1942–1943 гг. Эти цифры говорят о том, какую цену заплатил немецкий народ за неспособность высшего командования свергнуть нацистов и выйти из драмы войны перед ее последним ужасным актом.
В начале февраля командующий группы армий «Висла» писал: «Вермахт испытывает кризис управления колоссального масштаба. Офицерский корпус утратил устойчивое управление войсками. Среди солдат наблюдаются самые серьезные признаки морального разложения. Имеются многочисленные случаи, когда солдаты снимают военную форму и используют любые доступные средства, чтобы найти гражданскую одежду для дезертирства».
Немецкие генералы подвергались дальнейшим унижениям: Гудериана допрашивали руководители гестапо Эрнст Кальтенбруннер и Генрих Мюллер, допытываясь о его роли в отступлении из Варшавы вопреки приказам Гитлера.
Главным препятствием для советского наступления была погода. Неожиданная оттепель привела к тому, что бронетанковая техника еле ползла по слякоти и грязи. К 3 февраля армии Жукова и Конева занимали линию фронта по Одеру от Кюстрина, расположенного в 55 км к востоку от Берлина, до чешской границы, захватив плацдармы перед переправами на западном берегу. 5-го числа командующий гитлеровскими войсками в Венгрии доложил: «В связи с напряжением и переутомлением не наблюдается роста боевого духа или боеспособности войск. Численное превосходство противника и сознание того, что война переместилась на немецкую территорию, оказывают сильное деморализующее воздействие на солдат. Рацион питания состоит из ломтика хлеба и кусочка конины. Любое движение затруднено из-за физической слабости. Несмотря на все это и на отсутствие подкреплений, обещанных уже шесть недель назад, они сражаются стойко и выполняют приказы». Русские со сдержанным уважением подтвердили это в разведывательной сводке 2 марта: «Большинство немецких солдат понимают безнадежность положения своей страны после нашего январского наступления, хотя некоторые все еще выражают уверенность в победе Германии. Однако нет никаких признаков снижения боевого духа солдат противника. Противник продолжает упорное сопротивление, сохраняя безупречную дисциплину». Гитлер отверг настойчивые предложения своих генералов эвакуировать осажденный Курляндский полуостров на Балтийском море, где бесполезно стояла группировка численностью 200 000 человек, войска которой могли послужить подкреплением в обороне рейха.
На центральном участке фронта русские временно прекратили наступление. Вероятно, Жуков мог бы продолжить продвижение, используя энергию наступления, чтобы взять Берлин, но возникли серьезнейшие трудности с тыловым снабжением войск. Армиям Сталина не было нужды рисковать. Дальше на севере Рокоссовский продолжал наступление по заснеженной Пруссии. Русские солдаты радовались, глядя, как разрушения, которые они видели на территории своей страны, теперь происходят на немецкой территории. Один солдат писал из Восточной Пруссии 28 января 1945 г.: «Поместья, деревни и города горели. Всюду были видны вереницы телег с оцепеневшими немцами и немками, которым не удалось бежать от приближающейся линии фронта. Повсюду валяются изуродованные части танков и самоходных орудий, а также сотни трупов. Я помню это зрелище с первых дней войны…»30 Эти воспоминания, конечно, относились к сражениям на его родной земле. Помещиков в Восточной Пруссии и Померании, опрометчиво оставшихся в своих домах иногда из-за возраста или немощи, ждала ужасная судьба: захватчики считали их не просто немцами, но вдобавок и аристократами, а значит, они заслуживали пыток перед смертью.
Миллионы беженцев устремились на запад, преследуемые советскими войсками. Те, что посильнее, выдержали невзгоды этого путешествия, но многие дети и старики умерли в пути. «По крайней мере мы были молоды, – говорила о пережитом Эльфрида Ковитц, двадцатилетняя девушка из Восточной Пруссии. – Нам было легче пережить невзгоды, чем старикам»31. Заснеженный пейзаж Восточной Европы был обезображен десятками тысяч мертвых тел. Беженцы вместе переживали драмы, которые ненадолго сплачивали их в беде, они вместе ели или голодали, выживали или гибли, пробирались вперед и спали, согревая друг друга, пока какой-то новый поворот событий не разлучал их. «В таких ситуациях, – говорил школьный учитель Геннер Пфлаг, – судьбы случайных людей полностью соединялись на часы, дни, недели, а затем снова разделялись»32.
Одна из множества немецких женщин, лишившихся всего, писала: «Мир – очень одинокое место без семьи, друзей или хотя бы знакомой домашней обстановки»33. Она познала суть отчаяния, когда увидела, как другие матери семейств, стремившиеся раздобыть теплую одежду и защититься от стужи, пробирались мимо солдат, отбивавших атаку русских винтовочным и минометным огнем, чтобы попасть в замок, в котором, по слухам, был склад одежды, и хоть что-то там взять. Спасаясь бегством с двумя маленькими детьми, она дошла до крайнего истощения, из-за которого больше не могла толкать в гору тележку, на которой везла скудный багаж: «Я навалилась на наши вещи – все, что у нас осталось в этом мире, и горько плакала». Мимо проходили двое французских пленных, они пожалели ее и помогли перетащить тележку через вершину холма. Несколько дней спустя фермер, в доме которого они ненадолго остановились, попросил ее оставить ему сына для усыновления. «Он обещал дать мне все, что угодно, если я оставлю его. Какое будущее ждало ребенка? А это был бы хороший, надежный дом». Но остатки упрямой отваги помогли женщине отказаться. «Я поставила перед собой задачу: довести детей до безопасного места и вырастить их. Как? Я не знала. Я просто каждый день делала то, что нужно». Эта маленькая семья наконец нашла убежище, добравшись до американских позиций, но множество подобных историй не имели столь счастливого конца.
Наступающие советские легионы не были похожи ни на одну из ранее существовавших армий: смесь старого и нового, Европы и Азии, высокого интеллекта и дикого невежества, идеологии и патриотизма, технологического совершенства и первобытного транспорта и снаряжения. Вслед за танками Т-34, артиллерией, гвардейскими минометами «Катюша» шли джипы, грузовики Studebaker и Dodge, поставленные по ленд-лизу, за ними – косматые пони и колонны кавалеристов, крестьянские подводы и еле бредущие крестьяне из отдаленных республик Средней Азии, в портянках и изодранном обмундировании. Пьянство было повальным. Немецкие губные гармошки обеспечили музыкальное сопровождение для многих подразделений, потому что на них было можно играть в грохочущих грузовиках. Единственным требованием к дисциплине, которое строго контролировалось, была обязанность солдат – мужского и женского пола – идти в атаку, сражаться и умереть за Родину. Сталин и его маршалы совершенно не заботились о сохранении жизней или собственности гражданского населения. Когда один из офицеров Василевского попросил указаний о мерах, которые следует принять в связи с массовым вандализмом, творимым его бойцами, командующий несколько секунд молчал, а затем сказал: «Да плевать я хотел. Пришло время для наших солдат вершить собственное правосудие»34.
В районе Торуни, в Польше, один из таких солдат, Семен Поздняков, заметил немецкого солдата на нейтральной территории, который медленно тащился к своим, низко склонив голову, прижав раненую правую руку к телу, волоча левой рукой автомат. Поздняков остановил его, крикнув: «Фриц, хальт!» Немец бросил оружие и с трудом поднял левую руку, демонстрируя покорность. Приблизившись к немцу, русские смогли разглядеть кровь на его лице и пустые глаза, в которых было лишь отчаяние. «Гитлер капут», – машинально пробормотал он. Русские засмеялись, услышав слова, которые они теперь слышали так часто, и офицер сказал им отправить солдата в тыл. «Найн! Найн!» – сказал немец, думая, что его поведут на расстрел. Поздняков сердито закричал на него: «Что ты орешь, ты, полумертвый фашист? Ты боишься смерти? А с нашими людьми вы разве не так же обращались? Тебя прикончить надо, и все на этом»35. Такой на деле оказалась судьба многих немцев, которые безуспешно просили пощадить их.
Слишком свободное обращение с оружием приводило к тому, что много русских убивали друг друга в приступе гнева или по неосторожности; нажать на курок им было так же легко, как их западным коллегам плюнуть или выругаться. При всей искушенности командиров этой армии в военном деле она оставалась ордой варваров, которая добилась того, чего могли добиться только варвары. Как ни парадоксально, образованные члены этой орды стремились отомстить больше, чем кто-либо из американских или британских солдат. Их не волновал ни дьявольский сговор Сталина с Гитлером в 1939 г., ни советская агрессия против Польши, Финляндии, Румынии. Они признавали только то, что на Россию напал враг и разорил ее и теперь близилось время, когда можно будет свести счеты со страной-захватчиком.
Вячеслав Эйсымонт, бывший учитель истории, который служил артиллерийским наблюдателем, писал из Восточной Пруссии 19 февраля: «Живем где придется: когда в сарае, когда в блиндаже, а сейчас вот в доме. Погода весенняя, слякоть, временами идет дождь. Населения в домах нет. Убежать ему не удалось, его направляют куда-то в тыл, дальше от фронта. По дороге на Кенигсберг мы видели этих местных жителей: гуськом по обочине дороги (по самой дороге шли колонны наших войск) плелись старики, старухи, дети с узелками за плечами. Была ночь, и в эту ночь на этой дороге можно было увидеть немало страшных вещей. Но мысль многих выразил командир батареи. “Вот посмотришь, – сказал он, – и будто жалко – ведь старики и дети идут и погибают. А вспомнишь, что они у нас наделали, и нет жалости!”»36
В феврале войска Конева форсировали Одер и перешли в наступление на Дрезден, а затем остановились на Нейсе; в течение последующих недель их основной задачей было занятие Померании и Верхней Силезии. В начале марта было легко отражено нерешительное контрнаступление бронетанковых сил СС в Венгрии, предпринятое для осуществления идеи фикс Гитлера: восстановить контроль над утраченными нефтяными месторождениями. 16-го числа два советских фронта начали наступление на Вену. Даже преданный идеям нацизма фельдмаршал Фердинанд Шернер сказал Гитлеру 20 марта: «Я должен доложить, что снижение боеспособности войск в [Верхней Силезии] превосходит мои худшие опасения. Почти без исключения все они измотаны. Соединения войск раздроблены, слиты с личным составом пожарных подразделений и подразделений фольксштурма. Их боевая ценность ужасающе низка. К северу от Леобшютца вообще нет ни одного человека, достойного звания немецкого солдата. Мое впечатление таково – русские могут делать все, что им придет в голову, не прилагая значительных усилий». 10 апреля из Второй бронетанковой армии в Венгрии докладывали в верховное главнокомандование вермахта без иронии: «Для повышения боевого духа войск на поле боя был проведен расстрел».
Капрал Гельмут Фромм, сражавшийся с русскими в Саксонии, записал в своем дневнике на Пасху: «Я сижу при свечах в своем НП (наблюдательном пункте) в 500 м от иванов. Ледяной ветер насквозь продувает брезент. Артобстрел продолжается всю ночь, перемежаясь пулеметным огнем и храпом моего соседа. Когда я шел по окопам час назад, кто-то из сержантов сказал мне, что американцы уже в Гейдельберге. Сейчас я отрезан от всех своих близких, и они, должно быть, беспокоятся обо мне. Интересно, где мой брат? Я уверен, что снова увижу их, потому что я верю в Бога. Сколько еще продлится это безумие? Да поможет нам Бог. Это был долгий военный поход, усыпанный трупами и политый слезами. Дай нам Пасху, за которой наступит искупление»37. Капралу Фромму было 16 лет.
Ги Сайер, служивший в дивизии Гроссдойчланд, писал: «Мы уже дрались не за Гитлера, не за национал-социализм, не за Третий рейх, мы дрались даже не за своих невест, не за матерей, не за семьи, оказавшиеся в западне опустошенных бомбежками городов. Мы дрались только из одного страха… Мы дрались за самих себя, дрались, чтобы не погибнуть в этих окопах, полных грязи и снега, дрались, как крысы»38. Немецкий лейтенант устало разъяснял своей невесте: «Быть офицером значит всегда качаться туда-сюда, как маятник, между рыцарским крестом, березовым крестом и военным трибуналом»39. Жительница Берлина писала: «В эти дни я постоянно замечаю, как мое отношение к мужчинам… меняется. Я чувствую к ним жалость, они кажутся такими жалкими и бессильными. Слабый пол. Глубоко в душе мы, женщины, испытываем своего рода коллективное разочарование. Нацистский мир, которым правили мужчины, который прославлял сильного мужчину, начинает рушиться, а с ним и миф о “мужчине”»40.
Русский солдат 19 апреля писал своей жене из Восточной Пруссии:
«Здравствуй, моя любимая! Последние две недели мы наступали почти каждый день, ночуя в бункерах, палатках или просто под открытым небом. Однако со вчерашнего дня нас расквартировали в доме, и мы спали в кроватях… Наше подразделение заслужило это тем, что мы сделали свое дело под Кенигсбергом, и, конечно, он был взят. Наши самолеты бомбили город три дня подряд. Земля тряслась при артобстреле, город окутался облаками дыма. Сначала фашисты отчаянно сопротивлялись, но они не смогли выдержать этот ад. Кажется, у них не хватало боеприпасов, а еще не было поддержки с воздуха… Огромное их количество было взято в плен. По радио объявили: “Передовые отряды союзников перешли границу Чехословакии!” Все должно скоро закончиться! Возможно, еще не все будет позади: остается Япония, будь она проклята… Но мне кажется, что, как только война в Европе закончится, союзники постараются быстро покончить и с ней»41.
По мере того как разваливалась система снабжения Германии, начиная с конца марта гражданское население столкнулось с серьезным голодом даже в зонах, которые по-прежнему удерживал вермахт. И все понимали, что дальше будет хуже. Подросток из Берлина Дитер Борковски 14 апреля ехал на городской электричке, набитой пассажирами, которые вслух громко выражали свой гнев и отчаяние. И вдруг солдат с медалями, которые казались нелепыми на его невзрачной, грязной фигуре, крикнул: «Тихо! Я хочу вам кое-что сказать. Даже если вы не хотите слушать! Мы должны выиграть эту войну. Мы не должны терять мужества. Если победит противник и сделает с нами хоть часть того, что мы делали на оккупированных территориях, через неделю в живых не останется ни одного немца». Борковский писал: «В поезде стало так тихо, что было бы слышно, как упала шпилька»42.
Когда русские дошли до Люббенау, находящегося почти в 100 км к югу от Берлина, жена офицера СС Хильдегард Трутц надеялась, что двое маленьких детей, которых она сжимала в объятьях, спасут ее от изнасилования. «Господи! Когда появился первый, я устроила целый спектакль! Когда это сейчас вспоминаю, я не могу удержаться от смеха. Я держала Эльке на руках, а Норфрида вытолкнула перед собой, надеясь, что это разжалобит русского. Но он просто оттолкнул Норфрида в сторону и повалил меня на землю. Я кричала и цеплялась за Эльке, но русский не останавливался, пока мне не пришлось отпустить ее. Он сделал все довольно быстро, ему на все потребовалось не больше пяти минут… Я скоро поняла, что гораздо лучше совсем не сопротивляться, потому что, если не сопротивляться, все заканчивается гораздо скорее»43.
Фредерика Гренсеманн, вернувшись домой с работы, увидела, что ее отец, получивший повестку, собирается в фольксштурм. Он вручил ей свой пистолет и сказал: «Все кончено, дитя мое. Обещай мне, что, когда придут русские, ты застрелишься»44. Затем он поцеловал ее и ушел, чтобы погибнуть в бою. Очень немногие немцы относились к мобилизации самообороны добросовестнее, чем господин Гренсеманн. Сделалась популярна пародия на песню «Вахта на Рейне»: «Дорогая Родина, будь спокойна, фюрер призвал в армию дедушек»45. Жители Берлина раскупили все продукты, какие еще оставались в магазинах, затем спрятались в подвалах, которые стали их убежищами на несколько следующих дней. В темноте, во время паузы между воздушными налетами русских, Руфь-Андреас Фридрих отважилась на короткую вылазку. Она увидела красное небо на востоке, «как будто по нему была разлита кровь», и услышала артиллерийскую канонаду, которая теперь вообще не прекращалась и «рокотала как отдаленный гром. Это не были бомбежки, это была… артиллерия… Перед нами простирался бесконечный город, черный в черноте ночи, скрюченный, словно он желал закопаться в землю. И нам было страшно»46.
Датский корреспондент Якоб Кроника писал, что многие жители Берлина в эти дни страстно желали смерти своему вождю. «Много лет назад они кричали: “Хайль!” Теперь они ненавидят человека, который зовется их фюрером. Они ненавидят его, они боятся его; из-за него они переносят трудности и принимают смерть. Но у них нет ни сил, ни смелости, чтобы освободиться от его дьявольской власти. В пассивном отчаянии они ждут заключительного акта этой драмы»47.
В своем тылу нацисты проводили заключительную вакханалию убийств: опустошались тюрьмы, узников расстреливали; почти все выжившие противники режима, содержавшиеся в концентрационных лагерях, были казнены, да и виновных в меньших преступлениях с ужасающей легкостью зверски убивали. 31 марта на станции Кассель-Вильгельмсхоэ солдатами были окружены и расстреляны 78 итальянских рабочих, которых заподозрили в краже из грузового эшелона вермахта. К западу от Ганновера гестапо уничтожило 82 узника, среди которых были остарбайтеры и военнопленные. 6 апреля в тюрьме в Ладе были убиты 154 советских заключенных, а еще 200 – в Киле. В последние дни нацизма, пока у нацистов еще сохранялась власть над жизнью и смертью, обреченные злобные существа, верные Гитлеру, стремились лишить радости освобождения всех, до кого могли дотянуться.
Сотни тысяч заключенных гнали на запад, чтобы они не достались русским, и для многих это был буквально «марш смерти». Еврей Хьюго Грин описал то, что ему пришлось пережить в колонне истощенных от голода рабов по пути в Заксенхаузен: «Когда мы вышли из Либерозе, отошли на некоторое расстояние и остановились, то услышали сильную стрельбу, и затем [пошел] дым. Они убили и сожгли всех, кто не мог идти. Этот марш был просто пыткой. Снег, грязь. Когда наступили сумерки, нам велели свернуть налево или направо, выйти на ближайшее поле и лечь. Утром все встали, кроме тех, кто не смог встать, затем мы пошли вперед, немного подождали, пока сзади слышалась стрельба, затем пошли дальше»48. Почти половина из 714 211 заключенных рейха, которые содержались в концентрационных лагерях в январе 1945 г., к маю были уничтожены, а с ними – множество военнопленных. 12 апреля симфонический оркестр Германии дал последний концерт, организованный Альбертом Шпеером. Исполнялись концерт Бетховена для скрипки с оркестром, затем Восьмая симфония Брукнера. И прозвучал финал «Гибели богов» Вагнера.
Оставалось последнее, заключительное сражение. С 1939 г. центр внимания мирового сообщества снова и снова перемещался между известными местами и никому ранее не известными уголками: из Варшавы в Дюнкерк и Париж; из Лондона в Тобрук; в Смоленск, в Москву и Сталинград; Эль-Аламейн и Курск; Салерно и Эль-Аламейн; Нормандию, Бастонь и снова в Варшаву. И вот столица гитлеровской Германии стала центром не только многих надежд и опасений, но и громадного сосредоточения военной силы: три советских фронта, которые подошли к Берлину, имели в своем составе 2,5 млн человек и 6250 единиц бронетанковой техники, поддержку которых обеспечивали 7500 самолетов. В предрассветных сумерках 16 апреля Жуков начал лобовой штурм Зееловских высот к востоку от города. Это была одна из самых жестоких и бездарных военных операций русских. Командующего настолько впечатлила артподготовка, опустошившая позиции обороняющегося противника, что через 30 минут он дал приказ начать наступление. Той ночью русский сапер писал в письме домой: «По всему горизонту было светло, как днем. На немецкой стороне все было покрыто дымом и густыми фонтанами земли, комьями летящей в небо. Были видны огромные стаи напуганных птиц, которые метались по небу, постоянный гул, гром, взрывы. Нам приходилось затыкать уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Затем взревели танки, по всей линии фронта были включены прожекторы, чтобы ослепить немцев. Затем бойцы кругом начали кричать: “На Берлин!”»49
Российская пехота бежала вперед на немецкие минные поля, пока первые танки с грохотом устремились на высоты. На некоторое время показалось, что артиллерия заставила замолчать обороняющихся. Но потом немцы открыли огонь. Они отошли с передовых позиций, так что артподготовка Жукова пришлась на пустые окопы. Пока советские танки вязли в глубокой грязи на склонах, атакующие начали нести ужасные потери. «Мы шли по земле, где повсюду были воронки от снарядов, – писал советский сапер Петр Себелев. – Повсюду валялись изуродованные немецкие пушки, автомобили, горящие танки и множество убитых солдат… Многие немцы сдались в плен. Они не хотят воевать и жертвовать своей жизнью за Гитлера»50. Но многие продолжали отстреливаться. «Зачем затягивать страдания? – размышлял один отчаявшийся боец вермахта, жена и трое детей которого утонули, когда корабль с беженцами Wilhelm Gustloff 15 апреля затонул в Балтийском море после торпедной атаки. – Но еще есть другие парни, которых я знаю много лет. Неужели я брошу их в безвыходном положении?»51
На одного убитого бойца генерала Готфрида Хейнрици приходилось трое убитых русских солдат. Советское военное искусство никак не давало себя знать: орды Жукова просто бросались вперед, снова и снова. Немцы поливали огнем наступавших, уничтожая танки сотнями и живую силу – тысячами. В течение двух дней шесть советских армий разбивались о Зееловскую линию обороны, не развивая крупного успеха. Коневу на юге было приказано выдвинуть вперед две танковые армии, в то время как Рокоссовский на севере изменил направление удара, чтобы поддержать Жукова. 18 апреля капрал вермахта Гельмут Фромм писал из сектора Конева: «И вот мы перед городом Форст. Русские заняли плацдарм перед мостом на другой стороне Нейсе и пошли в наступление сегодня утром в 11 часов. Нам пришлось отступить. Я остался с пулеметом и двумя солдатами. Только я знал, как обращаться с фаустпатроном, остальные занимались только конторской работой. Затем мы очень быстро поехали на велосипедах по автобану Бреслау – Берлин… Иваны все стреляют из своих пушек. 10 минут назад Бомер и Буксбраун были ранены, Бомер – тяжело. Мы несли его на доске, а он кричал от боли. Кто следующий? Орудийный огонь со стороны дороги. Слева от нас зенитная батарея 88-миллиметровок попала под огонь. Я стараюсь зарыться как можно глубже. В небе над нами кружится русский истребитель танков… Если я выживу, я буду благодарить Бога»52.
Гитлер отказался направить подкрепления Хейнрици, оставив Девятую армию из последних сил удерживать позиции на Одере. Силой, а не сноровкой, Жуков 21 апреля наконец подавил оборону противника и начал продвижение вперед, на внешнюю линию гитлеровской обороны Берлина; взятие Зееловских высот стоило русским 30 000 убитыми, немцам – 12 000. Наступающие быстро продвигались к городу по автобану Reichstrasse 1, а беженцы и дезертиры, превозмогая усталость, спасались от них бегством. «Они все выглядят настолько несчастными, совсем не похожи на солдат, – писала жительница Берлина, смотревшая на немецких солдат, уныло тащившихся мимо ее дома 22 апреля. – Единственное чувство, которое они вызывают, – это жалость, нет ни надежды, ни ожиданий. Они уже выглядят побежденными, плененными. Они смотрят сквозь нас без всяких чувств… Видно, что они не слишком обеспокоены нашей судьбой, судьбой народа, гражданского населения или берлинцев, как бы нас ни называли. Сейчас мы для них лишь обуза. И я не чувствую, чтобы они хоть немного стыдились того, насколько потрепанными они выглядят, насколько оборванными. Они слишком устали, чтобы обращать на это внимание, слишком безразличны ко всему. Они все побеждены»53.
К 25-му числу Жуков и Конев окружили столицу Германии, попытка Двенадцатой армии Венка прорвать окружение и прийти на помощь обороняющимся была легко сорвана русскими. Русские начали битву, которая продолжалась неделю: они пролагали путь через город, улица за улицей, дом за домом. Противотанковые рвы, с таким трудом вырытые десятками тысяч жителей Берлина, оказались столь же бесполезны, как все подобные заграждения, но баррикады из обломков руин, нагроможденные на старые трамваи и вагоны, были более эффективными. Регулярные войска при поддержке стариков и подростков из гитлерюгенда сражались с русскими, используя стрелковое оружие, гранаты, фаустпатроны. Мальчики в солдатской форме, которые погибли, сражаясь за Берлин, казались бы особенно трагическими жертвами, если бы не было так много других. Доротея фон Шваненфлюгель рассказала, как она случайно наткнулась на маленькую несчастную фигурку, «совсем ребенка, одетого в форму на несколько размеров больше, рядом с которым лежала противотанковая граната. Слезы струились у него по лицу, было видно, что он боялся всего и всех. Я очень тихо спросила его, что он тут делает. Он утратил бдительность и доверчиво сказал мне, что ему приказано лежать здесь, пока не покажется советский танк, тогда он должен подбежать к нему, забраться под танк и взорвать гранату. Я спросила, как это можно сделать, но он не знал. На самом деле этот слабый ребенок вряд ли смог бы поднять такую гранату»54. Другая жительница Берлина записала похожую историю:
«Мы видим юных мальчиков, с детским лицом, над которым нависает огромная стальная каска. Страшно слышать их тонкие, детские голоса. Им самое большее 15 лет, их фигуры выглядят такими хрупкими и маленькими в мешковатой солдатской форме. Почему мы настолько потрясены при мысли о том, что детей убивают? Через три или четыре года эти же самые дети кажутся нам совершенно пригодными для того, чтобы стрелять и калечить… До сих пор быть солдатом означало быть мужчиной… Напрасная гибель этих мальчиков, не достигших зрелости, очевидно, противоречит какому-то фундаментальному закону природы, нашему инстинкту, противоречит всему, что необходимо делать для сохранения вида. Некоторые рыбы или насекомые едят свое потомство. Люди не должны так делать. А то, что мы именно так и поступаем, – это верный признак безумия»55.
В битве за Берлин ни одна из сторон не использовала возможности для утонченного тактического искусства, были просто тысячи ожесточенных местных стычек, в которых наступающие измеряли каждый свой успех в метрах. Снова и снова солдаты, идущие впереди, погибали, первые танки – уничтожались; советская артиллерия и бомбардировщики не прекращали налетов; улицы превращались в руины. Подтянулась осадная артиллерия: 203-миллиметровые гаубицы разрушали здания, занятые оборонявшимися, а те вели ответный огонь прямой наводкой, и пыль и дым клубами поднимались в воздух. Сталин понукал своих маршалов по телефону из Москвы: десятки тысяч солдат заплатили своими жизнями за то, что Жуков и Конев вели не скоординированное наступление, а соревнование за воплощение эгоистических амбиций.
«Берлин… являл собой ужасное место, – писал шведский представитель Красного Креста Свен Фрикман, осматривая осажденный город ночью. – В безоблачном небе сияла полная луна, так что можно было видеть ужасную степень разрушений. Город призраков, населенный пещерными жителями, – вот что осталось от мировой столицы… Императорский дворец, все роскошные замки, дворец принца, королевская библиотека, Темпельхоф, здания на Унтер-ден-Линден – от всего этого почти ничего не уцелело. Из-за лунного света, который лился сквозь все эти пустые окна и дверные проемы, ночью город производил более угнетающее впечатление, чем днем. То тут, то там виднелись языки пламени – пожар продолжался после недавнего авианалета – и работающие пожарные команды. Текущая из разорванных труб вода превращала некоторые улицы в подобие Венеции и ее каналов»56.
Хельга Шнейдер писала: «Мы ведем растительное существование в городе-призраке, без электрического света и газа, без воды, теперь для нас личная гигиена стала роскошью, а горячая пища – абстрактным понятием. Мы живем как призраки, на обширном поле руин… город, в котором ничего не работает, кроме телефонов, которые иногда звонят, уныло и бессмысленно, под обломками зданий»57. Не все звонки были бессмысленны: чтобы узнать, насколько продвинулся противник, штабные офицеры в бункере Гитлера набирали номера телефонов в определенных районах города. По мере того как один квартал за другим занимали русские и слышались их голоса, в подвалах перепуганные горожане шептали друг другу: «Дер Иван комт!» («Иван идет!»)
С учетом того, как много немцев спаслись бегством или при возможности сдались в плен, кажется странным, что сопротивление продолжалось так долго. Примерно 45 000 солдат СС и вермахта при поддержке 40 000 членов фольксштурма и всего лишь с 60 танками целую неделю оказывали сопротивление мощи наступающих армий Жукова и Конева. Но уличные бои никогда не даются легко, потому что непросто сражаться против маленьких групп бойцов, удерживающих кое-как нагроможденные среди зданий баррикады, а борьба в последнюю неделю апреля шла отчаянная. В гитлеровской столице Красная армия дорого заплатила за свою политику несдержанной жестокости по отношению к немецким солдатам и гражданскому населению: на что бы ни рассчитывали Гитлер и СС, трудно предположить, чтобы защитники Берлина сражались так упорно, если бы у них была надежда на снисхождение для себя или горожан. Каждому немцу было известно, как любят советские солдаты убивать, насиловать и грабить. Большинство из защитников оборонительных рубежей не видели никакой перспективы, кроме смерти. В последней линии обороны было подразделение французской гренадерской дивизии СС «Шарлемань». Командир этих обреченных, двадцатипятилетний Анри Фене, в ходе церемонии, прошедшей в разбитом трамвае при свечах, был награжден немецким Рыцарским крестом. Это была вторая награда Фене, ранее он заслужил французский Военный крест, сражаясь за Францию в 1940 г.
Удивительно, но солдаты дивизии «Шарлемань» и некоторых других подразделений СС сохранили достаточно упорства для небольших контратак, в ходе одной из которых они отбили у русских здание штаба гестапо, расположенное на Принц-Альбрехт-штрассе. Некоторых солдат и подростков, пытавшихся бежать с поля боя, без суда и следствия вешали на улицах солдаты СС, патрулировавшие город. Как русских, так и немцев поражал контраст между горами руин, нагромождением изуродованных мертвых тел, которые были видны повсюду, и признаками наступающей весны. Когда артиллерийская канонада ненадолго умолкала, можно было слышать пение птиц, деревья стояли в цвету, пока взрыв не превращал их в черные скелеты; кое-где распускались тюльпаны, а в парках воздух был наполнен сильным ароматом сирени. Но больше всего было трупов. Вожди Германии заканчивали длинный любовный роман со смертью: в Берлине апреля 1945 г. он достиг кульминации.
28 апреля при попытке бежать из Северной Италии партизанами был схвачен и расстрелян Бенито Муссолини. Днем 30-го, когда русские войска штурмовали здание рейхстага, примерно в 400 м оттуда, в бункере рейхсканцелярии, вождь Третьего рейха убил себя и свою жену. Банальность зла наиболее ярко проявилась в поведении этой пары в их последние дни. Ева Браун была очень озабочена судьбой своих драгоценностей – «мои часы с бриллиантами, к сожалению, находятся в ремонте» – и тем, чтобы уничтожить счета своих портных: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы уцелели счета Хейзе». Она написала в последнем письме своей подруге Герде Остермайер: «Что еще я должна сказать тебе? Я не могу понять, как мы дошли до этого, но после всего происшедшего более невозможно верить в Бога».
Большинство немцев восприняли новость о смерти Гитлера с оцепенелым безразличием. Рядовой Герд Шмукль находился в переполненной гостинице далеко от Берлина, когда по радио передали сводку новостей. «Если бы вместо этого объявления в дверях появился хозяин гостиницы и сказал, что в стойле умерло одно из его животных, это вызвало бы больше сострадания. Только один молодой солдат вскочил, выставил вперед правую руку и выкрикнул: “Хайль фюрер!” Все остальные продолжали есть суп, словно не произошло ничего значительного»58. Редкие очаги сопротивления в столице тлели в течение еще двух дней, пока 2 мая не сдался командир берлинского гарнизона генерал-лейтенант Карл Видлинг.
Ужасная тишина, тишина мертвых и проклятых, опустилась на город. «Не было слышно ни человека, ни животного, автомобиля, радио или трамвая, – писала жительница Берлина. – Ничего, кроме давящей тишины, нарушаемой только звуком наших шагов. Если кто-то и смотрел на нас из домов, они делали это тайком»59. Неделю спустя она добавила запись: «Повсюду грязь, лошадиный навоз и играющие дети, если это можно так назвать. Они слоняются без дела, смотрят на нас, шепчутся. Все громкие голоса, которые можно слышать, принадлежат русским… Их песни режут ухо, они грубые, резкие»60.
Повсюду, где власть перешла к советским победителям, они предавались оргии празднования, насилия и разрушений в таком масштабе, которого Европа не видела с XVII в. «По коридору, спотыкаясь, ко мне подходит пекарь, – писала жительница Берлина об одном из своих соседей, – с белым, как его мука, лицом, и простирает ко мне руки: “Они забрали мою жену…” Дальше он не может говорить. На секунду я чувствую, что я играю в пьесе. Пекарь из среднего класса просто не может так двигаться, не может так эмоционально говорить, вкладывая такие сильные чувства в свой голос, так открывать свою душу, израненное сердце. Ни один великий актер не способен так играть»61.
Немецкий адвокат, который чудом сохранил жизнь своей еврейки-жены в годы правления нацистов, теперь пытался защитить ее от русских солдат. Один из них прострелил ему бедро. Пока муж лежал, умирая, он видел, как трое солдат насиловали его жену, не внемля ее отчаянным воплям о том, что она еврейка. Безымянная жительница Берлина, автор дневника, которая зафиксировала это событие, писала: «Такую историю невозможно придумать: это – жизнь, ее самая жестокая сторона: безумная, слепая случайность»62. Пожилой житель Берлина стенал: «Хоть бы все это закончилось, это жалкое существование». Автор дневника, сама неоднократно подвергавшаяся насилию, описывала странное чувство отделенности от собственного физического бытия: «…Это способ защиты – моя личность просто покидает мое тело, мое бедное тело, отданное на бесчестье и поругание. Она отделяется и уплывает, незапятнанная, в белоснежную пустоту. Это не может происходить со мной, поэтому я отвергаю все это»63.
Советский солдат писал другу о немецких женщинах. «Они не говорят ни слова по-русски, но это все облегчает. Не нужно их убеждать. Нужно лишь направить на них наган и приказать лечь. Потом ты делаешь свое дело и уходишь»64. В одном месте обнаружили несколько тел изнасилованных и изуродованных женщин, у всех из влагалища торчала бутылка. Василий Гроссман был потрясен, когда убедился, что солдаты Красной армии не делали никакого различия между своими жертвами: «С немецкими женщинами творятся ужасные вещи… Советские девочки, освобожденные от лагерей, сейчас много страдают»65. Александр Солженицын, который был офицером-артиллеристом в армии Рокоссовского, написал иронически-снисходительное стихотворение о том, что ему пришлось повидать, пока его солдаты увековечивали свою победу:
Победители Европы, Всюду русские снуют, В кузова себе суют Пылесосы, свечи, вина, Трубки, юбки и картины, Брошки, пряжки, бляшки, блузки, Пишмашинки не на русском, Сыр и круги колбасы, Мелочь утвари домашней, Вилки, рюмки, туфли, гребни, Гобелены и весы…* * *
И еще через минуту Где-то тут же, из-за стенки, Крик девичий слышен только: «Я не немка! Я не немка!! Я же полька!! Я же полька…» Шебаршат единоверцы, Кто что схватит, где поспеет. «Ну, какое сердце Устоять сумеет?!..»Когда бывшая еврейская больница в районе Веддинг 24 апреля оказалась в зоне оккупации русских, их солдаты обнаружили 800 евреев, в основном в ужасном физическом состоянии, которых нацистская машина уничтожения каким-то чудом не заметила. Не верящий своим глазам советский солдат произнес на ломаном немецком: «Нихт юден. Юден капут» («Нет евреи. Евреи капут»). Так или иначе русские изнасиловали пациентов женского пола: «Фрау ист фрау» («Женщина есть женщина»). После освобождения еще 1400 берлинских евреев покинули свои убежища, последние оставшиеся в живых из некогда большой общины. В Красной армии также были евреи. Одна перепуганная немецкая семья оказалась лицом к лицу с советским комиссаром, который сказал: «Я из России, коммунист и еврей… Моих отца и мать убили эсэсовцы, потому что они были евреями. Моя жена и двое детей пропали без вести. Мой дом лежит в руинах. И что случилось со мной, случилось с миллионами в России. Германия убивала, насиловала, грабила и разрушала… Как вы думаете, что мы хотим сделать теперь, когда мы разбили немецкие армии?»
Он повернулся к старшему из немецких детей и приказал: «Встань. Сколько тебе лет?» Мальчик ответил: «Двенадцать». Русский сказал: «Примерно столько же, сколько было бы сейчас моему сыну. Бандиты из СС отняли его у меня». Он вынул пистолет и направил его на мальчика, приведя в ужас родителей, которые умоляли его пощадить ребенка. Наконец русский сказал: «Нет, нет, нет, дамы и господа. Я не стану стрелять. Но вы должны признать, что у меня есть достаточно причин убить его. Столько злодейств вопиет о мести»66. Эта встреча закончилось без кровопролития, потому что русский участник драмы оказался на редкость приличным человеком. Много таких же встреч завершались криками, ужасными сценами, рыданием женщин; после них оставались разрушенные дома, изуродованные трупы.
Сталина не беспокоило поведение его солдат в отношении немцев или их «освобожденных» рабов. В отличие от западного общества, Советы не стеснялись мести. Военные действия велись в основном на советской территории. Русские люди пережили страдания, не сравнимые с невзгодами американцев и англичан. В роли завоевателей немцы вели себя как варвары, их поведение было крайне циничным, тем более что на словах они выше всего ставили честь и выражали приверженность ценностям цивилизации. Теперь Советский Союз взыскивал ужасный долг. Немецкая нация принесла страдания в наш мир, а в 1945 г. она заплатила за это. Начав войну против безжалостной сталинской тирании и потерпев в этой войне поражение, немцы заплатили за все, испытав на себе месть почти столь же безжалостную, как тирания ставленников Гитлера, царившая в Европе с 1939 г.
В те дни по всей восточной части Германии десятки тысяч человек совершили самоубийства. Шестнадцатилетняя Лизелотта Грюнауэр писала в дневнике: «Пастор застрелил свою жену и дочь и застрелился сам… Фрау Х. сама застрелила своих двух сыновей и перерезала горло дочери… Наша учительница фройляйн К. повесилась, она была членом нацистской партии. Местный партийный лидер С. застрелился, а фрау Н. приняла яд. Хорошо, что сейчас нет газа, иначе самоубийств было бы больше»67. Варварское истребление местного населения русскими не ограничивалось Германией: партизаны Тито были ошеломлены зверствами Красной армии в Югославии, даже против людей, сражавшихся на их стороне. Изнасилования, грабежи и убийства стали каждодневным явлением.
Британский офицер управления специальных операций Бэзил Ирвин удивлялся презрительному отношению советских военных к союзникам: «Они относились к нам без враждебности или подозрения, но партизан они за людей не считали… Их это сильно потрясло, потому что они считали, что приветствуют на своей земле своих братьев-славян и великую русскую армию»68. Когда Сталину стало это известно, он просто пожал плечами. Милован Джилас писал с горечью: «Иллюзии о Красной армии и, следовательно, о самих коммунистах быстро развеялись»69. В Белграде Тито лично выразил недовольство местному советскому командующему Корнееву: дескать, югославские коммунисты потрясены контрастом между корректным поведением британских солдат и дикостью русских. Корнеев взорвался: «Я решительно протестую против оскорблений, наносимых Красной армии тем, что ее сравнивают с армиями капиталистических стран!»
В Югославии, как и везде, куда приходили солдаты Сталина, Советский Союз отказывался – как все еще отказывается современная Россия – признавать преступления, совершенные теми, кто одет в русскую военную форму. Газета «Правда» сардонически замечала 22 апреля 1945 г.: «Британская печать выражает праведное негодование по поводу злодейств, совершенных немцами в концентрационном лагере Бухенвальд… Советские люди лучше, чем кто бы то ни было, могут понять гнев и горечь, боль и негодование, которые сейчас охватили британское общество… Мы давным-давно разглядели истинное лицо врага. Наши союзники не видели того, что видели мы. Теперь они будут лучше нас понимать, с большей готовностью отнесутся к нашим настойчивым требованиям вынести обвинительный приговор фашистским палачам».
После смерти Гитлера мантию фюрера подхватил гроссадмирал Карл Дёниц. Он выступал в этой роли в течение двух недель, пытаясь выиграть время для бегства немецких войск от русских на запад, организуя частичные капитуляции и стараясь вести переговоры с американцами. Генерал СС Карл Вольф уже заключил сепаратное соглашение по Италии, подписанное 29 апреля в Казерте. Немецкие силы на северо-западе Германии, в Голландии и Дании сдались Монтгомери в районе Люнебургской пустоши 4 мая. Сопротивление на немецко-американских фронтах закончилось два дня спустя, когда Красная армия приближалась к Эльбе. Солдаты продолжали погибать до самого конца: Капитан Николай Белов, в дневнике которого ярко описана его фронтовая судьба, с 1941 г. был ранен пять раз. 5 мая 1945 г. он был убит в бою.
Армия Паттона достигла Пльзени и имела возможность продвинуться к Праге, но русские настаивали на своем праве взять чешскую столицу. Они наконец осуществили взятие города 11 мая, после катастрофического восстания против немцев, поднятого местными партизанами, которое привело к последнему всплеску кровопролития. Тем временем делегация, направленная Дёницем, добралась до штаба Эйзенхауэра в Реймсе 5 мая и попыталась вести с американцами сепаратные переговоры о капитуляции. Верховный главнокомандующий потребовал одновременной и безоговорочной капитуляции на всех фронтах, которую старший военный советник Гитлера генерал Альфред Йодль подписал 7 мая. 8-е число отмечалось всеми западными союзниками как День Победы в Европе. Однако Сталин настоял на еще одной церемонии капитуляции в Берлине, на которой русские были полноправными хозяевами. Это произошло 8 мая, и с тех пор день 9 мая стал исключительно русским Днем Победы: в этом, как и во многом другом, страна Сталина решила идти в ногу, и пусть весь мир шагает не в ногу.
В течение многих недель на Востоке происходили перестрелки: войска НКВД уничтожали поляков и украинцев, которые отказывались сменить тиранию нацистов на советскую тиранию. Британский лейтенант Дэвид Фрейзер писал: «В мире оставалось все еще слишком много мерзкой жестокости, чтобы мы могли сказать с истинным удовлетворением: “Добро побеждает зло”»70. Американский лейтенант Лиман Диркс, находившийся в районе города Унтерах вблизи Зальцбурга в Австрии, писал: «Наше празднование проходило сдержанно. Американец из этого города одолжил нам американский флаг, который мы подняли на флагштоке на площади. Пожилые австрийцы, супруги, хозяева гостиницы, приготовили нам чудесный обед. Хозяйка заплакала и сказала: “Возможно, теперь мой сын сможет вернуться домой из России, где он сейчас в плену”. Но он так и не вернулся»71. На британских позициях капрал Джон Кроппер описал ощущение «мгновенного облегчения – никто не кричал от радости, не бегал. Все думали: “Слава Богу, все кончено, и мы наконец в безопасности”. У нас все равно не было ничего для праздничного обеда, только порошковый чай и обычный паек. Все происходило так, словно закончился очень тяжелый день, и вечером вы в полном изнеможении шлепнулись в кресло»72.
Американские и британские военнослужащие в Германии энергично грабили население и иногда насиловали женщин, но лишь немногие солдаты жаждали отомстить побежденным. Французы, однако, считали, что пришло время платить по многочисленным счетам. Майор Альбрехт Гамлин, командир подразделения по связям с гражданской администрацией и населением, которое осуществляло управление городом Мерциг (население 12 500 человек), подал полный отчаяния рапорт, в котором перечислялись многочисленные случаи грабежа после прибытия французского подразделения кавалерии: «Через час город был в состоянии полного беспорядка. Егеря расползлись повсюду… занимают любой дом, который им нравится, выгоняют горожан из собственных домов, на улице заставляют их насильно работать, отбирают велосипеды, автомобили, грузовики и в целом грабят дома и магазины… Разумеется, это месть немцам. На замечания офицеры неизменно отвечали стандартным оправданием: немцы делали то же самое во Франции, а теперь пришел их черед»73.
Гамлин описывает стрельбу по малейшему поводу, изнасилования, совершавшиеся французскими колониальными войсками, убийство американского сержанта французским патрулем. «Гостиницу в Меттлахе регулярно грабили, а добычу отправляли на грузовике на родину, во Францию… 5 апреля Лютвин Бох сообщил, что французские солдаты обнаружили предметы искусства и антиквариат, хранившиеся в подвале музея керамики Villeroy & Boch, и принялись уничтожать их». В дополнение к общему хаосу освобожденные русские военнопленные буйствовали на улицах, а американские солдаты гранатами глушили рыбу в ручье Хаусбахер. Местные жители, по словам Гамлина, напротив, были совершенно послушны. Хотя такие сцены были широко распространены по всей Германии, но в западной зоне оккупации порядок постепенно восстановился. В советской зоне этого не произошло. Узаконенный грабеж, изнасилования и убийства продолжались еще долгое время после капитуляции Германии. Окончание войны на Западе означало спасение для солдат Америки и Великобритании, но невзгоды, обрушившиеся на Европу и миллионы ее жителей, продолжались еще очень долго.
25. Поверженная Япония
Весной 1945 г. британские войска под командованием генерала Вильяма Слима провели фантастически успешную кампанию по освобождению Бирмы. Она уже не влияла на исход войны – и Слим, и Черчилль понимали это еще до начала операции, – поскольку американский военно-морской флот уже господствовал в Тихом океане. Зато эта операция помогла восстановить подорванный престиж и самоуважение Британской империи и продемонстрировала слабость Японии. Чтобы избежать тысячекилометрового марша по одной из самых труднопроходимых местностей мира, Черчилль предлагал высадить морской десант в Рангуне, с юга. Но американцы настояли на атаке через Северную Бирму, чтобы достичь единственной интересовавшей их в этом регионе цели – открыть сухопутный маршрут в Китай.
Армия Слима, состоявшая в основном из индийских войск, а также трех дивизий, набранных в африканских колониях, была многочисленнее японской – 530 000 человек против 400 000, – и ей придали значительные бронетанковые и авиационные силы. Основной проблемой Слима было тыловое снабжение наступавших частей через гористую и лесистую местность, практически по бездорожью. Поэтому существенным компонентом этой кампании стала выброска грузов с самолетов, что удалось осуществить при мощной поддержке американской авиации. Вначале Слим планировал вступить в битву на равнине Швебо к западу от реки Иравади – там ему было удобнее всего использовать свои танки и истребители-бомбардировщики. Однако новый командующий японцев генерал-лейтенант Хейтаро Кимура не захотел принимать бой, решив ударить по британцам, когда они перейдут через реку. Слим, узнав из дешифровок Ultra о намерениях Кимуры, изменил свой план. Он отправил часть войск вперед, к переправе через Иравади севернее Мандалая – туда, где их ждали японцы, – но основной удар нанес гораздо южнее, захватив город Мейхтила в тылу японцев и отрезав им путь к отступлению. Одновременно другой британский корпус оттянул на себя внимание японцев в прибрежном районе Аракан.
Эти операции закончились успешно благодаря, во-первых, силе союзных войск и, во-вторых, абсолютному господству их авиации, из-за чего японцы не сумели провести разведку в воздухе; с начала Бирманской кампании и до ее конца Кимура не имел четкого представления о передвижениях и намерениях британцев. Войска Слима, наступавшие из индийского Ассама, в декабре 1944 г. начали переправляться через реку Чиндуин – свидетельницу многих трагических событий во время отступления из Бирмы в 1942 г. На севере Стилуэлл, имея в распоряжении пять китайских дивизий, наступал на стратегически важный аэродром в Мьичине. 5 марта девятитысячный отряд десантников-чиндитов генерал-майора Орда Уингейта начал высадку в джунглях, в тылу у японских войск. Сам Уингейт погиб в авиакатастрофе, но его десантники в последующие месяцы приняли участие в ряде жестоких боев. 17 мая чиндиты и китайцы соединились у Мьичины и захватили аэродром; на долю чиндитов выпали тяжелые испытания, они понесли огромные потери, но оттянули на себя значительные силы японцев от главного наступления Слима.
На захваченный аэродром в Мьичине было доставлено около 40 000 тонн боеприпасов и грузов для дальнейшей переправки в Китай. Это не слишком укрепило немощную армию Чан Кайши, по-прежнему неспособную причинить японцам какой-либо существенный урон, и в основном обогатило местных военачальников-милитаристов, которые присвоили значительную часть грузов, предназначенных для их войск. Чтобы контролировать бескрайние просторы Восточного Китая, японцы всю войну продержали там миллионную оккупационную группировку, которая с легкостью громила босые, полуголодные армии националистов. Коммунистическим отрядам Мао Цзэдуна, воевавшим на севере Китая, в определенной степени удалось убедить Запад, что они успешнее воюют с японцами, но на деле Мао берег силы для предстоящих сражений с китайскими националистами за власть над страной.
В середине января индийские части форсировали Иравади севернее Мандалая. В течение следующего месяца три дивизии устроили основную переправу к западу от Сагайна и гораздо дальше к югу. Ширина реки Иравади – полтора километра, а у британцев в Бирме не было таких инженерно-десантных возможностей, как у армии Эйзенхауэра в Европе. Поскольку основные японские силы были задействованы севернее, британцам, действовавшим с настойчивостью, изобретательностью и поразительной храбростью, удалось удержать захваченный плацдарм. 20 марта британцы вошли в полуразрушенный Мандалай. Это была важная и символичная победа, но Кимура уже отвел войска, готовясь вступить в главное сражение этой кампании у Мейхтилы.
Финансируемая японцами Армия обороны Бирмы, которую возглавлял лидер националистов Аун Сан, готовилась переметнуться на сторону победителя. Часть британских офицеров активно противились идее вооружить девять батальонов Аун Сана, опасаясь, что это оружие вскоре может обернуться против них самих. Но все же Маунтбеттен, главнокомандующий союзных сил в Юго-Восточной Азии, решил по-своему и приказал офицерам Управления специальных операций работать с АОБ, добавив: «Мы сделаем не больше того, что делают в Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии»1. Аун Сан, встретившись со Слимом, извинился за незнание английского. Генерал со свойственной ему вежливостью ответил, что извиняться нужно ему самому, поскольку он не владеет бирманским языком. Они договорились о совместных действиях, и 27 марта, когда армия Слима была в сотне километров от Рангуна, АОБ внезапно атаковала японские позиции. Многие бирманцы радовались возможности отомстить тем, кто в 1942 г. казался им освободителями, но на поверку оказался угнетателем. Один из этих бирманцев по имени Маун Маун писал: «Партизаны, молодежь из деревень оставляли дома и присоединялись к нам. Мы ели то, что нам приносили крестьяне, ухаживали за их дочерями, несли опасность в их дома и уводили с собой их сыновей»2. Это был романтизированный взгляд на запоздалую и прагматичную смену союзника, напоминающую поведение французов летом 1944 г.; однако же так создавалась легенда, которой бирманские националисты впоследствии активно пользовались.
29 апреля под проливным ливнем – предвестником муссонных дождей – британцы вошли в Пегу (80 км от Рангуна). На южном побережье индийская дивизия провела высадку с моря, на которой давно настаивал Черчилль, и двинулась к столице, преодолевая слабое сопротивление противника. Японская армия была разбита, потеряла весь автотранспорт и почти всю артиллерию.
К концу войны в Бирме оставались лишь изолированные очаги японского сопротивления. Войска Слима развернулись вдоль реки Ситанг, отсекая противнику путь к бегству в Сиам, и когда разбитые японские подразделения пытались через них прорваться, началась настоящая бойня. В последние месяцы войны британские войска потеряли лишь несколько сотен человек, в то время как их противник в Бирманской кампании только убитыми 80 000 человек.
Но главные события, позволившие замкнуть кольцо окружения вокруг Японии, происходили тем временем на Тихом океане. Утром 19 февраля три дивизии морской пехоты США начали высадку на Иводзиме – небольшом островке в 5000 км от Пёрл-Харбора и всего лишь в тысяче с небольшим километров к югу от Японии. Один американец, наблюдавший за артподготовкой перед высадкой, сказал: «Мы думали, что после этого там не останется ни одной живой души, да и морская авиация тоже задала им жару». Но японцы хорошо подготовились к обороне и глубоко зарылись в землю. Высадка оказалась даже более кровопролитной, чем десант в Нормандии: в тот день на Иводзиму высадились 30 000 морпехов; к ночи 566 из них уже умерли или умирали. Живым предстояло брести по колено в вулканическом пепле местного лунного ландшафта, где не было ни малейшего укрытия; в придачу ко всему шел проливной дождь. Морской пехотинец Джозеф Распайлер пишет: «Никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным, как в ту ночь. Все, что ты мог, так это лежать в воде и ждать рассвета, когда сможешь выбраться из этой норы»3. Жестокая битва продлилась много недель. Раненый гранатометчик капрал Джордж Уэймен дожидался эвакуации, лежа в воронке от снаряда под многочасовым японским обстрелом, обрушившимся на захваченный морской пехотой плацдарм, и так страдал от боли, что подумывал заколоться собственным штыком.
Подтягивавшиеся к передовой свежие части преодолевали долгий опасный путь, и многих ранило прежде, чем они познакомились с новыми товарищами по окопу. Лейтенант Патрик Карузо поддразнивал одного юношу, утверждая, что тот еще не достиг совершеннолетия; парень был убит через пару часов пребывания на острове, не успев увидеть врага или взять в руки винтовку4. Изобретательность японских защитников острова казалась неисчерпаемой: один морской пехотинец рассказывал, как на его глазах прямо в склоне горы открылся вход в пещеру, три японца выкатили оттуда полевое орудие, сделали три выстрела и закатили орудие назад в пещеру. Орудие удалось уничтожить минометным огнем, но, чтобы овладеть островом, пришлось подавить сотню таких позиций. Офицеры привыкли предостерегать своих людей от поиска сувениров, которые часто оказывались японскими минами-сюрпризами. «Лучший сувенир, который вы можете привезти домой, – вы сами», – лаконично сказал один ротный командир своим морпехам.
27 марта Иводзима пала. При захвате острова площадью в треть Манхэттена американцы потеряли 24 000 человек, в том числе 7184 убитыми. Аэродромы Иводзимы могли принимать бомбардировщики B-29, которые возвращались с заданий поврежденные или почти без топлива, но для наступательных операций от острова было мало пользы. С географической точки зрения Иводзима – важный объект на пути к Японии, но со стратегической точки зрения ее важность объяснить трудно: Марианские острова значительно важнее. То же можно сказать о многих обильно политых кровью целях наступательных операций. В условиях полного господства американского флота японцы, не имея возможности подвозить подкрепления на Иводзиму и в другие места, не могли противостоять американским наступательным операциям. Япония истекала кровью из тысячи ран, и ее грядущее поражение было несомненным. Сомневаться можно было лишь в том, смирятся ли с этой очевидностью лидеры страны – и весной 1945 г. они еще не собирались признавать неизбежное. Японские генералы верили, что еще есть возможность заключить мир на достойных условиях, нужно только заставить Америку расплачиваться жизнями своих солдат за каждый клочок земли, а главное, убедить Вашингтон в том, что цена вторжения на Японские острова окажется непомерно высокой. Чтобы доходчивее выразить эту мысль, они обрушили на американский флот воздушные атаки смертников – камикадзе.
Коммандер Стивен Джурикка, штурман 27000-тонного авианосца Franklin, был одним из тысяч свидетелей разрушений, причиненных летчиками-самоубийцами. «Я видел… попадание в эсминцы, они горят, люди прыгают за борт, спасаясь от пламени… Команды эсминцев быстро поняли, что их выставили здесь как приманку». Ранним утром 19 марта 1945 г. настал черед и самого Franklin. Две японские бомбы разорвались на взлетной палубе, вызвав сильный взрыв под ней: «Прямо у подъемника стояли полностью заправленные и готовые к вылету самолеты, с включенными двигателями, с полным боекомплектом [снарядов] Tiny Tim, 250– и 500-килограммовых бомб. Показались языки пламени, а потом мы начали гореть по-настоящему. Люди прыгали с взлетной палубы… Два эсминца подошли к нам сзади и вылавливали людей из моря… многие из них раненые, с ожогами… У нас продолжались взрывы и пожар до середины следующего дня»5. Когда отец О’Каллахан, капеллан корабля, соборовал умирающих, снаряд Tiny Tim воспламенился и пролетел над его головой. Большинство из 4800 человек команды авианосца было эвакуировано в первые часы после атаки, но 772 человека остались на борту и выиграли грандиозную битву за спасение Franklin. Со времен Пёрл-Харбора американский флот получил большой опыт борьбы за живучесть корабля, и все это пригодилось при спасении авианосца. Как всегда бывает, одни проявили себя с самой лучшей стороны, а другие совсем наоборот.
«Я был просто изумлен, когда кое-кто из наших самых видных красавцев-офицеров, на которых рассчитываешь опереться в трудную минуту, оказались ничтожествами и их все время приходилось погонять, а незаметные “легковесы” показали себя настоящими тиграми… Семь офицеров покинули Franklin с помощью траверсного устройства [спасательной люльки с крейсера Santa Fe], игнорируя приказы вернуться на корабль, и капитан Герес написал рапорт о каждом из них и рекомендовал отдать их под трибунал»6.
Еще в 1939 г., когда до создания бомбардировщика B-29 Superfortress было еще далеко, генерал ВВС США Карл Шпатц предсказал, что он пригодится Америке для бомбардировок Японии. Отдельные рейды B-29 производились уже в 1944 г., одни из Индии, другие с аэродромов в Китае, построенных невзирая на огромные затраты и местные проблемы. Эти рейды оказались малоэффективными из-за ряда факторов: технического несовершенства первых B-29, большого расстояния до Японии, а также ряда недостатков в управлении, навигации и бомбометании. Только в 1945 г. рейды на Японию коренным образом изменились и усилились благодаря созданию обширной сети авиабаз на Марианских островах, увеличению количества самолетов и наконец благодаря назначению командиром XXI группы бомбардировщиков генерал-майора Кертиса Лемея.
Лемей стал организатором первой массированной бомбардировки Токио зажигательными бомбами 9 марта 1945 г. Он послал 325 самолетов в ночной рейд и приказал бомбить с очень малой высоты (2000–2500 м). На город хлынули потоки «зажигалок», взрывавшихся с характерным резким треском. Американцы потеряли всего лишь 12 бомбардировщиков, по большей части из-за восходящих потоков воздуха, поднимавшихся от пылающего города; еще 42 машины пострадали от зенитного огня, но в целом японская ПВО была слабой. Один пилот на следующий день лаконично записал: «Вчера вечером мы вылетели в 18:35 и после долгого скучного полета достигли побережья Японии в 02:10. Еще на подлете к береговой линии мы видели пожары в Токио. Мы летели на высоте 2000 м, а дым поднимался еще выше. Радар сработал отлично, и мы отбомбились на открытом месте визуально. Город был похож на Дантов ад. Нас атаковал ночной истребитель, но мы развернулись и сбросили его»7. Он добавил в письме домой: «Пожары были повсюду, а разрушения той ночи просто катастрофические». Летчик не преувеличивал: погибло около 100 000 жителей, и около миллиона людей потеряли кров. 40 кв. км городской застройки – четверть общей площади Токио – превратились в пепел. По словам ветерана Филиппинской кампании майора Шоджи Такахаши, утром 10 марта Токио выглядел «как самое огромное и самое разоренное поле битвы, которое только можно себе представить – Лейте[27] огромных размеров». После войны Такахаши с ужасом и отвращением узнал о том, что Лемея наградили японским орденом (это был один из множества примирительных жестов послевоенного японского правительства в сторону США).
Командование американских ВВС восхищалось новым деятельным командиром XXI бомбардировочного командования, не склонным к моральным колебаниям. Генерал Лорис Норстад в утешение говорил смещенному предшественнику Лемея, генералу Хейвуду Хэнселлу: «Лемей – это руководитель, а мы, все остальные, – всего лишь организаторы. Вот, в общем-то, и всё»8. В последующие ночи подобным налетам с зажигательными бомбами подверглись Нагоя, Осака, Кобе и другие крупные японские города. Даже когда бомбардировщики начали вылетать днем, потери все равно оставались небольшими, а с американских заводов ежемесячно прибывала сотня новых B-29. Авиация без особой радости, но все же откликнулась на просьбы флота об установке минных заграждений: операция Starvation, начавшаяся в начале марта, имела огромные последствия, поскольку у японцев не хватало также и минных тральщиков. Первые 900 мин, упавшие в прибрежные воды, резко сократили импорт Японии; когда торговому флоту было приказано пренебречь таящейся под водой угрозой, погибло множество кораблей. До конца войны B-29 сбросили 12 000 морских мин, на долю которых пришлось 63 % всех потопленных японских судов в период с апреля по август 1945 г.
Но главный удар «летающих крепостей» был направлен на города. Отдельные дневные налеты встречали сильный отпор – так, против одной из армад B-29 было направлено 233 японских истребителя. Но боевые качества японских самолетов и их экипажей были настолько низкими, что потери бомбардировщиков никогда не превышали 1,6 % – ничтожный процент по меркам Европейского театра военных действий. После одного из налетов японцы заявили о 28 сбитых бомбардировщиках B-29, хотя на самом деле было сбито только пять. Обороняющиеся испробовали тактику камикадзе, пытаясь протаранить своими истребителями американские бомбардировщики. Но тяжелые, бронированные «летающие крепости» зачастую не удавалось сбить даже таким самоубийственным методом: так, один из B-29 после атаки камикадзе потерял только один двигатель. Бортмеханик самолета лейтенант Роберт Уотсон сказал: «Когда япошка врезался в нас, удар оказался на удивление слабым, так что штурман даже не понял, что нас таранили»9. Погода и атмосферные условия волновали экипажи больше, чем японская противовоздушная оборона, поскольку восходящие потоки горячего воздуха иногда вызывали самые невероятные эффекты: так, в июле одна «летающая крепость» приземлилась на острове Сайпан с отпаявшимся куском обшивки передней кромки крыла.
В историографии этой войны много внимания уделялось готовности японских пилотов к самоубийству, однако на данном этапе пилоты обычных истребителей не очень-то рвались в бой: американские экипажи часто отмечали их пассивность. Бомбардировки на Токио повторялись вновь и вновь. 5 июня при очередном налете на Кобе японская авиация в последний раз сражалась с бомбардировщиками в полную силу, решив приберечь свои тающие на глазах резервы для защиты от предстоящего американского вторжения. В ночь на 15 июня в результате налета на Осаку было разрушено 300 000 домов, тысячи людей погибли. Американской авиации стало трудно находить достойные и еще не разбомбленные цели; так, например, был совершен налет на практически бездействовавшие нефтеперерабатывающие заводы: у японцев уже не оставалось нефти для переработки. Потери бомбардировочной авиации снизились до 0,3 %.
Экипажи бомбардировщиков не больше своих командиров задавались проблемами морального характера. Весь летный состав 330-й бомбардировочной группы получил по свидетельству, которое с юношеской жизнерадостностью гласило, что его владелец «наносил визиты японскому императору в общей сложности… раз, дабы засвидетельствовать свое почтение взрывчатыми веществами, зажигательными бомбами и банками с армейским пайком, а также помог расчистить столичные трущобы и способствовал весенней вспашке и потому настоящим производится в рыцари Крутейшего Королевского Ордена ИМПЕРАТОРСКИХ БОМБИЛ»10. За 14 месяцев американские ВВС сбросили на Японию 170 000 тонн бомб (главным образом за последние полгода); потери составили 414 B-29 и 3015 человек летного состава; на каждого американского летчика приходится около 100 убитых японцев; 65 японских городов сгорело дотла. Бомбардировки Японии в 1944–1945 гг. производились главным образом по той простой причине, что бомбардировщики B-29, задуманные в очень тяжелом 1942 г., были созданы и их следовало пустить в дело, ведь они, в конце концов, обошлись Америке в $4 млрд (для сравнения: на Манхэттенский проект было израсходовано $3 млрд).
Американские ВВС стремились доказать, что способны внести решающий вклад в победу. Не стоит сравнивать налеты с применением зажигательных бомб с блокадой Японии подводными лодками по их воздействию на японскую промышленность: ко времени основных налетов страна уже осталась без топлива и сырья; зато после бомбардировочных рейдов все, кроме несгибаемых милитаристов в токийском правительстве, поняли, что Япония проиграла войну. Бомбардировки Лемея предназначалась скорее для наказания Японии за развязанную войну, чем для принуждении ее к капитуляции.
Высадка американцев на острове Окинава рассматривалась как прелюдия к самой кровопролитной битве на Азиатском континенте – предстоящему вторжению на Японские острова. Окинава, стокилометровая полоса гор и полей, лежит между филиппинским островом Лусон и японским островом Кюсю. Население Окинавы составляло 150 000 человек, японцев по крови, но с несколько отличающейся культурой. Вторжение под общим командованием адмирала Нимица началось в пасхальное воскресенье 1 апреля, после нескольких дней интенсивных бомбардировок. Более 1200 судов высадили 170 000 солдат и морских пехотинцев Десятой армии, а многочисленные авианосцы, линкоры и корабли поменьше крейсировали вокруг. К удивлению американцев, сама высадка проходила беспрепятственно. Японцы, наученные горьким опытом предыдущих битв за острова, ушли за пределы досягаемости корабельной артиллерии; только через неделю мелких стычек наступающие американские войска напоролись на яростный пулеметный и артиллерийский огонь. Южная часть Окинавы была превращена в крепость; заглубленные в склоны гор оборонительные рубежи шли один за другим. За первые сутки настоящих боев по 24-му корпусу было выпущено 14 000 снарядов.
В том месте, где сошлись враждующие армии, ширина острова составляла всего лишь 5 км. Генерал Мицуру Усидзима сосредоточил свои силы, 77 000 японцев и 24 000 окинавцев из вспомогательных частей, там, где они были практически неуязвимы для лобовых атак, которые проводили американцы в следующие недели. Проливной дождь превратил поле битвы в море грязи. Вновь и вновь американские солдаты и морские пехотинцы шли на приступ и вновь и вновь были отбиты. Их генералы требовали большего упорства: 6 мая командующий корпусом, побывав на дивизионном командном пункте, отметил, что часть понесла наименьшие потери. Офицеры восприняли это как похвалу, но он добавил: «Я это вот как понимаю: вы плохо старались»11. За первые 24 дня на Окинаве эта дивизия продвинулась на 20 км и уничтожила, по собственным подсчетам, почти 5000 японцев; за следующие 16 дней дивизия продвинулись лишь на 2 км.
Война в Европе подходила к концу, войска Соединенных Штатов повсеместно одерживали победы, и гражданам Америки было нестерпимо больно думать, что тысячи их мальчиков должны погибнуть лишь ради того, чтобы вырвать из рук упорствующих фанатиков затерянный в океане клочок ненужной земли. Общественное негодование по этому поводу разгоралось все сильнее и было направлено не столько на японцев, сколько на собственных военачальников. В мае 1945 г., после победы над Гитлером, американский народ уверился в будущей победе на Тихоокеанском театре военных действий и все с меньшим энтузиазмом относился к войне. Чтобы избавить сограждан от преждевременной самоуспокоенности, представители военно-морского флота предлагали им съездить на западное побережье и посетить верфи с покореженными и разбитыми остовами кораблей, доставленных с Окинавы. Американский Красный Крест неожиданно обнаружил нехватку волонтеров, готовящих перевязочные материалы, а на военных заводах стало хронически недоставать рабочих рук. Если говорить красивыми словами, то состояние американцев можно было назвать «усталостью от войны», а проще говоря – скукой, болезнью демократического общества, чье терпение уже почти исчерпалось.
Сражавшиеся на Окинаве американцы чувствовали то же разочарование, что и весь американский народ. Почему бы не высадить десант с флангов, спрашивали они? Почему бы не пустить отравляющие газы? Зачем на заключительном этапе войны биться с японскими самоубийцами по их правилам? Ни на один из этих вопросов достойного ответа не находилось. Генерал Саймон Боливар Бакнер, неизобретательный командующий Десятой армии, более двух месяцев проводил операцию в духе сражений Первой мировой во Фландрии. Американцы раз за разом шли в лобовые атаки на укрепленные позиции, что мало помогало продвижению вперед, но стоило больших жертв. На Окинаве морская пехота преуспела не больше пехоты обычной, на которую привыкла поглядывать свысока. На этот раз, возможно, был прав Макартур, предлагавший блокировать японский гарнизон в южной части Окинавы и оставить его там гнить, а американские войска бросить на Японские острова.
От своего сопротивления на Окинаве японцы существенных результатов не ожидали. Они стремились уничтожить американский флот с помощью массированных воздушных налетов, ключевую роль в которых играли камикадзе. Атаки летчиков-самоубийц на Филиппинах в октябре 1944 г. имели определенный успех. Американцы находили такой способ боевых действий омерзительным, но, с точки зрения их противников, он был вполне разумным. «Множество японцев критикуют атаки камикадзе, – раздраженно комментирует послевоенный японский историк. – Большинство этих критиков, однако, были штатскими и во время величайшего кризиса, который переживала их нация, довольствовались ролью наблюдателей»12.
Пользуясь традиционными методами ведения воздушных боев, наспех обученные японские пилоты не могли ничего противопоставить мощи американских ВВС и несли огромные потери. Но если рассматривать гибель самолета и летчика не как потенциальную возможность, а как обязательное условие, то можно вдвое сократить расход топлива и существенно увеличить точность наносимого удара. Японские авианалеты в районе Окинавы нанесли военно-морскому флоту США больший урон, чем крупные корабли Объединенного флота Японии за любой период войны. В последние месяцы битвы за Окинаву кораблям Спрюэнса пришлось пройти через самые суровые и продолжительные испытания. Фицхью Ли, старший помощник на авианосце Essex, описывает, как он отслеживал японские бомбы и торпеды из боевого информационного центра своего мощного корабля:
«Я помню долгие тягостные часы, которые провел в БИЦ; наблюдая за приближающимися к нам яркими точками, я понимал, что это такое, и надеялся, что наши орудия их собьют; когда они изменяли курс на экране радара, я понимал, что торпеды уже в воде и приближаются к нам. Эти минуты тянутся как годы, когда сидишь и ждешь, попадут они в тебя или нет. БИЦ не то место, где приятно находиться. Интересно с психологической точки зрения… я первый раз по-настоящему испугался, когда встретился с тем, что может в любую секунду оказаться твоей смертью… Ты сидишь у экранов и наблюдаешь, как это происходит с восемнадцатилетними или девятнадцатилетними моряками, только что с фермы или из-за прилавка обувного магазина… Они ведут себя по большей части чудесно. Изредка ты видишь, что кто-то не может этого вынести… Я заметил, что обладаю способностью определять, когда у кого-то скоро начнется истерика… Если он чересчур разволнуется, это может передаться и другим, и нужно что-то быстро предпринять, вывести его… Было несколько таких, что теряли самоконтроль и начинали плакать, рыдать, молиться»13.
Представление о неудержимых японских камикадзе, с восторгом глядящим в лицо смерти, по большей части ошибочно. Осенью 1944 г., в первой волне летчиков-самоубийц, было много настоящих добровольцев. Впоследствии, однако, поток юных фанатиков стал иссякать: среди последующих пополнений многие записались в смертники под моральным давлением окружающих, а иногда и из-за прямого принуждения. Их обучали так же сурово, как и всех остальных японских военных, с таким же упором на телесные наказания. Касуга Такео, служивший при столовой на базе камикадзе в Цутиуре, свидетельствует, что в свои последние часы пилоты часто тосковали или впадали в истерику. Одни ломали мебель, другие медитировали, некоторые исступленно танцевали. Такео говорит о «полном отчаянии»14. Давление со стороны окружающих – всемогущая сила в Японии с незапамятных времен – достигло своего апогея в системе смертников-камикадзе.
Впоследствии один японский историк с непостижимой для европейского ума восторженностью писал об обреченных пилотах того времени: «Поначалу многие новички не только не выказывали энтузиазма, но даже грустили о своей судьбе. У некоторых такое состояние длилось всего лишь несколько часов, у других – несколько дней. Это был период печали, который со временем проходил, сменяясь в конце концов духовным пробуждением. Затем, словно с приходом мудрости, исчезали тревоги и снисходил дух спокойствия, как будто жизнь примирялась со смертью, бренное с бессмертным»15. Он приводит в пример лейтенанта Куно, который, прибыв на оперативный аэродром, грустил, но перед последним вылетом стал оживленным и веселым, настаивал, чтобы с его самолета сняли все необязательное оборудование. Автор, однако, выражает сожаление, что «некоторые из этих пилотов, чрезмерно воодушевленные благодарностью и поклонением соотечественников, вообразили себя живыми богами и проявляли нестерпимую заносчивость»16.
Страдали очень многие. Один юный курсант мрачно раздумывал об очевидной будущности своей страны: «Начнутся массовые атаки противника, который обладает подавляющим материальным превосходством. Вот-вот наступит последний, катастрофический этап, описанный в “На Западном фронте без перемен”»17. А двадцатидвухлетний пилот бомбардировщика Норимицу Такусима писал в дневнике: «Сегодня японский народ лишен свободы слова, и мы не можем публично выражать свое недовольство… Японский народ не имеет даже доступа к источникам информации, чтобы осмыслить ситуацию… Это лишь один пример наших порядков и демагогии, превратившихся в движущую силу нашего общества… Мы примем то, что нам суждено, влекомые непреклонной волей правительства. Я не откажусь от своих чувств и надежды до самого конца… Есть единственный идеал – свобода»18. 9 апреля 1945 г. самолет Такусимы не вернулся с задания.
Но некоторые молодые люди утверждали, что охотно идут на смерть: лейтенант Канно Наоиси, которого считали одним из самых выдающихся пилотов-истребителей, таранил B-24 и едва спасся, хотя и не надеялся еще долго прожить. Авиаторы перемещались с места на место с маленькой сумкой с личными вещами, карандашами для навигационных отметок и нижним бельем; на сумке стояло имя владельца. Этот летчик небрежно подписал свою сумку так: «Личные вещи покойного капитана Канно Наоиси», предвидя свою гибель и, как это было принято, посмертное повышение в звании.
Вот одно из многочисленных предсмертных писем, которые камикадзе отсылали своим родным. Хаяси Ичизо пишет в апреле 1945 г.: «Мама, я мужчина. Все мужчины, которые родились японцами, должны принять смерть в битве за свою страну. Ты совершила великое дело: вырастила меня человеком чести. Я же совершу великое дело, потопив авианосец врага. Гордись же мной»19. Ичизо погиб у Окинавы 12 апреля 1945 г., ему было 23 года. Накао Такенонори писал родителям 28 апреля: «Недавно я посетил храм Котохиры и сфотографировался. Готовую фотокарточку я велел отослать вам. На всякий случай шлю вам квитанцию… Прошу вас, не поддавайтесь унынию и боритесь за победу над Америкой и Британией. Передайте эти мои слова и бабушке. Оставляю после себя дневник. Я немногое успел сделать в жизни, но я уверен, что исполнил свое желание жить достойно, не оставив после себя ничего скверного… Хочу выразить свою благодарность дяде и многим другим людям… Желаю вам самой лучшей будущности»20. Схватка с камикадзе стала одной из тяжелейших и кровопролитнейших битв американского флота. С 11 марта по конец июня 1945 г. японские летчики сделали почти 1700 самолето-вылетов на Окинаву. День за днем экипажи кораблей становились к зенитным орудиям и вели огонь по самолетам противника. Большинство самолетов были сбиты американским заградительным огнем, но те немногие, кому удавалось прорваться, совершали самопожертвование на взлетных палубах и надстройках боевых кораблей. Воспламенялось топливо, взрывался боезапас; моряки, экипированные разве что огнезащитными капюшонами и рукавицами, оказывались посреди пылающего ада. 12 апреля почти все 185 самолетов были сбиты, но два американских корабля пошли на дно и еще 14 (в том числе два линкора) получили повреждения. 16 апреля был выведен из строя авианосец Intrepid. 4 мая пять кораблей затонули и 11 были подбиты. С 11 по 14 мая получили серьезные повреждения три флагманских корабля, включая авианосцы Bunker Hill и Enterprise. С 6 апреля по 22 июня в районе Окинавы только камикадзе произвели 10 крупных круглосуточных налетов с участием 1465 самолетов; кроме того, было произведено еще 4800 «обычных» атак. Камикадзе потопили 27 и повредили 164 судов, в то время как обычные бомбардировщики потопили один корабль и повредили 63. Почти 20 % атак смертников достигали цели – это в десять раз результативнее обычных атак. Только абсолютное превосходство американского военного флота позволило ему выдержать этот безжалостный натиск.
Окинава пала 22 июня, через 82 дня после высадки частей Бакнера; армия и морская пехота потеряли 7503 убитыми и 36 613 ранеными, а также 36 000 небоевыми потерями (в основном военные неврозы). Кроме того, 4907 убитыми и более 8000 ранеными потеряли ВМС США. Почти весь гарнизон Окинавы погиб, а вместе с ним и многие тысячи жителей, причем некоторых из них военные побудили совершить самоубийство. Японцы весьма преуспели в достижении своей цели: в Вашингтоне действительно решили, что вторжение на Японские острова обойдется Америке чересчур дорого. Но последствия оказались весьма далеки от того, на что надеялись в Токио.
Следующие недели продолжались второстепенные наземные операции: австралийские войска по приказу Макартура высадились на Борнео и провели там небольшую операцию, чтобы обеспечить безопасность своим прибрежным районам; на Филиппинах войска США прорвали последние рубежи генерала Ямаситы в горах и высадили ряд десантов для освобождения островов в центральной части архипелага. Американцы настойчиво пытались убедить японцев капитулировать; вот одна из распространявшихся американской армией листовок, которую подписал пленный двадцатидевятилетний сержант Киёси Ито, до призыва в армию работавший продавцом в Нагое:
«Мои товарищи! Вы, решившие героически сопротивляться до конца…
ПРОШУ ВАС: ПРЕЖДЕ ЧЕМ УМЕРЕТЬ, ОСТАНОВИТЕСЬ И ЗАДУМАЙТЕСЬ!
ОФИЦЕРЫ, СЕРЖАНТЫ И СОЛДАТЫ!
…Мне не нужно рассказывать вам, в каком положении мы оказались, когда наша окруженная родина сражается со всем миром. Разве все уже не предрешено? Прошу вас, подумайте здраво. Предоставьте Судьбе решить, каков будет исход этой войны. Что бы ни случилось, японский народ с его трехтысячелетней историей не будет уничтожен. Товарищи, давайте пересмотрим свое прошлое и воссоздадим Японию заново! Бросайте оружие и оставляйте свои позиции. Выходите к американским позициям днем, по главным дорогам; снимите рубашки и размахивайте ими над головой. Ваши беды закончатся, и с вами будут обращаться гуманно.
Я УВЕРЕН, ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ И САМАЯ ЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛУЖИТЬ НАШЕЙ СТРАНЕ!
Сержант японской армии, а теперь военнопленный»21.
Японцы практически игнорировали такие призывы как до августа 1945 г., так и после, когда Четырнадцатая армия Слима очищала Бирму от остатков японских войск и готовилась к вторжению в Малайю – операции Zipper. Солдаты, воевавшие в Азии, сочиняли кислые шутки по поводу Дня победы в Европе. «Посыльный вручает сообщение о капитуляции Германии старшему офицеру штаба дивизии в Бирме. Офицер звонит сержанту: “Я тут получил сообщение, что в Европе закончилась война”. Сержант поворачивается к солдатам и говорит: “Так, ребята, в Европе кончилась война – пять минут отдыха”»22. Майор Джон Рэндл, воевавший на бирманском фронте с апреля 1942 г., рассказывал о настроениях, царивших летом 1945 г.: «Нам казалось, что это никогда не закончится. Наше терпение подходило к концу. Если бы мой командир сказал “Ты заслужил отпуск” – еще до того, как мы вернулись [в Бирму] в начале 1945-го, я был бы рад. Но сам я никогда его не просил; нельзя же просто поднять руку и сказать: “С меня довольно!”»23
К смятению многих пожилых американцев, Макартура назначили командующим операцией Olympic – вторжением в Японию, которое должно было начаться в ноябре высадкой на остров Кюсю. Тем временем бомбардировщики Лемея продолжали стирать с земли вражеские города, а японская промышленность рухнула. 10 июля 1945 г. американский Третий флот под командованием адмирала Хэлси приблизился к Японии, и палубная авиация стала наносить удары по островам, неся хаос и разрушение районам, ускользнувшим от внимания Двенадцатой воздушной армии. «Огромное авианосное ударное соединение в авангарде захватчика… как могучий тайфун… наносило неистовые удары», – в благоговейном ужасе писал морской офицер Ёсида Мицури24.
К войне на Востоке обещал присоединиться Сталин. В июне и июле 1945 г. через всю Азию потянулись тысячи воинских эшелонов: советская армия, разбив Германию, отправилась завершить разгром Японии. В августе русские начали крупное наступление в Маньчжурии. Америка в борьбе с Японией, так же как и раньше с Германией, надеялась спасти жизни своих солдат, позволив русским сделать самую тяжелую часть работы. Вашингтон проявил наивность в отношении замыслов Сталина: конечно, он начал войну с Японией не для того, чтобы угодить Соединенным Штатам, но ради собственных территориальных приобретений. Советскому главнокомандующему, в отличие от союзников, не нужно было изобретать для своих солдат побуждающие мотивы. Из всех воюющих сторон именно Сталин наиболее четко представлял себе свои цели. Тем временем в рассредоточенных по всей Америке сооружениях, надежно изолированных от внешнего мира, 125 000 ученых, инженеров и технических работников доводили до готовности Манхэттенский проект, самый великий и самый ужасный из военно-научных проектов. Лаура Ферми, жена Энрико Ферми, одного из самых выдающихся руководителей исследовательского центра в Лос-Аламосе, жалела военных врачей, следивших за здоровьем ученых: «Они готовились оказывать помощь раненым на поле сражений, а вместо этого им приходилось возиться с целой оравой издерганных мужчин, женщин и детей. А издергались мы все, потому что на нас действовали непривычная высота над уровнем моря, потому что мужья наши работали без отдыха, через силу, с ужасным напряжением и потому что здесь собралось слишком много похожих друг на друга людей и все мы толклись на одном месте, всегда на глазах друг у друга, и некуда было от этого деваться, а ведь мы все были немножко не в себе; издергались мы еще и потому, что чувствовали себя совершенно бессильными в этой чужой, непривычной для нас обстановке»25.
В 1942 г. британцы совершили прорыв в атомных исследованиях, обогнав в теоретических познаниях своих американских коллег. Но жившие на осажденном острове британцы вскоре поняли, что их собственных ресурсов недостаточно, чтобы быстро создать атомное оружие. Было заключено соглашение, в соответствии с которым ряд ученых из Британии и эмигрантов-беженцев из европейских стран пересекли Атлантику и начали работать совместно с американскими коллегами. Впоследствии Вашингтон быстро забудет о британском вкладе и станет крайне собственнически относиться к атомной бомбе.
Технологический детерминизм – отличительная характеристика современных военных стратегий; особенно ярко это проявилось в истории с использованием атомного оружия. Как практически неизбежным было использование уже имеющейся армады бомбардировщиков B-29 для налетов на Японию, так же и заинтересованность США в реализации Манхэттенского проекта предопределила судьбу Хиросимы и Нагасаки. Потомки воспринимают использование атомной бомбы в совершенно ином контексте, чем те немногие политики и высшие военачальники, которые были посвящены в эту тайну в 1945 г.: в их представлении, первые ядерные бомбы всего лишь обещали фантастическое увеличение эффективности бомбардировок, которые уже и так проводили «летающие крепости» Лемея, и не должны были вызвать какой-либо существенный протест в самой Америке.
Лишь немногие ученые осознавали судьбоносное значение атомной энергии. Высказывание Черчилля по поводу ядерного оружия, сделанное им еще в 1941 г., свидетельствует о том, как слабо он понимал, о чем идет речь. На просьбу одобрить британскую программу разработки ядерного оружия Черчилль ответил, что в принципе не возражает против разработки новой перспективной технологии, хотя лично его устраивают и существующие взрывчатые вещества. Из переписки Трумэна (ставшего президентом США после смерти Рузвельта 12 апреля 1945 г.), Стимсона, Маршалла и других можно сделать вывод, что они понимали, какой разрушительной мощью обладает атомная бомба, но не представляли, что ядерная энергия откроет новую эру человечества. Так, Маршалл до августа 1945 г. не прекращал подготовку к высадке на Японские острова: он не был уверен, что, даже если бомба будет сброшена и сработает как следует, это приведет к окончанию войны.
От генерал-майора Лесли Гровса, руководившего Манхэттенским проектом, требовалось как можно быстрее подготовить новое оружие, и его совершенно не волновали душевные терзания ученых, таких как Эдвард Теллер, который в отчаянии писал коллеге: «Я даже не надеюсь успокоить свою совесть. То, над чем мы работаем, настолько ужасно, что никакие протесты и обращения к политикам не спасут наши души»26. В реальности обсуждалось лишь одно: будет ли достаточно для устрашения Японии одной лишь демонстрации действия бомбы или же ее следует сбросить на крупный населенный пункт. Группа ученых во главе с Робертом Оппенгеймером провели выходные 14–16 июля[28] в напряженных дискуссиях, и вот к каким выводам они пришли: «Те из нас, кто отстаивает вариант чисто технической демонстрации, хотели бы запретить использование атомного оружия, поскольку серьезно опасаются, что это нанесет урон нашим позициям на будущих переговорах. Другие подчеркивают возможность сохранить жизни американцев благодаря немедленному использованию бомбы в военных целях и верят, что это улучшит международные перспективы… Мы склоняемся скорее ко второй точке зрения: мы не можем предложить вариант технической демонстрации, которая могла бы привести к завершению войны и не видим приемлемой альтернативы прямому военному использованию»27.
Даже Теллер убедил себя, и это вовсе не было глупостью, что весь мир должен увидеть и осознать невыразимые ужасы, которые может выпустить на свободу такое оружие. Атомный проект имел собственную инерцию развития, которую могли сдержать только два события: во-первых, Трумэн мог проявить невероятную гуманность и объявить атомную бомбу слишком ужасным оружием; во-вторых, и это более вероятная причина, японцы могли согласиться на безоговорочную капитуляцию. Но в середине 1945 г. перехваты секретных каблограмм и публичные заявления официального Токио говорили о том, что Япония ожесточенно сопротивляется такому исходу войны.
Неизбежность поражения Японии была очевидна союзникам как с военной, так и с экономической точки зрения; исходя лишь из этого, применять атомную бомбу было необязательно. Но в таком случае американским солдатам предстояло многие месяцы, а то и годы подавлять очаги фанатичного сопротивления по всей Азии, и такая перспектива не могла не ужасать. В Токио верили, что доблестное сопротивление на собственно японской территории спасет страну от полного поражения. В мае 1945 г. начальник японского генерального штаба генерал Ёсихиро Умецу с характерной претенциозностью пишет в газетной статье: «Надежный путь к победе в решающей битве лежит в объединении всех ресурсов империи для военных целей, в мобилизации всех сил нации, физических и духовных, для уничтожения американских захватчиков. Создание метафизического духа жизненно необходимо для победы в решающей битве. Активное устремление к агрессивным действиям всегда будет играть важную роль»28. Штабной офицер, майор Ёситака Хориэ, делавший курсантам доклад о текущих событиях, получил замечание от офицера Управления военно-учебной подготовки: «Ваши лекции производят такое гнетущее впечатление, что офицеры, которые их слушают, потеряют волю к борьбе. Вы должны заканчивать их на высокой ноте, убеждая слушателей, что в Императорской армии по-прежнему царит высокий боевой дух»29.
Некоторые современные критики применения атомных бомб игнорируют тот факт, что каждый новый день войны означал гибель для тысяч пленных и рабов Японской империи во всей Азии. И все же союзники могли бы привести японских милитаристов в замешательство, публично заявив о том, что не намерены вторгаться на Японские острова, а наоборот, намерены продолжать бомбардировки, пока японцы не капитулируют, и свернуть подготовку к операции Olympic. Трумэн укрепил бы свою репутацию, если бы перед бомбардировками Хиросимы и Нагасаки выдвинул японцам развернутый ультиматум. Потсдамская декларация, подписанная западными союзниками 26 июля, грозила Японии «быстрым и полным разрушением», если та откажется немедленно капитулировать. Эта фраза много значила для лидеров союзных стран, знавших, что на полигоне Аламогордо уже прошла успешные испытания первая атомная бомба. Но для японцев это было лишь повторением прежних угроз о бомбежках и вторжении.
К середине лета 1945 г. японские лидеры хотели закончить войну, но генералы и некоторые политики стремились обезопасить себя «почетными» условиями: например, сохранением под властью Японской империи значительных территорий в Маньчжурии, Корее и Китае, а также добивались обещания союзников не оккупировать страну и не судить военных преступников. «Полномочий, наподобие тех, что есть у американского президента, в Японии никто не имел, – пишет современный японский историк Акира Намамура, профессор университета Доккио. – Император был обязан действовать в соответствии с японской конституцией, то есть учитывая желания армии, флота и гражданских политиков. Он мог принять решение об окончании войны только в том случае, если бы эти силы предложили ему это сделать»30. Это утверждение оставляет широкий простор для толкований, но очевидно, что император Хирохито мог объявить о капитуляции, только если бы японские лидеры достигли согласия в этом вопросе. Они с большим трудом достигли согласия, но лишь в середине августа 1945 г., и ни днем раньше.
По сути, многие из тех, кто сегодня осуждает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, требуют, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя моральную ответственность за то, что не смогли оградить японский народ от последствий упорства его собственных лидеров. Ни один вменяемый человек не назовет использование атомной бомбы абсолютным благом или даже справедливым делом. Чтобы одолеть врага и одержать победу в этой кровопролитной войне, союзникам приходилось делать много ужасных вещей. В августе 1945 г. руководители Америки и Англии очень дорожили жизнями своих соотечественников и весьма низко ставили жизни своих врагов. При таких обстоятельствах понятно, что президент не мог остановить самолет, который нес атомные бомбы на остров Тиниан, а оттуда в Японию. Так же как Гитлер несет ответственность за разрушение Германии, так и режим Токио несет полную ответственность за судьбу Хиросимы и Нагасаки. Если бы японское руководство вняло здравому смыслу и подумало о благе собственного народа, оно бы капитулировало и атомные бомбы не упали бы на японские города.
Когда девятнадцатилетний стрелок «летающей крепости» Джозеф Маджески увидел приземлившийся на Тиниане специально переоборудованный бомбардировщик B-29 Enola Gay с почти полностью (кроме хвостового) демонтированным вооружением, с реверсивными пропеллерами и другим специальным оборудованием, он обошел машину кругом и спросил у одного из экипажа, зачем они сюда прилетели. «Мы прилетели, чтобы выиграть войну», – легкомысленно ответил тот, и, конечно же, юный бортстрелок ему не поверил. Через несколько дней, 6 августа 1945 г., Enola Gay сбросила на Хиросиму «Малыша». Его взрыв, по мощности равный 12 500 тонн обычной взрывчатки, причинил невиданные прежде разрушения и убил не менее 70 000 человек. Люди, впервые услышав об этом, просто не могли себе этого представить. Капитан 3-го ранга Майкл Блуа-Брук с десантного корабля Sefton, готовившегося к высадке на Малайе, сказал: «Мы слышали о какой-то взорвавшейся в Японии чудо-бомбе, которая может остановить войну. На самом деле мы не восприняли это всерьез: как может одна бомба изменить ход истории?»31
Тремя днями позже на Нагасаки был сброшен «Толстяк» мощностью 22 000 тонн тринитротолуола, убивший не менее 30 000 человек. Ранним утром того же дня первые из 1,5 млн советских солдат, 5500 танков и САУ пересекли границу Маньчжурии. Красная армия шла вперед, сметая значительно более слабые японские силы. В некоторых местах японцы защищались до последнего, прекратив сопротивление только через 10 дней после официального окончания войны. К 20 августа русские контролировали большую часть Маньчжурии и север Кореи. Эта краткосрочная кампания обошлась им в 12 000 убитых: больше, чем потеряла британская армия во Франции в 1940 г.; у японцев погибло около 80 000 солдат.
Большинство молодых людей, бомбивших Японию, уже давно выработали бесчувственное отношение к своему занятию, нарастив себе защитную броню наподобие той, что была у их командиров. Командующий ВВС США генерал «Хэп» Арнольд хотел завершить налеты «летающих крепостей» «торжественным финалом»: послать тысячу самолетов с зажигательными бомбами; генерал Шпатц, его начальник штаба на Тихоокеанском театре военных действий, предпочел бы сбросить на Токио третью атомную бомбу. В результате 14 августа восемь сотен B-29 с зажигательными бомбами на борту совершили налет на город Исэсаки и устроили последний огненный смерч, не потеряв при этом ни одного самолета. Полковник Карл Сторри, один из пилотов, на следующее утро так отозвался о своей роли в этом событии: «Мы стали для них будильником. Все остальные самолеты несли зажигалки, а мы – 4000-фунтовки, и мы разбудили жителей Кумугаи… Мы были на [высоте] 5000 м и могли видеть взрыв. Это была грязная штука. Япы, наверно, подумали, что мы сбросили еще одну атомную бомбу»32.
Император Хирохито созвал военных и политических лидеров страны и сообщил им о своем намерении закончить войну; несколькими часами позже он объявил об этом японскому народу в выступлении по радио. Даже и тогда не все его подданные согласились с таким решением. Летчик-истребитель капитан Хариюси Ики сказал: «Я никогда не позволял себе думать о возможном поражении. Когда русские вторглись в Маньчжурию, я был очень удручен, но и тогда не допускал, что мы проиграем войну». Некоторые заметные фигуры, включая военного министра и ряд генералов и адмиралов, совершили ритуальное самоубийство; их примеру последовало несколько сотен людей менее заметных. «В армии было четкое разделение мнений по поводу окончания войны, – говорил офицер разведки генштаба майор Сёдзи Такахаси. – Многие наши люди в Китае и Юго-Восточной Азии хотели драться дальше. В Японии большинство решило не продолжать сопротивление. Я не сомневался, что раз император велел, то мы должны сдаться». Это мнение взяло верх. 14 августа, в 19:00 по вашингтонскому времени – в Японии уже наступило 15 августа, – Гарри Трумэн, выступая в Белом доме перед плотной толпой журналистов и политиков, сообщил о безоговорочной капитуляции Японии. Затем президент приказал приостановить все наступательные операции против врага. 1 сентября в Токийской бухте на борту линкора Missouri представители союзников во главе с генералом Дугласом Макартуром подписали акт о капитуляции Японии. На этом Вторая мировая война официально закончилась.
26. Победители и побежденные
В начале ХIX в. Гете писал: «Наши современные войны, пока идут, делают несчастными многих, а когда заканчиваются, то всех». Почти так и случилось в 1945 г. В Европе война закончилась внезапно: с тяжелым или с благодарным сердцем, но миллионы немецких военных сдались, отбросив оружие и присоединившись к безбрежным колоннам пленных, волочащих ноги к импровизированным лагерям. Только небольшая группа на востоке предприняла попытку продолжить сопротивление русским. Побежденные появлялись в совершенно неожиданных местах и обличьях: подводная лодка с развевающимся белым флагом всплыла в Нью-Хэмпшире на реке Пискатакуа, где ее капитана и команду приняла изумленная полиция штата. Ирландский премьер-министр Эймон де Валера, до последнего выставляя напоказ свою ненависть к британским соседям, нанес официальный визит в немецкое посольство в Дублине, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти главы рейха.
Многие немцы считали себя такими же жертвами Гитлера, как представители покоренных и порабощенных народов. В Гамбурге старая Матильда Вульф-Монкебург с разбитым сердцем писала: «Мы… глубоко скорбим о судьбе нашей бедной Германии. Как будто заключительная бомба попала прямо нам в душу, убив последний остаток радости и надежды. Наша красивая и гордая Германия сокрушена, втоптана в землю и превращена в руины, в то время как миллионы пожертвовали своей жизнью, и все наши прекрасные города и художественные сокровища разрушены. И все это из-за одного человека с навязчивой идеей, будто он “избран Богом”»1.
Летом 1945 г. и позднее немцы скорее испытывали жалость к самим себе, чем раскаяние: каждый третий мужчина, рожденный с 1915 по 1924 г., был мертв, а из тех, кто родился с 1920 по 1925 г., – двое из пяти. В масштабных миграциях беженцев как до победы, так и после нее покинуло свои дома или было выгнано из них более 14 млн этнических немцев. По крайней мере полмиллиона (современные оценки значительно расходятся) в последующих одиссеях погибло; историческая проблема немецких меньшинств в Центральной Европе решилась самым катастрофическим способом – этнической чисткой. В то же время более миллиона людей дюжины национальностей, порабощенных Гитлером, попали в черную дыру неизвестности, в лагеря для перемещенных лиц под управлением союзников, где некоторые оставались долгие годы. Наименее удачливых в ускоренном порядке передали СССР, их родине, где многие из них были классифицированы НКВД как реальные или потенциальные предатели и убиты.
В городах Германии была разрушена половина жилищного фонда, включая 3,8 млн из 19 млн квартир. Ричард Джонстон из The New York Times писал из развалин Нюрнберга: «Подобно пугливым подземным существам, этим утром несколько немцев вышли из своих убежищ, пещер и подвалов, щуря глаза от яркого солнца и устремляя неверящие взоры на ужасающий хаос, который представляет из себя их город… Нюрнберг – город мертвых»2. Берлин, Дрезден, Гамбург были в еще худшем состоянии. Триста лет назад тридцатилетняя война повлекла за собой бόльшие в процентном отношении потери населения, однако материальные разрушения 1945 г. не имели себе равных в истории: во время Первой мировой и даже во время наполеоновских буйств большие города Европы уцелели.
Два года после Дня победы НКВД проводила кровавую кампанию по усмирению мятежей в Польше и Украине, чтобы навязать сталинскую волю народам, снедаемым горечью при мысли, что они обменяли тиранию нацистов на тиранию Советов. Поляки в изгнании на Западе были обескуражены тем, что им отказали в месте на параде победы в Лондоне, потому что новое британское лейбористское правительство не хотело расстраивать русских. Генерал Владислав Андерс писал: «Я чувствовал себя так, будто я подглядываю за участниками бала из-за занавеса, сквозь который не могу проникнуть»3. Незадолго до того, как в июле лейбористы вступили в должность, Андерс встретил посла США и министра иностранных дел Энтони Идена на банкете: «Они здороваются со мной вежливо, но без энтузиазма. Поскольку наше единственное преступление заключается в том, что мы вообще существуем как немое свидетельство провала союзнической политики, я не считаю, что обязан прятаться или стыдиться»4.
Его горечь была оправдана: он и почти 150 000 его соотечественников храбро воевали бок о бок с частями союзников, понеся большие потери в Италии и на северо-западе Европы. «Мы, поляки в форме, составлявшие одно целое с вооруженными силами Британии, стали мерзким пятном на английской совести»5, – писал офицер ВВС Б. Львов. В 1945 г. за неприятие сталинского марионеточного режима в своей стране подобные люди стали париями. Поляки закончили войну так же, как и начали, – жертвами циничных реалий политики. Андерс, Львов и многие их товарищи избрали изгнание на Запад вместо возвращения домой под власть СССР, где их, скорее всего, ждала казнь. Американцы и британцы избавили пол-Европы от одной тоталитарной тирании, но не располагали политической волей и военными средствами для спасения 90 млн жителей Восточной Европы от нового, советского рабства, которое продолжалось более полувека. Воистину высокой оказалась цена объединения со Сталиным для уничтожения Гитлера.
В победивших народах простые люди приветствовали исход борьбы как победу добра над злом, не понимая того, как много было в мире тех, для которых освобождение было отравлено. На Шеффильд-стрит, где жила домохозяйка Иди Разерфорд, на нескольких стоящих вплотную друг ко другу домах был написан лозунг: «БЛАГОСЛОВИ БОГ НАШИХ ПАРНЕЙ ЗА ЭТУ ПОБЕДУ». Она с друзьями так рассуждала о Черчилле: «Все были согласны, что нам выпало большое счастье иметь такого лидера. Я снова почувствовала благодарность за то, что родилась британкой»6.
Миллионы скромных людей не задумывались о мировых проблемах, но имели массу трогательных личных поводов для благодарности. 7 сентября 1941 г., накануне отплытия на Дальний Восток, девятнадцатилетний артиллерист из Ист-Энда Боб Графтон написал своей любимой Дот: «Дорогая, я знаю, что ты дождешься меня. Дорогая, знаешь ли ты? Я обещаю, что, пока мы в разлуке, я никогда-никогда не дотронусь до другой женщины, ни физически, ни в мыслях. Я говорю это совершенно серьезно… Вечно Твой, с Любовью и Преданностью, которые так глубоки, что их огонь горит даже во сне, Боб». Накануне падения Сингапура Графтон бежал на джонке на Суматру, потом жил в джунглях, пока в марте 1942 г. его не поймали японцы. Выжив в рабстве, в том числе два года на железной дороге в Бирме, он написал Дот в сентябре 1945 г. с военного судна, отправлявшегося на родину: «Я знаю вот что: из нас двоих твоя доля была тяжелее. Потому что я мужчина (возможно, я стал им преждевременно), а мужчины должны воевать, а женщины – оплакивать. Моя доля не была исключением, твоя же была… Хоть мы и потеряли четыре года, мы заживем так, чтобы никогда не сожалеть об этом»7. История Графтона закончилась неожиданно благостно: он женился на своей Дот, и они жили долго и счастливо.
Артиллерист Дэвид Маккормик попал в плен в Северной Африке в декабре 1941 г. и провел более трех лет в итальянских и немецких лагерях. Вскоре после победы его будущая жена встретила его на станции в Солсбери. «Он был очень худым, очень бледным, с огромнейшей шишкой на лбу. На мне было синее платье в белый горошек с бантами, за которое я отдала несколько одежных талонов. Не могу вспомнить, поцеловались ли мы. Не думаю, наверное, все-таки позже, когда мы остановились на старой дороге в Дичхэмптон. Мы оба очень волновались. Он извинился за синяк, объяснив, что в первый вечер свободы несколько бельгийцев слишком обильно угостили группу пленных, и после этого он “вошел” в противотанковый еж. Он очень много говорил… Он отчаянно желал как можно быстрее сбросить с себя груз пережитого»8.
Однако многие, вернувшись домой, обнаружили, что старые связи дали трещину, прежние страсти улеглись; им пришлось довольствоваться тем, что сами они остались в живых. Для миллионов возвращение вообще не состоялось: предшествующей осенью Кэй Кирби стала вдовой в двадцать один год, когда ей пришло сообщение, что ее муж, штурман бомбардировщика, пропал без вести над Германией. Поскольку тело не нашли, она продолжала надеяться. «Много лет я ждала, что Джордж появится. Я не могла смириться с мыслью, что он не вернется… До того, как Джорджа отправили на фронт, когда он неожиданно приходил на побывку, он стучал ко мне в окно вешалкой для одежды. После того как он пропал без вести, я много раз подходила к двери, потому что мне чудилось, что он стучит в окно. Конечно же, никого там не было»9.
Интеллектуалы размышляли о том огромном опыте, через который прошел мир. Артур Шлезингер скупо написал: «Это была, я полагаю, Хорошая Война. Но, как все войны, наша война сопровождалась зверствами и садизмом, тупостью и ложью, напыщенностью и трусостью. Война остается адом, но некоторые войны имели под собой приличные мотивы и приносили благотворные плоды»10. Еще один историк, Форрест Пог, который проехал всю северо-западную Европу с американской армией, писал: «Несмотря на то что война дала мне шанс больше повидать мир и разных людей, она же привела меня в замешательство… Я жил гораздо более скучной жизнью, чем раньше… Я узнал, насколько человек близок к животному… это сделало меня более реалистичным, более терпимым и снисходительным к человеческой хрупкости… [но также] настолько запутало, что я до сих пор не смог найти никаких ответов»11.
Хотя группы японских солдат месяцами и даже годами продолжали скрываться и даже вести партизанскую деятельность на Филиппинах и отдаленных тихоокеанских островах, в Японии Макартур и его оккупационная армия были приняты с почти рабским почтением. Многие из воинов Хирохито, которые заявляли, что готовы умереть за императора, признались, что вздохнули с облегчением, когда жертвы не потребовалось. 23 августа капитан Ёсиро Минамото и тридцать членов экипажа смертников лодки-торпеды «Кайтэн» вылезли из укрытия на острове Токасики, недалеко от Окинавы, услышав американские призывы через громкоговоритель. «Я хотел, чтобы все было, как положено, – говорит Минамото, – поэтому попросил всех постирать комбинезоны и почистить оружие. Мы прошлись маршем, поклонились в сторону Токио и отдали честь, потом я повел группу с белым флагом навстречу американским рядам. Они обращались с нами очень хорошо. Я был счастлив, что выжил»12.
15 августа все подразделения островной части недалеко от Японии, где Тосихару Конада командовал еще одной торпедой «Кайтэн», получили предупреждение: непременно включить радио. Прием был слабый, поэтому они не могли услышать объявление Хирохито о капитуляции и предположили, что пропустили обычное патриотическое обращение. Конада узнал новости только после того, как съездил в штаб острова в горы. Вышестоящий офицер приказал всем подразделениям оставаться в состоянии максимальной боеготовности. Никто не догадывался, что произойдет дальше: предполагали, что радиообращение могло быть американской уловкой. Пораженный и озадаченный, Конада решил прогуляться вниз с горы к морю, собираясь с мыслями. Он допускал, что ему и его товарищам могут велеть пойти на смерть. Если его народ потерпел поражение, никакое другое решение не казалось благовидным.
В данном случае эти молодые люди, которые вызвались умереть, оставались в готовности запустить свою торпеду еще месяц, медленно привыкая к мысли, что они, возможно, не умрут. Чтобы его люди не скучали и научились чему-нибудь полезному для будущего, Конада начал преподавать им естественные науки и английский язык. Только в конце ноября 1945 г. он добрался до дома своих родителей на большой земле. Его отец, также морской офицер, вернулся с войны убежденный, что его старший сын погиб: из-за бюрократической неразберихи Конаду внесли в официальный список штурманов «Кайтэн», погибших при атаке американских кораблей. «В те времена японские отцы не показывали своих чувств, – пишет несостоявшийся смертник. – Он просто сказал: “Мы думали, что больше не увидим тебя”, – но я понял, что он был счастлив»13. Другие семьи не были столь удачливы: из огромного количества японских военных, попавших в руки СССР в результате последней краткой кампании в Маньчжурии, 300 000 погибло в плену.
Несколько месяцев после окончания войны люди продолжали погибать по ошибке или по чьей-то злой воле. 29 августа советские истребители сбили самолет ВВС США B-29, сбрасывавший припасы для лагеря военнопленных в Корее; несколько подобных фатальных столкновений произошло в пространстве над Германией. Прекращение военных действий не облегчило царившего во многих местах голода: только в Советском Союзе с 1945 по 1947 г. погибло около миллиона человек. По всему миру происходили несчастные случаи, вызванные беспечностью в обращении с транспортными средствами или оружием, когда молодые воины сбрасывали с себя оковы дисциплины и лишали себя жизни сами – те самые ребята, которые уцелели под пулями неприятеля.
По большей части победители и побежденные разделяли огромное облегчение от того, что самое большое кровопролитие в истории закончилось. На борту авианосца Princeton в Тихом океане главный делопроизводитель корабля Сесил Кинг ликовал, что он «видел такое завершение… прямо как в Голливуде, когда морская пехота возникает из-за горизонта в последнем кадре»14. Историк группы бомбардировщиков ВВС США на Сайпане написал с хромающей грамматикой, зато ярко: «Окончание войны подняло моральный дух этой группы больше, чем все остальное, что постигнуло ее с момента основания»15. Но, несмотря на проявления радости в столицах союзнических держав и в домах, где ждали обещанного возвращения любимых, для многих оказалось невозможным стряхнуть с себя меланхолию, вызванную годами страданий, страха и тяжелых утрат. После освобождения Бухареста Михаил Себастиан писал: «Мне стыдно грустить. В конце концов, именно в этом году мне вернули свободу»16.
Но чем была эта «свобода»? За год до капитуляции Японии австралийский посланник в Китае предупредил Военный консультативный совет в Канберре о широко распространившейся враждебности к идее реставрации колониального господства белых в Азии: «Было бы ошибкой полагать, что местные жители встретят нас по возвращении с распростертыми объятиями»17. И он оказался прав. Малайский националист Мустафа Хуссейн сказал: «Я плакал, когда услышал, что японцы сдались… просто потому, что лишь 48 часов отделяло нас от провозглашения независимости Малайи. Это был воистину классический случай, когда “счастье ушло из рук”. Я глубоко сожалел, поскольку Малайя снова должна попасть под власть западных колонизаторов. Эту ситуацию не исправить даже кровавыми слезами»18.
В нескольких странах, где националисты сопротивлялись восстановлению европейской гегемонии, в особенности во Французском Индокитае и Голландской Ост-Индии, разразились серьезные конфликты. Лорд Луис Маунтбеттен, главнокомандующий вооруженных сил союзников в Юго-Восточной Азии, призывал возвращающихся в колонии официальных лиц во избежание конфликта предоставить местному населению широкую автономию. Однако и голландцы, и французы отмели эти призывы и ввязались в долгие и заведомо неудачные кампании борьбы с повстанцами. На Яве, в лагере интернированных «Банья Бини – 10», японцы сообщили истощенным и больным голландским узникам об окончании войны только 24 августа. Когда заключенные вышли наружу, они обнаружили, что им угрожают, а иногда и стреляют по ним индонезийские националисты, решительно настроенные сопротивляться реставрации колониального правления. Только к сентябрю прибыли солдаты-гуркхи, и прошло еще два месяца, прежде чем голландцы смогли покинуть ненавистные места и отправиться в Нидерланды. На Яве дезертировало 1000 японских солдат. Они влились в местные сообщества; многие впоследствии помогали националистам-боевикам. В Китае американские самолеты доставили националистически настроенные китайские войска и некоторое количество американских морских пехотинцев в Пекин, Шанхай и Нанкин, чем удачно предотвратили коммунистический переворот, но вскоре страну охватила гражданская война, победителем из которой вышел Мао Цзэдун.
Британские чиновники, возвращавшиеся в Бирму, пришли в ужас от вида постигших страну лишений: коммунальная инфраструктура и общественный транспорт исчезли, многие люди голодали и были травмированы ужасами войны. В Рангуне государственный служащий Т. Л. Хьюз обнаружил, что его «старые друзья изменились до неузнаваемости; многие ссохлись от истощения; многие преждевременно поседели и продолжали бросать напряженные взгляды через плечо, опасаясь японского гестапо»19. Британские зрители на параде в бирманской столице с тревогой смотрели на националистические отряды Аун Сана, чеканящие шаг по центральному проспекту в формах японского покроя. Всем, кроме самых заядлых империалистов, было ясно, что часы невозможно перевести назад в 1941 г., что британцам вскоре придется уйти навсегда, а также покинуть Индию. На Филиппинах тоже укрепились радикальные элементы. О периоде после японской капитуляции боец коммунистической антияпонской армии Хукбалахап писал: «Я знал, что нам придется продолжать борьбу в крестьянских отрядах, потому что помещики возвращаются. Жизнь все еще была тяжелой и… столько всего было разрушено. Но мне кажется, люди не теряли надежду. По крайней мере я не терял. И мы, маленькие люди, стали сильнее; мы стали организованнее»20.
Каждый из трех главных народов-победителей вышел из Второй мировой войны с уверенностью, что именно его влияние на ее исход было решающим. Прошло много лет, прежде чем выработался более тонкий, взвешенный взгляд на вещи, по крайней мере в западных обществах. Гитлер был прав, когда ожидал, что «противоестественная коалиция» его врагов развалится и уступит место взаимному антагонизму между Советским Союзом и Западом, хотя это случилось слишком поздно для того, чтобы спасти Третий рейх. Великий альянс – отношения военных лет между Британией, США и СССР, которые Черчилль удостоил такого звания, – всегда был большим блефом; «легенда» требовала, чтобы все притворялись, будто три державы вели войну как совместное предприятие, направленное к общей цели.
Некоторые современные историки пытаются доказать, что конфликта можно было избежать, если бы на заре нацизма Британия и Франция создали общий фронт с СССР против Гитлера. Этот взгляд представляется несостоятельным и даже циничным: как могли западные демократии сойтись на общих политических целях с советским режимом, столь же бесчеловечным и агрессивным, как нацистский? В любой сделке с французами или британцами Сталин назначил бы ту же таксу, которую он потребовал в обмен на пакт Молотова – Риббентропа 1939 г.: вседозволенность собственных экспансионистских амбиций. Это оставалось неприемлемым для западных демократий до тех пор, пока ужасы войны не принесли с собой непредвиденные реалии и обязательства. Мощные консервативные элементы британского, французского и американского общественного мнения порицали коммунизм даже более, чем фашизм, и противились бы соглашению со Сталиным еще более энергично, чем они сопротивлялись умиротворению Гитлера.
Франция, Британия и их доминионы оказались единственными крупными союзническими странами, которые вступили во Вторую мировую войну из принципа, а не потому, что искали территориальных приобретений или сами подверглись нападению. Их притязания на высоконравственный поступок были подпорчены тем, что они провозгласили поддержку воюющей Польше без намерения подкрепить это значимыми военными действиями. В сентябре 1939 г. население Франции не горело желанием столкнуться с Германией на поле боя, в июне 1940 г. тем более, в то время как Британский экспедиционный корпус мог сыграть лишь несущественную роль. После падения Франции информированные британские и американские военные и политики утверждали, и не без оснований, что многие французы не любят народ Черчилля больше, чем Германию. Даже если признать важную роль французских войск в заключительных кампаниях на северо-западе Европы, цифры остаются цифрами: вишистская армия и силы внутренней безопасности внесли больший вклад в дело оси, чем тот, который смогли внести в дело союзников французы, впоследствии присоединившиеся к армии де Голля, другим группам Сопротивления и армии Эйзенхауэра.
В 1940 г. большинство французов убедило себя в том, что режим Петена был законным правлением; пусть и со смущением, они признавали его власть до самого кануна освобождения. Когда поражение 1940 г. отняло у французов надежду стать героями в борьбе против нацизма, многие до конца войны так и не разобрались, какую наименее постыдную роль их народ еще мог сыграть. После освобождения 1944 г. Франция предалась оргии взаимных обвинений, впитавших всю горькую память поражения 1940 г., а также сведению национальных и местных счетов между бывшими коллаборационистами и сопротивленцами, которые вызвали несколько тысяч убийств во время l’épuration – очищения, как почти издевательски это называлось. После посещения Франции Форрест Пог писал: «Я быстро обнаружил, что старая вражда по отношению к евреям и профсоюзам сохранилась»21. Коммунистическое движение Франции вышло из войны укрепившимся, как и в Италии и Греции, и в течение нескольких лет оставались опасения по поводу того, выживет ли демократия в этих трех странах. Капитализм в конце концов возобладал, но быстро достигнуть политической стабильности не удалось. До сего дня Франция не смогла создать официальную версию своей истории военных лет и, возможно, никогда не создаст, потому что массовая поддержка одной версии событий вряд ли возможна. Поражает, что самые убедительные современные исследования французского опыта Второй мировой были произведены американскими или британскими авторами: относительно немного местных ученых желают обращаться к этой теме.
Трудно представить, как бы Британия продолжала противостоять Гитлеру после июня 1940 г., не будь Уинстона Черчилля, который выстроил блестящую и вызывающую доверия аргументацию, внушив британскому народу сначала, что они могут сделать немыслимое, а потом возвеличив то, что они уже сделали. Нацистские лидеры, сухопутные создания, не понимали, как трудно достичь гегемонии в целом полушарии, борясь с грозной морской державой и не имея эффективного флота. Черчилль мог бы быть благодарен Гитлеру за целую цепочку ошибок. Сначала тот направил люфтваффе против истребительной авиации Королевских ВВС, чем предоставил Британии единственно возможный способ выковать победу из пепла стратегического поражения лета 1940 г. Затем Гитлер не смог договориться с Муссолини и Франко, которые могли бы предоставить ему возможность прогнать британские силы из Средиземноморья и Ближнего Востока в 1941 г. После неуклюжего противостояния с Британией Гитлер вторгся в СССР, что переложило главное бремя схватки с нацизмом на народ Сталина. 79 млн немцев бросили вызов 193 млн советских граждан, располагая гораздо более слабой экономической базой, чем думали союзники.
Черчилль проявил величайшую мудрость, когда принял Советский Союз как союзника в 1941 г., но и он – на короткое время, а затем Рузвельт – постоянно – имел глупость полагать, будто со Сталиным возможно настоящее партнерство. Сталин с присущей ему ледяной ясностью ума осознавал, что общая приверженность Британии, СССР и США делу разгрома Гитлера никак не помогает преодолению зияющей пропасти между разными национальными задачами союзников. Он намеревался оставаться тираном, не оставляющим и малой доли свободы собственному народу, а также удерживать в составе СССР те территории, присоединение которых западные союзники никогда бы не одобрили. Кровавая жертва, принесенная СССР, спасла жизни сотен тысяч британских и американских солдат, но благодаря ей Красная армия обеспечила тирану захват восточноевропейской империи. Американцам и британцам ничего не оставалось, как нехотя на это согласиться, поскольку у них не было ни военных средств, ни народной поддержки для новой войны с целью изгнать Советский Союз с покоренных территорий. Русские пожинали плоды того, что они взяли на себя бόльшую часть борьбы против нацизма. Западная материальная помощь внесла важный вклад в военные усилия Советов в 1943−1945 гг., но казалась пустяком по сравнению с разрушениями и жертвами, которые понес русский народ.
Сталин допустил много промахов в первый год осуществления плана Barbarossa, но быстро научился на ошибках – так, как не сумел Гитлер. Советский Союз явил миру такую промышленную и военную мощь, которая позволила бы ему завершить разгром гитлеровской военной машины, даже если бы союзники никогда не высадились в Италии или во Франции, хотя их вмешательство и приблизило конец войны. Трудно спорить с мнением, что только военачальник, настолько лишенный колебаний и жалости, как Сталин, возглавляющий общество, в котором беспощадность была даже более укоренена, чем в Германии, мог разрушить нацизм. В отличие от Гитлера, Сталин оказался в высшей степени эффективным тираном. Союзнические методы ведения войны, обремененные буржуазной чувствительностью по поводу жертв, служили хроническим препятствием к победе над вермахтом. В 1944 г., когда итальянский офицер Эудженио Корти впервые встретился с британскими военными в неформальной обстановке, он с замешательством заметил, что «они больше похожи на гражданских, чем на солдат, чем, видимо, и объясняется вялость их продвижения»22. Так оно и было.
Поскольку немецкие и японские солдаты проявляли большое мужество и тактическое мастерство, противник переоценил главные державы оси. Начиная с июня 1940 г. и Берлин, и Токио вели свое стратегическое планирование с огромной некомпетентностью. Первые победы Японии в 1941–1942 гг. отражали локальную слабость союзников, а не реальную японскую силу; поразительно, как правительство Хирохито вступило в войну, не приняв серьезных мер для защиты своих морских границ от нападения подводных лодок США. В течение нескольких месяцев стало ясно, что японская авантюра провалилась, потому что ее успех зависел от победы Германии в Европе, которая уже не была достижима.
Когда британские и американские военные усилия набрали обороты, союзники научились вести свои дела гораздо лучше, чем немцы и японцы на всех уровнях, кроме рукопашной схватки. Трудно сказать, были ли лидеры Германии и Японии бестолковыми людьми, но они точно сделали много нелепых шагов, часто из-за того, что так плохо понимали противника. Большинство людей из окружения Гитлера, в особенности Гиммлер и Геринг, показались бы потомкам смехотворными фигурами, не имей они мандата на кровопролитие. В то время как сталинский Советский Союз был по-настоящему тоталитарным государством, монолитом, нацистское руководство раздирали личные амбиции, а военные усилия подтачивались соперничеством между вотчинами, а также постоянными промахами Гитлера.
Сотрудник британской разведки и историк Хью Тревор-Ропер написал в своем дневнике в августе 1945 г.: «Теперь, когда германская война окончена, и выжившие шишки нацистской Германии пойманы и заговорили, какими, как оказалось, они были жалкими, напыщенными банальностями, как убого притворялись, каким абсурдно-византийским был этот фантастический двор в Берлине и Берхтесгадене и эта странствующая Führerhauptquartier (ставка фюрера)!.. Как абсурдно и фантастически безграмотно действовали и думали эти люди, которые в течение десяти лет то толкались, то пресмыкались у алтаря Абсолютной Власти, изолированного от свободного и цивилизованного мира».
Демократические страны мобилизовали лучшие мозги и дали возможность умнейшим людям задействовать научный гений и промышленную мощь своих стран. Америка и Британия добились своих стратегических целей со сравнительно невысокими человеческими потерями благодаря творческой мобилизации ресурсов, интеллектуальной мощи и высоким технологиям, особенно на море и в воздухе. Этим их правительства, и особенно Рузвельт и Черчилль, действительно заслужили ту благодарность, которую на них изливали их народы.
Стойкость Британии в 1940−1941 гг. сыграла решающую роль в предотвращении нацистского триумфа; но после этого народ Черчилля внес лишь второстепенный вклад в победу. Цена – как в кровопролитии, так и материальная – казалась высокой, но на самом деле была скромной по сравнению с ужасами, выпавшими на долю народов Континента. Даже до британских лидеров медленно доходило понимание того, что, хотя война и ускорила потерю нацией ее всемирной мощи, сама эта потеря была неизбежной. У британцев развилось чувство обиды из-за послевоенных лишений, талонов на некоторые виды питания, которые оставались в ходу вплоть до 1952 г. Поскольку англичане переоценивали силу и богатство Британии образца 1939 г., уменьшение их значения в мире и сравнительное обеднение после победы воспринимались более болезненно.
Война осталась предметом гордости в народной памяти, потому что британцы стали относиться к ней как к последнему триумфу их величия, историческому достижению, которое можно противопоставить многим послевоенным неудачам и разочарованиям. Длительное противостояние нацизму в 1940−1941 гг. было действительно их звездным часом, на который их сподвиг Уинстон Черчилль, этот исполин светлых сил. В течение войны Британией управляли с впечатляющей эффективностью; ее лидеры «запрягли» гражданские мозги и научный гений для обеспечения ошеломляющего результата, символом которого стала криптографическая эпопея Блетчли-парка, самого большого национального достижения военных лет. Королевские ВМС и ВВС осуществили много смелых и технически качественных акций, хотя равновесие между их возможностями и возложенными на них обязанностями всегда было шатким. Однако общая эффективность британской армии редко превышала минимально приемлемую, а часто проваливалась и ниже этой планки. Алан Брук с готовностью признавал, что как организации армии недоставало компетентных командующих, воображения, транспорта и вооружений, энергии и профессиональных навыков. Только артиллерия работала на отлично. Недостатки армии обнажились бы еще более безжалостно, если бы от нее потребовалось взять на себя важную роль в победе над вермахтом.
Что касается США, их промышленная мощь внесла больший вклад в победу, нежели их войска. Немецким экономическим менеджерам стало очевидно еще в декабре 1941 г., что Гитлеру не добиться победы из-за событий в СССР и вступления США в ряды союзников. Это было задолго до того, как ВВС Британии и США достигли зрелости в стратегическом наступлении: бомбардировки Германии союзниками приблизили конец, но не предрешили исход. Однако необходимо подчеркнуть важность авиаподдержки наземных операций и полного господства в воздухе на западных фронтах в 1943–1945 гг. Западные союзники создали великолепные тактические ВВС и использовали их с мастерством и чутьем, которых им не хватало в наземных операциях. Каждый, кто хоть мельком видел войска, плотные колонны которых без помех со стороны люфтваффе наводнили дороги Италии, а позднее северо-западной Европы, признавал решающий вклад авиации в обеспечение свободы передвижения союзников и ее отсутствия у вермахта.
ВМС и морская пехота США в основном отвечали за разгром Японии. Для этого велось множество стратегически бесполезных сражений, например в Бирме и на Филиппинах. Но динамика войны накладывала свои требования, и такие суждения значительно легче выносить современным историкам, чем тогдашнему национальному руководству. То же самое можно сказать и об аргументах против использования ядерных бомб.
США оказались единственным участником войны, вышедшим из нее без синдрома жертвы. Большинство американцев гордилось и своим вкладом в победу союзников, и своим новым статусом самой богатой и могущественной нации на земле. Характерным для американского романтического духа можно считать то обстоятельство, что война, в которую США вступили только из-за нападения Японии, за последующие 45 месяцев превратилась в «крестовый поход за свободу». Благодаря Пёрл-Харбору меньше жителей США сомневалось в правоте своего дела, чем в какую-либо другую войну, которую их страна когда-либо вела. «Это был последний раз, когда большинство американцев думало, что они невинны и чисты без оговорок»23, – сказал профессор Роберт Лекэчмен.
Американцы поддерживали высокоэффективные оперативные отношения с британцами, что стало заметным достижением, принимая во внимание сложность союзов вообще, взаимные подозрения и разницу во взглядах. Партнерство лучше всего работало на местах, где британский личный состав мирно сотрудничал с американским, и давало сбои на более высоких уровнях. Американцы испытывали антипатию к империализму, которая была усилена личными впечатлениями от него в Египте, Индии и Юго-Восточной Азии. Они высокомерно верили в собственную добродетель и осознавали свое превосходство. Резкое прекращение конгрессом программы ленд-лиза в 1945 г. отражало отсутствие нежных чувств по отношению к нации Черчилля; опросы общественного мнения показывали, что американцы скорее готовы простить долг по ленд-лизу СССР, чем Британии. Возможно, отношения между двумя странами ухудшались бы и дальше, если бы не новые требования, налагаемые общепризнанной угрозой Советского Союза. Быстро развивающаяся конфронтация между Востоком и Западом принудила Соединенные Штаты признать необходимость сохранения союза с Британией и другими европейскими странами, поумерив свои антиимпериалистические возражения, а также предложив разрушенному Континенту долю своих огромных военных прибылей для воскрешения экономики.
Каковы бы ни были недостатки Сталина в роли главнокомандующего и как бы чудовищна ни была его репутация как тирана, он руководил созданием выдающейся военной машины и с триумфом добился выполнения своих задач. В 1945 г. Советский Союз казался единственной страной, которая получила в результате войны все, чего она желала, создав новую восточноевропейскую империю – буфер на границах с Западом, а также закрепив свое положение на тихоокеанском берегу. Бывший заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс описывал такой разговор, якобы состоявшийся между Сталиным и Энтони Иденом, министром иностранных дел Британии. Советский лидер сказал: «Гитлер – гений, но не знает, когда остановиться». Иден: «Разве кто-нибудь знает, когда остановиться?» Сталин: «Я знаю»24. Даже если эта беседа апокрифична, эти слова отражают реальность того, что Сталин с проницательностью обозначал границы своего произвола против свободы в 1944−1945 гг., чтобы избежать полного разрыва отношений с западными союзниками, прежде всего с США. Он сдержал ровно столько своих обещаний Рузвельту и Черчиллю – например, не захватив Грецию и выведя войска из Китая, – сколько требовалось, чтобы сохранить приобретения в Восточной Европе и не ввязаться в новый конфликт. Но Советский Союз был введен в заблуждение своим военным и дипломатическим триумфом, переоценив его значение. Более сорока лет после 1945 г. он поддерживал военную угрозу Западу ценой саморазрушения; в конце концов, экономическое, социальное и политическое банкротство системы, созданной Сталиным, стало очевидным.
Русские вышли из войны с осознанием своего нового могущества на мировой арене, но также с колоссальными разрушениями, с огромными потерями. Они утверждали (и были правы), что западные союзники дешево купили свою долю победы, и этот взгляд укреплял в них инстинктивное чувство обиды на Европу и США. Они забыли, как были союзниками Гитлера в 1939−1941 гг. Современная Россия продолжает упрямо и вызывающе отрицать оргию изнасилований, мародерства и убийств, устроенную Красной армией в 1944−1945 гг.; то, что иностранцы много об этом говорят, считается оскорбительным, поскольку ставит под сомнение и столь любимый статус главной жертвы, и славу военных побед.
На военные действия Второй мировой больше влияли общая и сравнительная эффективность армий, чем деятельность конкретных командующих, как бы важна она ни была: каждый поименный список военачальников должен включать великих военных менеджеров США и Британии, Маршалла и Брука, хотя ни один из них не возглавлял ни одной военной кампании. Маршалл проявил величие не только как военачальник, но и как государственный деятель. Брук отлично сотрудничал с Черчиллем и внес заметный вклад в стратегию союзников между 1941 и 1943 гг. Позднее, однако, он несколько уронил себя своим заносчивым поведением по отношению к американцам и упрямым энтузиазмом по поводу средиземноморских операций.
Генералитет западных союзников редко проявлял яркий талант, хотя американская армия дала миру несколько выдающихся командиров видов войск и подразделений. Майкл Ховард писал:
«Есть две сложности, с которыми профессиональный солдат, моряк или летчик должны смириться в подготовке себя к роли командира. Во-первых, его профессия почти уникальна в том смысле, что, возможно, ему придется применить ее только раз в жизни, если вообще придется. Это как если бы хирург всю жизнь практиковался на манекенах, чтобы произвести всего одну настоящую операцию; адвокат появился в суде только раз или два на закате своей карьеры или профессиональный пловец был бы вынужден всю жизнь тренироваться на суше для выступления на Олимпиаде, от которого зависела бы судьба его страны. Во-вторых, сложная проблема управления армией, вероятно, потребует всего его ума и способностей настолько, что будет очень легко забыть, для чего предназначена эта армия. Трудности в администрировании, дисциплине, обслуживании и обеспечении организации размером с хороший город достаточны для того, чтобы овладеть вниманием высшего офицера настолько, что он забудет свое истинное дело – ведение войны»25.
Немцы и русские оказались более успешными, чем западные союзники, в исполнении требования, обозначенного Ховардом: позволить командирам воевать, а не заведовать. Для американских, британских, канадских, польских и французских войск на передовой Северо-Западная кампания 1944−1945 гг. почти всегда выглядела ужасающе. Но цифры потерь, которые с обеих сторон были во много раз ниже, чем на Востоке, подчеркивают ее сравнительную умеренность, по крайней мере после окончания боев в Нормандии. За исключением нескольких энтузиастов, подобных Паттону, союзнические командиры понимали, что им поручено выиграть войну с минимальным числом человеческих жертв, поэтому подобная осторожность возводилась в добродетель наравне с победами. Придерживаясь такой политики, генералы исполняли волю как своих народов, так и своих солдат.
Конкурирующие заявления о величии конкретных командующих не подлежат объективной оценке. На результаты решающим образом повлияли обстоятельства: никакой генерал не может воевать лучше, чем позволит ему сила или слабость его войска. Поэтому, возможно, что Паттон, например, проявил бы себя как великий генерал, если бы его армия обладала мастерством вермахта или равнодушием к количеству жертв, подобно Красной армии. В преследовании противника он проявил воодушевление и энергию, редкие среди союзнических генералов, но в ожесточенных боях его армия оказалась не лучше других. Эйзенхауэра никогда не назовут видным стратегом или тактиком, но он добился величия своим искусством дипломата в поддержании англо-американского союза на местах. Луциан Траскотт, который к концу войны командовал Пятой армией США в Италии, был, возможно, самым способным американским офицером своего ранга, хотя ему воздают гораздо меньше почестей, чем некоторым из его коллег. Макартур выделялся не талантами командующего сражениями, а великолепием созданного им самим образа полководца, которым с упоением наслаждался его народ. В Ново-Гвинейской кампании, в заключительной фазе 1944 г., он проявил некоторые способности, а вот на Филиппинах провалился; решающим фактором в его победах были превосходящие ресурсы, особенно поддержка с воздуха. Макартур был скорее непозволительной роскошью, чем стратегическим активом для своей страны. Выдающейся личностью Японской войны был Нимиц, который с холодной уверенностью и мудростью руководил Северо-Тихоокеанской кампанией флота США, часто проявляя блестящий талант, особенно в использовании разведки. Спрюэнс показал себя как самый способный командующий на флоте.
На британской стороне выдающимися офицерами флота были Каннингем, Сомервилл и Хортон, сэр Артур Теддер был лучшим в ВВС. Слим, который руководил Четырнадцатой армией в Бирме, был, возможно, самым одаренным британским генералом той войны и наиболее привлекательной личностью во всем командовании; заметными достижениями стали его переправа через Иравади и военная хитрость по обходу японцев в Мейктиле. Но вряд ли у Слима получилось бы добиться лучших результатов от британской армии в пустыне в 1941−1942 гг., чем добились Уэйвелл или Окинлек, ведь в ту пору армия была еще слаба. Монтгомери был весьма компетентным профессионалом; маловероятно, чтобы кто-нибудь из военачальников союзников мог бы превзойти его в руководстве Нормандской операцией в 1944 г., когда истощение вражеских сил стало неизбежным. Но он подмочил свою репутацию печально известным хамством в жизненно важных отношениях с американцами. Успех вторжения во Францию в большой степени является заслугой Монти, однако последний так никогда и не создал шедевра – завершающего штриха, который внес бы его в список великих полководцев истории.
В Советском Союзе лучшие генералы проявили не имеющее себе равных на стороне союзников дерзновение в управлении огромными силами. В первой половине войны им ставило палки в колеса вмешательство Сталина, которое подрывало надежды СССР на выживание почти в той же мере, в какой желание Гитлера встревать в военные дела Германии губило перспективы рейха. Но с конца 1942 г. Сталин больше полагался на суждения своих маршалов, и военные усилия СССР приносили больший успех. Чуйкову надо поставить в заслугу оборону Сталинграда; Жуков, Конев, Василевский и Рокоссовский были полководцами огромного дарования, хотя их достижения оказались бы невозможными, будь у их народа другое отношение к количеству жертв. Советские победы были куплены ценою такого количества жизней, которое демократическая страна никогда бы не допустила, которое никогда бы не сошло с рук никакому западному генералу. Грубая агрессия советских военачальников в 1943−1945 гг. вступает в резкий контраст с осторожностью большинства американских и британских лидеров, воспитанных совершенно другим обществом. Красная армия всегда побеждала скорее числом, чем умением: до самого конца вермахт наносил ей непропорционально большой урон. Русские командиры достигли наилучших результатов летом 1944 г. во время операции «Багратион», когда 166 дивизий наступали на линии фронта длиной 1000 км. В отличие от этого успеха, взятие Берлина было проведено с жестокой топорностью, которая подмочила репутацию Жукова.
У немцев высочайший профессионализм проявлял фон Рундштедт, с 1939 г. и до конца войны. Роммель демонстрировал в пустыне те же дарования, что и Паттон, но так же, как и американец, не уделил достаточного внимания ключевой роли логистики. Союзники ценили Роммеля выше, чем многие его соотечественники, отчасти потому, что его гению можно было приписать британские и американские неудачи и сохранить свой престиж. Манштейн, высококлассный профессионал, был архитектором великих побед на территории СССР в 1941−1942 гг. и, возможно, лучшим немецким генералом всей войны, но провал Курской операции обнаружил его недостатки: он с заносчивостью взял на себя ответственность за начало огромного наступления, у которого не было надежды на успех против превосходящих сил русских, их более удачной диспозиции и искусного руководства. Оборона Италии в 1943−1945 гг. под руководством Кессельринга ставит его в ряд с лучшими полководцами. Гудериан – воплощение мастерства вермахта в применении бронетанковых войск. Несколько немецких генералов, среди которых можно называть Моделя, скорее заслуживают восхищения за оборону в годы отступлений, за действия против превосходящих сил противника при ничтожной поддержке с воздуха, чем за победы в период, когда вермахт оставался сильнее своих врагов. Вмешательство Гитлера в разработку стратегии мешает полностью приписать заслуги побед или ответственность за поражения отдельным немецким военачальникам. Общие достижения немецкой армии и ее боевого состава кажутся более значительными, чем личные заслуги любого генерала. Но первостепенной исторической реальностью остается то, что немцы проиграли войну.
Ямасита, руководивший захватом Малайи в 1942 г. и обороной Филиппин в 1944−1945 гг., был лучшим сухопутным полководцем Японии. В остальном напор и мужество японских солдат и младших офицеров впечатляет больше, чем стратегическая хватка их лидеров. Им подрезали крылья огромные промахи разведки, которые нельзя списать на техническое несовершенство этой службы: тут сказалось присущее японской культуре неумение представить, что может происходить по ту сторону линии фронта. Оборона цепочки тихоокеанских островов показала профессиональную компетентность некоторых командующих подразделений, которым не хватало размаха и ресурсов для проявления более высоких дарований. На море японские адмиралы проявили удивительную робость, и их постоянно обводили вокруг пальца и побеждали американцы, хотя в сражении в Коралловом море и в битве за Мидуэй важную роль играла и удача. Ямамото заслуживает некоторого уважения за руководство первыми японскими наступлениями 1941−1942 гг., но должен понести полную ответственность за все, что пошло не так потом. Только смерть в 1943 г. спасла его от необходимости возглавить марш своего народа в сторону забвения, который он всегда считал неизбежным.
Последствия конфликта не могут быть измерены лишь сравнением цифр человеческих потерь каждого народа, но для получения глобальной перспективы они тоже заслуживают рассмотрения26. Консенсус по поводу общемировой цифры смертей, связанных с войной, отсутствует, но принято минимальное количество погибших 60 млн с возможным увеличением на 10 млн. Потери Японии оцениваются в 2,69 млн, из них 1,74 млн военных; две трети от последней цифры стали жертвами голода или болезней, а не действий противника. Германия потеряла 6,9 млн человек, из них 5,3 млн военных. Русские убили около 4,7 млн немецких бойцов, включая 474 967 человек, умерших в советском плену, и существенное количество гражданских лиц, в то время как западные союзники ответственны за 0,5 млн немецких военных и более 200 000 жертв воздушных налетов среди мирного населения. Россия потеряла 27 млн человек, Китай как минимум 15 млн. Считается, что в Юго-Восточной Азии во время японской оккупации погибло 5 млн человек, включая Голландскую Ост-Индию – современную Индонезию. До миллиона человек погибло на Филиппинах, многие во время освободительной кампании 1944−1945 гг.
Италия потеряла 300 000 убитыми военными и около четверти миллиона гражданских лиц. Умерло более 5 млн поляков, 110 000 – в сражениях, большинство оставшихся – в немецких концлагерях, хотя немалая часть польских жертв лежит на совести русских. Франция потеряла 567 000 человек, включая 267 000 гражданских. Из общего количества погибших британских военных в 382 700 человек 30 000 погибли в сражениях против японцев, многие из них в плену. Общие потери британцев вместе с мирным населением составили 449 000. Индийские силы под британским командованием потеряли 87 000 убитыми. Общие военные потери США составили немного меньше, чем британские, – 418 500, из которых американская армия недосчиталась 143 000 в Европе и Средиземноморье и 55 145 в Тихоокеанском регионе. Флот США потерял еще 29 263 человек на Востоке, морская пехота – 19 163. Было бы непоследовательным посчитать 20 млн человек, которые умерли от голода и болезней под пятой оси, жертвами Германии и Японии, не произведя похожих вычислений для союзников: от голода, разразившегося в военные годы, умерло от 1 до 3 млн индийцев под властью Британии.
Многие другие народы понесли большие утраты, хотя все статистические данные следует считать предположительными, а не точными, потому что о них продолжают спорить: 769 000 граждан Румынии, многие из них евреи; до 400 000 корейцев; 97 000 финнов при общем населении 4 млн человек; 415 000 греков из семимиллионного населения; по крайней мере 1,2 млн югославов при населении 15,4 млн человек; более 343 000 в Чехии, из них 277 000 евреев; 45 300 канадцев; 41 200 австралийцев; 11 900 новозеландцев при населении 1,6 млн – самые большие потери в процентном отношении среди западных союзников. Примечательный аспект данной статистики – тот факт, что самое тяжелое бремя легло на народы, претерпевшие оккупацию или земли которых превратились в поля сражений. Каждый четвертый из 20 млн павших военных погиб в немецком или японском плену, большинство из них русские или поляки.
Воевавшие оказались в лучшем положении, нежели мирное население: около трех четвертей всех погибших были мирными жителями, а не активными участниками схватки. Народы Западной Европы отделались легче, чем Восточной. Самые достоверные современные исследования утверждают, что в попытке добиться «окончательного решения» нацистами было убито 5,7 млн евреев из довоенного еврейского населения оккупированных Гитлером территорий в 7,3 млн человек. Также люди Гитлера убили или уморили примерно 3 млн советских военнопленных, 1,8 млн этнических поляков, 5 млн советских граждан нееврейской национальности, 150 000 умственно отсталых и 10 000 гомосексуалистов.
Большинство немцев считали, что их лежащие в руинах города, разрушенные заводы и миллионы погибших были достаточной расплатой за преступления нацизма. Молодые испытывали смесь изумления и гнева по поводу того, что старшие, которым они доверяли, довели их до такого положения. «Я не был уверен, что мне следует чувствовать, – написал в 1945 г. подросток Хельмут Лотт. – Некий мир – мир, в котором я вырос и в который верил, – был разрушен»27. Многие немцы помогали бывшим нацистам влиться в послевоенное общество и избежать наказания. «Никто не верит приличному немцу в наши дни, – с горечью писала в 1947 г. жена бывшего офицера СС Хильдегард Трутц, – но что бы ни сказали эти грязные евреи, все принимают как истину в последней инстанции»28. Популярным прибежищем для непримиримых и самых гнусных военных преступников стала Южная Америка, некоторым из них во время исхода из Европы помогала католическая церковь.
Только мизерная часть виновных в военных преступлениях предстала перед судом: отчасти так вышло из-за того, что у победителей не было вкуса к широкомасштабным казням, которых пришлось бы произвести несколько сотен тысяч, если бы неукоснительная справедливость восторжествовала по отношению к каждому убийце из стран оси. В западных зонах оккупации состоялось более 1000 казней. Было казнено около 920 японцев, более 300 из них было осуждено голландцами за преступления в Ост-Индии. Союзники решили относиться к Австрии как к жертве, а не как к партнеру в немецкой войне, поэтому там не была проведена серьезная денацификация. Бывший офицер вермахта Курт Вальдхайм оказался одним из многих австрийцев – пособников в военных преступлениях, конкретно в убийствах британских пленных на Балканах. Полностью отдавая себе в этом отчет, его соотечественники все же избрали его своим президентом.
Многие из осужденных немецких массовых убийц отсидели в тюрьмах всего несколько лет или вообще избежали наказания, уплатив штраф в практически ничего не стоящих 50 рейхсмарок. Немцы и японцы не совсем ошибались, когда говорили о международных военных трибуналах 1945−1946 гг. как о «судах победителей». Некоторые британцы и американцы и многие русские были виновны в нарушениях международного права, в том числе в убийствах пленных, однако мало кто из них предстал хотя бы перед военно-полевым судом. Быть на стороне победителей оказалось достаточно, чтобы получить амнистию; союзнические военные преступления редко даже признавали. Например, британский капитан подводной лодки Гэмп Майерс, который в 1941 г. шокировал даже кое-кого из собственной команды, настаивая, чтобы по немецким солдатам, трепыхающимся в Средиземном море после того, как их шлюпки утонули, открыли пулеметный огонь, был награжден крестом «Виктория» и, в конце концов, стал адмиралом. Не были наказаны американские, канадские и британские военные, регулярно расстреливавшие снайперов и пленных из Waffen SS на поле боя, обычно в качестве воздаяния за предполагаемые подобные действия с их стороны. Нюрнбергский и Токийский процессы олицетворяли не справедливость, а частичную справедливость.
С 1945 г. как в Европе, так и в Азии конфронтация с Советским Союзом породила новые стратегические императивы, которые рассматривались как достаточное основание для того, чтобы привлечь тысячи немецких и японских военных преступников для работы в американских, британских и советских разведывательных организациях и научно-исследовательских учреждениях. С замечательным цинизмом американцы амнистировали командующего японского отряда 731 по разработке бактериологического оружия, генерала-лейтенанта Сиро Исии, в обмен на его секреты. Изучив информацию, американские ученые в Кэмп-Детрике объявили ее бесполезной. Но личным решением Верховного главнокомандующего генерала Дугласа Макартура большинство из 20 000 ученых и врачей, занятых в японской бактериологической программе военных лет, смогли продолжать работать на гражданских позициях, несмотря на ответственность за неслыханные убийства в Китае. Расплата за злодеяния настигла лишь двенадцать ведущих членов отряда 731, которых осудили русские во время процесса в Хабаровске в 1949 г. Виновные получили длинные тюремные сроки; штаб-квартира генерала Макартура в Токио объявила пропагандой как сами процессы, так и вполне обоснованные советские обвинения американцев в покрывании японских преступлений с использованием бактериологического оружия.
Кто виноват в катастрофе, обрушившейся на Японию? Младший офицер Кисао Эбисава пожимает плечами: «Высшие военные чины – начальство». Но потом добавляет: «Хотя на самом деле следует включить и весь народ, потому что его настроение тащило нас в войну очень долго. Какая-то жуткая неизбежность была в том, как мы погружались в трясину все глубже и глубже»29. После 1945 г. японцы отреклись от своих милитаристов и даже от воевавших солдат с таким жаром, который очень огорчил их ветеранов, многие из которых ни в чем не раскаивались. В 1956 г. полковник Хаттори Такусиро, бывший военный секретарь одного из японских министров военных лет, гордо написал: «Японская армия не знала равных в своей потрясающей бойцовской силе, и это не имеет никакого отношения к тому, что Япония потерпела поражение»30. Японцы приняли послевоенные Соединенные Штаты с великим энтузиазмом, который растопил сердца большинства американцев, служивших в оккупационной армии. Японские завоевательные кампании, обращение японцев с покоренным населением, в том числе с китайцами, стали запретными для обсуждения темами в политике, общественной жизни и даже в школьном образовании. В послевоенном сознании японцев преобладали Хиросима и Нагасаки; император Хирохито сохранил свой трон, несмотря на то что привел страну к войне, что сделало признание коллективной вины менее естественным и для его подданных.
В 2007 г. выживший во время огненного смерча в Токио японский писатель Кадзутоси Хандо сказал: «После войны вся вина была возложена исключительно на японскую армию и флот. Это казалось справедливым, потому что вооруженные силы всегда обманывали гражданское население насчет происходящего. Мирная Япония не чувствовала коллективной вины – именно этого и хотели американские победители и оккупанты. Равным образом, именно американцы настаивали, чтобы в школах не преподавали современную японскую историю. В результате сегодня очень мало людей младше пятидесяти что-нибудь знают о японском вторжении в Китай или колонизации Маньчжурии». В начале ХХI в. Хандо читал лекции по истории периода Сева в женском колледже. «Я попросил пятьдесят студенток перечислить страны, которые не воевали с Японией в новейшее время. Одиннадцать назвали США».
«Честно говоря, обсуждать произошедшее во время Второй мировой войны важно, – добавляет он, – из-за того, что сегодня между Китаем и Японией такие плохие отношения. Но начать такую дискуссию – большая проблема, потому что так мало молодых японцев знают хоть какие-то факты. Есть много людей, которые не поддерживают воинствующих националистов и в то же время считают унизительным терпеть бесконечную критику со стороны Китая и Кореи. Им не нравится, что эти страны суют нос в то, что им кажется исключительно японскими внутренними делами. Большинство из нас думает, что мы извинились за войну: один из наших бывших премьер-министров довольно приниженно принес извинения. Лично я думаю, что мы извинились достаточно»31. Это спорное мнение, и некоторые британцы и американцы вовсе не согласятся с Хандо. Даже совсем недавно, в 2007 г., глава японских ВВС был вынужден подать в отставку после того, как опубликовал труд, в котором отстаивал человеколюбивый характер деятельности Японии в Китае между 1937 и 1945 гг.
Среди стран, на которые особенно заметно повлиял исход конфликта, оказалась Палестина. В течение более двух десятилетий британского мандата ее будущее постоянно горячо обсуждалось. Капитан Дэвид Хопкинсон был одним из сотен тысяч британских солдат, которые прошли через Святую землю во время военной службы и задумались о ее судьбе. У Хопкинсона имелся личный интерес, поскольку его жена была наполовину еврейкой. В 1942 г. он написал ей из Хайфы о своем неприятии сионизма, которое было основано на убеждении, что «евреи наиболее ценны в тех странах, где они давно обосновались. Я не менее других впечатлен техническими и культурными достижениями евреев в Палестине, но, когда резко националистически настроенное меньшинство пытается выкроить для себя независимое государство на территории, на которую претендуют и другие, это кажется несоответствующим высоким идеалам мира и человечности, исповедуемым цивилизованными европейцами»32.
И все же в 1945 г. такие умеренные взгляды были сметены кошмарными событиями холокоста, которые открылись перед всем миром. Важно подчеркнуть, что даже после того, как все цивилизованное человечество поразили кинохроники из освобожденных Бергена-Бельзена и Бухенвальда, даже в правительственных кругах Запада понимание полного масштаба геноцида евреев приходило медленно. Но стало очевидным, что евреи Европы пали жертвами уникальной сатанинской программы массового уничтожения, которая также оставила многих выживших без крова и имущества. Эрл Харрисон, специальный уполномоченный США по вопросам иммиграции, посетил лагеря для перемещенных лиц в Европе и был шокирован тем, что он там обнаружил. В отчете президенту Трумэну в августе 1945 г. он писал: «Похоже, что мы обращаемся с евреями так же, как нацисты, с той лишь разницей, что мы их не уничтожаем». Огромная ирония истории заключается в том, что гонения Гитлера преобразили судьбы евреев всего мира. Эти гонения послужили таким стимулом для сионизма, которому многие западные люди не смогли противостоять по причинам нравственного характера. Никогда больше антисемитизм не будет социально приемлемым в западных демократических обществах; и убийство евреев Европы ускорило создание государства Израиль в 1948 г. Однако, хотя холокост и оставил долгий и опустошительный след в западной культуре, многие общества по всему миру так никогда и не почувствовали его значимости, а в некоторых случаях даже отрицают его реальность. Широко распространена обида на западные державы, которые пытались загладить свою вину за участь евреев во время войны широким историческим жестом, подарив им территории, в мусульманском сознании по праву принадлежащие арабам.
Другая проблема еще шире: некоторые современные историки – граждане бывших европейских колоний – рассматривают свои народы как жертвы эксплуатации в ходе войны. Они считают, что Британия, в частности, втянула их в борьбу, в которой у них не было никакого интереса, за чуждое им дело. Такие утверждения – лишь точка зрения, а не обоснованные выводы, но для европейцев представляется важным отдавать себе отчет в таких чувствах, которые противоположны свойственным нам инстинктивным предположениям, что наши прародители воевали за правое дело.
Разумеется, в западной культуре этот военный конфликт продолжает завораживать поколения тех, кто родился после его окончания. Наиболее очевидно это объясняется тем, что Вторая мировая война – самое мощное и ужасное событие в человеческой истории. При огромном размахе схватки одни взошли так высоко на вершины мужества и благородства, в то время как другие так низко опустились в бездну, что это внушает трепет последующим поколениям. Для граждан современных демократических стран, которым неизвестны серьезные страдания и общая опасность, бедствия сотен миллионов между 1939 и 1945 гг. находятся почти за гранью постижения. Практически все участники, как народы, так и отдельные личности, шли на моральные компромиссы. Возвеличивать эту борьбу как чистый конфликт между добром и злом не получается, как невозможно с позиций разума прославлять опыт и даже исход, который принес столько горя стольким людям. Победа союзников не принесла всеобщего мира, процветания, справедливости и свободы; она принесла лишь некоторую часть этих ценностей лишь некой доле участвовавших. Кажется, что с уверенностью можно лишь сказать, что победа союзников спасла мир от гораздо худшей судьбы, которая бы его постигла в случае триумфа Германии и Японии. Этим знанием взыскующие добродетели и истины вынуждены довольствоваться.
Примечания и ссылки на источники цитат
Глава 1. Преданная Польша
1. Langer, p. 20.
2. Olson, p. 46.
3. Karski, p. 5.
4. Atlantic Monthly September 1939, p. 393.
5. Ciano, Vol. I, 15.5.39.
6. Davies, Vol. II, p. 426.
7. Raczynski, p. 20.
8. Owen & Walters, p. 9.
9. Kruczkiewicz MS (IWM 08/132/1), p. 163.
10. Bleichman MS (IWM 02/23/1).
11. Fleming MS (IWM 86/17/1).
12. Olson & Cloud, p. 52.
13. Kornicki MS (IWM 01/1/1).
14. Smorczewski MS (IWM 03/41/1).
15. Kruczkiewicz, p. 166.
16. Solak MS (IWM).
17. Fleming MS (IWM 86/15/1).
18. Anders, p. 3.
19. Kornicki MS (IWM 01/1/1).
20. Wiart, p. 156.
21. Waugh, p. 5.
22. Moltke p. 33.
23. Shirer, p. 75.
24. Stahlberg, p. 116.
25. Zweig, p. 247.
26. Hagen, pp. 32–33.
27. Headlam, p. 167.
28. Koa Wing, p. 31.
29. Killingray, p. 11.
30. Hastings Overlord.
31. Fraser, p. 122.
32. Hastings Bomber (слова Дэвиса автору).
33. Raczynski, p. 27.
34. Sebastian, p. 234.
35. Bleichman MS (IWM 02/23/1).
36. Piekalkiewicz, p. 9.
37. Olson& Cloud, p. 52.
38. Piekalkiewitcz, p. 12.
39. Tarczynski MS (IWM).
40. Slazak MS (IWM 95/13/1).
41. Knoke, p. 20.
42. Kurylak MS (IWM 78/52/1).
43. Olson & Cloud, p. 69.
44. Anders, p. 7.
45. Raczynski, p. 36.
46. Ball, pp. 27–28.
47. New Yorker, 10.09.39.
48. Amery, Vol. III p. 328.
49. Garfield, p. 36.
50. Davies, p. 83.
51. Owen & Walters, p. 16.
52. Melvin, p. 122.
53. Ibid., p. 125.
54. Rudnicki, p. 49.
55. Ibid., p. 54.
56. Ibid., p. 63.
57. Lachman MS (IWM 91/6/1).
58. Kruczkiewicz MS (IWM 08/132/1), p. 168.
59. Anders, p. 13.
60. Zukowski MS (IWM 99/3/1).
61. Karski, p. 23.
62. Lachman MS (IWM 91/6/1).
63. Raleigh, p. 320.
64. Wiart, p. 160.
65. Goldberg MS (IWM 06/52/1).
66. Garfield, p. 48.
67. Raczynski, p. 34.
Глава 2. Ни мира, ни войны
1. Bryant, p. 71.
2. Kornicki MS (IWM), p. 89.
3. Arthur, p. 76.
4. Longmate, p. 17.
5. Koa Wing, p. 15.
6. Public Opinion 1935–1946, p. 48.
7. Turner, p. 53.
8. Устный рассказ Миранды Корбен.
9. Belsey IWM (письмо от 6.3.41).
10. Turner, p. 169.
11. Kellas, p. 11.
12. Arthur, p. 28.
13. Roosevelt Letters, Vol. III, p. 286.
14. Edwards, p. 59.
15. Ibid., p. 68.
16. Ibid., p. 156.
17. Ibid., p. 82.
18. Bellamy, p. 76.
19. Mydans, p. 119.
20. Edwards, p. 206.
21. Macmillan, 19.3.40.
22. Edwards, p. 232.
23. Ibid., p. 254.
24. Ibid., p. 261.
25. Mydans, p. 129.
26. Kersaudy, p. 31.
27. Koa Wing, p. 32.
28. Ibid., p. 18.
29. Jackson, p. 127.
Глава 3. Блицкриги на Западе
1. Норвегия
1. Maier, p. 115.
2. Ibid., p. 231.
3. Kersaudy, p. 103.
4. Jeffrey MI6, p. 374.
5. Kershaw, p. 3.7
6. Kersaudy, p. 169.
7. BNA FO371/24833.
8. Дневник из архива Миранды Корбен, 27.04.1940.
9. BNA W0106/1962.
10. Gilbert, p. 190.
11. Koa Wing, p. 35.
2. Падение Франции
12. Jackson, p. 11.
13. R. Balbaud цитирует Jackson, p. 164.
14. Ibid., p. 164.
15. Ibid., p. 166.
16. Ibid., p. 47.
17. Ibid., p. 224.
18. Kershaw, p. 54.
19. Ibid., p. 168.
20. Ibid., p. 169.
21. Jackson, p. 170.
22. Ibid, p. 172.
23. Irene Nemirovsky, p. 3.
24. Jackson, p. 176.
25. Nemirovsky, p. 41.
26. Horsfall, p. 157.
27. Howard, p. 9.
28. Horsfall, p. 54.
29. Ironside, p. 321.
30. Horsfall, p. 57.
31. Kershaw, p. 56.
32. Owen & Walters, p. 45.
33. Hart, p. 75.
34. Horsfall, p. 151.
35. Письмо Маккормика из личного архива Миранды Корбен.
36. Last, p. 62.
37. Jackson, p. 178.
38. Joffe, p. 47.
39. Horne, p. 489.
40. Zweig, p. 149.
41. Nemirovsky, p. 42.
42. Ibid., p. 53.
43. Richey, pp. 69–70.
44. Ibid., p. 90.
45. Hart, p. 47.
46. Jackson, p. 126.
47. Ibid., p. 144.
48. Barry Leach & Ian MacDonald, p. 656.
49. Macnab, p. 59.
50. Jackson, p. 144.
51. Hastings, Finest Years, p. 45 et seq.
52. Jackson, p. 182.
53. Ibid., p. 233.
54. Nemirovsky, p. 351.
55. Khrushchev, Vol. I, p. 256.
56. Mack Smith, p. 250.
57. Halder, p. 668.
58. Say & Holland, p. 86.
Глава 4. Британия в одиночестве
1. Richey, p. 155.
2. Blythe, p. 98 (19.7.40).
3. Burleigh, p. 202.
4. Wellum, p. 148.
5. Bungay, p. 118.
6. Ibid., p. 116.
7. Ibid., p. 119.
8. Holland, p. 548.
9. Bungay, p. 179.
10. Ibid., p. 124.
11. Ibid., p. 165.
12. Kershaw, p. 163.
13. Berle & Jacobs, p. 150.
14. Robert Kershaw, p. 166.
15. Holland, p. 383.
16. Ibid., p. 387.
17. IWM 97/43/1 Wissler (16.6.40).
18. Holland, p. 578.
19. Barclay, p. 43.
20. Ibid, p. 45.
21. Johnstone, p. 118.
22. Holland, p. 543.
23. Ibid., p. 537.
24. Headlam, p. 220.
25. Hudson, pp. 187–189.
26. Baring, p. 20.
27. Street, pp. 59–60.
28. Nixon, p. 129.
29. Koa Wing, p. 60 (15.11.40).
30. Nixon, pp. 42–43.
31. Longmate, p. 66.
32. Wilson цитируется Longmate, pp. 79–80.
33. Nixon, p. 62.
34. Owen & Walters, p. 94.
35. Koa Wing, p. 52.
36. Ibid., p. 53.
37. Owen, passim.
38. Ibid., pp. 115–119 and passim.
39. Howard Smith, p. 86.
40. Jeffrey, p. 373.
41. Kershaw, passim.
42. Knoke, p. 32.
43. См. Tooze, passim.
44. Johnstone, p. 161.
45. Waugh, p. 147.
46. Koa Wing, p. 37 (4.6.40).
47. Barclay, p. 73.
Глава 5. Средиземноморье
1. Муссолини рискует
1. Kruczkiewicz MS, p. 150.
2. Hagen, p. 34
3. MacGregor, p. 153
4. Ibid., p. 135.
5. Smith & Bierman, p. 28.
6. Arthur, p. 191.
7. Johnston, p. 14.
8. Ibid., p. 15.
9. Smith & Bierman, p. 49.
10. Killingray, p. 169.
11. Sebastian, p. 320.
12. Arthur, p. 212.
13. Payne, p. 62.
14. Ibid., p. 94.
15. Smith & Bierman, p. 149.
16. Ostellino, p. 51.
17. Ibid., p. 52.
18. Smith & Bierman, p. 70.
19. Ostellino, p. 73.
20. Ibid., p. 79 (3.6.41).
2. Греческая трагедия
21. Mack Smith, p. 357.
22. Hadjipateras & Falfalios, p. 35.
23. Ibid., p. 33.
24. Ibid., p. 104.
25. Ibid., p. 122.
26. MacGregor, p. 201.
27. Simpson, p. 92.
28. Ibid., p. 101.
29. Ibid., p. 107.
30. Ibid., p. 97.
31. Hadjipateras & Falfalios, p. 124.
32. Johnston, p. 29.
33. Hadjipateras & Falfalios, p. 197.
34. Ibid., p. 230.
35. Ibid., p. 255.
36. Koa Wing, p. 92.
3. Песчаная буря
37. Чрезвычайно выразительно описание действий Виши в Ираке и Сирийской кампании см.: Colin Smith England’s Last War with France: Fighting Vichy 1940–1942, Weidenfeld 2009, passim, особенно pp. 96–98.
38. Tute, p. 81.
39. Nemirovsky, p. 347 (21.6.41).
40. Moorehead, p. 164.
41. Dahl, p. 196.
42. Sebastian, p. 358.
43. Ostellino, p. 140.
44. Johnston, p. 28.
45. Переписка во время операции Overlord (1941–1942).
46. Johnston, p. 43.
47. Ibid., p. 44.
48. Ibid. p. 46.
49. Smith & Bierman, p. 110.
50. Johnston, p. 56.
51. McManners, p. 67.
52. Arthur, p. 153.
53. Smith & Bierman, p. 32.
54. Ostellino, p. 96 (5.8.41).
55. Smith & Bierman, p. 134.
56. Borthwick, p. 39.
57. McManners, p. 46.
58. Ostellino, p. 54 (14.3.41).
59. Cooper, p. 80.
60. Ibid., p. 117.
61. McManners, p. 85.
62. Vallicella, p. 22.
63. Ibid., p. 76.
64. Ibid., p. 59.
65. Ibid., p. 62.
66. Ibid., p. 70.
67. Ibid., p. 65.
68. Ibid., p. 85.
69. Ostellino, p. 143 (11.12.41).
70. Cloudsley-Thompson MS.
71. Vallicella, p. 16
72. Ibid., p. 20.
73. Ibid., p. 17.
74. Ibid., p. 18.
75. Ibid., p. 19.
76. McManners, pp. 101 & 108.
Глава 6. Barbarossa
1. Самойлов Д. Люди одного варианта. Из военных записок // Аврора 1 (1999). С. 42.
2. Merridale, p. 75.
3. Howard, p. 9.
4. Knoke, p. 47.
5. Metelmann, pp. 15 & 24.
6. Potsdam,Vol. IV, p. 341.
7. Tooze, p. 546.
8. Jones, Retreat, p. 23.
9. Факсимиле этой знаменитой записки опубликовано на заднем шмуцтитуле в кн.: Вестник Архива Президента РФ. СССР – Германия: 1933–1941. – М., 2009.
10. Sebastian, p. 368.
11. Дневник Геббельса за 23.06.1941. Русский перевод цитируется по книге: Ржевская Е. Геббельс. Портрет на фоне дневника. – М.: Слово, 1994.
12. Бережков, с. 69 и 212.
13. Poppel, p. 11.
14. Ibid., p. 70.
15. Bellamy, p. 197.
16. lak MS.
17. Knoke, p. 45.
18. Jones, Retreat, p. 1.
19. Ibid., p. 7.
20. Merridale, p. 69.
21. Jones, Retreat, p. 6.
22. Potsdam, Vol. IX/I, p. 545.
23. Ibid., p. 546.
24. Jones, Retreat, p. 10.
25. Ibid., p. 55.
26. Milburn, p. 101.
27. Sebastian, p. 374
28. Jones, Retreat, p. 18.
29. Ibid., p. 14.
30. Bellamy, p. 189.
31. Ibid., p. 232.
32. Гроссман, с. 23.
33. Braithwaite, p. 80.
34. Temkin, p. 60.
35. Гроссман, с. 19.
36. Bellamy, p. 63.
37. Merridale, p. 127.
38. Письма с войны, с. 60.
39. Merridale, p. 127.
40. Ibid., p. 220 (25.3.43).
41. Bellamy, p. 187.
42. Halder, p. 167.
43. Moltke, p. 151 (16.7.41).
44. Ibid. p. 154.
45. Гроссман, с. 17.
46. Jones, Retreat, p. 27.
47. Гроссман, с. 45.
48. Ibid., с. 48.
49. Ibid., c. 96.
50. Glanz, p. 82.
51. Moltke, p. 168.
52. Jones, Retreat, p. 52.
53. Ibid., p. 56.
54. Ibid., p. 59.
55. Письма с войны, с. 24–25.
56. Owen & Walters, p .155.
57. Jones, Retreat, p. 74.
58. The Times, 6.5.2010.
59. Merridale, p. 84.
60. Ibid., p. 85.
61. Jones, Retreat, p. 192.
62. Moltke, p. 187.
Глава 7. Москва спасена, Ленинград вымирает
1. Рокоссовский, с. 8.
2. Bellamy, p. 316.
3. Jones, Retreat, p. 125.
4. Ibid., p. 141.
5. Ibid., p. 193.
6. Ibid., p. 140.
7. Jones, Leningrad, p. 74.
8. Ibid., p. 78.
9. Khrushchev, p. 256.
10. Jones, Leningrad, p. 117.
11. Ibid., p. 40.
12. Ibid., p. 45.
13. Бронтман, с. 55–56 (19.8.1942).
14. Письма с войны, с. 31.
15. Jones, Leningrad, p. 134.
16. Ibid., p. 149.
17. Ibid., p. 152.
18. Ibid.
19. Ibid., p. 163.
20. Никулин, с. 173.
21. Jones, Leningrad, p. 193.
22. Ibid., p. 206.
23. Ibid., p. 215.
24. Jones, Retreat, p. 201.
25. Ibid., p. 203.
26. Ibid.
27. Ibid., p. 235.
28. Ibid., p. 261.
29. Ibid., p .97.
30. Jones, Leningrad, p. 279.
31. Jones, Retreat, p. 196.
32. Ibid., p. 61.
33. Merridale, p. 99.
34. Жадобин, с. 25.
35. Jones, Retreat, p. 82.
36. Merridale, p. 251.
37. Jones, Retreat, p. 107.
38. Ibid., p. 98.
39. Wolff-Monckeburg, p. 57.
40. Гроссман, с. 53.
41. Ibid., p. 54.
42. Nixon, p. 156.
43. Willkie, p. 167.
44. Spectator, 19.6.42.
45. Koa Wing, p. 122 (23.2.42).
Глава 8. Америка вступает в войну
1. Princeton polls Public Opinion, p. 19.
2. Roosevelt Letters, p. 286.
3. Sherwood. Vol. I, p. 132.
4. Steinbeck & Wallsten. A Life in Letters, p. 201.
5. Ibid., p. 206.
6. Berle & Jacobs, p. 314.
7. Nelson, p. 85.
8. Carson McCullers, p. 1.
9. Sevareid, p. 201.
10. Blumenson // Parameters. Vol. XIX, № 4 (декабрь 1989).
11. D’Este, p. 264.
12. Hopkins. Vol. I, p. 131.
13. BNA PREM3/475/1.
14. Kennedy, p. 232.
15. Dallek, p. 197.
16. IWM MP Troy Papers 95/25/1.
17. Ibid., 9.6.41.
18. Kennedy, p. 525.
19. Perrett, p. 79.
20. Roosevelt, p. 370.
21. Meirion & Harries, p. 222.
22. Colvint, 1999.
23. Bayly & Harper, p. 71.
24. Kiernan, p. 2.
25. Tatsuro, p. 82.
26. Mack Smith, p. 273.
27. Steinbeck, p. 248 (8.12.41).
28. Ladies Home Journal: How America Lives, 1941.
29. Ibid., p. 20.
30. Schlesinger, p. 287.
31. Blum, pp. 201 & 89.
32. Schlesinger, pp. 287–288.
33. Perrett, p. 199.
Глава 9. Краткое торжество Японии
1. «Уверен, вы справитесь с этими недомерками»
1. Dower, p. 242.
2. Ohnuki-Tierney, p. 62.
3. Ibid., p. 79 et seq.
4. Monahan & Neidel-Greenlee.
5. Ibid., p. 8.
6. Bayly & Harper, p. 141.
7. Ibid., p. 66.
8. Ibid., p. 111.
9. Colin Smith, p. 123.
10. Ibid., p. 146.
11. Ibid., p. 157.
12. Masanobu Tsuji, p. 91.
13. Cooper, p. 127.
14. Smith, p. 220.
15. Ibid., p. 238.
16. Ibid., p. 245.
17. Ibid., p. 286.
18. Tsuji, p. 102.
19. Smith, p. 416.
20. Bayly & Harper, p. 120.
21. Ibid., p. 124.
22. Smith, p. 426.
23. Bayly & Harper, p. 130.
24. Smith, p. 438.
25. Ibid., p. 496.
26. Ibid., p. 473.
27. Ibid., p. 480.
28. Bayly & Harper, p. 142.
29. BNA WO106/2550B.
30. Smith, p. 497.
31. Ibid., p. 533.
32. Bayly & Harper, p. 126.
33. Ibid., p. 147.
34. Abbott, p. 31
35. Bayly & Harper, p. 117.
36. Smith, p. 550.
37. Harries, p. 264.
38. Kennedy, p. 198.
39. Dunlop, pp. 12–13.
2. «Белый путь» из Бирмы
40. Yvonne Vaz Ezdani.
41. Daw Sein, pp. 152–155.
42. Edzani, p. 87.
43. Bayly & Harper, p. 161.
44. Thompson, p. 21.
45. Ibid. p. 88.
46. Brooke-Popham Papers File V 7/18/2.
47. John Smyth, pp. 139–140.
48. Mi Mi Khaing, p. 130.
49. Tatsuro, p. 120.
50. Ibid., p. 142.
51. Bayly & Harper, p. 175.
52. Thompson, pp. 11–12.
53. Ibid. p. 41.
54. Bayly & Harper, p. 160.
55. Ibid., p. 163.
56. Thompson, p. 34.
57. Bayly & Harper, p. 339.
58. Ibid., p. 173.
59. Tyson, p. 79.
60. Ezdani, p. 80.
61. Bayly & Harper, p. 189.
62. Jawaharlal Nehru, Vol. XII, p. 269.
Глава 10. Маятник фортуны
1. Батаан
1. Reston, p. x.
2. Slessor Papers File XIIc.
3. Pogue, p. 332.
4. Thorne, p. 25.
5. Blum, p. 97.
6. Schlesinger, pp. 283–284.
7. Pogue, p. 335.
8. Perrett, p. 213.
9. Mears, p. 3.
10. Kernan, p. 3.
11. Pyle, p. 555.
12. Mydans, p. 147.
13. Norman E., p. 66.
14. Dyess, p. 43.
15. Glusman, p. 136.
16. Monahan & Neidel-Greenlee, p. 41.
17. Ibid., p. 50.
18. Weinstein, p. 34
19. Knox, p. 121.
20. Ibid., p. 136.
21. Glusman, p. 197.
22. Eisenhower Diaries, p. 54.
23. Blum, p. 54.
2. Коралловое море и Мидуэй
24. Captain Walter Karig & Commander Eric Purdon Battle Report, p. 19.
25. Wooldridge, p. 41.
26. Ibid., p. 42.
27. Ibid., p. 45.
28. Kernan, p. 13.
29. Wooldridge, p. 281.
30. Ibid., p. 285.
31. Ibid., p. 68.
32. Ibid., p. 168.
33. Melville. Israel Potter (1854).
34. Lord, p. 87.
35. Costello, p. 285.
36. The Battle of Midway Round Table
37. US Naval Historical Center Esders After-Action report.
38. Kernan, p. 45.
39. Wooldridge, pp. 56–57.
40. Ibid., p. 58.
41. Cheek,
42. Mitsuo Fuchida & Masatake Okimuya, p. 177.
3. Гуадалканал и Новая Гвинея
43. Leckie, p. 57.
44. Costello, p. 177.
45. Loxton & Coulthard-Clark, pp. 143–147.
46. Ibid., p. 265.
47. Miller, p. 68.
48. Ibid., p. 72.
49. Leckie, p. 78.
Глава 11. Королевский флот
1. Атлантический океан
1. Thompson, p. 113.
2. Ibid., p. 149.
3. Lamb, p. 73.
4. Harris (11.10.76), Bomber Command files.
5. Howarth & Law, p. 411.
6. Ibid., p. 51.
7. Woodman, p. 166.
8. Howarth & Law, p. 215.
9. Potsdam, Vol. IX/I, p. 612.
10. Howarth & Law, p. 217.
11. Barnett, p. 486.
12. Howarth & Law, p. 199.
13. Ibid., p. 522.
2. Арктические конвои
14. Thompson, p. 160.
15. Woodman, p. 323.
16. Ibid., p. 107.
17. Ibid., p. 220.
18. Ibid., p. 161.
19. Thompson, p. 161.
20. Woodman, p. 445.
3. Трагедия Pedestal
21. Woodman, p. 379.
22. Thompson, p. 192.
23. Ibid., p. 192.
24. Ibid., p. 195.
25. Woodman, p. 403.
Глава 12. Пещь огненная: Советский Союз в 1942 году
1. Бронтман, с. 132.
2. Письма с огненного рубежа (19.5.42).
3. Blumentritt, pp. 37–38.
4. Potsdam, Vol. VI, p. 938.
5. Merridale, p. 133.
6. Бронтман, с. 22 (18.6.42).
7. Ibid., p. 31 (4.4.42).
8. Белов (23.4.42) и сл.
9. BNA WO208/1777.
10. Anders, p. 124.
11. Ibid., p. 114.
12. Калитов (23.10.42).
13. Гроссман, с. 127.
14. Калитов (4.9.42).
15. Белов (9.9.42).
16. Potsdam, Vol. VI, p. 1097.
17. Merridale, p. 150.
18. Першанин, с. 177.
19. Ibid., p. 185.
20. Гроссман, с. 151.
21. Ibid., p. 183.
22. Ibid., p. 152.
23. Ibid., p. 170.
24. Bellamy, p. 520.
25. Гроссман, с. 174.
26. Калитов, там же.
27. Bellamy, p. 380.
28. Никулин.
29. Инбер В. Почти три года. Ленинградский дневник.
30. Jones Leningrad, p. 276.
31. Ibid., p. 279.
32. Merridale, p. 165.
33. Белов (8.10.42).
34. Metelmann, p. 120.
35. Knoke, p. 80.
36. Poppel, p. 99.
37. Potsdam, Vol. XI/I, p. 583.
38. Corti, p. 10.
39. Ibid., p .26.
40. Ibid., pp. 30–31.
41. Ibid., p. 61.
42. Ibid., p. 65.
43. Ibid., p. 194.
44. Ibid., p. 76.
45. Ibid., p. 78.
46. Ibid., p. 78.
47. Ibid., p. 138.
48. Ibid., p. 218.
49. Mack Smith, p. 293.
50. Merridale, p. 162.
51. Гроссман, с. 225.
52. Koa Wing, p. 152.
53. Белов (13.2.43).
54. Halder, p. 387.
55. Куманёв, с. 38.
Глава 13. Жизнь во время войны
1. Солдаты
1. Hichens, p. 96.
2. Pogue, Morgan interview.
3. Hastings, Armageddon files.
4. Kershaw, p. 203.
5. Thompson, p. 111.
6. White, p. 37.
7. Koa Wing, p. 173 (5.4.43).
8. Ibid., p. 60.
9. Ibid., p. 71.
10. Письма с огненного рубежа, с. 210.
11. Blythe (28.7.43).
12. Thompson, Armageddon files.
13. Moody, Armageddon files.
14. Davidson, Armageddon files.
15. Blythe, p. 85.
16. Bruce Papers Box 6.
17. Fennema, Armageddon files.
18. Gagliardi, Armageddon files.
19. Kahn. New Yorker 5.12.42.
20. Sledge, p. 91.
21. Millar, p. 431.
22. Mowat, p. 203.
23. Sledge, p. 72.
24. Borthwick, p. 61.
25. White, p. 155.
26. IWM 92/1/1 C. R. Eke MS.
27. Mowat, p. 107.
28. Jones & Weithas.
29. Mahlo, Armageddon files.
30. Moser, Armageddon files.
31. Blunt, p. 86.
32. Craig, p. 77.
33. Moltke, p. 275 (26.1.43).
34. Fussell, p. 98.
35. Grunther, Armageddon files.
36. Spectator 16.7.43.
37. Spectator 18.12.42.
38. Elliott // Private Words, p. 183 (30.4.43).
39. Bevan, p. 388.
40. Blum, p. 66.
41. Ibid., p. 64.
42. Beavers, Armageddon files.
43. Schoo MS, Armageddon files.
44. Blum, p. 65.
45. Steinbeck, p. 264.
46. Blum, p. 67.
47. Origo, p. 58 (15.8.43).
2. В тылу
48. Белов (31.12.42).
49. Sebastian, p. 585 (2.12.43).
50. Письма с огненного рубежа, с. 273 (11.9.42).
51. Ibid., p. 273 (1.10.42).
52. Ibid. (20.10.42).
53. Braithwaite, p. 131.
54. Collingham, p. 78.
55. Fraser, p. 183.
56. Письмо Э. Маккормика (в частном архиве Миранды Корбен).
57. Некролог Глэдис Скиллетт, Times obituary 27.2.2010.
58. Mafai, pp. 159–162.
59. Ibid., p. 243.
60. Say & Holland, p. 297.
61. Kurylak MS.
62. Poznanski MS.
63. Powell, p. 94.
64. Waugh, Diaries, p. 567 (1.6.44).
65. Last, p. 221 (11.10.42).
66. Crook, 2007.
67. Spectator 14.12.42.
68. Blythe, p. 43.
69. Koa Wing, p. 188 (7.9.43).
70. Terkel, p. 224.
71. Koa Wing, p. 135 (16.6.42).
72. Terkel, p. 118.
73. Brodine, p. 49.
74. Koa Wing, p. 144 (9.10.42).
75. Wolff-Monckeburg, p. 35 (12.1.41).
76. Ibid., p. 60 (25.6.42).
77. Longmate, p. 150.
78. Ibid., p. 156.
79. Day-Lewis ed. Last letters Home.
80. Blum, p. 98.
81. Collingham, p. 112.
82. Ibid., p. 217.
83. White & Jacoby Thunder, pp. 166–167.
84. Collingham, p. 116.
85. Mafai, p. 167.
86. Moorehead, p. 66.
87. Lewis, p. 26 (4.10.43).
88. BNA FO371 ZM257/18/22.
89. Подробный разбор см. Ellwood, 1985.
90. Ibid., p. 152.
3. Место женщины
91. Koa Wing, p. 172 (25.3.43).
92. Longmate, p. 123.
93. Baring, p. 55.
94. Koa Wing, p. 129 (15.4.42).
95. Бронтман, p. 185 (29.8.42).
96. Никулин.
97. Письма с огненного рубежа (18.3.43).
98. Гроссман, p. 120.
99. Гроссман, p. 119.
100. Письма с войны, с. 83.
101. Письма с огненного рубежа. Письма Калиниченко (1.12.42 & 1.2.43).
102. Ibid. (20.2.44).
103. Beavers, Armageddon files.
104. Harris (14.10.76), Bomber Command files.
105. Addison, Bomber Command files.
106. Owen, Bomber Command files.
107. von Joest, Armageddon files.
108. Koa Wing, p. 94 (17.6.41).
109. Ibid., p. 104 (7.10.41).
110. Ibid., p. 248 (31.12.44).
111. Ibid., p. 257 (31.3.45),
112. Fennema MS, Armageddon files.
113. Письма с огненного рубежа (1.7.43).
114. Mafai, p. 177.
Глава 14. События в Африке
1. Dugan MS, Overlord files.
2. Raymond, p. 101.
3. USNA 25 March 1942: Survey of Intelligence Materials No. 16.
4. BNA FO371/34116.
5. Douglas, p. 87.
6. Nicolson, Vol. II (11.2.42).
7. Commons 22.4.42.
8. Ostellino, p. 216.
9. Klemperer, Vol. II, p. 117.
10. Vallicella, p. 39.
11. Ibid., р. 46.
12. Ibid., p. 55.
13. Ibid., p. 58.
14. Ibid., p. 105.
15. Craig, p. 75.
16. Vallicella, p. 95.
17. Formica .
18. Ibid. (3.11.42).
19. Ibid.
20. Ibid. (17.11.42).
21. Vallicella, p. 117.
22. Ibid., p. 119.
23. Hagen, pp. 176–177.
24. Perrott-White, p. 147.
25. Koa Wing, p. 148.
26. Moltke, p. 260.
27. Белов (11.11.12).
28. Vallicella, p. 125.
29. Ibid., p. 154.
30. Ibid., p. 155.
31. Koa Wing, p. 168 (28.2.43).
32. USMHI Pogue The Supreme Command interview files.
33. Formica diary 11.9.43.
Глава 15. Медведь пробуждается: СССР в 1943 году
1. Бронтман, p. 62 (12.9.42).
2. Godau, Armageddon files.
3. Першанин, с. 198.
4. Белов (13.3.43).
5. Першанин, с. 41.
6. Письма с войны, с. 199.
7. Sajer, p. 171.
8. Коваленко.
9. Гроссман, p. 249.
10. Merridale, p. 261.
11. Письма с огненного рубежа, с. 199–202.
12. Белов (13.1.43).
13. Ibid. (11.8.43).
14. Ibid. (2.6.43).
15. Письма с огненного рубежа (31.3.43).
16. Белов (2.6.43).
17. Merridale, p. 194.
18. Письма с войны, с. 194.
19. Cross, p. 195.
20. Письма с войны, с. 132–133.
21. Жадобин, с. 24.
22. Cross, p. 214.
23. Ibid., p. 215.
24. Ibid., p 229
25. Бронтман, с. 39–40 (26.7.42).
26. Merridale, p. 183.
27. Бронтман, с. 162 (28.7.43).
28. Merridale, p. 203.
29. Бронтман, с. 153 (14.7.43).
30. Огненная дуга, с. 52.
31. Ibid., pp. 79–80.
32. Письма с огненного рубежа (9.10.43).
33. Першанин, с. 35.
34. Ibid., p. 27.
35. Ibid. (1.11.43).
36. Гроссман, с. 247.
37. Письма с огненного рубежа (20.9.43).
38. Белов (28.11.43).
39. Огненная дуга, с. 89–90.
40. Першанин, с. 78.
41. Cross, p. 250.
42. Sajer, p. 315.
43. Hagen, p. 181.
Глава 16. Раскол в империи
1. Чья свобода?
1. Monsarrat N. The Cruel Sea (автобиографический роман), p. 151–152.
2. Bower, p. 13.
3. Ibid., p. 58.
4. Ibid., p. 111.
5. USNA State Department Opinion Surveys RG59 Box 11.
6. Mochulsky, p. 141.
7. Blum, p. 160.
8. Capano MS, Armageddon files.
9. Blum, p. 92.
10. Ibid., p. 149.
11. Carullo, Armageddon files.
12. Kissinger, Armageddon fi les.
13. Hagen, p. 169.
14. Рапорт капитана Базоча приводит Tute, p. 206.
15. Generazione ribelle: Diari e lettere dal 1943 al 1945, p. 77.
16. Walters, p. 233.
17. Kemp, p. 196.
18. Ibid., p. 200.
19. Killingray, p. 61.
20. Ibid., p. 59.
21. Ibid., p. 50.
22. Ibid., p. 160.
23. Ibid., p. 54.
24. Ibid., p. 86.
25. Ibid., p. 122.
26. Ibid., p. 109.
27. Ibid., pp. 134–135.
28. Ibid., p. 172.
29. Somerville, p. 183.
30. Ibid., p. 29.
31. Hough, p. 17.
32. Public Opinion, p. 86.
33. Sadat, p. 26
34. Ibid., p. 25.
35. Snow, p. 206.
36. Nehru, Vol. XII, p. 39 (25.12.42).
37. Smith, Singapore Burning, p. 57.
38. Cooper, p. 131.
39. Bayly & Harper, p. 343.
2. Индия: худший час
40. Amery, p. 104.
41. Jayakar Papers, 709 (1940) National Archives of India.
42. Towards Freedom: Documents on the Movement for Independence in India 1940 pt. 1 OUP.
43. Bayly & Harper, p. 74
44. Statesman 10.6.40.
45. Nehru, Vol. XIII, p. 59 (13.2.43).
46. Ibid., Vol. XII, p. 2.
47. Linlithgow цит. Madhusree Mukerjee, p. 63.
48. Bayly & Harper, p. 248.
49. Branson, pp. 87 & 134.
50. Bayly & Harper, p. 303.
51. Ibid., p. 448.
52. Nehru, Vol. XIII, p. 19 (3.10.42).
53. Bayly & Harper, p. 322.
54. Thompson, p. 254.
55. Ibid., p. 326.
56. Ibid., p. 327.
57. Mukerjee, p. 282.
58. Ibid.
59. Ibid., p. 286.
60. Ibid., p. 103.
61. Ibid., p. 117.
62. Ibid., pp. 154, 167 & 151.
63. Ibid., p. 287.
64. Nehru, Vol. XIII p. 242.
65. Amery, p. 1026 (21.1.45).
Глава 17. Дальний Восток
1. Китай
1. Snow Saturday Evening Post, June 1936.
2. Fenby, p. 315.
3. Lockwood, p. 108 & passim.
4. Barenblatt.
5. AI Lin Yajin, Nemesis files.
6. AI Deng Yumin, Nemesis files.
7. AI Hando, Nemesis files.
8. Bayly & Harper, p. 2.
2. В лабиринте джунглей и островов
9. Bayly & Harper, p. 274.
10. Marshall Papers Box 64/27.
11. Dalton Diaries (4.8.44).
12. Thompson, p. 71.
13. Ibid., p. 83.
14. Ibid., p. 107.
15. Albrecht, p. 28.
16. Miller, p. 105.
17. Public Opinion, p. 263.
Глава 18. Италия: большие надежды, жалкий итог
1. Сицилия
1. Waugh, Diaries, p. 559.
2. Marshall Papers Box 64/27.
3. Origo, p. 55.
4. Carlo D’Este, p. 244.
5. Poppel, p. 123.
6. Ibid., p. 130.
7. Ibid., p. 133.
8. Atkinson, p. 115.
9. Schrijvers, p. 120.
10. Atkinson, p. 127.
11. Cole, pp. 443–444.
12. D’Este, p. 439.
13. Belden, Time magazine 23.8.43.
14. Klemperer, Vol. II, p. 303.
15. Ibid., p. 349.
16. Hagen, p. 74.
17. Wolff-Monckeburg, p. 73.
18. Рапорт Уингрэма, проницательный анализ тактических промахов британцев, вполне применимый ко всему периоду 1943–1945 гг., опубликован в виде приложения к книге Forman A. To Reason Why. Andre Deutsch, 1991, pp. 197–204.
2. Путь в Рим
19. Lewis, p. 17.
20. Howard, p. 73.
21. Moore, p. 109.
22. Hagen, p. 75.
23. Origo, p. 101 (20.10.43).
24. Atkinson, p. 251.
25. Guest, p. 199.
26. Mowat, p. 137.
27. Atkinson, p 258.
28. Doherty, p. 159.
29. Biddle, p. 177.
30. Bloomfield-Smith, p. 59.
31. Ibid., p. 56.
32. Busatti, RSI website.
33. Atkinson, pp. 288–289.
34. Ibid., p. 293.
35. Origo, p. 23 (1.4.43).
36. Ibid., p. 97.
37. Generazione ribelle, p. 25 (8.9.43).
38. Corti, p. 108.
39. Generazione ribelle p. 48.
40. Mafai, p. 211.
41. Lewis, pp. 143–144.
42. Bloomпfield-Smith, p. 50.
43. Mowat, p. 187.
44. Bowlby, p. 127.
45. Penney Papers 8/33.
46. Origo, p. 186 (21.5.44).
47. Ibid., p. 198.
48. Ibid., p. 236 (1.7.44).
3. Югославия
49. Djilas, p. 309.
50. Bailey, p. 160.
51. Livanios, p. 119.
52. Bailey, p. 169.
53. Ibid., p. 171.
54. Ibid., p. 167.
55. Djilas, p. 236.
56. Ibid., p. 139.
57. Ibid., p. 155&160.
58. Ibid., p. 170.
59. Ibid., p. 180.
60. Ibid., p. 197.
61. Ibid., p. 304.
62. Diario di Guerra, 1941–1943, p. 15.
63. Djilas, p. 330.
64. Ibid., p. 285.
65. Ibid., p. 283.
Глава 19. Война в небе
1. Бомбардировщики
1. E. P. Bone unpublished MS, Bomber Command files.
2. Wellum, p. 105.
3. Dorfman, Armageddon files.
4. Wells, Armageddon files.
5. Day-Lewis, p. 81.
6. Owen, Bomber Command files.
7. Addison, Bomber Command files.
8. Seversky, p. 73.
9. Murray passim.
10. Wooldridge, p. 196.
11. Pyle, p. 61.
12. Bufton Bomber Command files.
13. Bomber Command correspondence.
14. Owen, Bomber Command files.
15. Hastings, Bomber Command, p. 104.
16. Harris, Bomber Command files.
17. Brennan Armageddon files.
18. Maze, Bomber Command files.
19. Bone MS.
20. Muirhead, p. 4.
21. Cochrane MS, Cochrane papers.
22. Crafter MS Bomber Command files.
23. Cochrane MS.
24. Raynes MS Bomber Command files.
25. Owen.
26. Crosby, p. 95.
2. Цели
27. USMHI (Институт военной истории США): сэр Фредерик Морган цитирует Pogue The Supreme Command files.
28. Sweetman, passim. Это самое авторитетное описание операции.
29. Wolff-Monckeburg, p. 72.
30. Tooze, p. 556 & passim.
31. Ibid., p. 603.
32. Bomber Command files.
33. Potsdam, Vol. IX/I, p. 391.
34. Ibid., p. 382.
35. Ibid., p. 453.
36. Tooze, pp. 629–630.
37. Potsdam, Vol. IX/1, p. 390.
38. Potsdam, Vol. IX/I, p. 75.
39. Ibid., p. 427.
40. Ibid., pp. 404–405.
41. Wolff-Monckeburg, p. 76 (24.8.43).
42. Moorhouse, p. 323.
43. Schmidt, p. 91.
44. Ibid., p. 80.
45. Ibid., p. 83.
46. Ibid., p. 80.
47. Metelmann, p. 180.
48. Ostellino, p. 268 (9.12.42).
49. Unpublished MS Just a Gamble, Bomber Command files.
50. Potsdam, Vol. IX/I, p. 468.
51. Ibid., p .473.
52. Spectator 25.2.44.
53. Harris Bomber Command files.
54. Cochrane Papers Harris MS.
Глава 20. Жертвы
1. Хозяева и рабы
1. Klemperer, Vol. II, p. 408.
2. IWM 96/55/1 ZR Pomorski.
3. IWM Lachman MS 91/6/1.
4. British Library India Office Records L/PJ/8/412/319. Энергичное изложение всей польской саги см.: Kelly M. Finding Poland. Cape, 2010.
5. IWM 06/52/1 Szmulek Goldberg MS.
6. Guest, p. 202.
7. Chin Kee, p. 190.
8. van Kampen, Dutch East Indies website.
9. Moltke, p. 244.
10. IWM 95/13/1 S´la˛zak MS.
11. Bayly & Harper, p. 223.
12. Ibid., p. 179.
13. Ibid., p. 234.
14. Maier, p. 328.
15. Gabor, Armageddon files.
16. Moltke, p. 175.
17. Maier (29.10.42).
18. Исключительно точный разбор многих затронутых в этой главе вопросов см.: Mazower M. Hitler’s Empire. Penguin, 2008.
19. Tooze, p. 522.
20. Potsdam, Vol. IX/1, p. 262.
21. Ibid., p. 267.
22. Tooze, p. 537.
2. Убийство евреев
23. Jones Retreat, p. 23.
24. Potsdam, Vol. IX/I, pp. 349–351.
25. Longerich, p. 211.
26. Lukacs, 2010.
27. Browning, pp. 19–21.
28. Longerich, p. 261 et seq.
29. Ibid., p. 426.
30. Ibid., p. 271.
31. Sello unpublished MS цит. у Moorhouse, p. 178.
32. Potsdam, Vol. IX/I, p. 362.
33. Sebastian, p. 268 (28.1.40).
34. Spectator 11.12.42.
35. Moltke, p. 285.
36. Бронтман, с. 132.
37. Merridale, p. 253.
38. Ibid., p. 253.
39. Anonymous A Woman in Berlin.
40. Merridale, p. 108.
41. Koa Wing, p. 74 (26.3.41).
42. Mendelsohn, Armageddon files.
43. Ambrose, p. 22.
44. Public Opinion, p. 385.
45. Gilbert, p. 99 BNA FO 921/7.
46. Karski, p. 393.
47. Schlesinger, p. 307.
48. Jeffrey, p. xiii.
49. Orwell Tribune (31.3.44).
50. Public Opinion, p. 501.
51. Potsdam, Vol. IX/I, p. 342.
52. Browning, p. 2 & passim.
53. Ibid., p. 128.
54. Ibid., p. 83.
55. IWM 02/23/1 Frank Bleichman.
56. Moorhouse, pp. 195–196.
Глава 21. Поле битвы – Европа
1. AI Schröder, Armageddon files.
2. Белов (17.4.43).
3. Merridale, p. 200.
4. Бронтман, с. 231–233 (9.11.43) и 262 (21.2.44).
5. Ibid., р. 271 (21.4.44).
6. См. Glanz D. Soviet Military Deception in the Second World War. Frank Cass, 1989.
7. Anders, р. 201 (16.4.44).
8. Trevelyan, p. 142.
9. Atkinson p. 490.
10. Ibid., p. 488.
11. Ibid., p. 416.
12. Ibid., p. 386.
13. Ibid., p. 428.
14. Ibid., p. 463.
15. Ibid., p. 534.
16. USMHI Forrest Pogue interview, The Supreme Command files.
17. AI Harris Bomber Command files.
18. Donovan, p. 164.
19. Kershaw Overlord correspondence.
20. McCallum Overlord correspondence.
21. Lewis, p. 117.
22. Lewis, D – Day, p. 101.
23. Ibid., p. 102.
24. Klemperer, Vol. II, p. 395.
25. Overlord files.
26. Poppel, p. 179.
27. von Schweppenburg // Spectator 5.6.64.
28. Poppel, p. 181.
29. FSV Donnison, p. 74, рапорт 12.6.44.
30. IWM 78/35/1 Madame A. de Vigneral.
31. IWM Col. H. S.Gillies (июнь 1944).
32. Lewis, p. 173.
33. Richardson Overlord correspondence.
34. Reynolds, p. 75.
35. Ibid., p. 81.
36. Lewis, p. 167.
37. USMHI Отчет Первой армии США об операциях 20.10.43–1.8.44.
38. Kershaw Overlord correspondence.
39. Cloudsley-Thompson MS Overlord files.
40. Farrell, p. 20.
41. Cloudsley-Thompson.
42. Hennessy, p. 79.
43. Kerr Overlord correspondence.
44. Цит.: Reynolds, p. 36.
45. Finucane Overlord correspondence.
46. Tout, p. 39.
47. Cropper, p. 33.
48. Keeble, Appendix C.
49. Craig, p. 176.
50. Pogue, p. 333 (25.1.45).
51. Craig, p. 31.
52. Hastings R., p. 104.
53. Rathbone Overlord correspondence.
54. Selerie Overlord correspondence.
55. Lapp Armageddon files.
56. Diercks Armageddon files.
57. Broadfoot, p. 97.
58. Overlord files.
59. AI Godau, Armageddon files.
60. Вторая Армия, рапорт разведки, Armageddon files.
61. Meyer, p. 134.
62. Zimmer Overlord files.
63. Poppel p. 221.
64. Overlord files.
65. Приказ Верховного Главнокомандующего № 70, 1 мая 1944 г./Сталин И. В. Cочинения. Т. 15. – М.: Писатель, 1997. – С. 185–188.
66. Vigor, p. 137.
67. Merridale, p. 167.
68. Из донесения 25.08.1944 г. Военного совета 48-й армии члену Военного совета Первого Белорусского фронта К. Ф. Телегину о недостатках в вооружении армии и состоянии ее личного состава.
69. Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 14 июля 1944 г. командующим войсками Первого, Второго, Третьего Белорусских, Первого Украинского фронтов о разоружении польских вооруженных отрядов, подчинявшихся эмигрантскому правительству. Центральный архив Министерства обороны РФ. – Ф. 233. Оп. 2307. Д. 108. Л. 1–2.
70. Merridale, p. 242.
71. Ibid., p. 259.
72. Письма с войны, с. 188.
73. Reynolds, p. 40.
74. Moltke, pp. 282–283.
75. Wolff-Monckeburg, p. 104 (25.6.44).
76. Ibid., p. 107.
77. AI Schröder, Armageddon files.
78. Cropper, p. 38.
79. Bellfield & Essame, p. 209.
80. Lewis, p. 271.
81. Reynolds, pp. 32–33.
82. Spectator 5.6.64.
Глава 22. Япония: вопреки судьбе
1. Australian Forces Weekly Intelligence Review No. 118 NZ External Affairs file 84/6/1 pt. 1.
2. LHA Lethbridge papers, Lethbridge Report, p. 5.
3. Thorne, p. 555.
4. Hart, p. 162.
5. Ibid., p. 158.
6. Thompson, p. 219.
7. Ibid., p. 215.
8. Ibid., p. 220.
9. Ibid., p. 190.
10. Ibid., p. 193.
11. Hart, p. 187.
12. Ibid., p. 173.
13. Cooper, p. 137.
14. Ibid., p. 389.
15. Wooldridge, p. 132.
16. Gailey, p. 155.
17. Fussell, p. 109.
18. Gailey, p. 124.
19. Monks, p. 40.
20. Wooldridge, p. 163.
21. Ibid., p. 177.
22. Miller, p. 147.
23. Hoffman, p. 223.
24. Time 3.7.44.
25. Mailer, p. 249.
26. Wooldridge, p. 209.
Глава 23. Германия в осаде
1. Рапорт разведки Второй армии, Armageddon files.
2. Ibid.
3. Wolff-Monckeburg, p. 86.
4. AI Moser, Armageddon files.
5. Рапорт разведки Второй армии, Armageddon files.
6. Fussell, p. 10.
7. Харрис Порталу 1.11.44, Cochrane Papers.
8. Marshall Papers Box 67/13 (25.9.44).
9. Devers Military Review, Vol. XXVII, no. 7 (October 1947), p. 6.
10. Koa Wing, p. 236 (29.9.44).
11. Day-Lewis, p. 19.
12. Ellis, p. 30.
13. Pogue, USMHI Carlisle.
14. Petty, British Army Review summer 2010, p. 89.
15. Armageddon files.
16. Marshall Papers Box 67/15.
17. Ellis, p. 96.
18. A. K. Altes & N. K. C. A, p. 160.
19. Broadfoot, p. 231.
20. Kotlowitz, p. 137.
21. Finucane, Overlord correspondence.
22. Ibid.
23. USMHI Сэр Фредерик Морган, цит. Pogue, Supreme Command files.
24. Сталин И. В. Cочинения. Т. 15. С. 192–203.
25. Neill, pp. 85, 91, 95–97.
26. Metelmann, p. 87.
27. Schoo, Armageddon files.
28. Kotlowitz, pp. 120–121.
29. AI Beavers Armageddon files.
30. Разведка Второй армии, Armageddon files.
31. AI Moody, Armageddon files.
32. Burgett, p. 1.
33. Lindstrom MS, Armageddon files.
34. Reynolds, p. 120.
35. Fussell, p. 131
36. Hitchock, pp. 87, 89.
37. Graves, passim.
38. Reynolds, p. 113.
39. AI Schröder, Armageddon files.
40. USMHI Pogue, The Supreme Command files.
41. Blumenson Parameters.
42. Hills, p. 257, Armageddon files.
43. Bowlby, p. 109.
44. Anders, p. 251.
Глава 24. Падение Третьего рейха
1. Будапешт: в глазу урагана
1. Ungvary Battle for Budapest, p. 20.
2. Ibid., p. 28.
3. Ibid., p. 41.
4. Ibid., p. 52.
5. Ibid., p. 35.
6. Ibid., p. 111.
7. Ibid., p. 64.
8. Ibid., p. 141.
9. Ibid., p. 142.
10. Ibid., p. 147.
11. Ibid., p. 239.
12. Ibid., p. 247.
13. Ibid., p. 203.
14. Ibid., p. 208.
15. Ibid., p. 293.
2. Продвижение Эйзенхауэра к Эльбе
16. Donald T., p. 148.
17. Felix, p. 153.
18. MS Aaron’s War, Armageddon files.
19. Lindstrom MS, Armageddon files.
20. Исторический отдел при начальнике Военно-юридического управления Командования США на Европейском ТВД с 18 июля 1943 г. по 1 ноября 1945 г. Vol. I, pp. 242–249.
21. White, p. 102.
22. Fussell, p. 120.
23. AI Pflug, Armageddon files.
24. Djilas, p. 446.
25. Poppel, p. 133.
26. Second Army Intelligence Report, Armageddon files.
27. AI Saurma, Armageddon files.
28. Michael Reynolds Men of Steel, p. 231.
3. Берлин: последняя битва
29. Гроссман, с. 330.
30. Письма с огненного рубежа, с. 100.
31. AI Kowitz, Armageddon files.
32. AI Pflug, Armageddon files.
33. IWM 94/7/1 Mrs. S. H.Stewart MS.
34. Antony Beevor Berlin: The Downfall, 1945, Penguin 2002, p. 33.
35. Станислав Горский. Записки наводчика СУ-76. –М., 2010. С. 108.
36. Письма с огненного рубежа, с. 186.
37. Fromm, Armageddon files.
38. Sajer, p. 382.
39. Beevor, p. 164.
40. Анонимный автор, с. 62.
41. Письма с огненного рубежа, с. 137.
42. Beevor, p. 189.
43. Hagen, p. 213.
44. Moorhouse, p. 360.
45. Ibid., p. 351.
46. Andreas-Friedrich, p. 273.
47. Kronika, p. 127, цит. у Moorhouse, p. 359.
48. Gryn, pp. 238–239.
49. Beevor, p. 219.
50. Ibid., p. 226.
51. Potsdam, Vol. IX/I, p. 59.
52. Fromm, Armageddon files.
53. Анонимный автор, p. 36.
54. Schwanenflügel, p. 342.
55. Анонимный автор, с. 40–42.
56. Persson, pp. 113–114.
57. Schneider, p. 55.
58. Bessel, p. 141.
59. Анонимный автор, p. 189.
60. Ibid., p. 185.
61. Ibid., p. 71.
62. Ibid., p. 230.
63. Ibid., p. 81.
64. Bessell, p. 267.
65. Гроссман, p. 327.
66. Kronika цитируется в: Moorhouse, p. 385.
67. Цит. в Moorhouse, p. 372.
68. Bailey, p. 244.
69. Djilas, p. 420.
70. Fraser, p. 267.
71. Diercks MS, Armageddon files.
72. Cropper, p. 90.
73. Detachment 14A2 BCA Regiment Armageddon files.
Глава 25. Поверженная Япония
1. Bayly & Harper, p. 431.
2. Ibid., p. 434.
3. Исторический институт морской пехоты США, Квантико, Joseph Raspilair Papers.
4. Caruso, 2001.
5. Wooldridge, p. 253.
6. Ibid., p. 263.
7. phttp://b 29.org/
8. Birdsall, p. 143.
9. Ibid., p. 149.
10. Ibid., p. 312.
11. The Hourglass, pp. 401–402.
12. Inoguchi & Nakajima, p. 179.
13. Wooldridge, p. 110.
14. Ohnuki Tierney, p. 9.
15. Inoguchi & Nakajima, p. 148.
16. Ibid., p. 149.
17. Ohnuki Tierney, p. 88.
18. Ibid., p. 126.
19. Ibid., p. 173.
20. Ibid., p. 209.
21. USMHI Japanese PoW dox PW2050 24.6.45.
22. Pettigrew вн.: Thompson, Burma, p. 352.
23. Ibid., p. 356.
24. Mitsuru, p. 44.
25. Fermi, p. 72.
26. Rhodes, p. 641.
27. Ibid., p. 41.
28. Umezu 17.5.45.
29. Nemesis files, p. 21.
30. AI Nakamura, Nemesis files.
31. IWM RNR 95/5/1.
32. Birdsall, p. 309.
Глава 26. Победители и побежденные
1. Wolff-Monckeburg, p. 130.
2. New York Times 22.4.45.
3. Anders, p. 282.
4. Ibid., p. 286.
5. IWM 90/11/1 B. Lvov.
6. Koa Wing, p. 268 (11.5.45).
7. Day-Lewis, p. 174.
8. Письмо из личного архива Миранды Корбен.
9. Wilson, p. 392.
10. Schlesinger, p. 353.
11. Pogue, p. 379.
12. AI Minamoto, Nemesis files.
13. AI Konada, Nemesis files.
14. Wooldridge, p. 286.
15. Birdsall, p. 311.
16. Sebastian, p. 628 (31.12.44).
17. Thorne, p. 401 (5.4.44).
18. Bayly & Harper, p. 455.
19. Ibid., p. 438.
20. Kerkvliet, p. 109.
21. Pogue, p. 202.
22. Corti, p. 80.
23. Terkel, p. 67.
24. Pearson, p. 134.
25. RUSI Journal June 1979.
26. См. авторитетные статистические подсчеты доктора Рудигера Оверманса из отдела военно-исторических исследований немецкой армии (Overmans, 2000).
27. AI Lott, Armageddon files.
28. Hagen, p. 218.
29. AI Ebisawa, Nemesis files.
30. Bungei Shunju, March1956.
31. AI Hando, Nemesis files.
32. Blythe, p. 33.
Благодарности
Мне очень повезло в жизни и работе: команда коллег и друзей, всячески мне помогающих, остается неизменной от книги к книге. Замечания редакторов Арабеллы Паук и Роберта Лейси из лондонского издательства HarperCollins и Эндрю Миллера из Knopf (Нью-Йорк) существенно улучшили текст. Мои агенты – Майкл Сиссонс в Лондоне и Питер Мэтсон в Нью-Йорке – направляют мою писательскую карьеру так давно, что мы уже сами не помним, сколько лет знакомы. Профессор Майкл Говард, Дон Берри, профессор Н. Роджерс и доктор Уильямсон Мюррей обогатили своими бесценными замечаниями все разделы рукописи и исправили самые вопиющие мои ошибки. Доктор Люба Виноградова перевела большие объемы текстов с русского, а Серена Сиссонс подобрала цитаты из итальянских мемуаров, писем и дневников. Доктор Тами Биддл из Военного колледжа США щедро поделилась материалами, собранным для собственного исследования. Любой английский историк рассчитывает в своей работе на помощь сотрудников Военного музея империи, я бы хотел в особенности упомянуть Рода Саддэби; работать весьма удобно и приятно также и в Лондонской библиотеке, и в Национальном архиве современных войн. Дуглас Мэттьюс в очередной раз проявил блистательное умение составлять указатель, и я очень благодарен ему за помощь. На протяжении четверти века с небольшим перерывом Рейчел Лоренс – непревзойденная и многострадальная – была моим эффективнейшим личным помощником, самоотверженно приводя в порядок мои записи. Моя жена Пенни всегда была идеальной супругой, хотя порой мне кажется, что она бы предпочла пережить Вторую мировую войну, чем прочесть еще одну мою книгу на эту тему. Всем вышеперечисленным я чрезвычайно обязан, ибо без их поддержки, советов и руководства все мои труды ушли бы в песок.
Библиография
Исчерпывающая библиография по Второй мировой войне или даже список посвященных этой теме книг из моей личной библиотеки не поместился бы на этих страницах, я перечисляю здесь лишь те книги, на которые ссылался и которые цитировал. Отсутствие многих других замечательных трудов отнюдь не подразумевает неуважения к их содержанию и значению, а лишь соответствует моему намерению по возможности черпать информацию, особенно личные детали, не из тех историй и мемуаров, которые и без того хорошо знакомы всем, кто интересуется данной эпохой. Те книги, из которых я более всего позаимствовал для собственного повествования, а также те, которые рекомендую для дальнейшего чтения, выделены жирным шрифтом. Я не привожу также выходных данных многотомных официальных историй, изданных в Великобритании и США, поскольку обращение к ним само собой подразумевается.
Abbott S. And All My War is Done. Pentland, 1991.
Altes A. K. & In’t Veld, N. K. C. A. The Forgotten Battle: Overloon and the Maas Salient 1944–45. Spellmount, 1995.
Ambrose S. Band of Brothers. Simon & Schuster, 1992.
Amery L. My Political Life. Hutchinson, 1955. Vol. III.
– The Empire at Bay: The Leo Amery Diaries 1929–1945 ed. John Barnes & David Nicholson. Hutchinson, 1988.
Anders W. An Army in Exile. Macmillan, 1949.
Andreas-Friedrich R. Berlin Underground 1938–1945. New York, 1947.
Anonymous. A Woman in Berlin. Virago, 2009.
Arthur D. Desert Watch. Blaisdon, 2000.
Atkinson, R. The Day of Battle. Henry Holt, 2007.
Avagliano M. ed. Generazione ribelle: Diari e lettere dal 1943 al 1945 a cura di Mario Avagliano. Einaudi Storia, 2006.
Bailey R. ed. Forgotten Voices of the Secret War. Ebury, 2008.
Ball A. The Last Days of the Old World. Doubleday, 1963.
Barclay G. Fighter Pilot. Kimber, 1976.
Barenblatt D. A Plague Upon Humanity. Souvenir, 2004.
Baring S. The Road to Station X. Wilton 65, 2000.
Barnett C. Engage the Enemy More Closely. Hodder & Stoughton, 1991.
Bayly C. & Harper T. Forgotten Armies. Penguin, 2004.
Beevor A. Stalingrad. Viking, 1998 (Бивор Э. Сталинград. – М.: Русич, 1999).
– Berlin: The Downfall, 1945. Penguin 2002 (Бивор Э. Падение Берлина. – М.: АСТ, 2004).
Belfield E. & Essame H. The Battle for Normandy. London, 1975.
Bellamy C. Absolute War. Macmillan, 2007.
Белов Н.Фронтовой дневникБелова Н. 1941–1944. – Вологда, 1997 (интернет-публикация).
Бережков В. Страницы дипломатической истории. – М.: Международные отношения, 1982.
Berle B. B. & Jacobs T. B. Navigating the Rapids 1918–1971. Harcourt Brace, 1973.
Bessel R. Germany 1945. Simon & Schuster, 2009.
Biddle G. Artist at War. New York, 1944.
Birdsall S. Saga of the Superfortress. Sidgwick & Jackson, 1981.
Blair C. Hitler’s U-Boat Wars. Random House, 1996 (Блэйр К. Подводная война Гитлера 1942–1945. Жертвы. В 2 тт. – М.: АСТ, 2001).
Bloomfield-Smith D. C. ed. Fourth Indian Reflections. Larman, 1987.
Blum J. M. V was for Victory. Harcourt Brace, 1976.
Blunt R. Foot Soldier: A Combat Infantryman’s War in Europe. Da Capo Press, 2002.
Blythe R. ed. Private Words. Viking, 1991.
– Components of the Scene. Penguin, 1966.
Borthwick A. Battalion. Baton Wicks, 1994.
Bower T. Nazi Gold. HarperCollins, 1997.
Bowlby A. Recollections of Rifleman Bowlby. Leo Cooper, 1969.
Braithwaite R. Moscow 1941. Profile, 2006 (Брейтвейт Р. Москва 1941. Город и его люди. – М.: Голден-Би, 2006).
Branson C. British Soldier in India: The Letters of Clive Branson. Communist Party London, 1944.
Broadfoot B. ed. Six War Years. Toronto, 1974.
Бронтман Л. Военный дневник корреспондента «Правды». – М.: Центрполиграф, 2007.
Browning C. Ordinary Men. Penguin, 1998.
Bryant A. The Turn of the Tide. Collins, 1957.
Bungay S. The Most Dangerous Enemy. Aurum, 2010.
Burgett D. Seven Roads to Hell: A Screaming Eagle at Bastogne. Dell, 1999.
Burleigh M. Moral Combat. HarperCollins, 2010.
Busatti F. Dal Volturno a Cassino. RSI website.
Calvocoressi P., Wint G. & Pritchard J. Total War. Viking, 1972.
Carlton de Wiart., A. Happy Odyssey. Jonathan Cape, 1950.
Caruso P. Nightmare on Iwo. Naval Institute Press, 2001.
Cheek T. A Ring of Coral. Battle of Midway Roundtable http//home.comcast.net/r2russ/midway.ringcoral.htm.
Chin K. On Malaya Upside Down. Singapore, 1946.
Ciano G. Diaries 1937–1943. ed. Redonzo de Felice. Milan, 1980 (Чиано Г. Дневник фашиста. – М.: Плаць, 2010).
Cole D. Rough Road to Rome. Kimber, 1983.
Collingham L. The Taste of War. Allen Lane, 2011.
Colvin J. Nomonhan. Quartet, 1999.
Cooper A. Cairo in the War. Hamish Hamilton, 1989.
Cooper D. Trumpets from the Steep. Hart Davis, 1960.
Cooper R. B Company. Dobson, 1978.
Corti E. Few Returned: 28 Days on the Russian Front, Winter 1942–1943. University of Missouri Press 1997 (Корти Э. Немногие возвратившиеся. Записки офицера итальянского экспедиционного корпуса. 1942–1943. – М.: Центрполиграф, 2002).
– The Last Soldiers of the King. University of Missouri Press, 2003.
Costello J. The Pacific War.Collins, 1981.
Craig N. The Broken Plume. IWM, 1982.
Cremer P. U-333. Grafton, 1986.
Crook M. ed. Wartime Letters of a West Kent Man. Privately published, 2007.
Cropper A. Dad’s War. Anmas, 1994.
Crosby H. A Wing and a Prayer. Robson, 1993.
Cross R. Citadel. O’Mara, 1993 (Кросс Р. Операция «Цитадель». – М.: Русич, 2006).
Dahl R. Going Solo. Penguin, 1988 (Даль Р. Полеты в одиночку. – М.: Захаров, 2003).
Dallek R. Lone Star Rising. Oxford, 1991.
Dalton H. Diaries. ed. Ben Pimlott. Jonathan Cape, 1986.
Davies N. God’s Playground. Oxford. 1981. Vol. II.
Day-Lewis T. ed. Last Letters Home. Macmillan, 1995.
Dear I. C. B. & Foot M. R. D. eds. TheOxford Companion to the Second World War. Oxford, 1995.
D’Este C. Eisenhower. Holt, 2002.
– Bitter Victory. Collins, 1988.
– Decision in Normandy. Collins, 1983.
Diller E. Memoirs of a Combat Infantryman. Privately published, 2002.
Djilas M. Wartime. Secker & Warburg, 1980.
Doherty R. A Noble Crusade. Rockville, New York, 1999.
Donnison F. S. V. Civil Affairs and Military Government: North-West Europe 1944–1946. HMS0 1961.
Douglas K. Alamein to Zem Zem. Penguin, 1967.
Dower J. War Without Mercy. Pantheon, 1986.
Dunlop E. The Diaries of ‘Weary’ Dunlop. Viking, 1986.
Dyess W. E. The Dyess Story. Putnam, New York, 1944.
Echternkamp J. ed. Germany and the Second World War. Research Institute for Military History, Potsdam/Oxford 9. Vols 1990–2008.
Edwards R. White Death. Weidenfeld & Nicolson, 2007.
Eichelberger R. Our Jungle Road to Tokyo. Nashville Battery Classics, 1989.
Eisenhower D. The Eisenhower Diaries. Norton, 1981.
Ellis J. The Sharp End. Pimlico, 1993.
Ellwood D. W. Italy 1943–1945. Leicester University Press, 1985.
Farrell Ch. Reflections. Pentland, 2000.
Felix Ch. Crossing the Sauer. Burford Books, 2002.
Fenby J. Generalissimo. Free Press, 2003 (Фенби Дж. Генералиссимус Чан Кайши и Китай. – М.: АСТ, 2006).
Fermi L. Atoms in the Family. University of Chicago Press, 1954 (Ферми Л. Атомы у нас дома. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1959).
Foot M. Bevan. McGibbon & Kee, 1965.
Forman D. To Reason Why. André Deutsch, 1991.
Formica F. ed. Account of the Battle of Deir El Murra. Diary of Second Lieutenant Vincenzo Formica. .
Frank R. Downfall. Penguin, 1999.
Fraser. D. Wars and Shadows. Penguin, 2002.
Fuchida M. & Okimuya M. Midway: The Battle that Doomed Japan. Annapolis, 1955.
Fussell P. The Boys’ Crusade. Weidenfeld & Nicolson, 2004.
Gailey H. Bougainville 1943–1945: The Forgotten Campaign. University of Kentucky Press, 1991.
Garfield S. ed. Private Battles. Ebury, 2006.
– We are at War. Ebury, 2009.
Gilbert A. Voices of the Foreign Legion. Skyhorse, 2010.
Gilbert M. Auschwitz and the Allies. Weidenfeld & Nicolson, 1981.
Glanz D. Barbarossa. Tempus, 2001.
– Soviet Military Deception in the Second World War. Frank Cass, 1989.
Glusman J. Conduct Under Fire. Viking, 2007.
Горский С. Записки наводчика СУ-76. – М.: Центрполиграф, 2010.
Graves, G. D. Blood and Snow: The Ardennes.
Grossman V. A Writer at War. ed. Lyuba Vinogradova & Antony Beevor. Harvill, 2006 (Цит. по изд.: Гроссман В. Годы войны. – М.: Правда, 1989).
Gryn H. & Gryn N. Chasing Shadows. Penguin, 2001.
Guest J. Broken Images. Hart Davis, 1949.
Hadjipateras C. N. & Falfalios M. S. eds. Greece 1940–1941 Eyewitnessed. Efstathiadis, 1995.
Hagen L. Ein Volk ein Reich: Nine Lives Under the Reich. Spellmount, 2011.
Halder F. Command in Conflict: The Diaries and Notes of Colonel-General Franz Halder and Other Members of the German High Command. ed. Barry Leach & Ian MacDonald. Oxford, 1985.
Harries M. & S. Soldiers of the Sun. Heinemann, 1991.
Hart P. At the Sharp End. Leo Cooper, 1998.
Hastings M. Overlord: D – Day and the Battle for Normandy. Michael Joseph, 1984 (Хастингс М. Операция «Оверлорд». Как был открыт второй фронт. – М.: Прогресс, 1989).
– Bomber Command. Michael Joseph, 1979.
– Finest Years. HarperCollins, 2009.
– Armageddon: The Battle for Germany 1944–1945. Macmillan, 2004.
– Nemesis: The Battle for Japan 1944–1945. HarperCollins, 2007.
Hastings R. An Undergraduate’s War. Bell House, 1997
Haupt W. Assault on Moscow 1941. Schiffer, 1996 (Хаупт В. Битва за Москву. Первое решающее сражение Второй мировой. 1941–1942. – М.: Центрполиграф, 2010).
Headlam C. Parliament and Politics in the Age of Churchill and Attlee. ed. Stuart Ball. Cambridge, 1999.
Hennessy P. Young Man in a Tank. Privately published, 1997.
Hichens A. Gunboat Command. Pen & Sword, 2007.
Hitchcock W. Liberation: The Bitter Road to Freedom, Europe 1944–1945. Faber, 2008.
Hoffman С. Saipan: The Beginning of the End. US Marine Corps, 1950.
Holland J. Battle Over Britain. HarperPress, 2010.
Horne A. To Lose a Battle. Macmillan, 1969.
Horsfall J. Say Not the Struggle. Roundwood, 1977.
Hough R. One Boy’s War. Heinemann, 1975.
Howard M. Liberation or Catastrophe. Hambledon, 2008.
– Captain Professor. Continuum, 2004.
Howarth S. & Law D. eds. The Battle of the Atlantic 1939–1945. Greenhill, 1994.
Hudson Ch. Journal of Major-General Charles Hudson. Wilton 65, 1992.
Inoguchi R. & Nakajima T. with Pineau R. The Divine Wind. Hutchinson, 1959 (Иногучи Р. Накадзима Т. Божественный ветер. – М.: АСТ, 2005).
Ironside E. The Ironside Diaries. ed. Denis Macleod & Edmund Kelly. London, 1962.
Jackson J. The Fall of France. Oxford, 2003.
Jeffrey K. MI6: The History of the Secret Intelligence Service 1909–1949. Bloomsbury, 2010.
Joffe C. We were Free. Smith & Durrell, 1943.
Johnston G. The Toughest Fighting in the World. Duell, Sloan & Pearce, New York, 1943.
Johnston M. At the Front Line. Cambridge, 1996.
Johnstone S. Enemy in the Sky. Kimber, 1976.
Jones J. The Thin Red Line. Collins, 1963 (Джонс Дж. Тонкая красная линия. – М.: Воениздат, 1983).
– WW II: A Chronicle of Soldiering (with Art Weithas), Grossett & Dunlap, 1975.
Jones M. The Retreat: Hitler’s First Defeat. John Murray, 2009.
– The Siege of Leningrad. John Murray, 2008.
Karig W. & Purdon E. Battle Report: Pacific War Middle Phase. Rinehart, 1946.
Karski J. Story of a Secret State. Penguin, 2011 (Карский Я. Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства. – М.: Corpus, 2012).
Keeble L. Worm’s Eye View: The Recollections of Lewis Keeble. Appendix C to Battlefield Tour: 1/4 KOYLI in the NW Europe Campaign.
Kellas A. Down to Earth. Pentland Press, 1989.
Kelly M. Finding Poland. Cape, 2010.
Kemp P. The Thorns of Memory. Sinclair-Stevenson, 1990.
Kennedy D. Freedom from Fear. Oxford, 1999.
Kennedy J. The Business of War. Hutchinson, 1957.
Kerkvliet B. J. The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines. Berkeley, 1977.
Kernan A. The Unknown Battle of Midway. Yale, 2005.
Kersaudy F. Norway 1940. Collins, 1990.
Kershaw I. Fateful Choices. Penguin, 2008.
Kershaw R. Never Surrender. Hodder & Stoughton, 2009.
Khaing M. M. A Burmese Family. Longman, 1946.
Khrushchev N. The Memoirs of Nikita Khrushchev. ed. Sergei Khrushchev. Thomas Watson Institute, 2004. Vol. I (Хрущев Н. Воспоминания. – М.: Вагриус, 2007).
Killingray D. Fighting for Britain. James Currey, 2010.
Klemperer V. I Shall Bear Witness. Weidenfeld & Nicolson, 1999 (Клемперер В. Свидетельствовать до конца. – М.: Прогресс, 1998).
Knoke H. I Flew for the Führer. Evans, 1979 (Кноке Х. Я летал для Гитлера. Дневник офицера люфтваффе. – М.: Центрполиграф, 2003).
Knox D. Death March. Harcourt Brace, 1981.
Koa Wing S. ed. Our Longest Days. Profile, 2008.
Kotlowitz R. Before their Times. Anchor, 1998.
Kronika J. Der Untergang Berlins. Hamburg, 1946.
Куманёв Г. Рядом со Сталиным. Откровенные свидетельства. – М.: Былина, 1999.
Ladies’ Home Journal. How America Lives. Henry Holt, 1941.
Lamb J. B. The Corvette Navy: True Stories from Canada’s Atlantic War. Macmillan, Toronto, 1979.
Langer R. The Mermaid and the Messerschmitt. Roy, 1942.
Last N. Nella Last’s War. Sphere, 1981.
Leckie R. Helmet for my Pillow. Ebury, 2010.
Lewis J. ed. Eyewitness D – Day. Robinson, 1994.
Lewis N. Naples ’44. Eland, 1983.
Livanios D. The Macedonian Question. Oxford, 2008.
Lockwood J. Six-Legged Soldiers: Using Insects as Weapons of War. Oxford, 2009.
Longerich P. Holocaust. Oxford, 2010.
Longmate N. The Home Front. Chatto & Windus, 1981.
Lord W. Incredible Victory. New York, 1967 (Лорд У. Невероятная победа. – М.:Ком Кон, 1993).
Loxton B. & Coulthard-Clark Ch. The Shame of Savo. Allen & Unwin, 1994.
Lukacs J. The Legacy of the Second World War. Yale, 2010.
McCullers C. Reflections in a Golden Eye. Houghton Mifflin, 1941.
MacGregor K. Mussolini Unleashed, 1939–1941: Politics and Strategy in Fascist Italy’s Last War. Cambridge University Press, 1982.
McManners J. Fusilier. Michael Russell, 2002.
Macnab R. For Honour Alone. Hale, 1988.
Mafai M. Pane Nero: Donne e vita quotidiana nella seconda Guerra mondiale. Arnoldo Mondadori Editore, 1987.
Maier R. Ruth Maier’s Diary. Harvill Secker, 2009 (Майер Р. Дневники Рут Майер. Еврейка-беженка в Норвегии. – Мосты культуры/Гешарим, 2010).
Mailer N. The Naked and the Dead. New York, 1948 (Мейлер Н. Нагие и мертвые. – М.: Воениздат, 1976).
Mantia V. Diario di Guerra: Con gli Alpini in Montenegro 1941–1943. Mursia, 2010.
Mazower M. Hitler’s Empire. Penguin, 2008.
Mears F. Carrier Combat. Doubleday, 1944.
Melville H. Israel Potter, 1854 (Мелвилл Г. Израиль Поттер. – М.: Художественная литература, 1966).
Melvin M. Manstein. Weidenfeld & Nicolson, 2010.
Merridale C. Ivan’s War. Faber, 2005.
Metelmann H. Through Hell for Hitler. Spellmount, 1990 (Метельман Г. Сквозь ад за Гитлера. – М.: Яуза-Пресс, 2008).
Meyer K. Grenadiers. Fedorowicz Publishing, 1994 (Мейер К. Немецкие гренадеры. – М.: Центрполиграф, 2013).
Milburn C. Mrs Milburn’s Diaries. Harrap, 1979.
Miller D. D – Days in the Pacific. Simon & Schuster, 2005.
Mitsuru Yo. Requiem for Battleship Yamato. Constable, 1999.
Mochulsky F. Gulag Boss. Oxford, 2010.
Moltke H. von. Letters to Freya. ed. Beatte von Oppen. Collins Harvill, 1991 (Мольтке Г. Русские письма. – М.: Изд-во им. Новикова, 2008).
Monahan E.. & Neidel-Greenlee R. All this Hell. Kentucky University Press, 2000.
Monks J. A Ribbon and a Star. Henry Holt, 1945.
Monsarrat N. The Cruel Sea. Cassell, 1951.
Moore P. No Need to Worry. Wilton 65, 2002.
Moorehead A. African Trilogy. Hamish Hamilton, 1999.
– Eclipse. Granta, 2000.
Moorhouse R. Berlin at War. Bodley Head, 2010.
Mowat F. And No Birds Sang. Cassell, 1980.
Muirhead J. Those who Fall. Random House, 1986.
Mukerjee M. Churchill’s Secret War. Basic, 2010.
Murray H. A Very Fine Commander. ed. John Donovan. Pen & Sword, 2010.
Murray W. Luftwaffe. Allen & Unwin, 1985.
Murray W. & Millett A. A War to be Won. Belknap, 2000.
Mydans C. More than Meets the Eye. Harper, 1959.
Nehru J. Selected Works of Nehru. Orient Longman, 1980. Vols 12, 13 (Неру Дж. Открытие Индии. – М.: Иностранная литература, 1955).
Neill G. Infantry Soldier: Holding the Line at the Battle of the Bulge. University of Oklahoma Press, 2000.
Nemirovsky I. Suite franсaise. Chatto & Windus, 2006 (Немировски И. Французская сюита. – М.: Текст, 2006).
Newton S. Kursk: The German View. Da Capo, 2002.
Nicolson H. Diaries. Collins, 1965. Vol. II.
Никулин Н. Воспоминания о войне. – СПб.: 2009 (интернет-публикация).
Nixon B. Raiders Overhead. Scolar, 1980.
Norman E. Band of Angels. Random House, 1999.
Ohnuki-Tierney E. Kamikaze Diaries. University of Chicago Press, 2006 (Онуки-Тирни Э. Дневники камикадзе. – М.: АСТ, 2008).
Olson L. & Cloud S. For Your Freedom and Ours. Heinemann, 2003.
Origo I. War in the Val d’Orcia. Cape, 1947.
Overy R. Why the Allies Won. Allen Lane, 1995.
– Russia’s War. Allen Lane, 1997.
Owen J. Danger. UXB. Little Brown, 2010.
Owen J. & Walters G. eds. The Voices of War. Penguin, 2004.
Payne S. Franco and Hitler. Yale, 2008.
Peak D. Fire Mission. Sunflower University Press, 2001.
Pearson D. Diaries 1939–1959. ed. Tyler Abell, New York, 1974.
Perrett G. Days of Sadness, Years of Triumph. University of Wisconsin Press, 1973.
Perrott-White A. French Legionnaire. John Murray, 1953.
Першанин В. Штрафники, разведчики, пехота. «Окопная правда» Великой Отечественной. – М.: Эксмо, 2010.
Persson S. Escape from the Third Reich. London, 2010.
Piekalkiewicz J. The Cavalry of World War II. Orbis, 1979.
Письма с огненного рубежа. 1941–1945. – СПб., 1992.
Письма с войны. – Йошкар-Ола, 1995.
Pogue F. The Supreme Command. Office of the Chief of Military History, Washington DC, 1954.
– Pogue’s War. University of Kentucky Press, 2001.
Poppel M. Heaven and Hell. Spellmount, 1988.
Powell A. A Writer’s Notebook. Heinemann, 2001.
Princeton polling. Public Opinion 1935–1946. Princeton University Press, 1951.
Pyle E. Here is Your War. Pocket NY, 1945.
– V was for Victory. New York, 1945.
Raczynski E. In Allied London. Weidenfeld & Nicolson, 1962.
Raleigh. J. Behind the Nazi Front. Dodd Mead, 1940.
Raymond B. A Yank in Bomber Command. Moynihan, 1977.
Rebora A. ed. Letters of Lt. Pietro Ostellino: North Africa January 1941 to March 1943 Prospettiva Editrice.
Reston J. Prelude to Victory. NY, 1942.
Reynolds M. Steel Inferno. Spellmount, 1997.
– Men of Steel. Spellmount, 1999.
Rhodes R. Ultimate Powers. Simon & Schuster, 1986.
Richey P. Fighter Pilot. Cassell, 2001.
Roberts A. The Storm of War. Allen Lane, 2009.
– Masters and Commanders. Allen Lane, 2008.
Рокоссовский К. Солдатский долг. – М.: Олма-Пресс, 2002.
Roosevelt F. The Roosevelt Letters. Vol. III. ed. Elliot Roosevelt. Harrap, 1952.
Rudnicki. General K. S. Last of the Old Warhorses. Bachman & Turner, 1974.
Sadat A. In Search of Identity. Collins, 1978.
Sajer G. The Forgotten Soldier. Sphere, 1971.
Say, R. & Holland N. Rosie’s War. Michael Mara Books, 2011.
Schlesinger A. A Life in the Twentieth Century. Mariner Books, 2000.
Schmidt K. Die Brandnacht. Darmstadt, 1964.
Schneider H. The Bonfire of Berlin. London, 2005
Schrijvers P. The Crash of Ruin. New York University Press, 1998.
Schwanenfl gel D. von. Laughter Wasn’t Rationed. Alexandria VA, 1999.
Sebastian M.. Journal 1935–1944. Heinemann, 2001.
Sein D. Les Dix milles vies d’une femme birmane. Claude Delachet Guillon, 1978.
Sello M. Ein Familien und Zeitdokument 1933–45. Unpublished MS Wiener Library.
Sevareid E. Not so Wild a Dream. Knopf, 1969.
Seversky A. Victory Thru Air Power. New York, 1942.
Sherwood R. The White House Papers of Harry L. Hopkins Eyre & Spottiswoode 1948. Vol. I (Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. В 2 тт. – М.: Иностранная литература, 1958).
Shirer W. This is Berlin. Hutchinson, 1999 (Ширер У. Берлинский дневник. – М.: Астрель, 2013).
Simpson T. Operation Mercury. Hodder & Stoughton, 1981.
Sinkoskey B. ed. Missing Pieces. Hara Publishing, 2000.
Sledge E. With the Old Breed at Peleliu and Okinawa. Ebury, 2010.
Smith C. England’s Last War with France: Fighting Vichy 1940–1942. Weidenfeld & Nicolson, 2009.
– Singapore Burning. Penguin, 2005.
Smith C. & Bierman J. Alamein: War Without Hate. Penguin, 2002.
Smith D. M. Mussolini. Weidenfeld & Nicolson, 1981 (Смит Д. Муссолини. – М.: Интердайджест, 1995).
Smith H. Last Train from Berlin. London, 1942.
Smyth J. Before the Dawn. Cassell, 1957.
Snow E. Journey to the Beginning. Gollancz, 1959.
Somerville Ch. Our War. Weidenfeld & Nicolson, 1998
Spector R. Eagle Against the Sun. Viking, 1985.
Stahlberg A. Bounden Duty. Brassey, 1990.
Steinbeck E. & Wallsten R. ed. John Steinbeck: A Life in Letters. Heinemann, 1975.
Street A. G. From Dusk Till Dawn. Blandford, 1945.
Sweetman J. The Dambusters Raid. Arms & Armour, 1993.
Tatsuro I. The Minami Organ. Rangoon, 1967.
Temkin G. My Just War. Presidio, 1998.
Terkel S. The Good War. Hamish Hamilton, 1984.
Thompson J. Forgotten Voices of Burma. Ebury, 2009.
– The War at Sea. Sidgwick & Jackson, 1996.
Thorne Ch. The Issue of War. Oxford, 1985.
– Allies of a Kind. Hamish Hamilton, 1978.
Tooze A. The Wages of Destruction. Penguin, 2007.
Tout K. Tank!: Forty Hours of Battle. London, 1985.
Towards Freedom: Documents on the Movement for Independence in India 1940, pt. 1. OUP, 1978.
Trevelyan R. Rome ’44. Viking, 1982.
Tsuji C. M. Japan’s Greatest Victory, Britain’s Worst Defeat. Spellmount, 1997.
Turner E. S. The Phoney War. Michael Joseph, 1961.
Tute W. The Reluctant Enemies. Collins, 1990.
Tyson G. Forgotten Frontier. Calcutta, 1945.
Umezu Y. ‘Facing the Decisive Battle’ Kaikosha Kiji. 1945.
Ungvary K. Battle for Budapest. Tauris, 2003.
Vallicella V. Diario di Guerra da El Alamein alla tragica ritirata 1942–1943. Edizioni Arterigere 2009.
Vaz E. Yvonne ed. Songs of the Survivors. Noronha Goa, 2007.
Vigor P. H. Soviet Blitzkrieg Theory. Macmillan, 1984.
Walters A.-M. Moondrop to Gascony. MPG Books, 2009.
Waugh E. Officers and Gentlemen. Chapman & Hall, 1955 (Во И. Офицеры и джентльмены. – М.: Воениздат, 1977).
– Unconditional Surrender. Chapman & Hall, 1961 (Во И. Безоговорочная капитуляция. – М.: АСТ, 2011).
– Diaries. ed. Michael Davie. Weidenfeld & Nicolson, 1976 (Во И. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневников 1911–1965. – М.: Текст, 2013).
Weinberg G. A World at Arms. Cambridge, 1994.
Weinstein A. Barbed Wire Surgeon. Macmillan, 1947.
Wellum G. First Light. Penguin, 2002.
Westphal S. & al. The Fatal Decisions. Michael Joseph, 1952 (Вестфаль З. и др. Роковые решения. – М.: Воениздат, 1958).
White P. With the Jocks. Sutton, 2001.
White Th. & Jacoby A. Thunder Out of China. Gollancz, 1947 (Уайт Т., Джейкоби Э. Гром из Китая. – М.: Иностранная литература, 1948).
Willkie W. One World. New York, 1942.
Wilmot Ch. The Struggle for Europe. Wordsworth, 1997.
Wilson K. Journey’s End. Weidenfeld & Nicolson, 2010.
Wolff-Monckeburg M. On the Other Side. ed. Ruth Evans. Pan, 1979.
Woodman R. The Real Cruel Sea. John Murray, 2004.
– Arctic Convoys. John Murray, 2001.
– Malta Convoys. John Murray, 2000.
Wooldridge E. T. ed. Carrier Warfare in the Pacific. Smithsonian, 1993.
Жадобин А. и др. Огненная дуга: Курская битва глазами Лубянки. – М.: Московские учебники, 2003.
Цвейг С. The World of Yesterday. Pushkin Press, 2010 (Цвейг С. Вчерашний мир. – М.: Вагриус, 2004).
*****
Поляки впервые видят самолеты люфтваффе. Сентябрь 1939 г.
Немецкие войска входят в Париж. 14 июня 1940 г.
Ковентри после воздушного налета. Ноябрь 1940 г.
Ополченцы уходят на защиту Москвы. Ноябрь 1941 г.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Бойцы 5-й армии идут в наступление. Зима 1941 г.
Немецкие войска на Восточном фронте. Зима 1941 г.
Экипаж покидает Lexington. Битва в Коралловом море. Май 1942 г.
Австралийцы несут раненого товарища на перевязочный пункт на Папуа – Новой Гвинее. Декабрь 1943 г.
В блокадном Ленинграде. 1942 г.
Рабочие сборочного цеха Кировского завода за сборкой танков. 1942 г.
Высадка солдат американской армии на пляже Utah в Нормандии. 6 июня 1944 г.
Английские солдаты в Бирме. 1944 г.
Похороны в море. Двое из экипажа Liscome Bay погибли от японской торпеды. Ноябрь 1943 г.
Британские солдаты в Африке. 1944 г.
Освобожденные узники концентрационного лагеря Освенцим. 10 апреля 1945 г.
Дрезден. 1945 г.
Японская семья прячется в пещере на Сайпане. Июнь 1944 г.
Японская делегация поднимается на борт американского линкора, чтобы подписать акт о капитуляции. 2 сентября 1945 г.
Первая советская регулировщица. Берлин, май 1945 г.
Знамя Победы (штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии) над зданием Рейхстага. Берлин, 1945 г.
Танковый экипаж гвардии лейтенанта Б.И. Дегтярева. Война закончена, мир во всем мире. Германия, Бреслау.
Сноски
1
В книге слово «потери» используется в техническом военном смысле и обозначает как убитых солдат, так и раненых, взятых в плен и пропавших без вести. В наземных операциях на большинстве театров войны на одного убитого приходится в среднем трое раненых.
(обратно)2
Бромбергом по-немецки назывался Быдгощ. – Прим. ред.
(обратно)3
Согласно британской традиции Континент – Западная Европа за исключением Британских островов. – Прим. ред.
(обратно)4
Петсамо – современная Печенга. – Прим. ред.
(обратно)5
Продолжительную войну (франц.). – Прим. ред.
(обратно)6
Крупная неприятность (франц.). – Прим. ред.
(обратно)7
Объяснение приводится в главе 14 «События в Африке».
(обратно)8
В этой книге я простоты ради буду именовать все расшифровки переговоров стран оси Ultra, хотя американцы обозначали японские радиопереговоры кодовым словом Magic. – Прим. авт.
(обратно)9
«Хорошо, хорошо, благодарю вас» (франц.). – Прим. пер.
(обратно)10
История о Ворошилове и поросенке имеет все признаки апокрифа: существует вариант с вареным поросенком и Финской кампанией. См.: «Вопросы истории», 1996, № 7. – Прим. ред.
(обратно)11
Этот эпизод вместе с архивными документами приводится в исследовании петербургского ученого Н. А. Ломагина. См.: Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. – СПб.: Нева, 2004. – Прим. ред.
(обратно)12
Сёва («Просвещенный мир») – девиз правления Хирохито (1926–1989). – Прим. ред.
(обратно)13
Широкий пояс к смокингу. – Прим. ред.
(обратно)14
Морской конвой, снабжавший японские части на островах. – Прим. ред.
(обратно)15
Флот Метрополии – самостоятельное подразделение Королевского флота, охраняющее побережье Великобритании. – Прим. ред.
(обратно)16
Строевой батальон. – Прим. ред.
(обратно)17
Чиндиты – спецподразделение британской Индийской армии. – Прим. ред.
(обратно)18
СП – стрелковый полк. – Прим. ред.
(обратно)19
АП – артиллерийский полк. – Прим. ред.
(обратно)20
КП – командный пункт. – Прим. ред.
(обратно)21
Перевод А. Сергеева. – Прим. ред.
(обратно)22
Бокаж – тип ландшафта (главным образом во Франции), где небольшие поля и луга чередуются с полосами кустарника. – Прим. ред.
(обратно)23
Специальные инженерные подразделения ВМФ США. – Прим. ред.
(обратно)24
Польдер – участок осушенный земли возле дамбы. – Прим. ред.
(обратно)25
Особая форма обморожения ступни, возникающая из-за длительного воздействия слабого холода (выше 0º) и сырости. – Прим. ред.
(обратно)26
Бомбардировка Дрездена – это настолько популярная легенда о войне, что данные последнего исследования просто ошеломляют: там утверждается, что 13–14 февраля потери в городе составили 25 000 человек, а не сотни тысяч, как принято было считать. Это не относится к дискуссии о том, была ли необходима эта бомбардировка, но указывает, что жертвы среди мирного населения в результате нее были ниже, чем при бомбардировке Гамбурга в 1943 г. или в пору «огненного вала» в Токио в 1945 г. – Прим. авт.
(обратно)27
Филиппинский остров, вокруг которого в октябре 1944 г. состоялась крупная битва между американским и японским флотом. – Прим. ред.
(обратно)28
После первого успешного испытания атомной бомбы. – Прим. ред.
(обратно)








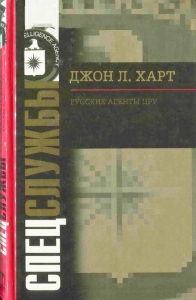


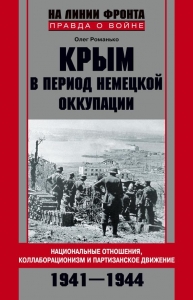
Комментарии к книге «Вторая мировая война. Ад на земле», Макс Гастингс
Всего 0 комментариев