Александр Твардовский С КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА (Из фронтовой тетради)
Заметки эти в большей части — «расшифровка» и перебелка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939–1940 годов. Занялся я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку. На память я никогда не жаловался и чаще всего беседовал с людьми, не вынимая из полевой сумки своей толстой записной книжки не только потому, что иногда это было просто неудобно: замерзали руки, было темно или беседа проходила в пути. По опыту корреспондентских поездок в 30-х годах я знал, что люди в большинстве хуже рассказывают «под карандаш», то и дело косясь на твой блокнот, сдерживаются, настороженно выбирают слова. Только по окончании беседы, будь она даже в тепле и при свете, за столом, я, улучив минутку, переспрашивал имена, уточнял даты, названия местности и записывал их в книжку.
Только из документов (боевые донесения, письма и т. п.) я делал, если представлялось возможным, точные дословные выписки.
Так и лежала у меня эта тетрадь с перебеленными пером заметками почти тридцать лет среди других тетрадей, пока по встретившейся, как говорится, надобности я не стал ее перелистывать и не напал на эти страницы. И мне показалось решительно невозможным делать в них теперь какие-либо исправления или дополнения, кроме необходимых подстрочных примечаний. Если эти заметки имеют какую-либо ценность, то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда, по свежей памяти.
Естественно, что разнообразные и глубочайшие впечатления Великой Отечественной войны отстранили и заслонили собой и для писателей и для читателей память трехмесячной зимней кампании в Финляндии. Но и «на той войне не знаменитой», при всей несоизмеримости ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлежать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой.
Мне уже приходилось говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того как у меня пошел «Василий Теркин», мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Мы все знали, как ценили сами герои эти очерки и заносившие их имена как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погибал, то и тут было важно хоть лишний раз упомянуть его имя в печатной строке. Такие — мне приходилось писать и в период боевых действий на Карельском перешейке, когда я вместе с писателями Н. С. Тихоновым, В. М. Саяновым, С. И. Вашенцевым и другими работал в газете ЛВО «На страже Родины». Жанр этот в существенных признаках не менялся и в практике фронтовой печати в годы Отечественной войны.
Но в публикуемых записках больше имен из боевых эпизодов, которые так и не были в свое время перенесены из записной книжки на печатную страницу или же нашли там место с известными ограничениями, без непосредственных, живых, хотя бы и беглых, наблюдений и впечатлений автора.
Заранее прошу извинения перед всеми, с кем встречался в пору боев на Карельском перешейке и кого упоминаю здесь со слов других товарищей, за возможные неточности и упущения, неизбежные в такого рода записях.
Ленинград. 30. XI. 39. — На этот раз сильно не повезло. В самый момент, когда нужно было быть на месте, захворал глупой детской хворью. Ветряная оспа! А Вашенцев (сейчас звонил) уже был «там». Сижу, как Иов праведный, щупаю свои лишаи, пытаюсь сочинить какие-то стишки, но мне уже не звонят, меня нет, информируюсь у коридорных да официантов — что на белом свете.
Только всего и имею покамест, что вывез из первой поездки в часть. Лес, землянки (домовитые, пахучие — сосна), люди из 68-го полка и 2-й батареи. «Праздный мост». Ожидание, настроение близящегося дела. Но все это уже позади. В свое время не записал, а теперь и записывать не хочется.
А знаешь, друг мой, как тяжело хворать одному в пустынной гостинице, в незнакомом городе и в такое время, когда об отдельном человеке забывают!..
2. XII. 39. — Со вчерашнего дня пошло лучше и лучше. Завтра окончательно встану.
Вчера пришел милый Крашенинников — «Чуть-что», — как мы его зовем за этот его излюбленный оборот речи; принес яблок, мандаринов, хлопочет, беспокоится: «Лежи, лежи!» А сам еще более побелел, осунулся. У него родила жена. (Я ездил к ней, когда он был в командировке, с приветом от мужа, но уже не застал дома, на кухне соседки сказали, что она уже в родилке, что уже родила, девочку.) И вторично он пришел в тот же день, принес мне «На страже Родины» и другие газеты.
Повеселел я. Написал стишок, хорошо заснул. Сегодня еще лучше мне, хотя еще не все прыщики утихли. Опять приходил Крашенинников, опять принес мандаринов и пил с нами чай (с ним еще был товарищ). Принес он и белье, как обещал, но я сказал, что завтра у меня свое будет готово. Завтра, пожалуй, поеду туда.
15. XII. 39. — Завтра в 3 часа утра едем под Выборг, где должно быть решающее.
Я здесь с 18-го прошлого месяца. Так много пишу и так тяжело и беспорядочно проходит жизнь, что почти ничего не записывал. То есть для себя. А очень хотелось и очень нужно было записать все три состоявшиеся до сих пор поездки: Майнила (у границы), Перк-Ярви (50 км. от границы, 68-й полк), Кронштадт («Марат»).
Жуткая ночь. Жажда. Утро на опушке леса. Как я пил воду из неизвестного колодца. Как вкусен был суп из красноармейского котелка в артполку. Дальше. Опять лес, лес. Как мы вышли на поляну и остались одни с трупами. Марш. Грузовик, куда мы забрались. Как я жалостно просил хлеба. Перк-Ярви. Выстрел. Ужин. Утро. Обратный путь (не могли выехать из города). Гати, переезды, объездки, таскание машин.
1. I. 40. 12 часов. — «Интернационал». Прошли первые сутки 40-х годов. Собирался зачистить конец 39-го года, в смысле записей. Подытожить все и начать вести регулярные записи. Ни черта, кажется, не получается! Пишу медленно, не успеваю то написать, что в газету идет. Много рассеивается времени, пока сидишь в Ленинграде. Обидно за себя. Но, может быть, причина все же в общей обстановке и условиях. Вот закончится война, засяду на месяц-другой в доме отдыха и шаг за шагом буду восстанавливать виденное и пережитое. А кроме того, время не совсем даром уходит. Дороже записей то, что незаметно и как будто беспорядочно откладывается в голове из всех впечатлений, встреч и т. п. Правда, записи помогли бы и самому этому откладыванию.
19. I. 40. 2 часа ночи. — Возвратился из очередной поездки. Поездка на редкость удачная. Герои-артиллеристы (Лаптев, Пулькин и другие). Полковник Бакаев. Вечера в штабной комнатке.
Когда-то у меня была хорошая привычка, беспокойная, но полезная потребность — после каждой поездки в колхозы записывать кратко: что нового по сравнению с тем, что я знал раньше, получил от этой поездки, с каким добытком внутреннего знания, окрепшей убежденности возвратился…
Здесь также каждая поездка, если следить и внутренне не распускаться, дает обязательно новое что-нибудь, и это новое довольно легко (для себя, покамест) выделяется из того, что является уже повторением виденного раньше. Так, собственно, и складывается, накапливается всякое знание жизни — когда следишь и отмечаешь. Правда, есть еще какой-то внутренний процесс, за которым не уследить, но он — пусть себе совершается.
Первая поездка — самое сильное впечатление от «подземной» жизни белого зимнего леса. Дымки над сугробами, узкие ходы в землянки, орудия на расчищенных от снега площадках. Брусника, раздавленная сапогами на снегу.
Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников, лезших из кожи. Концерт шел в комнате, набитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены — ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать. Так тогда думалось. И, помню, впервые испытывал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их как родных, дорогих мне лично людей.
Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не выслужено (не то слово). Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца. Правда, все реже. В том походе[1] я не мог еще забыть, что я призванный в ряды РККА рядовой и что только командирская шинель на мне и пр.
Вторая поездка. Вторая встреча с людьми 68-го полка. Главное впечатление — люди, проведшие уже несколько дней труднейшего похода, почерневшие, осунувшиеся. Оживление улеглось, но усталость еще не пошатнула основного настроения и веры, что в ближайшие дни…
Третья поездка — в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны. Комиссар и начподив уже втолковывают людям задачи, разрешение которых — не день и не два…
Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат.
Пятая — неудачная. Впервые «под обстрелом».
Последняя — замечательная. Внутренний вывод, убеждение: ни хрена, жить можно.
Надо спать — уже только конспектирую, что не имеет смысла.
19. I. 40. — Вчера произошло событие, которое будет переломным в моей работе и самочувствии. Написал в один присест стихотворение «Мать героя». Оно было хорошо встречено в редакции, хотя я опасался, что оно испугает редактора и других лиричностью, непривычным решением темы. Писалось оно необычно. Я задумал написать что-то такое о переживаниях родных и близких, жен и матерей наших героев. Но что, как — ничего не было. Было только перед глазами место на первой полосе газеты, где должны были быть стихи. А перед этим я правил очерк Вашенцева, обрамленный двумя замечательными документами: письмом матери Лаптева в часть (что с ним, почему не пишет и т. д.) и ответом комиссара, где сообщалось, что он представлен к званию Героя. А еще раньше я вместе с Вашенцевым читал в полку эти документы в оригинале. И там уже плакал. Но так как о Лаптеве должен был писать Вашенцев, он и переписал себе эти документы в тетрадку. Вот они:
«Начальнику штаба от гр-ки Лаптевой Олены. Товарищ начальник, я к вам обращаюсь со своим наболевшим вопросом. Я мать красноармейца, мой сын достоин служить в нашей радостной непобедимой Красной Армии. Мой сын был взят в РККА в 1937 г. и служил хорошо и всю свою службу имел со мной переписку и писал — «все хорошо, служу, мама, хорошо и весело» — и я жила спокойно. Живу одна. Он меня все увещал — «мама, духом не падай». Но в настоящее время я просто погибаю, не знаю, мой сын жив или не жив. Тов. начальник, я вас прошу о большой милости, чтобы вы успокоили мое сердце — жив мой сын или нет. Мой сын — Лаптев Григорий Михайлович — Челябинской обл., ст. Бакал, село Рудничное, ул. Ленина, 15.
Остаюсь Лаптева Олена».
Ответ комиссара Дядющина, показанный им при нас на батарее Лаптеву:
«Многоуважаемая Елена Ивановна!
Ваш сын, Григорий Михайлович, — отважный, смелый и находчивый воин. Во время боя он, находясь под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, прямой наводкой расстреливал врага метким огнем из орудия. За проявленный героизм и отвагу командование представило вашего сына на присвоение ему звания Героя Сов. Союза.
Мы гордимся вашим сыном, патриотом великого советского народа, и от всего сердца благодарим вас за то, что вы сумели воспитать такого героя для нашей социалистической родины.
С почтением и уважением к вам».
Сейчас, переписывая, я опять чуть не заплакал над этими строчками и искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним (по памяти). Но когда я писал, мои стихи казались мне (наверно, по сравнению с тем всем, что я делал до сих пор в газете) очень хорошими. И я был снова растроган. Слабость эта, возможно, объясняется еще чем-нибудь, но и стихи при этом писались удивительно легко. Это совершенно не мой черновик. В нем не вычеркнуто ни одной строфы целиком. Для меня, страшного марателя, это столь необычное дело, что я решаю дать место в моей тетрадке «творческой истории» этого стихотворения. С него, может быть, и начинается настоящая моя работа в газете.
8. III. 40. — После поездки на о. Койвисто — восьмой день в Ленинграде. Хорошее перемежается с плохим, ненужным. Написал… «Балладу о красном знамени» и стихи к сегодняшнему номеру — «Письмо».
Неведение записей в этой тетрадке приводит к некоторым огорчениям неожиданного порядка. Все, что рассказал прибывшему сюда М — кову, он все уже занес на бумагу, в свой сценарий.
Единственным моим дневником являются стихи, которых пишу много. Некоторые из них правда, не содержат в себе никаких следов пережитого или увиденного мною. А те, в которых хоть что-нибудь есть, начинаются с «На привале».
Кончится кампания, отдышусь от писания «в номер», засяду основательно. Строчка за строчкой пропущу все через сито. Все это должно и можно развить, отделать, завершить. Штука за штукой буду отрабатывать и переписывать в тетрадку. А до того и в журналы давать не стоит. Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам вообразить раньше не мог.
Как-то пошел в умывальную, «гор.» — «хол.» и проч. — и вдруг приходит мне простая такая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело.
На днях пошли утром с Вашенцевым по городу. Утро морозное, а ощущение весны так безусловно и глубоко, что плакать хотелось. Ведь уже много-много весен я встречаю в городах, уже и городская весна трогает. И вдруг — мысль: а там, на фронте, еще не кончено, еще мы переваливаем через такие трудности, еще — черт ее знает что! Никакой весны. Воина, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой.
13. III. 40. — В пятом часу позвонил Березин[2] из редакции: «Война — вся, мир…» Сейчас 7 утра. У нас Саянов. Должны поехать в типографию читать договор и пр. А затем сразу же по Выборгскому. Первая поездка, когда совсем другое чувство.
Москва. 3. IV. 40, — Вот и снова — Могильцевский. С. Маршак не без оснований говорил, что после войны все может показаться очень пресным, малозначительным и т. д.
У меня есть чувство (я уже знаю, что оно неверное), схожее трудно сказать с чем. Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это обще известно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут! Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере, — что ничего больше ее нет. Это мне понятно. Но я только тогда смогу вновь в полную меру сердца волноваться всем тем, чем волновался прежде (ведь вот ехал «стрелой» из Ленинграда, смотрю на проталинки по откосам между елок и ничего не чувствую, что, бывало, обязательно чувствовал при этом признаке весны: что-то — может быть, на время — отошло далеко и живет, как в книге, которую читал когда-то, а теперь только помнишь смутно) — деревней, природой, землей, людьми и книгами, — когда выпишусь, выскажусь как следует на темы финляндского похода. Тем самым, может быть, преодолею окончательно и это свое неверное чувство.
4. IV. 40. — Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором, раздавленные сапогом, краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то клочья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровых ночных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымков землянок — до свежих, легкоморозных утр, почерневших дорог, чистых, точно умытых, елей и сосен… От первого выстрела в 8 часов 30 ноября 1939 года — до последнего выстрела в 12 часов 13 марта.
Весь этот срок по своим характерным признакам делится на три части, на три периода.
Первый период — с перехода реки Сестры, первых столкновений с противником и стремительного продвижения вперед — до первых крупных неуспехов у оборонительной полосы в декабре (около 17-го). Это один период, одно настроение, когда еще казалось, что победа — дело ближайших дней. Еще 27–28 декабря 90-я дивизия пыталась на своем направлении прорвать укрепрайон, понесла большие потери и остановилась «у проволоки». Тут уже было тяжелое чувство недоумения, непонимания — в чем дело?
Второй период — когда было решено, что нужно хорошо подготовиться, что не обязательно завтра, можно и послезавтра одолеть врага, но сделать это уже наверняка. Это период перегруппировки, подготовки, отдыха и устройства многих тысяч людей в лесах, в редких уцелевших строениях, в землянках. Длится он до 11 февраля.
С одиннадцатого — дня всеобщего наступления — третий, последний период, период решительного, убыстренного натиска, прорыва полосы дотов, продвижения на Выборг и жесточайших боев под Выборгом — до заключения мирного договора.
Когда-нибудь, на большом расстоянии, вся зима эта будет представляться более цельно и неразличимо в смысле ее этапов. Но покамест в ней для меня довольно отчетливо существуют более ранние ее дни, подернутые уже какой-то дымкой, как давно прошедшее. Когда мы ехали последний раз с перешейка и проезжали, как обычно, Териоки — дело было вечером, — было очень странно видеть эти домики, уже обжитые, в которых виднелись огни. По дороге шел какой-то военный с женщиной под руку. Это уже был обыкновенный быт. Это уже не вызывало ничьего интереса. Это все уже было далеко. Не умею передать, почему все так казалось грустно.
А когда вообще едешь этими лесами и видишь брошенные хвойные шалаши, видишь землянки, черные пятна от костров — вспоминается самый суровый период зимы. Здесь сидели люди, Чтобы обогреться, был единственный способ, которому тысячи лет, — закопаться в землю, разрыть снег, раздолбать мерзлую землю, вырыть яму, накрыть ее накатом неокоренных бревен, хвоей, присыпать землей и развести в одном углу огонь в какой-нибудь жестяной печке, а то и просто так. Вспоминаются клубы пара и дыма над снегом в лесу, визг танковых и тракторных гусениц, сухая жесткая стрельба из орудий, движение, движение. Люди в обгорелых шинелях, с опухшими от холода лицами, немытые, небритые.
* * *
Буду записывать, что вспомнится по записной книжке, в приблизительном хронологическом порядке — по поездкам.
* * *
Первое время писал исключительно плохие стихи, хотя впечатления первой же (до 30 ноября) поездки уже подсказывали какие-то детали, мотивы.
По серому шоссе гремели танки,
Орудия, броневики, грузовики,
А по лесу дымились молчаливые землянки
И вспыхивали осторожно огоньки.
В лесу сосновом разбрелися роты —
Шел стук и гром:
Кипела плотничья веселая работа,
Промерзшее крошилось дерево под топором.
* * *
У границы все было наготове и шла подготовка к переходу р. Сестры. Когда мы приехали в 68-й полк, там нас встретил хороший парень, старший лейтенант из редакции, Федя Крашенинников. Был он так заботлив и нежен с нами, что становилось неловко. Каким-то образом занял он свежесрубленную из сухих бревен какой-то старой постройки небольшую избушку. До нас там жили артиллеристы. Стояла она рядом с домиком кулацкого типа (крылечко, мезонин, тесовая крыша) и глядела прямо на лес, синевший вдалеке за рекой Сестрой, не видной отсюда. Федя — «Чуть-что» — затапливал печку, кипятил чай и пр. Там я жарил ветчину в кастрюле. Спать было первую половину ночи страшно жарко и душно, вторую дико холодно.
Сколько раз за недолгие дни пребывания на границе всматривался я оттуда на «ихний» лес, думал, старался угадать, почувствовать, что здесь будет.
Допускал, между прочим, мысль, что на месте нашего домика ни черта не останется. Население отсюда было все вывезено.
Пошли в батальон капитана Макарова, «испанца», награжденного Красным Знаменем. Он был не очень здоров на вид, человек очень хороший. Из тех, что, приобщившись в какой-то степени к культуре, дорожат этим. Он картавил немного и довольно мило, но стеснялся этого, как и своего маленького роста. Поэтому он говорил очень осторожно, медленно, выбирая слова, всячески стараясь избежать слов, на которых спотыкался. Впрочем, может быть, это было еще оттого, что он старался говорить совершенно правильно. И — нет-нет — выскакивало словечко, сразу напоминавшее, что он из крестьян, пастушонок, просто деревенский парень. Рассказывал, как он с товарищами ходил в Париже (по пути в Испанию) в театр (надевали взятые напрокат фраки).
Утром мы лазали по опушке леса вдоль изгибов р. Сестры. Хотелось увидеть финнов. В лесу вовсю шла работа. Валили сосны, связывали переносные мостки, заготовляли накаты для больших мостов.
Заметили двух финнов-пограничников. Шли они от леса к своей «стражнице» в каких-то тулупах, с винтовками за плечом — вроде охотников. Заметили нас, хоть мы и прятались за редкими елочками на опушке. Один показал в нашу сторону рукой, поговорили, постояли, пошли.
Подошли мы с группой саперов к мосту через р. Сестру. Мост настоящий, на бетонных быках; когда-то по нему ездили. Граница перерезала его пополам. Часть моста была много лет назад подпилена и обрушена вниз. На накате, заваленном землей, выросла сосенка толщиной в оглоблю и высокая, верхушкой выше уцелевшей половины моста, отделенной от нас колючей проволокой. Особое впечатление производил этот «праздный мост», как я его тогда назвал для себя. Он здесь стоял искони, он был нужен, он теперь не служил, но и не был снесен до основания — и это заставляло воображать и представлять себе, что придет срок и он будет исправлен и вновь будет служить. Так, видимо, обе стороны и смотрели на него. А сосенка росла, вытягивалась и была признаком странного запустения.
Наши подошли к мосту, стали, размахивая руками, рассуждать насчет исправления моста — так что финны, стоявшие за елками на том берегу, не могли иметь сомнений, что речь идет именно о мосте, и в известных целях. Сразу за мостом у них был окоп. На елке, в темноте ее верхушки, стоял финн-дозорный. За рекой слышался стук и треск — валили деревья. Это финны устраивали завалы.
* * *
Если б эти записи велись в свое время день за днем, они были бы куда ценнее. А так, когда помнишь о том, что было после, даже трудно писать. Все это, предварительное, кажется таким малозначительным и малоинтересным. Но иначе никакого порядка не будет — нужно записывать.
* * *
Собственно, С. привез нас в 70-ю. Оттуда мы направились в 68-й, а через день приехал сюда и С. — со своим ромбом в петлицах. На одной батарее он для проверки готовности людей устроил, по-моему, странную инсценировку. Командир и комиссар дивизии послушно осуществляли его затею. К пареньку, командиру батареи, подходит командир дивизии и, прерывая его рапорт, играет: оттуда-то бьет противник, там-то наша пехота, принимайте, мол, решение.
Тот:
— Я позвоню туда-то.
Комдив:
— Не знаю, ничего не знаю. Я посыльный. — Пожимает плечами, поправляет пенсне, разводит руками.
Тот (даже условно не принимая, что это посыльный) опять, наугад, растерянно, вопрошающе:
— Я свяжусь с… Я открою огонь…
— Ничего не знаю. Что вы с посыльным советуетесь! — И т. д. до слез на глазах у бедного младшего лейтенанта.
Нарвались мы на эту картину и были не рады. А С. отвел нас в землянку и в обычном своем тоне предложил «сигнализировать» о результатах его остроумной проверки в газете.
Частенько мы это вспоминали: «Я посыльный…» И командир и комиссар, между прочим, вскоре были сняты — как не справившиеся. А что с этим лейтенантом — кто его знает!
Раевский. — Еще у границы все — и бойцы и командиры — были в ватниках — знаков различия не видно. Полушубки на командирах были еще не замаранные. Добротная зимняя одежда была еще непривычна и всем нравилась. Все, казалось, боялись, что вдруг прикажут сдать все это, так как обойдется дело без войны.
Сидим в штабе макаровского батальона. С нами инструктор политотдела дивизии, политрук, которого я по полушубку, спутав с другим человеком, весь вечер называл батальонным комиссаром (он не поправил).
— А вам что? — обращается он к человеку в ватнике, стоящему довольно небрежно у косяка двери.
— То есть как — что? — отвечает тот, покраснев и приняв более строгую позу.
— Товарищ боец…
— Я командир роты.
— А!
Это и был Раевский, красавец, силач и прямо-таки головорез по смелости и дерзости. Затем я его видел на походе, в шинели и каске, после пяти-шести дней пути и боев, загорелого, немного заросшего. Но краснел он так же, как прежде. Черты лица крупные и немного бабьи, вернее — девичьи. Был он, между прочим, до армии водолазом. Убит.
* * *
При переходе границы я хворал. Первая поездка по фронту была числа 5 — 6-го в 68-м полку 70-й. Мы его догоняли, искали дня два.
Впервые увидел я Териоки, пожарища, двухэтажные печи, торчащие на пожарищах. В Териоках, помню, у дороги валялись убитые и еще живые лошади, подорвавшиеся на минах. Очень хотелось пристрелить их, но мы не решились это сделать. Выстрелы могли вызвать тревогу и даже панику.
Впервые мы видели завалы. Огромные парковые ели и сосны были повалены таким образом, что ствол не отделялся от высокого пня, без подруба (в обычное время валить так деревья — величайшее безобразие). Кроме того, на стволе на месте надреза финны наматывали из колючей проволоки петлю восьмеркой, так что, когда дерево валилось, оно еще оказывалось привязанным к своему пню, что очень должно было затруднить растаскивание завалов — и топором не вдруг возьмешь. Но во всех этих завалах, рвах, эскарпах и даже надолбах очень много бессмысленного. Огромный труд, а препятствие несерьезное. Сделан один проход — и все. Правда, в дальнейшем, у дотов, эти проходы (в надолбах) доставались большой ценой.
Впервые я узнал, что такое «пробки» на дорогах. Из-за них мы заночевали в лесу. Пробивались по какой-то совершенно невероятной дороге, она была только что проложена. Свежие пни и горбы корней страшно затрудняли проезд для машин. И еще — все расквасилось. Артиллерия, прошедшая впереди, разворотила колеи, в них хрустел лед, перемешанный с водой и грязью. Много раз таскали машину. Ночью, отдыхая в машине, заснули — все и шофер. Колонна впереди рассосалась и прошла. Сзади никого не было. Оставалось продвигаться одним. В одном месте основательно засели, пришлось буквально умолять догнавших нас обозников, чтоб помогли. И опять остались одни. А тогда все полно было разговорами о нападениях, обстрелах, бандах в тылу. Где-то среди леса мы наткнулись на грузовик, брошенный своей колонной. Один, как перст, часовой с винтовкой сидел в нем, страшно рад был поговорить с нами, с робкой надеждой предложил: «Оставайтесь, переночуем вместе. Дальше там — еще хуже дорога».
Но мы не остались. Ко всему добавить, что шла какая-то стрельба, правда редкая, и мучила жажда: еще о «спецпайке» и речи не было. Я ел, ел снег, ни черта не помогает. Вспоминал всю воду, какую видел в жизни. К раннему рассвету выбрались из лесу, которому, казалось, нет и нет конца. Увидели костры —: ночевала какая-то часть. У колодца стоял часовой. «Брали здесь воду?» — «Не знаю». — «А что колодец — отравлен?» — «Не знаю». Привязали к шесту котелок, достали. Шофер смотрит на меня. Я приложился к котелку. Обыкновенная болотная, довольно скверная вода. Попил и шофер. Подъехали к кострам, кому-то представились. Первый раз ел из чужого котелка чьей-то только что облизанной ложкой чудесный, горячий, жидкий суп с макаронами. Тут мы ожили. Я обошел весь бивуак, роздал газеты, которые у меня буквально вырывали из рук. Тронулись дальше.
Догнали мы 1-й батальон 68-го (не макаровский). Люди были утомлены, невеселы, неразговорчивы. Уже были потери, неудачи, утомление — утомление первых дней — самое тягостное, поскольку непривычное. Пошли пешком догонять макаровский батальон, а машину оставили двигаться в обозе.
* * *
Обходя обоз, прошли километра два-три по лесу. Дорога была разминирована, но кое-где не изолированные мины были примечены вешками, каким-нибудь едва заметным прутиком. На одну такую мину я чуть не наступил. Встретились с Макаровым, он ехал верхом в хвост колонны. Очень удивился, что мы таки сдержали свое слово и нашли его батальон. Но сразу же и нас и его, по-видимому, стеснила какая-то неловкость. Мы точно стеснялись друг друга. Все было другое, чем думали там, когда стояли у границы и когда давали свое обещание.
Мы видели, что он, Макаров, очень утомлен. Пропалил на спине шинель. Был в подшлемнике и каске. И говорить было почти не о чем. Шли долго. Макаров отдал лошадь бойцу и шел с нами, может быть, из вежливости, чтоб не ехать рядом одному.
Мы устали и захотели есть, но все ожидали, что будет привал, обед и все устроится само собой. Но батальон шел и шел. Разговорились было по пути с полковником Бриченком, командиром артполка, действовавшего во взаимодействии с 68-м стрелковым. Прошли мызу Мысниеми. Мост, речка, а мыза на взгорке. В откосе взгорка пулеметные гнезда — дзоты, хотя мы еще эти землянки тогда так не называли. Зашли в большой двухэтажный дом мызы. С балкона был вид на озеро. Красиво, наводит на мечты о какой-то приятной дачной жизни. Между прочим, серьезность войны еще не осознавалась мною — я всю дорогу смотрел на хороший строевой лес и думал о постройке дачи в смоленских краях, о своей работе и т. п.
У мызы была какая-то остановка, задержка. Мы с Бриченком и группой командиров прошли далеко, оторвавшись от колонны. Потом Бриченок предложил своим сесть на коней, и все они ускакали, а мы втроем пошли дальше. Шли, шли узкой прямой просекой, которая видна была далеко-далеко. Наконец, вышли на поляну, большую, открытую, и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые портяночки раскрутились. Направо лежал перееханный танком, сплющенный, размеченный на равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и финны. У всех очень маленькими казались руки (окоченевшие). Каждый труп застыл, имея в своей позе какое-то напоминание, похожесть на что-то. Один лежал на спине, вытянув ровно ноги, как пловец, отдыхающий на воде. Другой замерз, в странной напряженности выгнувшись, как будто он хотел подняться с земли без помощи рук. Третий лежал рядом с убитым конем, и в том, как он лежал, чувствовалось, какой страшной и внезапной силой снесло его с коня — он не сделал ни одного, ни малейшего движения после того, как упал. Как упал, так и окаменел. Жутко было видеть, например, туловище без головы. Там, где должна быть голова, — что-то розоватое, припорошенное снегом. Особенно жутко и неприятно, физически невыносимо, что все, что раздроблено или рассечено, выглядит совершенно как мясо, немного светлей, розоватей, но мясо и мясо.
После я уже не рассматривал так подробно трупы и не находил в них столько жуткого.
Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы.
Нам стало жутко на этой поляне смерти, и мы повернули назад и встретили вскоре охранение батальона. Тут уже начало вечереть. Вскоре вся колонна подтянулась к шоссе, в которое уперлась наша дорога. По пути, на поляне, мы обратили внимание Макарова на какие-то фигуры справа, то приподнимавшиеся, то скрывавшиеся за камнями. Макаров приказал Раевскому выяснить, и мы видели только, как из роты Раевского отделилась группка бойцов и пошла в целик по снегу вправо. Кажется, это были наши саперы, обследовавшие местность.
По шоссе шла бесконечная вереница танков, орудий, грузовиков. Они подхватили и нас. И мы вновь пошли с Макаровым, пока он не велел подать себе своего Росинанта (он как-то очень трогательно исказил это слово — отчасти по картавости, отчасти потому, что вряд ли читал «Дон-Кихота»). Тут Сергей Иванович намекнул, что мы голодны. Было очень тяжело видеть, как Макаров, при всей его готовности сделать что-нибудь, ничего не мог сделать. Кухни были уже пригашены, ничего не было. Пришлось ждать ночевки в Перк-Ярви.
Мы потеряли стыд и совесть, попросились именем нашей благородной профессии в какой-то закрытый грузовик, где было не то радио, не то электроустановка и два бойца. Там мы сели, как могли, и закачали головами. Сергей Иванович вскоре заснул, как обычно. Меня томил голод. Грузовик шел по какой-то дороге, ветви каких-то деревьев стегали его по крыше, нас качало, подбрасывало. Закуривая, я при свете спички успел заметить хлеб в ящике с инструментами. И вдруг неожиданно для себя очень жалобно попросил «хлебца» у бойцов. Они дали, но без особой готовности. Я отрезал своим товарищам по ломтику и себе, заморил червяка и заснул.
Проснулись в Перк-Ярви, во дворе дома, занятого штабом 68-го полка. Пробрались в штаб, были радостно и приветливо встречены полковником Коруновым и старшим политруком Пьянцевым, накормлены, напоены чаем.
Тут произошел случай с выстрелом в штабе, в соседней и смежной с нами комнате, который мы часто потом вспоминали и рассказывали. Кто-то держал руку в кармане ватных штанов, где у него был трофейный «вальтер» без кобуры, и по забывчивости отвел предохранитель и нажал на спуск. Но это выяснилось спустя несколько минут. А в ту минуту это был выстрел в только что занятом штабом помещении, где можно было ожидать в той обстановке чего угодно. Запомнилось, как полковник Корунов, немолодой уже, «папашистый» мужчина в ватнике, под ремнем без портупеи, когда все ринулись было на пол, мгновенно бросился к двери той комнаты, где грохнул выстрел, выхватив из-за пазухи наган…
Утром, часов в шесть, полковник созвал командиров батальонов. Мы встретились с Макаровым, который, видимо, ночевал у костра, был еще более утомлен, почернел и не то обижен на нас, не то испытывал неловкость за то, что не накормил нас и что все так вышло. Скорее первое.
Взяв беседы — Вашенцев у Корунова, я у Пьянцева и еще кое у кого, побеседовав, между прочим, со знаменитой Хованской (очерк Вашенцева «Паша Петровна»), мы поехали домой. Долго не могли выбраться из этого обгорелого и побитого городка, линия фронта была в непосредственной близости, когда никого своих на дороге — уже беспокойно.
Из этой поездки запомнились, кроме истории с выстрелом, такие забавные мелочи. Полковник получил как раз посылку из дому. Мармеладные конфеты были частично залиты почему-то керосином. Комиссар разостлал у себя на коленях какой-то платок или салфетку и презабавно отбирал неиспорченные от испорченных конфет, каждую беря пальцами и долго и подозрительно нюхая.
Еще занятно, как мы боялись, хоть и смеялись сами над собой, оправляться — на дороге человек, а по обочинам и в канавах всюду предполагались мины. На этот предмет мы даже сочиняли в машине глупые и малоприличные частушки.
Из этой поездки у меня, помимо газетного материала, было еще стихотворение «На привале» — первое сносное стихотворение мое в «На страже Родины»:
Дельный, что и говорить, Был старик тот самый, Что придумал суп варить На колесах прямо.В середине месяца ездили в Кронштадт. Затея эта называлась «обмен опытом». Описывать почему-то не хочется. Впечатления слишком поверхностны и наивны. И потом это дело случайное.
Следующая поездка на фронт была в 43-ю дивизию, стоявшую под Киркой-Муолой. Вечером мы были на совещании у комиссара дивизии, куда нас не очень охотно пустили. Нас очень звал к себе ночевать командир 181-го полка, а ночью, между прочим, там была заварушка, финны попытались окружить штаб, но были отбиты.
В эту поездку мы начали понимать, что на подступах к укрепрайону наши несут большие потери.
* * *
181-й полк. Комиссар Терехов, командир Гноевой.
Комроты Дергачев, беспартийный, проникнул с разведгруппой в глубь 48-й. Вел там бой в окружении три или четыре часа. Убит. Четверо раненых. Даже говорили, что неизвестно, убит ли Дергачев или захвачен в плен.
Все это было еще в новинку, казалось чем-то необычайным, а что еще было потом!
Начинж Федоров столкнулся с финским офицером, залегшим за камнем метрах в двадцати пяти. У Федорова пистолет, и у того — парабеллум. Началась дуэль до последнего патрона у Федорова. К счастью, у него еще была финская трофейная граната. Он изловчился и метнул ее в офицера. Убил, подобрал парабеллум.
Этот Федоров потом наводил мост через канал, соединяющий два озера. Под огнем. Под прикрытием нашего артогня. Всю ночь до рассвета работали. Раненный утром в руку, Федоров просидел под своим мостом до новой ночи, охраняемый по-прежнему с опушки леса своими.
Связист Иоффе, продавец из Ленунивермага, очень плохо и неполно описанный мною в стишке, по рассказам, очень замечательно работал. Наводил связь в любых условиях. Когда один взвод пехоты попал под огонь, командир растерялся, не мог ни рассредоточить людей, ни вывести их из-под огня. Иоффе решил, что комвзвод убит, и, приняв на себя командование взводом, вывел его из-под огня, в том числе и самого комвзвода. С тремя товарищами, ведя связь, в лесу был окружен бандой. Принял бой, гранатами проложил себе дорогу и выбрался без потерь к своим.
Я его не видел, может быть, поэтому и написал так плохо.
Младший политрук Смирнов Иосиф Егорович. Очень молодой, высокий, грубокостный парень. Лицо свежее, наивное. Был в мирное время работником клуба, теперь при комиссаре.
— Товарищ писатель, младший политрук Смирнов явился по вашему приказанию.
Я просил вызвать его, узнав, что он ведет дневник. Дневник он вел с первого дня кампании в желтой «Полевой книжке» старательным и форсистым почерком, какой бывает у не очень грамотных людей.
Он описывает впечатление от артподготовки, самый переход границы, первые потери (на минах).
«Потеря товарища нас в панику не бросает и не заставляет бояться за свою собственную жизнь, нет, наоборот, это делает тебя еще мужественнее, и ты проникаешься чувством жестокой мести врагу за товарища.
Противник применяет хамские средства борьбы. Еще три товарища… Два танкиста и санинструктор. Корольков, командир танка, проводит ночь в танке, обстреливаемом финнами. Он в страшном беспокойстве за своих товарищей — башенного Калашникова и водителя Тарасова. А те в момент выхода из машины попали на мину и были убиты. Сам Корольков был только контужен.
Погибших похоронили. Речь произнес комиссар Терехов. Потом был произведен троекратный ружейный салют».
Эта запись Смирнова свидетельствует о тех жертвах войны, которые вскоре перед фактами новых и более значительных жертв были если не забыты, то никого уже не волновали. А люди-то поплатились тем же, чем и другие, может быть, большие, чем они, герои, — жизнью. И так в войне все забывается по мере нарастания — менее значительно вчерашнее перед более значительным сегодняшним и завтрашним. Но когда перейден самый страшный рубеж, произошли самые большие бои данной кампании, тогда уже помнят только это, а последующее, когда люди тоже умирают, но не на столь важных для исхода войны высотах и т.п., — все это уже почти не учитывается. Трудно на войне выбрать день, когда наиболее выгодно погибнуть, выгодно — в смысле того следа, который оставит твой подвиг и гибель в памяти товарищей, армии, народа.
«В составе 6-й стрелковой роты иду в бой. Организовываю перебежки 3-го взвода.
История с коровой, которая, позвякивая колокольчиком, пришла на командный пункт и наделала переполоху (не выписал).
Утро. Меняем командный пункт. Первый раз за все время этого похода ложусь спать в хорошем уютном доме. Быстро засыпаю. Вижу много снов, в большинстве из боевых действий».
Он так юношески здоров, этот молодой политрук, так восторжен и неутомим душевно, что каждый день войны для него — праздник. Даже потери товарищей не угнетают его, потому что его не пугает мысль о собственной смерти или ранении. Он к этому готов и счастлив от сознания, что и ему довелось быть там, где все так всерьез. Война вообще — для людей либо самых еще молодых, не привязанных к жизни цепкими мелочами и прочим, либо для людей, переживших уже все искушения личного существования, стоящих духовно выше собственной физической данности, спокойных и равнодушных ко всему, кроме исхода данной операции, данной кампании.
Четвертого числа Смирнов получает от Терехова (комиссара) задание войти в комиссию по передаче ценных вещей и имущества, оставленного бежавшими торговцами и др., нашим тылам — «для раздачи бедноте».
«Работу спешу закончить побыстрее, так как хочется попасть к моменту атаки в 3-й батальон и идти с ним в бой.
Десять часов убийственная орудийная стрельба по противнику. Комиссар и штаб уже уехали на новый командный пункт. Быстро налаживаю свои трофейные финские лыжи. В течение нескольких десятков минут догоняю их на расстоянии 3–4 км.
Комиссар на этот раз разрешил пойти в наступление».
На другой день Смирнов дописывает:
«Я был рад. Быстро становлюсь на лыжи и догоняю свои передовые подразделения. Небольшое напряжение, и я догнал главные силы. По дороге мне красноармейцы передали захваченный у финнов их государственный флаг. Привязав его к полевой сумке, двигаюсь дальше. По дороге опять останавливают бойцы и просят, чтоб я ехал с ними и рассказывал последние новости. Не успел я приступить к рассказу — вылетел на своем сером коне артиллерийский лейтенант Кузменко и со всего галопа наскочил на меня. Если б не бойцы, пришлось бы погибнуть бесславно, да к тому же очень глупо. Отделался без повреждений.
Затем вырываюсь вперед и с передовым подразделением иду в разведку. Проходим несколько населенных пунктов, которые противник не успел сжечь, не встречая ни одного выстрела.
20.00. Входим в пункт, намеченный приказом дивизии, — Тэллкяля. Все кругом горит. Противник это сделал для того, чтобы лучше видеть наше продвижение. Своего он добился. Мы были замечены. И открылась бешеная ружейно-пулеметная стрельба. Мы сразу же припали к земле. Необходимо нам залезть в канаву. А чтобы пробраться туда, нужно сломать изгородь. Быстро прикладом отбиваю одно из перил. Обстреливают, но мне удается подлезть под изгородь, и я на спине выдергиваю всю перекладину с кольями. Не успел перебраться в окоп, как враг с высотки послал несколько очередей из пулемета, но обошлось все благополучно. Пули просвистели у самого виска, даже не ранив. Через несколько минут со стороны противника началась сильная орудийная стрельба по нас. Даем ответ из минометов и полковой артиллерии. Противник замолкает. С боем занимаем дер. Тэллкяля (точнее выражаясь, не деревню, а несколько труб и печек). В одном из уцелевших домов расположились на четырехчасовой отдых. Пришел капитан Марченко.
— Меняйте расположение, иначе в тридцати — тридцати пяти метрах расстреляют финны».
Сколько нужно энергии, живейшего интереса к происходящему и юношески ясного и бесстрашного отношения ко всему, чтоб просто найти силы и время для ведения этих записей.
Над одной записью карандашом приписано:
«Последние неразборчивые строчки были написаны мной в полусонном состоянии, в 4 часа утра».
Безусловно, автор делал лично гораздо больше, чем сам отмечает. После, например, описания наступления с ротой Хохлакова идут такие строчки:
«Описывать все, что произошло, я не желаю, ибо считаю это не совсем правильным для себя…»
«6. ХII. Лейтенанты Бастяев и Зиньков отправились в разведку. Противник выпустил их из лесу, а потом — огонь. Мы начинаем вести огонь по противнику, не зная, что впереди наши товарищи. Видим, ползет по канаве фигура к нам. Финн? Сдающийся? Окружены? Приказываю не стрелять. Оказывается, наш боец, посланный Бастяевым для предупреждения. Высылаю танк, чтоб эвакуировать Бастяева и др. Отходя под прикрытием танка, Бастяев получил контузию, по рассказам, и пропал без вести».
В записях наряду с патетически-приподнятыми моментами наличествует и своеобразный, непритязательный юмор. В одном месте автор говорит, что коекто из его товарищей, боясь умываться снегом, оберегая «цвет лица, утратили всякий цвет такового» — то есть стали страшно грязны.
Повара Мирошкина, сообщает он, за фамильярность и пререкания с командованием прозвали «поваром-демократом».
Миска, найденная им в одном из домов и приспособленная к делу, — «братская миска».
Хорошие мясные щи — «наступательные».
Размышление о смерти он заканчивает словами! «Поживем — увидим, кто из нас сильней».
Пушки полковника Самняна — «кормилицы».
Кроме газетной заметки на основе этого дневника и «Бориса Иоффе», из этой поездки я привез еще «Рассказ танкиста». Из этого стихотворения еще что-то может получиться[3].
Поездка в 90-ю дивизию. Выехали поздно, в Райвола заночевали. Райвола — это еще был фронт. Не забыть картины этой большой армейской жизни в поселке, которому довелось стать историческим. Там был штарм, там был член Военсовета. Стояли с заведенными моторами танки, часовые тревожно и тщательно проверяли пропуска, на ночь предупреждали, как вести себя в случае тревоги. В Райвола нас, в сущности, задержали. Это был чуть ли не первый день действия приказа о запрещении въезда на фронт всем штатским людям — корреспондентам, писателям, артистам и т. п. При нас заместитель начальника Пуарма звонил члену Военного совета — можно ли нас пропустить. Выдали нам командировки от Пуарма. Выехали мы рано утром, в темень глухой декабрьской ночи. Ехать было местами страшновато, но приходилось быть внутренне посрамленным и вместе обрадованным всякий раз, как в морозном тумане вдруг выделялась фигура регулировщика, одиноко проводящего ночь у костра близ дороги.
Приехали часов в 10–11. Шла артподготовка. Возле батарей пахло кузницей. За линией огня было неприятно идти — слыша над головой свист, шелест, визг и проч. Причем не знаю и сейчас, какая пушка бьет так противно — звук выстрела не округлен никаким гулом, — жесткий, хриплый, мучительный для перепонок — как шилом в кость.
На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо. Это было последнее наступление на укрепленный район в декабре. Командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:
— Вперед. Немедленно вперед…
Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволоки, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя.
По телефону доложили, что один танк возвращается пробитый, командир не то ранен, не то убит. Через несколько минут в землянку спустился человек и как диковинку протянул в ладони блестящий, маслянистый от крови 37-миллиметровый снаряд противотанковой пушки. Снаряд только что извлекли из тела танкиста, который, между прочим, был жив, в сознании и чувствовал себя сносно. Снаряд пробил бронь танка, вонзился в плечо танкиста, но не разорвался.
— Унеси эту штуку отсюда, — приказал кто-то из начальства.
Помнится, чаще всего говорили с комполка Бондаревым.
— Мелкими группами вперед! Не лежать…
Вскоре стало известно, что комиссар Лаврухин, пошедший поднимать людей, убит. Вечером я писал в дивизионной редакции стихи, посвященные его памяти.
К вечеру мы были на командном пункте полка. Когда стали близко рваться снаряды — ушли. В лесу разрыв тяжелого снаряда — жуткое и вместе исключительно красивое зрелище (конечно, это можно отметить, только находясь на порядочном расстоянии от места данного разрыва). Кажется, что снаряд вырывается из глубины земли, раздвигая, разваливая в стороны сосны.
Между прочим, когда мы еще шли на КП, я сказал, что вижу наши снаряды в полете. Я отчетливо видел некоторые из них в полном соответствии со звуком. Летит, вертясь, как кажется, вроде волчка черный комочек с камень, какой можно запустить на небольшое расстояние, и, совершая траекторию, скрывается за лесом. Надо мной стали смеяться. Мол, как же вы можете видеть снаряд, когда он летит со скоростью, скажем, семьсот с чем-то метров в секунду. Однако нашелся добрый человек, артиллерист, который подтвердил, что снаряд действительно можно видеть в полете, если смотреть ему прямо в затылок, то есть находиться как раз на линии полета.
К вечеру же мы видели, как потянулся поток всякого транспорта с передовой — везли раненых. Их везли на машинах, на танках, на санях, на волокушах, несли на носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в санях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака — пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:
— Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук — теплые. Возьми, слышь…
Еще, помню, шел довольно быстро танк, и на нем лежал один легко раненный боец, обнимая сверху двоих, по-видимому, тяжелых, придерживая их.
Финский снаряд разорвался поближе — черный столб земли взметнулся чуть не вровень с соснами и, как вулканический выброс, тяжело и даже медлительно опал на белый снег.
Саперы выравнивали дорогу, по которой эвакуировали раненых, подпиливали пеньки, спиливали бугры, гатили болото.
К ночи стало очевидно по общему настроению, что успеха нет. В районе КП дивизии бойцы начали углублять и утеплять землянки.
На ночь была задача сменить людей, лежавших в снегу. Это было сделано, кажется, только к рассвету.
Из-за этой поездки я возвратился в тяжелом состоянии подавленности, какого-то недоумения. Это все было очень тяжело видеть в первый раз и справляться внутренне с этим самому.
Поздним вечером я ходил с младшим лейтенантом Колобковым в медсанбат. Это — очерк «Беззаветная работа». Здесь я, между прочим, впервые узнал о самострелах, «эсэсах», как их еще называют.
Военрач Печатникова М.3.:
«Бывает, что к вечеру расстроишься от всего этого и поплачешь, а днем, правда, некогда».
Финна с отмороженными ногами пришлось после перевязки эвакуировать отдельно — столько было ненависти у наших раненых.
«Сдунешь снег с лица — жив? Мертв?»
В эту же поездку мы узнали о большом заходе белофиннов в наши тылы 23.XII. Рассказывали, что финны были страшно голодны. Они напали на наши обозы, и большинство их убитых остались с краюхой закушенного хлеба в руках или с буханкой, крепко прижатой в груди. В диковинку еще было, что финны везли пулеметы по снегу в специальных лодочках.
* * *
В редакцию поступила корреспонденция от военкора П. Критюка о героической смерти комсомольца связиста Виктора Зеленцова.
Зеленцов исправлял по заданию комбата старшего лейтенанта Барцева линию связи огневой позиции с наблюдательным пунктом, когда его окружила большая группа белофиннов — человек сорок. Залег, стал отстреливаться. Во время перестрелки был ранен в грудь и в руку. Финны бросаются к нему, он, собрав последние силы, бросает одну за другой две гранаты. Гранатами были убиты на месте двадцать три финна. Больше о Зеленцове ничего не известно.
Нам с Вашенцевым было задание — разыскать часть, откуда Зеленцов, расспросить о нем все и у кого будет возможно, посвятить герою полосу. Передовую уже написали по корреспонденции, но решили все придержать и дать разом. В газете, следовательно, покамест не было ни строчки об этом деле. Был слух, что что-то такое дала «Боевая». По почтовому адресу определили полк — 47-й КАП. В Райволе пошли к начарту 7-й армии, ныне Герою Советского Союза комдиву Порсегову. Он встретил нас хорошо, прочел корреспонденцию.
— Гм. Да. Это было, было. В корпусе вам скажут подробнее. А пока что я вам хотел указать на других наших замечательных героев. — Тут он, между прочим, назвал людей батареи Маргулиса, где мы в следующую поездку и побывали.
Приезжаем к начарту корпуса.
— Да. Гм… В полку скажут подробнее.
Приезжаем в полк (а до того еще справлялись у начарта дивизии), проверяют по спискам. Нет такого. Нет и нет. Наконец кто-то вспоминает, что Критюк — личность известная — артист, эстрадник по профессии. Но где он — черт его знает. Дальше выясняется, что один дивизион этого полка остался на Петрозаводском направлении. Возможно, он там был — Зеленцов. Следы потерялись. Потом стали к этому относиться, как к легенде. Потом столько было других героев, что об этом забыли. В списках Героев СССР его нет.
Поездка в поисках Зеленцова навела нас на 28-й КАП, где была знаменитая батарея Маргулиса. Туда мы поехали в следующий раз, а в этот раз были только в 47-м КАП, где в момент нашей беседы с начальством противник открыл огонь по землянке командного пункта (там была прежде батарея, засеченная, по-видимому, финнами). Мы сидели и делали вид, что продолжаем беседу, но командир полка заметно нервничал, особенно когда оказалось, что связь с батареей, которая могла открыть ответный огонь, прервана. Адъютант вваливался и, бледный, попросту перепуганный, докладывал о новых раненных снарядами у машин, у медпункта. Всего восемь человек; один, кажется, смертельно — в живот. Шофер наш отлеживался в ямке у своей машины, фотокорреспондент Бернштейн только что предложил радисту расположиться у своих аппаратов, чтобы снять его, как начался обстрел, и радист был ранен.
Вашенцев беседовал с молоденькой лекпомшей, очень молоденькой, красивой, разбитной, розовощекой. Он был смущен, что от нее пахло водкой — она, видно, только что приняла «спецпаек». Я — с комиссаром, который мне не понравился, и записывать от него было нечего. Затем мы, осмотрев места разрывов, пошли питаться в землянку комиссара.
Интересно было видеть, что в лекпомшу влюблен весь этот гаубичный полк — от комиссара и командира до какого-нибудь бойца.
Подобные явления потом доводилось наблюдать и в других частях.
28-й КАП. — До записей, связанных с поездкой в этот полк, надо не упустить кое-что из того, что в записной книжке перечислено реестриком.
Пейзажи. — Сильная и суровая красота этих мест порой просто наполняла душу какой-то торжественностью и грустью. Леса в снегах; валуны огромные, как дома, как копны сена, как…
Что-то древнее, могучее, северное, печальное.
И в этих лесах, снегах уцелевшие кое-где дома свидетельствовали об особой культуре жилья, теплого и уютного, о традиционной строгой домовитости. Чудесные финские печи вроде наших «бураков», но меньше, изящней и во много раз продуктивней. Два полена — и печка тепла и способна держать тепло хоть всю ночь.
Потолки в домах-дачах, домах вообще зажиточных жителей, подшитые вагонкой. Окна большие, но не итальянские, которые как-то лишают комнату, жилье вообще уюта и уменьшают вместительность его.
Как вообще выглядели эти места, полностью представить себе невозможно. Жилье дополняет пейзаж, прямо-таки меняет его, а по Выборгскому направлению уцелевшие дома — редкость. Трубы, трубы с печами на огнищах, правда, потом занесенных снегом.
Стоит печка. Она уцелела. Вот загнетка, над ней кожух, какой над очагами когда-то делался. И этот символ уюта и домашности обвевается вьюгами, запорошен метелями. А мимо несутся машины, гремят и повизгивают гусеницы танков и тракторов, скрипят сани на буксире у грузовиков.
Все время, между прочим, было такое ощущение, что нечто громадное и необычное еще впереди, что еще будет, будет всего. То едут какие-то невероятные пушки, какие и артиллеристы не все видели, то какие-то приспособления, щиты, бронесани, то еще черт знает что пододвигается, подтягивается силой несчетного, несметного количества моторов и меньшего, но все же значительного — коней, заиндевелых, лохматых тяжеловозов.
Закаты — не верилось, что тут всегда и до нас были, и после нас будут такие закаты. Казалось, что в них краски пожаров и крови — так ярки, красноогненны они были на фоне снегов синеватых, голубых, затененных темно-зелеными елями. Осенью, видя рождественские финские открытки, я думал, что это только на открытках такие подкрашенные снега и такие закаты. Но и в действительности они такие. Только на открытках пропадает величие и суровость пейзажа, остаются обезжизненные краски.
Тишина здесь тоже особая. Вдали от линии фронта иногда наступала такая тишина (может быть, это по контрасту, после канонад и пр.), что в соединении с однообразным видом снегов, камней и хвойных лесов создавалось впечатление, как будто Земля уже остыла или все это где-нибудь на Луне.
Днем же бывала еще дикая голубизна неба, что можно ее, пожалуй, сравнить только с южной голубизной. Только та гуще, а эта прозрачней. И тени днем были голубые и еще какие-то — не могу назвать.
В такие дни особенно много было в небе самолетов, но это не были загородные учебные вылеты — это были боевые вылеты. В эти ясные, голубые дни появление этих самолетов по ту сторону линии фронта, наверно, производило сильное впечатление.
Животные. — Что не успевали финны забрать с собой, старались уничтожить на месте. Скот часто резали. Но все же оставались коровы, бесприютно бродившие по снегу, пока их не прибирали к рукам.
В редакции дивизионной газеты (90-я) жил курчавый пес Белофинн. Котов нескольких я видел в землянках у бойцов. Одного я 14.III взял у пустого и холодного дома на с крайне Выборга. Отогрел его под полой полушубка, он и замурлыкал. Большой старый кот — шерсть с проседью. Отогревшись, начал куда-то стремиться. Отпустил.
Одного жеребенка, рассказывают, артиллеристы наши долго подкармливали хлебом и пр. Так он и шел с батареей. А там его, возможно, убило осколком или пулей. А может, и до сих пор живет и будет хорошим конем.
20. IV.40. — Переписывая в тетрадь карандашные записи для порядка, я все время думал о том, что же я буду писать о походе всерьез. Мне уже представился в каких-то моментах путь героя моей поэмы. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях. Какое-то знакомство с девушкой — лекпомом или сестрой. Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было.
Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он. Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на страницах «На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то.
А как необходимы его веселость, удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления сурового материала этой войны! И как много он может вобрать в себя из того, чего нужно коснуться! Это будет веселая армейская шутка, но вместе с тем в ней будет и лиризм. Вот когда Вася ползет, раненный, на пункт и дела его плохи, а он не поддается — это все должно быть поистине трогательно.
Благодаря тому, что в первый раз он ранен в начале кампании и что, отоспавшись в госпитале, он, где пешком, где с оказией, пробирается через весь Карельский перешеек, ему удается видеть очень много — тылы, дороги и т. п. Тут столько может быть занятных моментов. Нет, это просто счастье — вспомнить о Васе. И в голову никому не придет из тех, что подписывали картинки про Васю Теркина, что к нему можно обратиться и всерьез. Моральное же мое право на Теркина в том, что я его начинал, в том, что я правил чужие подписи к картинкам Брискина и Фомичева, и, главное, в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему.
Вася Теркин из деревни, но уже работал где-то в городе или на новостройке. Весельчак, острослов и балагур вроде того шофера, что вез меня с М. Голодным из Феодосии в Коктебель[4].
Теркин — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, про который он к месту вспоминает и хорошо рассказывает. Холост. Очень умелый и находчивый человек. Играет на чем придется — балалайка так балалайка, гармонь так гармонь.
Хоть в бою, хоть где невесть — Но уж это точно — Перво-наперво поесть Вася любит прочно.Он умеет и кашеварить. На походе случается ему и блины печь, и курицу жарить, и корову доить.
В нем сочетается самая простодушная уставная дидактика с вольностью и ухарством. В мирное время у него, может быть, и не обходилось без взысканий, хотя он и тут ловок и подкупающе находчив. В нем —. пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню и смерти.
Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот — неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде.
При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной.
Даже в нравах армии это может сделать свое дело — разрядить немного то, что в ней есть сухого, безулыбочного и т. п., не подрывая ничуть священных основ дисциплины. Одним словом, дай бог сил![5]
21. IV.40. — Вчера — 20.IV — принят единогласно в члены ВКП(б). Придется нарушить последовательность записей и привести в порядок самые последние записи, сделанные в 35-й орденоносной танковой бригаде (откуда Кошуба[6]). В бригаде двенадцать Героев Советского Союза.
Командир роты 112-го батальона — капитан Архипов Василий Сергеевич. Скромный, красивый, необычайно простой и симпатичный. Только мочка правого уха с чего-то разрослась в заметную шишку — это так портит красивое, мягкое и спокойное его лицо, что, когда глядишь на него, стараешься не замечать шишку, «отмысливать» ее. Из крестьян-бедняков Челябинской области. Родился в 1906 году. До 1921 года ходил в пастухах у кулака Колесникова в селе Тютеняры. Окончил три класса сельской школы, после учился в школе взрослых. В армии, в 1931 году, окончил пехотную школу младших командиров и остался на пожизненную службу. В январе 1940 года награжден Красным Знаменем.
Из беседы с В. С. Архиповым. — Миновали 2.XII деревню Ликуа. Получен приказ обойти противника с левого фланга.
Ночь. Противник ведет минометный и орудийный огонь. Роте удалось выйти на исходное положение. Вывели за собой один из стрелковых батальонов 461-го полка. 3-го утром майор Калядин, впоследствии погибший, поставил мне задачу сделать сорокаминутную танковую артподготовку.
Впереди — роща, противотанковый ров, завалы и пр.
Вслед за артподготовкой — пошли в наступление. Местность труднопроходимая. Протискивали танк танком. Дошли до рва (два метра на два). Политрук Анаскин (после погиб в этом же бою) первым вышел из танка. Под огнем стали наводить мост через этот ров. Обрубали деревья из завалов и таскали бревна на мост. Перебрались с двумя своими взводами и одним стрелковым подразделением. Ворвались в деревню Монтельки и вышли к деревне Мяктяля. Главные силы прошли свободно по нашим следам.
За станцией Раута у Паркемяки противник опять открыл сильный огонь. Машина лейтенанта Макеева получила шесть пробоин и осталась на территории противника. Макеев пять часов находился под танком и в танке (механик-водитель у него был ранен), чинил машину в пятидесяти метрах от противника и вывел ее. Чинил он провода стартера, чтобы можно было заводить изнутри.
Утром деревню Мяктяля заняли.
17 — 21.ХII — рота каждый день ходила на высоту 65,5 во взаимодействии с батальоном 255-го стрелкового полка (Титов). Так, 19.XII после артподготовки — пошли. В надолбах был один, и довольно узкий, проход. Мой танк, шедший впереди, был подбит — бензобаки — и загорелся. Выскакиваем из машины, приказываю экипажу укрыться в окопе, а сам влезаю в танк младшего командира Судакова. Надолбы мы прошли. Стали бить снарядами по дотам — горох об стену. Пехота подошла к надолбам.
Действовавшие с нами два «Т-28» заблокировали центральный дот, дали мне с одним взводом пройти вперед, сами остались на месте.
Система огня противника была в силе. Выбито было три танка. Погибло пять человек. Высота до 23 часов была под нами, но ввиду того что система дотов не была нарушена, мы по приказу отошли.
— Задачу вы выполнили, — сказал командир полка. То есть мы разведали боем высоту, обнаружили новые точки и т. д.
20. XII мы опять ходили на высоту, но опять ее не удержали.
21. XII младший командир Туган (сейчас в госпитале) уничтожил одну пушку противника.
Январь был месяцем учебы, наблюдения и т. п. Провели двенадцать занятий во взаимодействии со стрелковыми полками. Учили пехоту не отставать от танков.
11.11.40. Общее наступление. Действовали мы с 1-м батальоном 272-го сп (123-я). Я шел с ротой во втором эшелоне, развивал успех. Скоро пришлось броситься в бой. Я перевалил за высоту 65,5. Справа — большой ров, а нам нужно справа обходить противника. Перелезли. Второй ров отрезал нас от опушки рощи «фигурной», до которой было метров двести. За рвом — траншеи. Противник ведет сильнейший огонь, не давая нам строить мост. Мы и 12-го еще не могли перейти этот ров.
13.11— была поставлена задача преодолеть ров. Утром был сделан единственный для всей дивизии проход через ров. Первым прошел я, младший лейтенант Сачков, лейтенант Найловков и командир 3-й роты Кулабухов (ныне Герой Советского Союза). С опушки рощи нас встречает 152-миллиметровая батарея противника. Мой башенный Дмитриев, заметив ряд касок, торчавших из траншеи, поперек которой стоял наш танк, открыл осколочный огонь по траншее. В это время наша пехота вскочила в траншеи. Двадцать финнов было взято в плен. Батарея противника продолжала бить. К вечеру к батарее подошел взвод больших танков 13-й бригады, два батальона 245-го и 272-го полков, моя рота в составе двух взводов и взвод Кулабухова. Землянки-блиндажи обнаружил мой лейтенант Клецов (направляющий взвода). Они были охвачены «БТ» и нами.
Ставлю задачу атаковать эти блиндажи. Танки открывают огонь. Пехота бросается в блиндажи. Уцелевшие финны бегут.
Взвод Сачкова имел особую задачу — выйти к дороге и обогнуть рощу «фигурную» с запада. Его встретил огонь из противотанковой пушки. Эту пушку Сачков уничтожил. Вторая ударила в его пушку, но эту, вторую, раздавили вскоре «БТ».
Командование 272-го сп оценило работу роты как отличную.
21 — 22.11. Действовала моя рота с 245-м сп (комполка Рослый). Пехота заняла траншею и дзот. Роте было приказано удержать занятую позицию. Всю ночь я отбивал контратаки. Танки выходили по трое, расстреливали свои снаряды и патроны и, возвратившись, служили заслоном для пехоты, а другие шли опять. Тут действовал один огнеметный танк. Жутко было видеть, как двадцати- тридцатиметровая струя огня выбрасывалась в сторону противника, сжигая все, а главное — наводя ужас, и невозможно было представить этот огонь обращенным в нашу сторону.
Позиции были удержаны.
Утром взводы посменно заправились горючим. Дзот в результате действия огнемета и вообще всех остальных огневых средств обнаружился. В дзоте было человек пятнадцать финнов, от них остался только пар… Рота противника, сидевшая в траншее справа, бежала в панике и была настигнута нами только в деревне Селенмяки(?).
Радиоустановка играла «марш атаки». Всеобщее воодушевление было необычайно велико. «Ура», не прерываясь, гремело по всему лесу.
Вышли из Селенмяки, за рощу и там встретили два действовавших орудия противника. Первое — противотанковое — сразу уничтожили, а вслед затем и 76-миллиметровое. Продолжали победное продвижение вперед. Дня через два взяли полустанок Ханиниеми — заняли его северную окраину. Около роты пехоты взяли на танки и километра два-полтора продвинулись еще до наступления темноты. Ночь провели в обороне.
Утром 26.11 противник пошел в контратаку. Кроме моей роты, здесь был 1-й батальон 245-го сп. Шесть танков «виккерс» и до роты пехоты со стороны противника. В наличии нашей пехоты тоже было не больше роты, да и то половина ее пошла на завтрак.
Противник ударил из-за линии железной дороги.
Один из «виккерсов» проскочил так близко, что задел мой танк гусеницей. А «виккерсы» до того похожи на наши «Т-26», что я сообразил, в чем дело, только когда рассмотрел синюю полосу на башне. И, может быть, я еще не совсем поверил себе, что это машины противника, как вдруг второй «виккерс» сыпнул в меня из пулемета.
«Ага!..»
Первым снарядом я ударил в первый танк, угодив ему в моторную группу. Следующий снаряд — осколочный — по выскочившему экипажу. Экипаж был положен на месте во главе с командиром-финном.
Второй «виккерс» шел справа прямо на меня. За ним следом шла, ничего еще не сообразив, наша пехота с завтрака. Человек двенадцать. «Виккерс» разворачивает башню в их сторону: одна очередь — и все легли бы на дороге. Но я успел дать по этому «виккерсу» два бронебойных. Сбил.
Третий «виккерс», кинувшись от меня в лес, застрял на камнях. Экипаж, пытавшийся выскочить и удрать, был взят в плен.
Я уже передал командование вторым взводом лейтенанту Напловкову (после ранен). Наконец все поняли, в чем дело.
«Танки!» — такого сигнала нам до этого дня еще не приходилось применять. Несколько «рено», подбитых ранее, не в счет — на деревянных колесах.
Напловков из четырех своих танков ударил по финской пехоте. Она сразу побежала, но и побитых осталось много.
Этим и закончилась первая, с какой нам пришлось встретиться, контратака финнов, поддержанная танками.
Остальные три танка противника, завидев, какая участь постигла их товарищей, повернули в лес. Напловков вел по ним огонь.
После этого я попросил разрешения у комбата заправиться взводу Сачкова (трем машинам). Еще одну машину я прихватил из другого взвода. Еду до командного пункта полка. Командир полка Рослый едва дал мне доложить о только что происшедшем.
— Если есть сколько-нибудь снарядов и горючего — поезжай, отбей вторую атаку.
Я с ротой уже дней пять не имел ни часу отдыха, но раз надо…
В эту минуту подъехал на танке Кулабухов.
Рослый говорит:
— Поезжайте вдвоем. Кулабухов присмотрится на месте, а потом сменит Архипова.
Разворачиваюсь, Кулабухов следует за мной.
Три ушедших было «виккерса» идут вновь на нас. Взвод мой сразу влево, в лес. А я на моей машине прямо, за мной Кулабухов и еще одна машина.
Один «виккерс» вывел пушку из строя у Напловкова и легко ранил башенного. Но один из напловковских танков вывел этого «виккерса» из строя. Второй «виккерс» — в лес. Третий попал между мной (метрах в 200) и Кулабуховым. И мы его пронзили — один с левого борта, другой с правого.
Тот, что удирал в лес, был изрешечен нашими снарядами. В самый последний момент противотанковая пушка пробила у меня бензобак. Нам удалось сразу перевести мотор на запасной бензобачок и выехать.
Отбив эту атаку, я отошел с ротой на заправку и отдых.
Это было, по существу, первое и последнее применение финнами танков.
10 — 11.III. Действовал в 255-м сп в направлении на Выборг. Противник большого сопротивления не оказывал. Мы разбили лыжный финский батальон, взяли много пленных.
Осложнили наше продвижение вперед водные переправы в направлении станции Тали. Там была финнами взорвана плотина. Вода стояла местами до одного метра глубиной. Значит, переходить было очень рискованно. Переходили, соединив тросом «Т-26» с «Т-28», шедшим сзади. Если б «Т-26» застрял, «Т-28» вытащил бы его назад.
Потом шли с 245-м сп на ту же ст. Тали. В лесу сидели финны с 25-миллиметровыми пушчонками-пулеметами. Один (или одна) из них был нами уничтожен.
Мы внезапно выскочили из лесу на ст. Тали, где была переправа через реку и мосты — железнодорожный и шоссейный. Станцию мы быстро очистили, подскочили к мостам. Железнодорожный был справа, шоссейный прямо. Но мосты были взворваны. Шоссейный на моих глазах.
В ночь саперы навели переправу.
11. III. Был приказ: продолжать преследование противника. Прошли мы с три четверти километра за станцией Тали. Но справа части наши сильно отстали. Противотанковые пушки вывели у меня из строя три танка. Ранены были — Напловков, замполитрук Кравченко.
Затем встретилась вторая водная преграда. Один «Т-28» пошел по мосту — провалился. Роте — задача: за ночь навести мост. К 2 часам навели.
Люди моей роты.
Экипаж моей машины: мой башенный радист — Дмитриев Николай Алексеевич, механик-водитель — Коробка Алексей Родионович.
Мои потери: лейтенант Макеев Николай Васильевич, младший лейтенант Сычко Илья Иванович, командир машины Кариенко и др.
Младший командир Судаков Алексей Петрович, кандидат ВКП(б). Награжден Красной Звездой. Облазил все доты, ничего не боялся, вывозил раненых.
Однажды мой танк застрял в лесу в воронке от нашей авиабомбы. Дела мои были плохие. Но машина младшего командира Колебакина Василия Яковлевича (механик-водитель Горов[7], башенный Федчук), оказалось, вела за мной наблюдение, и ребята вытащили меня из этой воронки с риском для собственной жизни. Нужно ведь было вылезать, возиться с тросом и пр., а огонь был очень интенсивный.
Ныне все трое представлены к Героям.
Младший командир Кушнарев Никита Иванович, командир танка. Ходил раз пять на ПУР. Был контужен. 12.11 была ему задача закрыть амбразуры не взорванного дота. Он забил их бронебойными. Но он слишком близко подошел к доту и нарвался на фугасы. Танк свалился набок. Водитель его погиб. Башенный контужен. Кушнареву засорило глаза, но на другой же день пошел в бой. Награжден Красным Знаменем.
Младший командир Калинов Анатолий — секретарь комсомольской организации роты. Смельчак. Уничтожил под Селенмяки противотанковую пушку. Боевые листки выпускал в бою.
Отзывы всех полков о нашей роте — отличные. Пехота особенно полюбила «Т-28». В морозы и погреться возле них можно. И вообще — веселей. Так уж и считалось в последнее время: если «Т-28» прошел — пехота пройдет, дело обеспечено.
«Экипаж малышей»[8]. (Из рассказа Д. Диденко.)
10.11. В районе Хотинен (Сотая сд 85-го сп) была нам поставлена командиром блоквзвода Таракановым задача дать возможность продвинуться пехоте к дотам слева и закрыть амбразуры одного из дотов, если представится возможным.
Шла моя машина, танк Тараканова, огнеметный, и еще один огнеметный танк.
В ста пятидесяти — двухстах метрах от дота противник ударил по нас из 76- и 36-миллиметровых пушек. Люк водителя, как и башня моего танка, был экранирован. Осколок снаряда только согнул нам ствол пулемета и повредил немного пушку. Стали отходить назад — снаряд угодил нам в ходовую часть, другой в каретку. Отбит ленивец, отбиты верхние подвески.
Кричу башенному:
— Меняй пулемет! Вытаскивай!
— Трудно! — отвечает. Свернута была шаровая установка.
Тогда мы вылезли из танка, забрав с собой запасной пулемет и три диска. У пушки вытащили ударник с бойком. Сидели в пятидесяти метрах от танка, решили не допустить, чтобы его подожгли.
Сперва сидели в воронке от авиабомбы, но по воронке слишком сильно стал бить противник. Мы перебрались в траншею, откуда уже отошла пехота. В траншее мы нашли сперва два, потом еще один станковый пулемет. Стали учиться стрелять из них. Научились, приспособились довольно быстро. Гак у пулеметов и дежурили до 3 часов ночи, отгоняя финнов от нашего танка. В 3 часа пришли машины из нашей роты, эвакуировали нас и наш танк.
Нам сменили башню и произвели прочий ремонт танка.
Снова мы пошли в бой, когда уже укрепрайон был прорван.
20.11 была задача идти с саперами, прикрывать их своим огнем и с ними взорвать надолбы в районе «школа».
Наиболее уязвим танк с боков. Противник всегда ладит садануть в бок. Но мы ему бок никогда не подносили. А башня и люк водителя — экранированы. Шла за нами еще одна машина экранированная, а за ней вся рота. Прикрывая саперов, прошли одну надолбу, подошли к другой.
Башенный заметил вспышку огня противотанковой пушки. Я начал бить по этой пушке, замаскированной насаженными в снег елками. Прислуга побежала, я — по ней. Свалились. Пушку мы также разбили. Саперы сделали в надолбах проход, использовав финские же фугасы.
У Дерюгина, шедшего за нами (2-я экранированная машина), была подбита фугасом гусеница. Мы ему помогли. На другой день мне и Дерюгину (ныне Герой СССР) была дана задача порвать проволоку за этими же надолбами. Это было сделать легко. Мы ее порвали, растаскали быстро. Решили кстати осмотреться на местности для будущего. Кривой заметил подползавших к нам с бутылками финнов. Лезут изза камня один, другой, третий (справа). Доложил мне, я дал по ним снарядом, сшиб сосну, накрыл их — убежали, один остался на месте.
К вечеру возвратились на исходное.
На третий день задача была — расстрелять бронебойными снарядами третьи надолбы.
Задача была не выполнена. И вот почему. Опять был с нами Дерюгин — шел впереди. Механик его был убит в танке, башенный выскочил, но был убит снайперами возле машины. Дерюгин кое-как вылез из машины раненый, без ноги и свалился на дороге. Он кричал, шевелился — снайперы его вот-вот бы прикончили. Тогда мы приняли решение. Мы развернули машину и пошли прямо на Дерюгина, лежавшего на дороге. Сперва он, видимо, ужаснулся, но потом понял и стал подбирать руки, чтоб нам ловчей было на него наехать. Мы накрыли его машиной (это нужно было проделать очень осторожно), а затем втащили в машину через нижний люк. Отвезли в медсанбат. Поехали за башенным, хотели подобрать тело, но получили повреждение (ходовая часть) метрах в тридцати — сорока от него. Разбит был картер, ведущее колесо и еще кое-что. Решили мы просто охранять дерюгинскую машину. Потом нас сменили, и мы пошли на ремонт.
Дня через три, сменив ведущее колесо и сделав иные исправления в машине, мы опять поехали на передовую. Я захворал малярией. Хотели меня отправить в тыл санпоездом, но я убежал из госпиталя.
Около 10.1 II мы имели задачу разведать подступы к станции Т. Сзади за нами шла машина командира взвода младшего лейтенанта Тихонова и еще одна «химичка», а рота наблюдала.
По пути мы стащили с дороги подбитые танки из 2-й роты.
Саперы предупредили нас, что дальше по дороге будет много мин и фугасов, а снять покамест невозможно.
У вторых надолб вторую нашу машину подбили, и она загорелась. Механик был убит и сгорел в машине. Остальные вылезли и отползли. Нам ни взад, ни вперед.
Решили сидеть и защищаться. Сидели до 2 часов ночи. К нам подполз один пехотный командир, указал пулеметные точки противника в лесу, по ним мы и вели огонь.
В 2 часа ночи финны пошли в контратаку и обошли нашу машину. Заметил механик.
— Окружают!..
Гляжу, ползут слева из кустиков, а туда не ударить ни из пушки, ни из пулемета, так как мы стоим в надолбах.
Говорю башенному:
— Женя, гранаты приготовь…
Когда они подошли метров на пятнадцать, я стал бросать гранаты. Кривой подготавливал. Одного, помню, убил, видно было, а другие разбежались. Бросил я шесть — семь штук одну за другой.
Так мы и стояли, ждали, пока сгорит танк сзади. Еще до контратаки финнов подполз к нам башенный из нашей роты — Калачев Ермолай:
— Как вы гут?
— Хорошо.
— Что передать командиру роты?
— Передайте, что машину не покинем.
Когда танк сгорел позади — огонь опал, — я вылез, зацепил тросом. Но нужно было выключить скорость в сгоревшем танке — иначе трудно стащить. Полез я туда, дотронулся рукой до механика — он и рассыпался. Зола.
Освободили дорогу и в четвертом часу ночи приехали домой.
13. III. Завели машину, приготовились, ждем команды — вдруг:
— Отставить! Мирный договор…
Мы, правда, и сами считали, что минимум по ордену должны нам дать.
2. V.40. Обдумываю своего Теркина. Уже иной раз выскакивают строчки.
Стал в сторонку,
Изловчился,
В ту воронку
Помочился, —
это Вася на передовой, когда ребята приуныли под обстрелом минометов. Одна разорвалась совсем близко.
Под обстрелом Теркин начинает рассказывать какую-то потешную историю:
Вышел поп однажды в поле,
Захотел он…
(Разрыв.)
Дальше продолжается с естественным пропуском чего-то:
Хочет встать — никак не может,
Тут идет один прохожий,
Поп сидит и весь зарделся,
Не поднимет головы.
А прохожий присмотрелся:
— Отец Федор — да ведь вы…
(Разрыв.)
А когда Вася один ползет раненый и шутить ему не перед кем — другое. Вася — не поддавайся. 1 резы, Снежная пыльца — пыль в столбе света в избе, в детстве.
К Васе Теркину (старшина, выливая остаток водки себе в кружку):
Все равно (такою каплей)
Не согреть в бою бойца.
Отступление лирическое:
Лучше нет воды холодной…
Поездка в 28-й КАП. — Из этой поездки было написано длинное, подчиненное чисто газетной задаче написать «портрет в стихах» стихотворение «Григорий Пулькин». Из Пулькина еще, может быть, у меня что-нибудь получится, поэтому нелишне будет восстановить всё, что он мне рассказывал, по порядку.
Пулькин Григорий Степанович, 1916 года рождения. Из Башкирии. Кузнец из взвода управления 1-го дивизиона. Третий год срочной службы.
В 12 часов 23.XII вышел он со своим товарищем Лаврентием Жудро проверить лошадей в дивизионе. Проверили и стали перековывать кобылицу Каплю на все четыре («кругом»). Пулькин, как и все, знал уже, что банды «просочились», бродят где-то. Поэтому на работу вышел с винтовкой и семьюдесятью пятью патронами при себе. Только принялся за вторую ногу Капли — выстрел. Поднял голову, сколько мог поднять, согнувшись и не выпуская конской ноги, — белые холсты на опушке. Послышалась команда Маргулиса:
— Ложись! Огонь!
Финны уже успели обойти кругом батарею Маргулиса два с половиной раза.
— Огневикам открыть огонь прямой наводкой.
Огневики были сбиты финнами сразу же.
Пулькин с винтовкой расположился у первого орудия батареи Маргулиса. Потом переполз ко второму, где находился один Лаптев. Со станины его орудия уложил офицера, пробравшегося меж березок к самой почти батарее. (Большая почтовая сумкапланшет этого офицера висела в штабе.)
У Лаптева между тем был перебит весь расчет.
Один он, сутулый, рыжий, заросший бородой, управлялся, как медведь, у пушки.
— Давай буду помогать.
Помогать, не будучи обученным, трудно. Однако Лаптев предложил:
— Ладно! Будешь дергать за шнур. Заряды подносить.
У них, как и у всех оставшихся в живых на батарее, не было и уже не могло быть иного ощущения, как то, что они окружены, отрезаны и минуты их сочтены. Ну что ж, тут что ни успеешь сделать, чем ни причинишь еще ущерб противнику — и то дело. Но в это время из-за леса раздался громкий голос капитана Хоменко:
— Держись, Маргулис, я иду.
Маргулис, можно предполагать по всему, растерялся… Но это дело прошлое. А факт тот, что ребята эти — Лаптев, Пулькин, там еще Соцкий и другие — спасли положение. Они били из тяжелых орудий по противнику, залегавшему в ста восьмидесяти — пятистах шагах. Убивало не столько снарядом, сколько воздушной волной. Снаряды разрывались так близко, что собственными осколками был пробит щит у орудия.
Пулькин, помогая Лаптеву, в свободные промежутки бил из винтовки. Финская пуля попала в магазинную коробку. Подавался в канал ствола только один патрон. Пришлось бросить эту винтовку и взять другую, у ближайшего убитого. В момент переползания за винтовкой Пулькина ранило — оцарапало осколочным бедро возле кармана.
«Тут я, правда, рассерчал. Когда Хоменко стал поджимать финнов сбоку, они зашли за шалаши из хвои, под которыми стояли лошади. Тут шла битва «через лошадей». Капля была убита. Наркоз ранен в ногу».
Все это длилось часа два с половиной. Темнеет в это время там очень быстро. Уже еле видно было, когда финны стали отходить, оставив много трупов на месте.
Человек пять Пулькин убил — видел кого, — не считая офицера и не считая работы у орудия.
Царапина на бедре, растираемая штанами, беспокоила. Но это ему только придавало злости, А тут еще — сгоны раненых товарищей, гибель Жудро (пал в первые минуты боя), с которым два года вместе были, дружили, в землянке рядом спали.
По окончании боя младший лейтенант Козырев приказал не сходить с поста — не вернутся ли финны.
Потом в землянке ветфельдшер Пиняев жег спички, смотрел у Пулькина его рану. Чем-то прижег, чего-то поковырял — до свадьбы заживет, говорит.
Был очень усталый — ведь в снегу покатался. Ночь опять пришлось стоять в усиленном карауле.
На другой день пошел туда, где с Жудро кобылицу подковывали, подобрал на снегу инструмент.
В заключение спрашиваю: как, мол, настроение?
— Да что ж настроение — ребят наших тоже много убито. Вот. Можно идти, товарищ писатель?
Прохоров Илья Николаевич. — Боец третьего года службы. 3-я батарея, взвод управления. Старший телефонист. 23-го находился у аппарата. Передали: «Будьте готовы — белофинны зашли в тыл к нам». Затем послышались выстрелы. Побежал к кухне, слышит: «Окружают 1-ю батарею». Туда на помощь комбат лейтенант Смирнов отправил пулемет и младшего лейтенанта Гусева. Меня комбат оставил при себе связным. Показались белые халаты на опушке леса (кругом). Наши? Нет.
— Огонь!
Подходят ближе, ранили лошадь — Отважного. Со мной был еще Буданицкий. Пуля сперва попала ему в рукав. Парень засмеялся, пошутил что-то. Вторая пуля — в заушье — насмерть.
Командир батареи, волоча обмороженную ногу, на которую нельзя было втащить сапог, бросился вперед:
— За мной!
Нас было мало, мы сильно рассредоточились. Я один в лесу встретил четырех финнов. Одного сразу убил, одновременно крикнул: «Руки вверх!» Один не поднял, я ударил в него — ранил. Тогда все трое бросили оружие. Подхожу. Раненый сунулся было рукой под противогаз — за финкой, — я хрякнул его прикладом. С подошедшими товарищами подобрали мы оружие в снегу, повели пленных. Потом я сбегал за валенками для командира батареи. Ногу он обморозил еще больше. Привел его кое-как. На ночь заступил на пост.
Лосев Петр Исакович. — Из приписного состава. Срочную службу служил на Дальнем Востоке в 1932–1933 годах. Зенитчик-пограничник на маньчжурско-монгольской границе. Перед этой войной работал в Ленинграде на деревообделочном заводе имени Халтурина. Стахановец. Премирован патефоном.
Связист 7-й батареи. В ночь на 23-е тянул связь на передовую.
Утром — только сел закусить — комбат, старший лейтенант Нилов:
— Нападают на восьмую батарею. На помощь, ребята.
Это была ошибка, что на 8-ю. Мы быстро собрались из разных взводов и батарей. Пошли левее финского пулеметного огня и попали к 1-й батарее, где и были нужны.
Видимость плохая: снег, а они в белых халатах. Вижу одного за камнем в тридцати метрах с автоматом. Но достать его из-за камня трудно. Левей — другой, с пулеметом, на лыжах. «Ала-ла-ла». Ударил по первому, вышиб автомат, по-видимому, попал в руку. Автомат — в снег, белофинн — в лес. Второго убил. Подбегаю к пулемету — не подтащить. Вырвал замок, откинул раму. После подобрали мы еще диски.
А еще до 23-го я поймал финна, будучи в охранении батареи. Шюцкор со знаком. Восемьдесят десятин земли!
«Брат-за-брата». — Когда я беседовал в землянке с Пулькиным и другими, мне говорят:
— А тут у нас есть еще брат-за-брата один. Вот он.
Ко мне подвинулся лежавший в углу земляных нар человек в полушубке. Кирилл Владимирович Калмык. Скромный, молчаливый, постарше других. Он из Молдавии. Служил в армии несколько лет. После польской кампании демобилизовался, по болезни, что ли. Приехал домой погостить, имел путевку в Баку на работу.
В первый день, ради радостной встречи, старики не сказали ему, что младший брат Николаи тяжело ранен на финляндском фронте. Утром заплакали — сказали. Он утешил их, как мог, и сразу же принял решение, но старикам ничего не сказал, как бы пользуясь тем, что от него целый день таили факт ранения брата. «Поеду в Баку», — сказал и уехал в Ленинград. По пути в Москве проголосовал за Сталина (шли выборы в местные Советы). Зашел в ЛВО, попросился в Действующую. Просьбу уважили. Хотел попасть в звукобатарею, как специалист, и еще потому, что там был ранен брат, — хотелось заменить его в буквальном смысле слова. Но его направили в батарею Маргулиса, где были большие потери. Здесь он — помкомвзвод по разведке.
Брату написал в госпиталь: «Выздоравливай, Коля. Приезжай. Будем воевать вместе».
Отцу — Владимиру Семеновичу — 78 лет. Матери — Агафье Емельяновне — 66. Сестра замужем — за дважды орденоносцем, депутатом Верховного Совета Молдавии.
* * *
В этом 28-м корпусном артполку мы жили в штабе. Командир полка полковник Бакаев — очень начитанный, образцово знающий свое дело человек, любитель пошутить, видящий всех насквозь. Сидел он все время за столом, придвинутым к кровати, на которой они — полковник и комиссар — спали. Полковник за ужином, за завтраком и за обедом неизменно подмигивал, пошучивал: «Комиссар, а ну, комиссар!» — и доставал из-под кровати четвертинки, поллитровочки, может быть, и превышая наркомовские сто граммов, но никогда не пьянея. В штабе, как во всех штабах, в помещении было невероятно жарко, душно. Из-за светомаскировки окна были закупорены — день так мал, что не стоит и на день откупоривать.
Среди книг и бумаг в той комнате, где помещался полковник с комиссаром, мы нашли пачку бумаг — черновики стихов, пьес и прозы, страницы дневника, некоей Е. Халабиной, — этот дом занимали родственники, у которых она жила. С литературной стороны — малоинтересно: в духе эпигонских писаний дореволюционных лет. Только — образ самой девушки, жившей в этом доме у озера с камышами, полузанесенными снегом на его открытой равнине…
Седьмой отдельный понтонныйИскали мы его два дня. В эту поездку особенно сильное впечатление производили дороги. На них было такое могучее, нескончаемое движение и уже закрепившийся порядок — регулировщики и т. д. Колеса грузовиков, легковых, броневых машин, артиллерии, гусеницы тракторов и танков безостановочно бороздили, укатывали, трамбовали, взрывали серый пыльный снег на дорогах, который оседал на железе, на спицах и кузовах — мельничной пылью. Машины неслись и неслись по лесам, по белым новым мостам, мимо холодных черных труб и печей на занесенных снегом пожарищах. Вперед, вперед! Страшно и радостно было ощущать эту ни с чем не сравнимую силу техники, моторов, механизмов, металла, ринувшуюся в снега, в леса, все преодолевающую — нелегко, нет! — но непреоборимо.
Характеристика В. К. Артюха, данная ему командованием при представлении к награде:
«Артюх Владимир Кузьмич. Красноармеец-шофер, беспартийный, русский, 6 декабря 1939 года получил приказ выполнить свою задачу при наведении понтонного моста через реку Тайполеенйокл. Пути-подходы к реке на расстоянии трех километров находились под прицельным огнем противника. Попытка выбросить для десанта лодочный парк саперного батальона успеха не имела; часть машин была расстреляна по пути, часть оставлена шоферами на дороге. После этого поврежденные и брошенные машины были разведены понтонерами по канавам. По пути к берегу двинулась колонна машин понтонного парка. С целью сохранения имущества от обстрела машины шли на повышенной скорости. На головной машине за рулем сидел шофер Артюх. При появлении машины Артюха в секторе обстрела противник открыл по колонне артиллерийский и пулеметный огонь. Один из снарядов сбил у головной машины фару. В это же время заглох двигатель. Несмотря на смертельную опасность, шофер Артюх вышел из машины, завел ее и снова двинулся вперед, на всем пути преследуемый огнем противника. Увлекаемые примером шофера головной машины Артюха, к месту переправы мчались остальные 73 машины парка. Проявляя мужество и беспримерный героизм, шофер Артюх привел машину к месту переправы. Внезапное появление машины на берегу ошеломило белофиннов, и некоторое время не было ни артиллерийской, ни пулеметной стрельбы. После того как понтонеры приступили к разгрузке машин и переправе десанта, вновь поднялся ураганный огонь. Боевой пример шофера Артюха есть выражение выполнения бойцом РККА своего священного долга. Действия шофера Артюха достойны оценки и высокой награды.
Командир батальона старший лейтенант Григорьев.
Военком старший политрук Печерица.
Начальник штаба капитан Голукович».
Вождению машины Артюха обучил приятель Виктор Егоров, на одной станции росли когда-то. Работал Егоров в Союзтрансе. Артюх сознательно, по-деловому использовал свое приятельство, чтобы приобвыкнуть к машине, ибо это сулило в будущем определенность профессии, верный заработок. Егоров, показав ему на первых порах кое-что, давал посидеть за рулем, погонять машину по двору фабрики «Возрождение» от ворот до ворот. Затем Егорову негде было жить, Артюх взял его «на свою площадь» и еще больше пользовался его опытом и указаниями. Егоров уже позволял ему заводить машину, мыть ее и прочее.
— Сам как барин, а мне это — ничего. Я свою цель помню.
Потом Артюх учился на курсах. Стал настоящим шофером, как и его друг. Зачем же теперь им тесниться вдвоем на Артюховой «площади»?
— Ты, говорю, присмотрись к соседке напротив. У ней площадь хорошая и сама она не сказать чтоб безобразная была. Так я их потихоньку сознакомил, и все пошло как надо. Теперь уже у них на той площади трое детей.
— Нет, я холостой. Я думаю так, что прежде чем жениться, я должен себя полностью оправдывать. А жениться так, чтоб недостатки терпеть — нет, это лучше так как-нибудь.
— Я и до Героя не так худо зарабатывал. Рублей семьсот — восемьсот у меня всегда есть в месяц. Я под каждый выходной в ресторане «Волна» проводил вечер…
— Жена брата старшего (сидит в тюрьме) провожала меня. Желаю, говорит, с орденом вернуться. Вот, думаю, зайти к ней теперь в Ленинграде.
Когда его вызвали в штаб, чтоб ехать в Ленинград за получением награды, он явился с винтовкой. Так с ней и хотел ехать. И опять деловито, по-хозяйски рассуждает:
— Не-ет, с винтовочкой верней. В дороге ли что…
* * *
В 7-м понтонном, стоявшем в маленькой лесной усадьбе на берегу озера, ходили в баню. Баня очень хорошая, предбанник отопляется, в нем мягкая мебель. Хозяин, помывшись, мог еще помечтать, подремать у печки, просушиваясь.
Воды горячей было немного, но она была действительно горячая. Разводили ее холодной, с кусками льда, водой из другого котла. Вода — из озера, немного пахнет задохнувшейся рыбой и какая-то красноватая на свет, но хорошая, очень мягкая. Волосы сразу заскрипели и стали мягкими.
Какое благо баня на фронте! Ни с чем этого не сравнить. И удивительная штука: банька маленькая, уже достаточно захламленная нашими, народу моется много, тесновато, грязновато, воды маловато, а все выходят чистые, все успевают отпарить и смыть с себя грязь, пот и усталость.
Глядишь на бойца, вот он вышел, голый красный богатырь, на берег озера, о котором и не слышал до похода, ступает босой ногой на снег и спокойно, благодушно мочится на эту столь страшную и суровую издали землю, за которую немало погибло его товарищей и сам он умрет, когда придется.
Сто двадцать третья. — Макс Рабинович описан мною в очерке (газета «На страже Родины») в общем правильно, только опущено много тяжелого. Там при мне не только оживали, но и умирали. Этот самый Рабинович, стоя на коленях над раненым, при свете «летучей мыши» пытался, например, сделать укол, гладил, выщупывал безжизненную руку бойца, целился шприцем и говорил, приговаривал, как бы упрекая тех, кто сколько-нибудь оптимистично смотрит на это дело:
— И вы думаете, я попаду? Ни за что не попаду. Как возможно попасть, когда ничего не проявляется. Попаду? Вы ошибаетесь.
И все же пробовал, попадал, но порой это было уже бесполезно. Тогда доктор пожимал плечом и в том же тоне упрека людям, ожидавшим другого исхода, тихо говорил:
— К сожалению, это смерть, товарищи. Это смерть — не что другое. Да.
Со мной он все время был очень вежлив, его попросту трогало, что я уделил внимание его пункту, человек в шапке, какую носили только начальники, писатель. Я же, грешным делом, залез в его землянку от разрывов снарядов и сидел в ней уже потому, что раненых подносили и подносили, было просто невозможно пробираться к выходной дыре через носилки. Потом настала такая жара, что и я понадобился — стал светить фонарем, подавать воду раненым, вообще помогать.
Очерк свой я написал очень не скоро — другие задачи отвлекали. Но все ж Рабинович его заметил и прислал мне письмо, благодарил очень трогательно.
* * *
В ночь на 11.11 стало понятно, что готовится наконец всеобщее наступление. В записной книжке у меня такая запись:
«Ночь приказа с 10 на 11 февраля. Звездное небо над лесом, над землянками. Неумолкающая артперестрелка. Дымы, дымы. Стук машин, скрежет гусениц — движение, движение.
В землянку подива входит связной. Металлический наконечник ножен шашки — белый от инея.
В соседней комнате землянки (это большая комфортабельная землянка) оживленный рассказ артиллериста о готовности и пр. Все рады — или стремятся радостным видом скрыть действительное, более глубокое переживание.
Но на нарах спят так тесно, что некуда посунуться. Спят разувшись, но в брюках и гимнастерке.
Скоро должны прийти из редакции за стихами, а стихи страшно плохие — в них ни этой ночи, ни этих людей, ни себя».
С инструкторами политотдела (Черныш, Марон, Виник), славными интеллигентными ребятами, я провел несколько суток до наступления. Относились ко мне эти люди исключительно тепло. Едва ли не в первый раз за все время моих фронтовых поездок здесь меня просили читать стихи. Делились со мной спецпайком. Винику, раненному в первые часы наступления, я так и остался должен пачку папирос. И все любили петь. Вечером соберутся из частей, выпьют по сто, закусят, и, смотришь, то Черныш затянет «Эх, Лушенька», то Марон-лысый «Кармалюка», то по уговору все вместе что-нибудь.
Утром 11-го завтракали страшно рано — часа в 4. Потом на скрипучем, промерзшем автобусе поехали на передовую. Я был с Виником.
Близость противника. В морозном воздухе как-то удивительно звучно взвывали редкие пули и чокались о мерзлые стволы деревьев. Я даже не сразу понял, что это пули.
Из штаба полка нас повел человек в батальон, где мы должны были провести в дотах митинги перед наступлением. Он по ошибке провел нас не до второго овражка, а до третьего, за которым были уже «танки» — наши танки, подбитые еще в декабре. Место так и называлось: «Танки». Дальше наша пехота покамест не ходила. Тут пули остановили нас, провожатый сообразил, куда завел, и, пригнувшись, кинулся обратно. В землянке батальона, которая в тот же день стала командным пунктом полка, мы присутствовали при завтраке и раздаче водки. Там я видел того старшину («этим бойца не согреешь»), которого и без записи не забуду никогда.
В одной роте, когда я стал выступать и сказал несколько не казенных и, может быть, не уставных слов о том, что родина знает, какие подвиги совершают бойцы и какие видят они трудности, несколько сидевших в полутьме землянки бородатых (щетина) людей плакали — нервы у всех были в перенапряжении. Люди только вчера вернулись «оттуда» и знали, что нужно идти обратно туда, знали, что вряд ли кому вернуться. Может быть, и нельзя действительно (как мне заметил Виник) в эти минуты говорить ничего такого, что трогает.
Но я видел и настоящих вояк — «головорезов», как они не без гордости называли себя, — которые просили у Виника разрешения «не брать в плен».
В 10.00 должна была начаться артподготовка, о которой командиры заранее говорили, что это будет что-то неслыханное. Я прилепился к КП 215-го полка. Виник должен был идти еще в батальон, лежащий на снегу у самого переднего края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень решительно. Командир полка приказал мне остаться на месте.
До начала артподготовки люди стояли в овражке у входа в блиндаж, покуривали, пошучивали и, казалось, были в самом бодром расположении духа, как перед большим, полным трудовым днем. Вот сейчас докурим — и за работу. Посматривали на часы. Ожидалась авиация, но по погоде можно было уже заключить, что «птичек» не будет. Ну что ж, значит, артиллерия даст побольше.
Я тоже похаживал, покуривал, заговаривал с одним, с другим из командиров. Мне уже тоже начинало казаться, что предстоит добрый день, будут, наконец, какие-то иные новости, чем до сих пор. Я немного даже сдерживал себя в этом приподнятом настроении: забываешь, мол, что предстоит бой, будут убитые, раненые. Но эти напоминания самому себе только подчеркивали значительность момента: вот подвезло, участвую, можно сказать, в генеральном наступлении. До сих пор боя видеть так и не доводилось.
В овражке я говорил, между прочим, с одним танкистом-лейтенантом, которого видел за день в землянке. Почти мальчик еще и необыкновенно красивый с лица. К таким лицам никакая грязь не пристает. Я спрашивал его о том, о сем. Женат ли? Женат.
А дети? Да нет, какие ж дети. Мы еще недавно совсем, перед войной только. Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его молодости. Я знал, что он уже много видел здесь, был, что называется, у смерти в гостях и обратно вернулся.
— А вот он еще моложе был, — показал лейтенант ногой на фанерную дощечку, торчавшую из снега у самой стежки. «Геройски пал… 1921 г. рождения». Я не заметил раньше этой дощечки. Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил!
Вдруг я увидел, что все, кто был в группе командиров у блиндажа, стали смотреть на часы.
Я, кажется, тоже добрался кое-как до своих (я был в халате, в полушубке, в ремнях) — вижу, осталось полторы-две минуты до начала артподготовки. Но потом я еще успел забыть, что осталось так мало времени, успел еще закурить новую папиросу. Вдруг сухой, колющий треск вырвался из лесу. Удар, другой, два-три разом, сплошной — покатилось, поехало. Различного тона и тембра удары — глуховатые, мягкие, резко-отрывистые, — и воздух над овражком наполнился жутким воем. Снарядов, конечно, видеть нельзя было, но их вой, шепелявенье, свист как бы чертили в воздухе путь их полета. Голова невольно уходила в плечи. Страшная сила огня сразу как бы нагрела это морозное туманное утро. Со стороны леса, где находились батареи, поднялись огромные клубы дыма и снежной пыли, стряхнутой с ветвей сосен и елей.
— В блиндаж! — раздался строгий и несколько нервный окрик комиссара полка. — Чтоб ни одной души здесь.
Я не стал дожидаться повторения команды и нырнул в землянку, где еще были даже свободные места для сидения. Это был до сегодняшнего утра командный пункт батальона. Хилые подпорки держали двух-трехнакатный верх. Необставленные стены осыпались, как в деревенском погребе весной.
— Прекратить топку печей, — приказал еще комиссар, хотя печка здесь была одна и она уже не топилась.
Гул канонады доносился здесь глуше, но по струйкам песка, осыпавшегося из-под бревен наката, чувствовалось, как она сильна. Вслушавшись в общий гул и грохот канонады, можно было в нем различить то явный — только многократно усиленный ритм молотьбы на осеннем подмерзшем току, то грохот какой-то страшной громовой езды, то все сливалось в мощный гул и шум большого завода. Страшно было даже представить такой огонь, обращенным на себя, на этот овражек, на землянку. Чего стоят людям последние минуты их жизни в каком-нибудь убежище в ощущении, что вот сейчас, сейчас снаряд слепо и неизбежно, найдет тебя и накроет этими нетесаными бревнышками, рытой землей и песком или поднимет со всем этим и разнесет в клочья, в щепки, в дым, в прах! Командир и комиссар все время держались у телефонов.
— Помнят ли сигналы? Посмотреть еще раз по таблице…
— Лошадки? Сейчас выходят.
Я невольно подивился этому «испанскому» способу шифровки. «Лошадки» — танки, это без труда понял бы подслушивающий противник. Впрочем, «лошадки» — это, может быть, было такое словечко, которое шло в тоне, принятом командиром полка, шутливом и приподнятом. Когда связист как-то исказил одну фамилию, майор быстро поправил его и предупредил: здесь не загс, просьба не менять фамилии. Но одновременно он был строг и жесток в приказаниях:
— Табличку еще раз посмотри… Приуныли? Нюни не давать распускать.
Комиссар у другого аппарата напутствовал:
— Не спешите людей выводить из укрытия, но напоследок решительно…
Майор опять шутил и подбадривал:
— Артиллерия — хорошо? Понравилась. — И слыша, как комиссар уже начинает повышать голос и напоминать кому-то об ответственности, мягко его останавливал: — Не нужно кричать.
А тот, в свою очередь, порой не удерживался и напоминал майору, что «грозить не нужно». Видимо, оба они решили быть в бою спокойными, не повышать голоса и т. д. Даже, может быть, уговорились так, зная, что это очень хорошо действует на людей, которыми командуешь.
В землянку ввалился весь выкатанный в снегу начальник связи полка. Он стал жаловаться на то, что ему дали людей из нового пополнения, которых на позиции не поднять с земли… Затем опять выпрыгнул из землянки, и вскоре связь заработала. Я еще не знал фамилии этого человека, но уже понял по всему, что это спокойный, дельный работник, который — что б там ни было, а связь «обеспечит».
К канонаде, длившейся около полутора часов, уже привык слух, /поди уже перестали вслушиваться.
Начальник особого отдела вынул из-за пазухи полушубка письмо:
— Почитаем, пока светло…
— Десять минут до выхода танков.
Вдруг канонада усилилась, как внезапный порыв грозы, и отдельные выстрелы, даже залпы стали неразличимы в этом одном, сплошном вое и гуле. Казалось, что все орудия как бы сорвались со своих позиций и со страшной быстротой катятся в сторону фронта, на нас, на ходу непрерывно изрыгая огонь.
Мы, штатские люди в военных полушубках — как я, начальник особого отдела, еще кое-кто, — мы, даже сидя в блиндаже, пригнули головы.
— Последний огневой налет!..
Майор кричал в трубку телефона:
— Все вышли? Наготове? Хорошо! Смотри же, чтобы сразу все…
— Комендант, приготовить ракеты.
— Прекратить все разговоры по телефону.
И вот во все трубки майор, комиссар и начштаба закричали какими-то особыми голосами:
— Внимание! Внимание! Буря!
— Атака! Атака! Атака!
— Во все телефоны передать еще раз!
— Атака!
А комиссар уже кричал в трубку как бы вдогонку командиру: принявшему сигнал атаки:
— Поближе к разрывам! На хвосте своих снарядов — в блиндажи противника!
Далее я едва успевал заносить отдельные реплики, распоряжения, сообщения.
— Луга! Бросок сделан? Пошли? Все?
— Первый пошел на «Язык».
— Снаряды впереди хорошо ложатся?
— Я вам дам сигнал! Уже пять минут, как пошли, а вы сигнала ждете!
— Ну как там, как?..
— Пошли, пошли…
— Эх, так твою мать!.. — (Это сорвалось у майора.)
— Быстро идут? По занятии траншеи доложить.
Опять вбежал начальник связи Никифоров. Танки порвали связь. В эти минуты послышались близкие разрывы снарядов.
— Он бьет.
Это было страшно и дико. После нашей «молотьбы», думалось, там уже никого и ничего не осталось, и вдруг — он начинает гвоздить.
— Близко кладет, сукин сын. Вот он! Еще.
Выбегавший из землянки на наблюдательный комиссар закричал, приоткрыв полотнище плащ-палатки:
— А ну, кто хотел видеть, — у дота наши во весь рост. Пошла пехотушка!..
— Правая группа в двадцати метрах у дота.
— Траншея занята.
Комиссар:
— Ну так как, командир полка, по сто грамм выпьем сегодня?
— Подожди, подожди. Может, и выпьем.
— Знамя на доте!
Комиссар выбежал, потом вернулся, поискал глазами в землянке и крикнул:
— Твардовский, иди запечатлей картину!
Я выбежал. Траншея, ведшая к «козырьку» наблюдательного пункта, была очень мелкая, я гнулся, спешил, путался в халате — наконец добрался до НП.
Там было тесно и страшно холодно — земляная щель в обрыве пригорка.
Я видел в дыму на высоте, которую не узнать было по сравнению с прежним ее видом (вся почернела, дымилась), несколько фигур, часть из них была уже на том каменном строении, которое как бы выросло после бомбежки из земли.
Вообще говоря, я вернулся быстренько.
В блиндаже уже погасло: то радостное возбуждение, которое было вызвано самим фактом выступления пехоты. Пошли мучительно тревожные донесения:
— Пехота отходит, блокгруппы не поспели.
— Посылайте «Т-28» на помощь пехоте.
Комиссар с изменившимся красным потным лицом, присев на корточках, кричал в трубку:
— Ребята! Вперед, ребята! Товарищ старший телефонист, передайте, что все участники этого штурма будут представлены к правительственной награде. Снять шинели — и вперед!. — На глазах у него были слезы.
— Выбрасывайте второй эшелон!
— Коммунисты и комсомольцы, вперед!..
В землянку вошел командир-танкист. Майор не успел выслушать его — все, кроме главного, было неинтересно.
— Скажите танкам, чтоб заткнули амбразуры.
— Осмелюсь доложить, пулеметные заткнем, а орудийные невозможно.
— Давай!
— Но я не посыльный.
— Я не говорю, что вы посыльный. Я вам даю почетную задачу.
— Есть, товарищ майор.
* * *
«Ноль-ноль-пять» в моих руках, но еще действует. Опаздывают лошади (нужно закрыть амбразуры).
— Дот «ноль-ноль-шесть» взят! — (Это уже второй).
— Второй эшелон идет. А ты гранатами забрасывай.
— Не давайте жить!
Комвзвод-танкист:
— Две пробоины. Бензин течет.
— Закройте амбразуры.
— Бензин течет…
— Немедленно противотанковые пушки вперед, к доту! Смирнов, вы представитель от меня, — это говорит командир полка, — вы отвечаете.
Люди входят и уходят, когда их посылают, хотя каждый рад был бы лишнюю минутку продержаться здесь. Раненые уже есть даже в нашем овражке.
— Надо взрывчатку подбрасывать.
— Танков нет.
— На тракторах давайте…
— Нет ни одного.
— На лошадях.
— Не довезешь. Лошадь сразу будет убита.
— Давайте на себе.
— Есть!..
— По доту «ноль-ноль-пять» противник ведет орудийный огонь. — (Там наши.)
— Самолеты идут!!!
В небе слышится знакомое гудение. Никогда оно еще не казалось столь милым и приятным. Дело просто в том, что финны при появлении наших самолетов прекращают свой артогонь. Но пользы от самолетов было на этот раз не заметно.
Никифоров:
— Радист Протасенко сообщает, что сидит на доте со своей рацией.
Начштаба, посланный ранее командиром полка, сообщает по телефону:
— Говорю от камня…
— Сотая и Девяностая имеют успех!
— Теперь пойдет. Теперь саперам хлеб. Подрывай да подрывай.
Майор Никифорову:
— Передайте приказ закрепиться в траншеях…
Тут один замначполитотдела, присутствовавший здесь (вообще большой дурак и щеголь), начал составлять текст обращения для передачи по радио нашим, занявшим известные рубежи и пункты. Я ему помогал…
— Из дота «ноль-ноль-пять» вышла группа финнов до взвода. Ведет огонь.
— Бросают друг в друга гранаты, не разобрать, кто где. — (Наши и те в белом.)
— Передайте, что финны в комбинезонах. Бить — передайте — тех, что в штанах. А в балахонах наши!
(Но наши артиллеристы тоже в «штанах», правда, там артиллеристов сейчас не могло быть.)
— Тщательно проверяйте траншеи. Со штыком и двумя гранатами наготове… Дави!
— Одного пленного захватить и доставить.
— Протасенко передает: саперы продвигаются по траншее…
— Кирпичников, вперед! Отрезать группу (финнов) от дота.
С КП дивизии:
— Ликвидировать дот (подорвать) и доложить…
— Команда дота обратно скрылась.
Гробовой (командир саперного батальона):
— Тол есть, везти не на чем.
— Второй батальон лежит в траншеях и не двигается. У дота во весь рост рота Комлюка…
Комиссар:
— Пехотушка пускай обтекает. Вот-вот…
— Обратить внимание на вторую роту. — (Она уже два дня на снегу.)
— Всех подкормить, дать водки… Все заработали…
Вносит адъютант сундучок. Раскладывает закуску, достает водку. Начинаются шутки…
Раздается очень близко сильный разрыв тяжелого…
Комиссар и майор продолжают закусывать. Я не пойму, действительно ли им не страшно или только они держатся так.
— Товарищ Никифоров, двинуть бы связь к доту…
— Ведется, уже ведется.
— Финна поймал, веду. Ранен. В плечо.
Ранены из командиров: начальник блокгруппы, командир танковой роты, инструктор политотдела Виник. Мой Виник. (Оказывал помощь раненому в 1-м батальоне.)
* * *
4 часа. Затишье. Перекуска идет нормально. Никифоров, оказывается, читал мои стихи (заговорил, когда комиссар назвал меня по фамилии).
2-й батальон. Подошли вплотную к роще «Молоток».
Входит в землянку заместитель начальника штаба корпуса по тылам. Расспрашивает, как с ранеными, с доставкой боеприпасов. Проверяет вежливо и корректно ход операции. Ставит очень конкретные вопросы, следя по карте. Неуловимая улыбка при таких выражениях, как: «Подбираемся к самому»… Командир и комиссар вдруг начинают запинаться, и, видимо, им неловко за свою, может быть, преждевременную закуску…
Лейтенант Афонин пишет в донесении: «Дот подрывать не следует, так как тут очень хорошо, можно чай пить». (Намерзся, бедняга, в своих импровизированных землянках.)
«Пленный» — утка. Просто схватили своего парня, сбросившего шинель и действовавшего в свитере. Ранили, кажется.
Сигнал «воздух».
Разрыв.
Входит начальник приданного артдивизиона (красивый, отпускающий усики, как многие на войне): «Троих» — показал три пальца.
— Где? — тихо спрашивает комиссар.
— Здесь, — показал в сторону наблюдательного пункта. (Пункт подкинуло. В числе раненых редактор дивизионной газеты.)
— Третья рота (оказывается) траншеи не взяла…
Связной 1-й роты:
— Мало наших осталось.
— Из «ноль-ноль-два» забрасывают гранатами.
— Крепко ранили?
— Нет, бревном…
При взрыве первый раз отказал бикфордов шнур.
— Пропал запал…
— Третья рота заняла траншею…
— Пехота третьей роты уже за траншеей.
— Первая рота засела и не двигается…
Доктор Рабинович, побывавший у дота:
— У вас много «связистов». Наткнешься там на лежачего: «Почему лежите?» — «Мы связисты». Кругом «связисты»…
— Огонь минометный.
Снег в нашем овражке черен от разрывов. Снаряды и даже мины перелетают через нас — блиндаж в откосе.
Когда свечерело, я решил убираться. Наши уже стали закрепляться на ночь. Никифоров указал мне, где перебегать, где идти спокойнее. Я, кажется, чаще перебегал.
Вечером в опустевшем политотделе выпил спецпайковые сто грамм, поел горячего и заснул на нарах, в последнюю минуту чувствуя только с невыразимым удовольствием, что над землянкой много накатов и что сюда вообще снаряды не долетали.
Из записей о подвиге Трусова. — Задача была выполнена отлично (бомбежка живой силы противника в районе укреплений). Зенитки открыли огонь. В левом моторе мазаевского «СБ» — пробоина. Оба мотора заклинились. Правый мотор загорелся. Мазаев прекрасно посадил горящую машину на маленьком озерке (на лед, покрытый глубоким снегом). Скучно стало, когда противник начал бить из пулеметов и пушчонки. Климов, штурман, старший по возрасту и бывший пехотинец, скомандовал ложиться. Стрелокрадист Пономарев как выскочил из машины, бросился к командиру, думая, что тот ранен. Видят, планирует «СБ» (Трусова). Лобаев тоже хотел было, но Аокотанов, командир эскадрильи, покачал плоскостями: не надо, хватит одного.
Мазаев:
— Это был второй вылет в тот день. Я летел левым ведомым. Видимость была плохая. Как только открыли по нас огонь зенитки, слышу удар под сиденьем, вся машина содрогнулась. Мотор поврежден, вытекла вода. А мотор без воды, как известно, ни туды и ни сюды.
Радист передает: горит правая плоскость. Вижу сверху справа огонь, красное пламя, — прогорело снизу. Озеро… Додал левому… Сели.
Истребители наши устроили над озером целую карусель. Штук одиннадцать, кружат, ведя непрерывный огонь по опушке, откуда к нам стремились финны. Трусов сел, недоруливая метров сто от нашей машины (горящей).
Трусов:
— Я решил, что его нет, зная его, как он ходит в строю. А тут облачность. Он под нее, а я решил пробить, чтоб не потерять его. Жму «на все железки». Шел на расстоянии пятидесяти — ста метров. Сел. Подбегают. Привстал я на сиденье. Глаза у тебя были больше обыкновенного (это к Мазаеву). Одного в бомболюки, двоих к стрелку-радисту, Мазаева и Климова. Лыжи — точно пристыли: шестеро вместо троих. Восемь раз — полный газ. На девятый раз оторвались (применив очень рискованный прием — удар хвостом по земле).
При посадке (на заливе — дома) штурман подал обычную команду:
— Прочь от бомболюков.
Трусов был трактористом (работал один сезон).
— Ваше имя-отчество?
— Мишка Трусов.
Мазаев тоже Михаил.
Ахмед Кургалеев (штурман Лобаева):
— Видя, что помощь Мазаеву будет дана, мы стали виражировать, ведя огонь… Когда Трусов взлетел, все выстроились опять, как будто поднялись со своего аэродрома.
Поездка с И. Тихоновым в Сотую. — Уже приходилось догонять войска, фронт. Приехав в расположение штаба 123-й, мы ничего не могли расспросить, что, где, а сами призабыли. В землянке политотдела, где я провел несколько хороших часов, ночей и дней перед наступлением, где жили инструкторы, с которыми я успел тогда сдружиться, — в этой землянке только что поместились работники какого-то госпиталя, очень тылового учреждения, было все как-то загрязнено, печи не топились, холодно, наставлены какие-то ящики. В эту ночь мы ночевали в покинутой землянке 100-й дивизии.
Доты (подорванные) мы увидели наутро. Издали это было похоже на какую-то бесплодную долину, заваленную безобразными камнями, точно скатившимися с каких-то гор. Вблизи все это выглядело еще неприютней и суровей, хотя и трупы уже в основном были убраны. Только в одном месте, в нескольких шагах от развалин подорванного дота, в груде остатков сгоревшего танка мы видели танкиста без ног — один валенок с мясом в нем торчал неподалеку. Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая.
Все от точки до точки было завалено камнями — бетонными глыбами с торчащими из них прутьями арматуры. Иногда эти прутья-жилы еще связывали куски бетона между собой. Среди груды развороченного бетона лежал паровой котел центрального отопления или что-то в этом роде, клубок труб. В одном отчасти уцелевшем доте сидели наши, топили что-то. Наверх из подземелья выходила только гигантская стальная шляпка наблюдательной будки. Она была не то взорвана, не то сбита еще артиллерией. Внизу под ней виднелся темный колодец-люк, металлическая лестница с блестящими, вытертыми до блеска перекладинками — вроде тех, что мы видели на линкоре.
Через все это «битое поле» уже были проложены дороги и двигались, двигались войска. Но саперы еще бродили, выискивали мины и наши не взорвавшиеся снаряды. В сторонке от дороги на одеяле, разложенном на снегу, старшина делил сахар, раскладывая его по кучкам. Мимо двое бойцов двигали санки с наваленным на них трупом полусгоревшего. Одна его рука торчала, как сук из колоды. Боец упирался в эту руку, помогая товарищу.
За полосой разваленных укреплений начинался лес, иссеченный, обмолоченный, поломанный артогнем. Дальше лес постепенно превращался в обыкновенный.
Войска и обозы двигались узкой дорогой в лесу, встречное движение было невозможно, его и не было. Один раненый шел кое-как пешком (ранен в рот, в зубы), соступая то и дело с дороги в снег. День мы провели в бесплодных попытках как-нибудь пробиться, пробовали ходить вперед — нет ли где пробки. Пробки не было. Это была живая очередь машин, повозок, техники к передовой позиции. Сколько там продвигались, столько и мы следом. Заночевали среди леса. Костров нельзя было зажигать. Мороз был не меньше 30 градусов. Мы мечтали о том, как доберемся наконец в штаб одного полка, куда нам было нужно, как отогреемся, соснем под крышей.
Наутро, выбравшись к фронту, мы узнали, что ночью этот штаб, заняв один из уцелевших хуторских домиков, взлетел на воздух. Мы пришли в другой полк. Гремела артиллерия, противник был очень близко. Люди были какие-то иные, чем прежде. Уже начальство и то располагалось в только что вырытых ямах, где оттаивал мерзлый песок и вообще все текло, когда разводили огонь в каком-нибудь приспособленном бидоне или бензобачке. Нас не угощали, не приглашали. Не было обычной заинтересованности в том, чтоб что-то рассказать о себе. Люди, казалось, были уже ко всему равнодушны. Механически, сонными, усталыми, хриплыми голосами, рассказывали кое-что, сбивались, забывали имена, детали.
Оттуда мы, выпросив кое-как бензину у заправочной машины, выехали по Выборгскому обратно. Всего и материала было, что собрали по дороге сюда, в тылу, у начальника подива 100-й, который каким-то образом еще оставался на ночь на месте.
У Лазаренко. — Ехали туда побережьем. Обгоняли бесконечные вереницы лыжников в белых ватниках и таких же теплых штанах. Глядя на их снаряжение, на утомленные, хоть и здоровые, лица и на то, как путались с лыжами меж машин на узкой раскатанной дороге или утопали с ними в снегу, чуть свернув с дороги, думалось, что лучше б уж идти пешком. Некоторые из них так и несли лыжи на плечах. Костюм их, как потом нам объясняли в лыжном батальоне, был не очень хорош. Плотная верхняя материя ватников не пропускала воздух, тело быстро нагревалось до поту, человек расстегивался, и его «прохватывало».
Проезжали в одном месте дорогой, висящей высоко на срезе горы над низиной самого побережья. В одном месте проезд был загорожен тягачом, везущим пушку. Часа полтора «маневрировали» на узкой площадке, пока кое-как завели орудие в небольшое углубление в отвесной стене горы, чтоб дать проехать нашей и другим машинам.
Фронт непривычно подвинулся вперед. Ехали лесом, никого ни впереди, ни позади. Регулировщиков нет, дорога незнакомая, время позднее. Едем, держимся за свои замерзшие пистолетики и изо всех сил стараемся не верить всерьез, что нам придется стрелять. На такой дороге не разгонишься, и в машине чувствуешь себя, как в мышеловке.
В расположении дивизии нас обогнала машина. Она остановилась у дома, где по всем признакам должен был быть штаб. Вышедший из машины командир показал нам, как пройти в штаб, а сам нырнул в другую дверь. Это был, как оказалось после, Лазаренко. Нас это тогда обидело, но зато впоследствии (по заключении мира), когда мы дали полосу о его дивизии — и приписали одной ей, по своей доверчивости, взятие Койвисто (Койвисто брала еще 43-я дивизия), — он стал с нами очень ласков.
Встретили нас два батальонных комиссара — комиссар и начподив, который разыгрывал из себя полководца, водил нас по карте и т. п. А между прочим сказал, что он сам журналист, и довольно скоро выяснилось, что он большой трепач. Комиссар, высокий, черный, немолодой, тоже старался придать себе весу. Но поужинать они нам не предложили. Ночевать отправили в политотдел, где жили инструкторы, встретившие нас уже по одному тому, что мы не остались в штабе, с начальством, не очень приветливо: «Негде тут». Стараниями редактора дивизионной газеты, который тут оказался, мы были устроены — последовательно в течение часа — в соседней комнатке, в прокуратуре и, наконец, в медсанбате у врачей, молодых ребят, где было довольно тесно, но люди рады были нам. Там мы кое-что записали.
* * *
Старший военфельдшер Савицкий В. Ф., лет двадцати. Уже был награжден медалью «За боевые заслуги». Ходил в разведку с группой лейтенанта Турманова.
— Наткнулись на финский лыжный след. Пошли дальше, слева нас осветила ракета. Остановились в леске. Слева выстрел. Турманов послал лейтенанта Кожурина обойти справа место, откуда был выстрел. Оказалось, наткнулись на дот. Были ранены — Кожурин, Маслеников и еще один. Лыжный дозор, на след которого мы наткнулись, зашел нам в тыл. Все наши раненые были ранены в ноги. Нужно было нести открытой поляной около километра. Турманов дал мне десять бойцов, приказал выбираться не обстреливаемым сектором. Но нас обстреляли и окружили. Четырем бойцам я приказал отстреливаться. Сам — пятый. Лежу, ветер раздувает халат, демаскирует меня.
— Закрой мне халат…
Потом подоспел пулемет. Дорогу расчистили. Ветков был «ранен» — пуля прошла под мышкой, не задев ни на волос тела.
Помнится, еще рассказывал, как он сидел где-то довольно долго с несколькими ранеными, в том числе одним финном, и пек для них картошку. Угощал и финна. Но записывалось уже очень плохо, хотелось спать.
Утром ходили в 445-й полк, где нам рассказали о Зубце. Там же очень хороший был инструктор пропаганды Абатуров Борис Анатольевич, из ленинградских рабочих (после убит). Он-то и рассказал нам, как шел бой за знамя, водруженное на не занятом еще нами доте. Первая, газетная, редакция «Баллады» более близка к фактической истории дела. Финны покинули дот сами, как будто не выдержав психологически того, что над ними уже было наше знамя.
Ленинград. 7. XII. 40. — Приехал из Выборга, из 123-й, с границы.
Вновь увидел те самые снега и елки, рвы и надолбы, печные трубы, голубенькие дачки, уцелевшие кое-где. Все было, как в прошлогоднюю зиму. Даже валил почему-то особенно памятный мне липкий, пушистый снег. Только ехал не в машине, а в вагоне поезда Ленинград — Выборг, грязноватого, холодноватого, неуютного.
Кое-кто из пассажиров еще начинает изредка:
— Вот здесь мы обходили… А он, значит, на высоте укрепился.
Но рассказы не очень привлекают посторонних слушателей. Давно это все прошло, давно эти места стали обыкновенными, населенными нашим разнообразнейшим людом, занятым своими заботами и обязанностями. И как я ни пытался, вглядываясь в эти елки, стоящие на нижних своих лапах на снегу, во все, что было по дороге, оживить в себе то, что было тогда, а может быть, пришло потом, в Москве и под Москвой летом, — не получалось…
По дороге читал книжку Чуковского, в ней между прочим шла речь о Репине, Куоккале, но и это все было точно где-то в другом месте, а не здесь, где проезжаю.
В Выборге еще много развалин, обгорелых, прогнутых балок, труб, груд кирпича, пустых окон, но на улицах прибрано, ходит трамвайчик, машины, санки. Дети и взрослые гоняют по улицам и бульварам финские санки, подскакивая на одной ноге. И в городе, где еще никто, ни одна душа не живет больше года, уже ходят с детьми какие-то домашние старушки, девушки — по трое, под руку, артисты в шляпах и белостокских пальто.
Город полон и переполнен. Прошли те дни, когда старшие политруки занимали особняки консулов, — в городе уже трудно достать жилье.
Сидел вчера день и вечер на дивизионной партконференции. Другой жизнью, другими задачами живет армия. Суровость и трудность обстановки те же, но «романтики» — ни грана.
Генерал-майор, которому я представился в кулуарах, любезно посадил меня на заднее сиденье своей машины, а сам сел в кабине с шофером, видимо, не желая слишком преувеличивать мое значение в глазах тех, которые замечают, как и с кем кто сидит. Привез в штаб корпуса, завел в свой кабинет, обставленный тяжкой трофейной мебелью, с книжными шкафами и книгами с золотым обрезом, на финском языке. Показал комнату-фонарик, прилегающую к кабинету с угла и оборудованную для отдыха.
Он принимал и поздравлял сержантов с присвоенным званием. Ребята хорошие, несколько — с орденами и медалями.
Поехали обедать. Великолепным жестом генерал-майор предложил мне вступить в некий отдельный кабинет корпусной столовой. Только выбрали первое, только выпили по рюмочке травнику (он, я, командир дивизии, начальник отдела пропаганды и др.) и, осторожно пошучивая, нацелились хватить по другой — входит только что прибывший генерал-лейтенант из округа — мягкий, рыхлоносый, огромный дядя — и все занемело. Генерал-майор залепетал что-то, предложил «согреться», но тот сказал «не хочу» и стал по-стариковски выбирать блюда не очень тяжелые, спросил себе лимонаду.
— Хороший лимонад. Вы не находите, товарищи? Или вы не пьете лимонаду? — И засмеялся.
— Нет, почему же, — слабо возразил генерал-майор, наливая себе лимонаду.
* * *
Необычайно толстый батальонный комиссар в кожаном черном пальто рассказывал о своей встрече с командующим (во время боев), который ходил в таком же черном пальто.
«Вылезаю из машины, слышу:
— Что это за хрен в машине по фронту разъезжает?
— Батальонный комиссар такой-то…
— А что ж это вы в машине разъезжаете? Вы — в танке, в танке, дорогой товарищ…
А в танке — знаешь — какая езда. Бьет, трясет, ничего не видишь, гремишь куда-то. Одно хорошо, что все дорогу уступают. Ну, а если забита дорога — он обочиной как хватит по снегу. А там черт их знает мин сколько. Сидишь — и вот — к Иисусу, к Иисусу, к Иисусу — думаешь».
* * *
От Выборга до границы ездил на машине. Видел мало чего, только испытал прошлогодние ощущения езды. Снег, елки, лес, дремота, тряска. Раза три таскали машину до того, что в мякишах ладоней боль осталась.
Бойцы живут на этом краю советской земли в хуторских домиках повзводно, топят финские жаркие печки, глядят в огонь (только что пришли с работы), который единственно и освещает помещение; кто-то потягивает гармонь; на лицах добрая понятная грусть от непривычки: новое пополнение.
* * *
Верстах в пяти от заставы, в лесах, в снегах расположен гарнизон. В маленьком двухкомнатном финском домике живет полковник с сыном и дочерью, с женой, потихоньку высохшей от переездов с места на место и, видимо, уже потерявшей женскую привязанность к стационарному жилью. Поставили самовар, стали угощать грибами (которых здесь после воины было очень много в опустевших невытоптанных местах). Посматриваешь на часы, а полковник:
— Танки в лесисто-болотистой местности — не то что ведут пехоту, а должны за пехотой идти. Это закон. То же самое ночью. Вот у меня было под станцией Ляйпесуо…
Кстати, это тот самый полковник Шолев, который при самой смертельной усталости, всякий раз, когда начинали говорить о тактике и кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вариант условного наступления, спускал ноги с постели и говорил сердито:
— Ничего не выйдет… — И горячо вступал в спор.
8. XII. 40. — Прошло время, когда все определялось тем, как армия, часть, боец воюет, какие у них успехи. Это было единственной меркой и оценкой всего. Недисциплинированный боец? Да, но он первым добрался до дота, взорвал его и т. п. Он — герой. Отстающая по боевой и политической подготовке дивизия? Она прорывает линию Маннергейма, она награждается орденом Ленина (123-я). Сейчас все по-иному. Все подводится к некоей общей норме, которая отказывается от случая, удачи и т. п., идет к организованности, предусмотренности, обобщению. А романтика — в сторону. Орденоносная дивизия может стать одной из отстающих. Боец, награжденный орденом, совершает проступок, за который его приходится судить, и т. д.
* * *
Об уроках этой войны говорят много, говорят критически и беспощадно к самим себе, к привычным понятиям и т. п. Потери и неуспехи на первых порах объясняются тремя причинами.
Первая из них — неподготовленность нашего запасного состава.
Вторая — то, что все это — снега, доты, характер сопротивления — было впервые. Меру трудностей никто не мог предугадать.
Третье — успех предшествовавшей кампании в Западной Украине и Западной Белоруссии, снизивший боеспособность некоторых частей, приучивший их к легкости.
Все это нужно выразить и по-иному, но это все так.
* * *
Новое пополнение заставало еще участников боев. «Старики» вели себя как герои. Море по колено. Дисциплина — низкая. Новички перво-наперво переняли Этот дух. А тут их охладили: взыскания, суд дисциплинарный. Многим показалось, наверно, небо с овчинку.
Бойцы из западных областей Украины и Белоруссии еще, случается, говорят: «Пан командир…»
Москва. 9. II. 41. — Очень трудно отступление «Там, за той рекой Сестрою…». А вообще — что-то получается.
Не преувеличиваю, не обольщаюсь.
Исключительной вещи мне на этом материале скорее всего не сделать. Но она нужна до зарезу, даже такая, какую смогу. Делать нужно и буду делать, переделывать, терпеть…
19. II. 41. — Уезжаю сегодня в Ригу с В. С. Гроссманом собирать по заданию ПУ РККА материал по истории 90-й дивизии.
Москва. 12. III. 41. — Возвратился из Прибалтики… Работа над «историей» требует еще усилий. Надо дополнять, сверять, отделывать…
Надо написать песню 90-й…
Уже пропустил два занятия на курсах в Военно-политической академии…
«Теркин» запущен за этот месяц, хотя за время поездки надумалась (по материалам истории дивизии) очень подходящая глава для начала — «Переправа» (Кивиниеми)…
21. III. 41. — Вчера читал Маршаку главки «Теркина». Он был просто взволнован, но необходимо помнить, что это с ним бывает, а потом он ничего моего, кроме «Муравии», не помнит. Одно важное его замечание: стихи свободные, без стремления к эффектам на каждой строчке. Помнить о деле, о том главном, что хочешь сказать, а строчки сами собой будут хороши.
Что-то в этом роде я сам не то придумал, не то во сне видел — что-то чрезвычайно ясное, правильное насчет формы и содержания. А вспомнить не могу. Какое-то смутное, но очень радостное воспоминание, что-то очень новое для меня и в то же время не противоречащее резко моей прежней работе и пристрастиям.
1939–1941
Примечания
1
В Западную Белоруссию. (Прим. автора)
(обратно)2
Редактор газеты «На страже Родины». (Прим. автора)
(обратно)3
Среди полученных мною поздравлений к Новому 1968 году было следующее письмо: «Многоуважаемый т. Твардовский! Вам будет странно и трудно вспомнить, от кого это поздравление. Но я часто вспоминаю Вас, когда вспоминаю годы войны, это было 28 лет назад, во время войны с белофиннами. Мы, танкисты, шли в наступление, подойдя к заминированному лесному завалу, в это время Вы подъехали к нам. Я был комиссаром 161-го отдельного танкового батальона, 40-й танковой бригады. Проверив, кто Вы такой, передал с Вами политдонесение. И потом Вы написали о «Казбеке», когда под Кирка-Муола в моем танке механик-водитель старшина Дегтяренко был убит, а заряжающий Лебедев попросил у меня закурить, я ему отказал во избежание опасности курить в танке. Вы об этом писали, правда! Т. Лебедеву не суждено было жить, в другом бою он повис на танке, сраженный пулей врага. Вот кратко я напоминаю Вам, кто я такой. А эту, большую, войну после прорыва блокады Ленинграда прошел с боями до Берлина. Сейчас в отставке. Вот пока и все. С ком. приветом, М. И. Ламнусов»
(обратно)4
В тетради, которая по времени предшествует этой, запись: «1.1Х.39. Феодосийский шофер. Это тот герой, которого как раз недостает в нашей литературе — весельчак, балагур, остряк в любую минуту жизни и т. п. Я попытался бы сделать что-нибудь из него в стихах, но для этого нужно бы от него больше наслушаться».
(обратно)5
Первоначальный замысел «Книги про бойца» самый момент находки образа «Теркина» и все тогдашние предположения насчет будущего его развития — все это для меня самого было как бы в новость, когда я напал на эти записи почти тридцатилетней давности, до которых почему-то не добрался во время работы над статьей «Как был написан «Василий Теркин».
(обратно)6
В это время я был занят совместной с С. Я. Маршаком работой — очерком о Герое Советского Союза генерал-майоре В. Н. Кошубе, напечатанном в том же году в «Знамени».
(обратно)7
С Василием Сергеевичем Архиповым еще мне случилось встретиться осенью 1941 года на Юго-Западном, под Полтавой. Из той поездки мы с С. И. Вашенцевым, между прочим, вывезли словечко «сабантуй», приобретшее потом большое распространение на фронте. От Архипова я там записал и тот случай, что изложен мною в стихотворении «Рассказ танкиста» (о неизвестном мальчике, указавшем танкистам Архипова пушку противника).
(обратно)8
Командир машины Даниил Диденко был ниже среднего роста, башенный стрелок Арсений Кривой — еще ниже, а механикводитель Евгений Крысюк — совсем небольшого роста. Для танкиста малый рост — совсем не помеха, в те годы вообще в танковые части подбирали малорослых крепышей, какими и были эти ребята. Но когда они выстраивались у своей машины, то получалась лесенка: мал мала меньше. Этим они выделялись во всей бригаде, и этот экипаж издавна дружески ласково называли «экипажем малышей». Все трое были награждены званием Героев Советского Союза, и редакция газеты «На страже Родины», помещая мой очерк о них, нашла неудобным оставить заглавие «Экипаж малышей», и дала — «Экипаж героев». Но, кроме того, она внесла в текст очерка такие исправления, исключения и добавления в соответствии с тогдашним требованием газеты, что я ахнул и для себя отказался от него. Здесь я привожу рассказ Д. Диденко из моей живой записи.
(обратно)

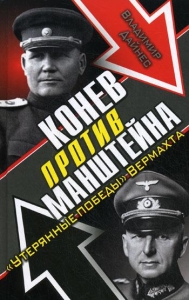
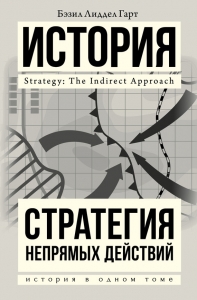




Комментарии к книге «С Карельского перешейка (из фронтовой тетради)», Александр Трифонович Твардовский
Всего 0 комментариев