Виктор Дэвис Хэнсон Творцы античной стратегии. От греко-персидских войн до падения Рима
Victor Davis Hanson
Makers of ancient strategy. From the Persian wars the fall of Rome
© Princeton University Press, 2010
© Перевод. Б. Сырков, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
Введение Виктор Д. Хэнсон
Книга «Творцы современной стратегии: от Макиавелли до ядерного века», под редакцией Питера Паре, солидный том объемом 941 страница, включает в себя двадцать восемь очерков, которые охватывают период с XVI столетия до 1980-х годов. Эта книга была опубликована издательством Принстонского университета в 1986 году, буквально накануне завершения «холодной войны». Следует отметить, что объемистый сборник Паре представляет собой обновленную и расширенную версию классической антологии из двадцати очерков под названием «Творцы современной стратегии: военная мысль от Макиавелли до Гитлера» (под редакцией Эдварда М. Эрла). Эта ранняя антология увидела свет на сорок с лишним лет ранее другой, в 1943 году, в разгар Второй мировой войны; в ее фокусе – личности военных теоретиков и полководцев, отсюда и слово «творцы» в названии.
Хотя тематика обеих книг – актуальность прошлых военных вызовов для настоящего, издание 1986 года сосредоточено в основном на американских проблемах. Главы этой антологии фокусируются не столько на отдельных личностях и их свершениях, сколько на вопросах стратегии и на характеристиках исторических периодов. Составители и авторы обеих антологий сознательно избегали проводить прямые параллели с реалиями своего времени, однако Вторая мировая и «холодная» войны неизбежно присутствуют в книгах, так сказать, в фоновом режиме. Обе книги убеждают, что радикальные изменения в теории войн, характерные для конкретного периода, отнюдь не означают столь же радикальных изменений в самой природе конфликтов.
Напротив, работы настойчиво напоминают, что история ближайшего и более отдаленного прошлого имеет дело с теми же проблемами и опасностями, которые характеризуют бурное настоящее. Изучение военной истории наделяет нас познаниями, удивительно подходящими и для анализа современной ситуации, пусть изучать приходится факты почти неизвестные или прочно забытые; это тем более верно, если учесть, что стремительное развитие технологий обманывает многих, заставляя думать, что войну всякий раз «переизобретают» заново с появлением новых видов оружия.
Почему Древний мир?
Данный сборник можно рассматривать как своего рода предисловие к двум упомянутым выше антологиям. Наша книга напоминает своим подходом (не говоря уже об объеме текста) антологию 1943 года под редакцией Эрла. Десять статей сборника посвящены великим полководцам и стратегам древности, в том числе Ксерксу, Периклу, Эпаминонду, Александру, Спартаку и Цезарю. При этом историческая канва по возможности расширена и охватывает в целом тысячелетия человеческой истории (примерно с 500 г. до н. э. до 500 г. н. э.), но даже в точке, максимально приближенной к настоящему (поздняя Римская империя), отстоит минимум на 1500 лет от современности. В качестве отправного момента наш сборник, продолжающий тему творцов стратегии, опирается не на промышленные войны, как антология 1943 года, и не на высокие технологии высокоточного оружия, как антология 1986 года, но на так называемые «войны четвертого поколения». Конец ХХ века оказался для человечества смутным временем, в котором глобальность и мгновенность коммуникаций сочетались с асимметричной тактикой и новыми проявлениями терроризма, внедрением технологий наподобие беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, средств индивидуальной защиты и компьютерными системами вооружения, наземного и космического базирования. Тем не менее тема всех трех антологий остается неизменной – и неизменно актуальной: следует изучать историю, а не последние технологические новинки, чтобы надлежащим образом разбираться в характере современной войны.
По мере стирания формальных границ между обычной войной и терроризмом и по мере того как развитие технологий набирает темп и множит опасности конфликтов, становится все популярнее идея, что сама война превратилась в нечто, непредставимое для предыдущих поколений. Нашим предкам не приходилось сталкиваться с воззваниями террористов, выкладываемыми в Интернет и мгновенно доступными сотням миллионов глаз; а потому необходимо, как утверждается, разрабатывать совершенно новые доктрины и парадигмы противодействия этой угрозе. Однако, как показывают все десять статей нашего сборника, человеческая природа, провоцирующая конфликты, не меняется на протяжении столетий. А поскольку война велась, ведется и всегда будет вестись людьми, которые, сознательно или эмоционально, реагируют на вызовы довольно предсказуемо, можно говорить, что в нас заложена определенная предрасположенность к войне.
Данный сборник не только напоминает о том, что чем сильнее что-либо меняется, тем отчетливее оно остается неизменным; также он позволяет утверждать, что классические миры Греции и Рима предлагают нам уникальный инструмент оценки войн любой эпохи. Древние историки и наблюдатели были эмпириками. Они писали о том, чему сами были свидетелями, не беспокоясь о том, как воспримет их слова общественное мнение, – или о том, что их наблюдения могут противоречить преобладающим теориям и интеллектуальным тенденциям. Подобную искренность мысли и ясность выражения нечасто можно встретить в военных обсуждениях наших дней.
Мы многое знаем о войне в древнем мире. Греческие и римские авторы, создавшие историю как научную дисциплину, в значительной мере толковали ее как изучение войн, что явствует из произведений Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия и Тита Ливия. И хотя большая часть древней истории ныне забыта, сохранилось достаточно сведений, чтобы довольно полно описать тысячелетие боев в греческом и римском мирах. В самом деле, мы знаем гораздо больше о битвах при Делии (424 г. до н. э.) и Адрианополе (378 г.), чем о сражениях при Пуатье (732 г.) или Эшдауне (871 г.). Опыт Греции и Рима также составляет общее наследие современной Европы и США; следовательно, он никак не соотносится впрямую с древними воинскими традициями Африки, Америки и Азии. В этом смысле западные проблемы XIX и XX столетий – объединение, гражданские войны, экспансия и колонизация, государственное строительство и борьба с мятежниками – имеют хорошо задокументированные прецеденты в греческой и римской истории.
Данный сборник анализирует древнейшие образцы нашего наследия, одновременно формулируя вопросы по самым свежим манифестациям войны на Западе. Греки первыми предположили, что человеческая природа неизменна, и, как полагал историк Фукидид, что их история будет значимой для последующих поколений, даже для нашего постмодернистского общества в новом тысячелетии.
Статьи
Авторам сборника было предложено выбрать темы, близкие их научным интересам, а не подгонять материалы под тематический шаблон. В целом, однако, читатели обнаружат в каждой статье краткое введение, характеризующее конкретный исторический ландшафт и обозначающее основных персонажей, а далее следует анализ жизни и деятельности соответствующего «творца» – государственного деятеля, полководца, теоретика или стратега, вкупе с оценкой его успехов или неудач. Затем рассматривается актуальность данной стратегии для последующих войн, в особенности для конфликтов нашего времени.
Статьи расположены в хронологическом порядке, от греко-персидских войн начала V века (490, 480–479 гг. до н. э.) до последних попыток отстоять рубежи Римской империи (ок. 450–500 гг.). Нужно отметить, что этот период в целом был периодом империй. Завоевание чужих территорий, с последующим установлением политического контроля над завоеванными землями, как правило, сопровождалось риторическими самооправданиями. Уже в первом очерке, касаясь темы империй и самооправдания, Том Холланд описывает первое крупное столкновение цивилизаций, первый конфликт между Востоком и Западом – попытку персов в начале V века до нашей эры покорить греческие города-государства, включить их в состав своей империи, что раскинулась в Передней Азии и поглядывала через Эгейское море на Европу. Имперская власть, как показывает Холланд, создает собственную мифологию завоеваний, собственные мораль, необходимость и неизбежность. Эти мифы ничуть не менее важны для военного планирования, нежели численность войск и материальные ресурсы. «Имперский вызов», полагает Холланд, присущ человечеству изначально и вовсе не является культурно приобретаемым. Имперская пропаганда отнюдь не проникла позднее в западную ДНК исключительно благодаря расцвету Афинской империи или экспансии Рима в Средиземноморье. Нет, империализм со всеми его противоречиями присутствовал в мире в незапамятные времена, когда греческие школьники узнавали об имперских амбициях их будущих хозяев и наставников – персов.
Поражение Персидской империи в начале V века до нашей эры привело к рождению Афинской империи. Сегодня мы полагаем, что «империя» – термин сугубо отрицательный. Мы ассоциируем этот термин с принуждением, с эксплуатацией XIX столетия, и считаем империю неустойчивой политической конструкцией. Но, как показывает Дональд Каган во второй статье сборника, отдельные индивиды – тут он сосредоточивается на тридцатилетнем господстве Перикла в афинской политике и на рассуждениях современника Перикла, историка Фукидида, об его уникальности, – отдельные индивиды порой опровергают правила. Империи, особенно афинского типа, ни в коем случае не обречены на провал, если умеренные и трезвомыслящие лидеры, наподобие Перикла, понимают их функции и назначение. За несколько десятилетий власти Перикла Афины успешно защищали греческие города-государства от персидских атак. Перикл стремился обеспечить мир, сопротивлялся имперской мании величия, содействовал экономическому развитию, внедряя в Элладе унифицированную и комплексную афинскую систему торговли. Успех Перикла и крах тех, кто ему наследовал, своевременно напоминают, что до тех пор, пока имперские власти способны преследовать разделяемые обществом интересы, они непобедимы. Но стоит им сосредоточиться на самовосхвалении, империя неизбежно гибнет. Физические средства защиты, то есть крепостные укрепления, помогали Афинской империи сохранять военное превосходство до тех пор, пока их не снесли. Мы думаем, что в эпоху сложных коммуникаций и воздушных ударов старомодные укрепления превратились в реликвии прошлого, а их военная ценность вообще весьма сомнительна. Но все чаще в наши дни наблюдается возрождение укреплений, зачастую дополненных электронными системами контроля, – на Ближнем Востоке, в Ираке, а также вдоль границы США с Мексикой. Современные стены и форты нередко служат последним оплотом обороны – в тех случаях, когда врагу удается преодолеть более изощренную защиту. Дэвид Берки в третьей статье прослеживает эволюцию афинских крепостных стен, от начальных укреплений вокруг центра города до Длинных стен от Афин до порта Пирей, длиной 6,5 км (IV в.), и до попытки защитить сельскую Аттику сетью приграничных крепостей. Эти строительные проекты отражают различные афинские экономические, политические и военные программы на протяжении более 100 лет. Тем не менее, как показывает Берки, общим для них было условие, которое хранило Афины от врагов и обеспечивало дополнительную поддержку и империи, и демократии. Государственные деятели, политики и технологии преходящи, зато укрепления в известной степени видятся неизменными и олицетворяют вековой цикл оборонительной стратегии.
Преемственность, принудительная демократизация и однополярность пост-иракского мира мнятся сегодня следствием современной американской политики – либо явлениями, по самой своей природе пагубно сказывающимися на судьбах стран и людей, им причастных. На самом деле эти идеи были в употреблении с начала западной цивилизации и оказались достаточно эффективными (впрочем, примеров обратного тоже достаточно). В четвертой главе я подробно анализирую весьма скудно описанное упреждающее вторжение в Пелопоннес фиванской армии под командованием Эпаминонда (370–369 гг. до н. э.); этого человека сами древние греки признавали лучшим среди своих лидеров, а как полководец он разительно отличался от Александра или Юлия Цезаря. К моменту своей смерти в 362 году Эпаминонд сумел кардинально ослабить спартанскую олигархию и сделал город-государство Фивы новым центром притяжения для всей Эллады. Он основывал новые крепости, освободил десятки тысяч мессенских илотов и изменил политическую культуру Греции, содействуя распространению демократического правления в городах-государствах. Как и почему он этого добился, каковы были его успехи и неудачи, – обо всем этом повествует моя статья, а главный вывод из нее таков: происходящее на современном Ближнем Востоке никак нельзя назвать уникальным. Афганистан и Ирак не первые и не последние страны, где мессианский идеализм сочетается с военной силой под видом глобальной заботы о национальной безопасности и реализации долгосрочных интересов.
Великие полководцы в древности часто становились крупными общественными деятелями, неумолимо изменявшими широкий политический ландшафт, как до, так и после военных операций. Об Александре Македонском написано, пожалуй, больше, чем о любом другом представителе классической античности. Ян Уортингтон в пятой главе рассматривает идею Азиатской империи и трудности управления завоеванными персидскими землями с учетом сокращения македонского человеческого ресурса. Он рискует предполагать, что вводящая в заблуждение легкость первых военных побед над ослабленными неприятельскими силами постепенно сменяется борьбой с аморфным (и более упрямым) сопротивлением, очаги которого тлеют по всей империи. Даже военные гении узнают на собственном опыте нехитрую истину: мало завоевать и покорить, гораздо сложнее утвердиться и умиротворить территории, которыми завладел мечом. Александр обнаружил, что необходима культурная аннексия, чтобы завоевать сердца и умы оккупированной Персии. И приступил к исполнению этой задачи, но, будучи истым поборником эллинизма, Александр столкнулся с противодействием своим попыткам насадить культуру, которую он считал высокой и к которой надеялся приобщить покоренные народы; в итоге вполне прагматические усилия македонского царя оказались напрасными.
Двадцатый век показал превосходство западного вооружения. Передовые технологии, индустриальная мощь и институционализированная дисциплина обеспечили армиям западных стран преимущество перед большинством других. Но когда схватка разворачивалась в тесных пространствах городских кварталов, когда в бой вели идеология и «чувство локтя», а не умозрительные национальные интересы, когда в схватку ввязывались гражданские, – исход такого сражения был непредсказуемым. Джон Ли в шестой главе анализирует приемы и методы современной городской войны и проблемы, которые порождает эта война для обычных пехотинцев. Те же самые проблемы (точные разведданные, поддержка местного населения, правильная тактика ведения боевых действий в условиях плотной застройки) вызывали немалый интерес древнегреческих военных теоретиков и полководцев, поскольку и в античности сражения часто перетекали с поля брани в стены полиса. Успешная тактика городской войны в древности нередко требовала радикального отступления от принятых способов боевых действий; сегодня тот же вызов предлагают нам террористы, мятежники и участники беспорядков на религиозной почве в секторе Газа и в Эль-Фалудже.
На самом деле нет ровным счетом ничего нового в различных способах, какими могучие империи устанавливают мир между различными народами на своей территории и вообще усмиряют подданных. Сьюзен Маттерн в седьмой главе анализирует методы, которые применял Рим для сохранения своей мультикультурной империи, и способы, какими римляне подавляли многочисленные восстания, вспышки терроризма и националистические мятежи. Почему подобные события относительно редки в полутысячелетней истории империи? почему они обычно затихали, почему римляне не полагались исключительно на превосходство своей армии и ее умение расправляться с повстанцами? Не менее важно наличие разнообразнейших (и коварнейших) механизмов завоевания «сердец и умов», которыми римляне пользовались без зазрения совести на покоренных территориях. Щедрая материальная помощь, дарование гражданства, римская система образования, единый свод законов, равно применяемых к своим и чужим, интеграция и ассимиляция чужаков в римской культуре – все это убеждало большинство народов и племен, что они больше выиграют от присоединения к империи, чем от сопротивления Риму.
Терроризм, мятежи, этнические или религиозные бунты – частые явления в жизни современного национального государства. Традиционные силовые структуры, разумеется, плохо подготовлены к боевым действиям на пересеченной местности или к подавлению активности незаконных формирований, которым симпатизирует население. Впрочем, зачастую и мятежники мало что могут и умеют. В восьмой главе Барри Стросс анализирует восстания рабов в древности, особенно – широко известное восстание Спартака против римлян, и убедительно доказывает, что те, кто поднимает бунт, могут столкнуться с серьезнейшими препятствиями еще до столкновения с государственной властью. Если цели восставших простираются дальше террора и беспорядков и предусматривают массовый переход по равнинной местности, привлечение к восстанию населения или даже отчуждение больших и обустроенных территорий, – в какой-то момент придется отказываться от партизанской тактики и вступать в полноценное сражение с регулярной армией. Несмотря на романтический ореол, окружающий Спартака, его восставшие рабы не могли ничего противопоставить превосходной логистике, дисциплине и выучке римских легионов. Призыв к массовому освобождению рабов не был услышан итальянцами, оказался не в состоянии конкурировать с очевидными благами римского управления. Мы живем в эпоху жестокого террора и мятежей, но слишком часто забываем, что военное превосходство по-прежнему остается за национальным государством, особенно когда дело касается войны на его собственной территории.
Западные демократии и республики настороженно относятся к пресловутой фигуре человека на коне. Почему бы и нет, собственно учитывая прецеденты: что сделали для общества такие знаменитые всадники, как Александр Великий, Юлий Цезарь и Наполеон? Адриан Голдсуорти в девятой главе подробно описывает, как выскочка Цезарь, покорив Галлию, перехитрил и одурачил своих гораздо более опытных и искушенных в римской политике конкурентов. Голдсуорти подчеркивает, что использование вооруженных сил за рубежом неизбежно оборачивается политическими последствиями дома и может оказаться опасным для республиканского общества, мобилизовавшего превосходную армию, ничуть не менее, чем для врага, против которого ее мобилизовали. Всякий раз, когда граждане приписывают победу в войне за рубежом гению единственного харизматического лидера, даже в конституционных государствах существует вероятность кризиса – если этот лидер решит перевести свою популярность в политический капитал.
Римская империя – ее возникновение и устойчивость на фоне внешней угрозы и внутренних восстаний, а также ее полководцы – часто выступает олицетворением тысячелетия стратегического мышления, которое рассматривается в данном сборнике. Почему, с военной точки зрения, Рим все-таки пал в конце V века? Большинство исследователей спорят, следовало ли придерживаться пассивной обороны границ или требовалось нападать самим; бесконечно обсуждается, можно ли назвать позднюю римскую политику мудрой. Питер Хизер в десятой главе отмечает, что силы Римской империи, которые, как мы полагаем, отсиживались за стенами фортов и крепостей, на самом деле, как явствует из записей тех лет, предпринимали пограничные рейды, чтобы предотвратить потенциальные вторжения. Хизер также напоминает, что так называемые варвары у границ Рима в последние годы империи сделались утонченнее, сплоченнее и переняли многие способы из тех, какими римские когорты обеспечивали себе победу на поле боя. В результате, мы узнаем не только о сложной римской системе охраны границы, но и о том, насколько сильнее в действительности были враги Рима. Если кратко, сложные военные механизмы не всегда удается точно откалибровать в соответствии с собственными культурными нормами; западные страны могут проиграть как из-за хитроумия врагов, так и из-за собственных ошибок и собственного упадка.
Как и историки древности, авторы сборника явно обеспокоены тем, сколь малому творцы современной стратегии и военного планирования учатся у классического прошлого, сколь решительно игнорируют его уроки. Тем не менее, в духе предыдущих антологий, мы избегаем давать идеологические характеристики современной политике.
Груз прошлого
С древности до наших дней дошли лишь некоторые формальные стратегические доктрины. Ни один античный колледж и никакой коллектив военных историков не составили теоретического курса о правильном использовании военной силы для реализации политических целей. Да, существуют тактические руководства об обороне городов, о правильных действиях командира конницы, о построении и применении в бою македонской фаланги и римского легиона, – но нет работ, посвященных различным способам, какими национальное государство может добиваться стратегических целей. Великие полководцы не оставили мемуаров, излагающих стратегические доктрины или военные теории в сжатом виде.
Не сам Перикл, а историк Фукидид рассказывает о стратегическом мышлении Перикла. Мы узнаем о превентивном вторжении Эпаминонда в Пелопоннес со слов других, а не из его собственных воспоминаний или воспоминаний его близких соратников. Да, Цезарь оставил собственноручные комментарии о завоевании большей части Западной Европы, но не потрудился объяснить, какие выгоды это принесло Риму, какими сопровождалось расходами, какие проблемы сулила аннексия. Древние историки прославляли поход Александра в Персию и тщательно фиксировали трудности, которыми обернулась оккупация. Тем не менее мы ни разу не слышим слов самого Александра или его ближайших помощников. Мы в целом неплохо представляем – не благодаря запискам древнегреческих полководцев, а классическим сочинениям историков, древним надписям и археологическим находкам, – каким образом греки и римляне подавляли мятежи, брали штурмом города и охраняли границы. Другими словами, в отличие от творцов современной стратегии, творцы стратегии античной были не абстрактными мыслителями, вроде Макиавелли, Клаузевица или Дельбрюка, и даже не военачальниками, которые писали о том, что сделали и хотели бы сделать, как, например, Наполеон или Шлиффен.
Итог выглядит двояким. С одной стороны, стратегия в древнем мире чаще проявлялась неявно, чем выражалась открыто. Классическому военному историку гораздо труднее восстановить стратегическое мышление прошлого, чем его современным коллегам; плюс, его выводы гораздо чаще подвергают сомнению и оспаривают.
С другой стороны, вследствие этих затруднений классической науки и частого пренебрежения ею выводы, к которым она приходит, порой поражают новизной. Мы располагаем тысячами книг о Наполеоне и Гитлере – и всего несколькими десятками работ о стратегическом мышлении Александра и Цезаря. И хотя в наличии сотни исследований стратегии Джорджа Маршалла и Шарля де Голля, почти нет работ об Эпаминонде. Да, статьи нашего сборника изобилуют предположениями, неизбежными допущениями, гипотезами и цитатами на иностранных языках, но читатели наверняка откроют для себя много совершенно нового – по крайней мере, смогут увидеть знакомые факты в новом освещении (а, как известно, новое есть хорошо забытое старое). Опыт древнего мира порой игнорируют на том основании, что он слишком уж древен. Но в эпоху чрезмерно сложных теорий, стремительно развивающихся технологий и какофонии мгновенных сообщений опыт греков и римлян, именно из-за его отдаленности от нас и четкости формулировок, представляется весьма актуальным. Мы публикуем данный сборник в надежде, что в следующий раз некий политик или полководец, предлагая «совершенно новое решение», обнаружит – или ему подскажут, – что это, мягко говоря, не совсем верно. И вместо того, чтобы выставлять оценки политике современных военных лидеров, мы надеемся воскресить знания античности и напомнить всем о многообразии возможных вариантов и их последствий.
От редакции
В списках дополнительной литературы и примечаниях к каждому очерку вместо приводимых в оригинале ссылок на английские переводы сочинений античных авторов указаны ссылки на соответствующие русские переводы.
Библиографию использованных источников на русском языке см. в конце книги.
1. Из Персии с любовью: пропаганда и имперская экспансия в греко-персидских войнах Том Холланд
Вторжение в Ирак, когда оно наконец случилось, стало кульминацией текущего международного кризиса. Противостояние, которое вылилось в войсковую операцию, многие годы определяло геополитический климат региона. Все заинтересованные стороны конфликта наверняка давно подозревали, что открытое столкновение неизбежно. Но тем, кто выдвинулся в итоге на иракскую территорию, следовало бы знать, что им предстоит сражаться с режимом, вряд ли не готовым к войне. Этот режим усердно накапливал запасы оружия и снаряжения; его войска, сосредоточенные вдоль границ, перекрывали все дороги, которые вели к столице; сама столица, жуткое олицетворение помпезных градостроительных проектов и обветшалых трущоб, была, по слухам, в состоянии поглотить без следа целую армию. И все же, несмотря на мощнейшую оборону, выяснилось в итоге, что эти укрепления, по большому счету, возведены из песка. И не способны остановить противника, если им оказалась сверхдержава, самая могущественная на планете. Экспедиционный корпус, осуществлявший вторжение, представлял собой смертоносное сочетание мощи и стремительности. Те защитники, которые уцелели после первого молниеносного выпада, попросту разбежались. Даже в столице население не выказало ни малейшего желания погибать ради национального лидера. Спустя всего несколько недель после начала военных действий война завершилась – вполне благополучно для захватчиков. Так произошло и 12 октября 539 г. до н. э., когда ворота Вавилона распахнулись «без боя»[1] и величайший город мира перешел в руки Кира, царя Персии.
Для самих вавилонян захват их столицы иноземным военачальником был легко объясним: такова воля Мардука, главного среди богов. На протяжении столетий несравненная роскошь и блеск Вавилона олицетворяли приверженность его жителей тщеславному самолюбованию. Пусть и давно подпавший под власть Ассирии, своего северного соседа, Вавилон никогда до конца не смирялся с этим фактом, а в 612 г. до н. э., когда его войско возглавило осаду и разграбление ассирийской столицы Ниневии, город сполна насладился кровопролитной местью. И с того момента Вавилон стал осознанно играть роль, к которой, в глазах своих жителей, был предназначен богами, – роль средоточия мировой политики. Распад Ассирийской империи ознаменовался разделением Ближнего Востока между Вавилоном и тремя другими царствами – Мидией (север современного Ирана), Лидией в Анатолии и Египтом; при этом почти никто не сомневался относительно того, какое среди этих четырех великих царств выступает первым среди равных. На обломках Ассирийской империи цари Вавилона вскоре преуспели в укреплении и распространении своей власти. На слабых соседей они навешивали «железное ярмо»[2]. Типичной для тех, кто все-таки отваживался противостоять могущественному Вавилону, стала участь Иудейского царства, крепкого, но довольно безрассудного – и сокрушенного в 586 г. до н. э. Два года восстаний против вавилонского правления завершились для «дома Иудина» горьким оплакиванием павших и утратой былого величия. Иерусалим и его храм превратились в груду обгорелых развалин, иудейского царя заставили смотреть, как казнят его сыновей, а потом ослепили, элиту же Иудеи отправили в изгнание. И там, когда они тосковали на реках вавилонских, одному из иудеев, пророку по имени Иезекииль, помнилось, будто тень преисподней падает на весь мировой порядок. Царь Вавилона низверг Израиль и заодно весь мир: «Земле Израилевой конец, – конец пришел на четыре края земли… Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча; а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва»[3].
Но со временем и неоспоримое вавилонское превосходство стало фикцией. Падение великого города было воспринято современниками как сотрясение устоев мироздания. И дополнительно усугубила ситуацию личность завоевателя: ибо если Вавилон был вправе притязать на долгую историю, восходящую к начальным временам, когда сами боги строили города из первобытного хаоса, то персы, напротив, появились на земле будто бы из ниоткуда. Двумя десятилетиями ранее, когда Кир взошел на престол, его царство представляло собой нечто эфемерное и занимало политически подчиненное положение, поскольку персидский монарх был вассалом царя Мидии. В мире, где доминировали четыре великие державы, для любого «выскочки» почти не было возможности проторить путь наверх. Кир, впрочем, за годы своего правления доказал, что для целеустремленного человека возможно все. Основанный на грубой силе мировой порядок, который он посмел нарушить, совершенно неожиданно – и ярко – обратился в его пользу. Обезглавь империю, и все ее провинции не составит труда покорить; это Кир продемонстрировал на практике. Первой жертвой стал былой сюзерен персов, царь Мидии, свергнутый в 550 г. до н. э. Четыре года спустя настал черед Лидии. В 539 г. до н. э., когда и Вавилон очутился в коллекции скальпов Кира, персидский монарх сделался повелителем территории, что простиралась от Эгейского моря до Гиндукуша, властелином крупнейшей империи древности. Кир имел все основания говорить о своем правлении в глобальных, поистине космических терминах: он именовал себя царем царей, великим царем и «царем мироздания»[4].
Как он этого добился? Само собой разумеется, что строительство империи редко обходится без обильного кровопролития. Персы, столь же суровые и несгибаемые, как горы их родины, и привыкавшие сызмальства к удивительной военной эффективности, были грозными воинами. Так же, как ассирийцы и вавилоняне до них, они принесли на Ближний Восток «разрушение крепостных стен, гомон конных набегов и падение городов»[5]. Во время войны с Вавилоном, например, все характеристики Кира как полководца сводились, в представлении современников, к «разрушительным» эпитетам: он способен собрать «войско, неизмеримое численностью, как речные воды»[6], сокрушить всех, кто осмелился выступить против него, и перемещаться с невероятной для того периода скоростью. Конечно, меч такого завоевателя не мог почивать в ножнах. Спустя десять лет после триумфального въезда в столицу мира, уже зрелый муж, если не сказать – пожилой, Кир по-прежнему оставался в седле и вел своих всадников все дальше и дальше. О его смерти рассказывают разное, однако большинство согласно, что он умер в Центральной Азии, далеко за рубежами всех предыдущих ближневосточных империй. Его тело со всеми почестями перевезли в Персию, для погребения в великолепной гробнице, но по свету ходили многочисленные жуткие истории, излагавшие события иначе. По одной из них, например, правительница племени, в сражении с которым погиб Кир, велела обезглавить его труп, а затем поместила отрубленную голову царя в наполненный кровью бурдюк, – мол, так наконец он утолит свою жажду кровавой сечи[7]. Этот рассказ заставляет заподозрить, что великий завоеватель внушал своим противникам ужас, сопоставимый с тем, какой внушают людям вампиры, демоны, охочие до человеческой крови; недаром преданиями о них изобилуют культурные традиции народов Ближнего Востока.
Тем не менее в тех же традициях сохранилась и принципиально иная память о Кире Великом. Он не только покорял врагов силой, но и умело пользовался дипломатией. Да, он мог быть жестоким, когда требовалось добиться скорейшей капитуляции противника, однако предпочитал, по большому счету, достигать своих целей посредством блестяще организованной и поставленной пропаганды. После утверждения персидского владычества на трупах воинов поверженной вражеской армии дальнейшее кровопролитие признавалось не имеющим необходимости (к нему прибегали в исключительных случаях). Если вавилоняне приписывали падение собственного города воле Мардука, Кир был ничуть не против им в этом подыграть. Вторгшись в Ирак, он поспешил провозгласить себя любимцем большинства божеств, которым поклонялись его враги, а свергая очередную «туземную» династию, он выдавал себя за ее наследника. Не только в Вавилоне, но и в других городах и провинциях своей огромной империи он именовал себя образцом праведности, а свое правление – даром богов, которых чтили покоренные подданные. Те самые народы, которые он подчинил, должным образом примирялись с этой риторикой и принимали Кира как «коренного» правителя. Не брезгуя хитроумными интригами и расчетливыми замыслами, Кир продемонстрировал своим преемникам, что суровость и репрессии, непременные черты всех предыдущих правлений в регионе, отлично сочетаются с такими имперскими качествами, как милосердие, свобода и покровительство. Война сама по себе, как явствует из карьеры Кира, способна только создать «площадку» для рождения империи. Но гарантируй покоренным подданным спокойствие и порядок, и тебе станет доступен весь мир.
Потому-то, например, Кир, даже польстив вавилонянам вниманием к их верховному божеству Мардуку, не стал игнорировать чаяния тех, кого считали городскими париями, – скажем, изгнанников-иудеев. Персидское командование оценило потенциальную пользу от этих тоскующих изгнанников. Иудея представляла собой «перемычку» между Плодородным Полумесяцем и пока еще независимым Египтом, то есть территорию стратегической важности, безусловно достойную небольших инвестиций. Кир не просто разрешил иудеям вернуться в поросшие сорняками развалины их домов – он даже выделил средства на восстановление Иерусалимского храма. На все это изгнанники отреагировали с неподдельным энтузиазмом и благодарностью. Вавилон в представлении Иезекииля – не более чем орудие Яхве, этого высокомерного и хвастливого бога иудеев, а вот пророк, писавший под именем Исаия, восхвалял персидского царя: «Так говорит Господь Помазаннику Своему, Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл Царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я – Господь, Называющий тебя по имени, Бог Израилев!»[8]
Сам Кир, доведись ему когда-либо узнать об этой нескромной похвальбе, наверняка признал бы ее тем, чем она, по сути, и была: олицетворением триумфа его политики управления через местных «коллаборационистов». Терпимость персов по отношению к иноземцам и их своеобразным обычаям никоим образом не подразумевала уважения, однако эти завоеватели мира гениально играли на инстинктивном желании любого раба мнить себя любимцем господина и обращали это стремление к своей выгоде. Какой еще способ удовлетворить амбиции малозначимого народа наподобие иудеев, в конце концов, сравнится с фантазиями об «особых отношениях» с могущественным царем царей? Кир и его преемники осознали циничную, но стратегически важную истину: традиции, определяющие то или иное сообщество, наделяющие его чувством собственного достоинства и стремлением к независимости, можно также, если приложить определенные усилия, использовать на благо завоевателя, заставить через них это сообщество подчиниться. Этот принцип, широко применявшийся персами во многих провинциях империи, составлял, если коротко, основу их имперской философии. Ведь никакой правящий класс, как им нравилось думать, нельзя прельстить подчинением.
Из этого следовало, разумеется, что правящий класс в завоеванных землях должен оставаться у власти. По счастью, для режимов, бытовавших в большинстве стран Ближнего Востока, с их жречеством, их бюрократией и их прослойкой сверхбогатых людей, требовалось больше, нежели просто сменить повелителя, чтобы нарушить нормальное функционирование элиты. Даже в пределах империи, где гравитационное притяжение центра, естественно, слабее всего, часто наблюдался искренний восторг по отношению ко многим плодам Pax Persica. В Сардах, к примеру, бывшей столице Лидии, столь далекой от собственно Персии, что ее отделяли лишь несколько дней пути от «Горького моря», как персы называли Эгейское море, изначальное сопротивление не помешало коллаборационистам утвердить новый порядок. Лидийские чиновники исполнительно управляли провинциями для своих господ в столице, как если бы эти господа по-прежнему принадлежали к «туземной» царской династии. Их язык, их обычаи, их боги – все тщательно терпелось. Даже налоги, конечно весьма высокие, были установлены не настолько высоко, чтобы выжать царство досуха. А об одном лидийце, хозяине копий по имени Пифий, даже поговаривали, что богаче его во всей империи только Великий царь. Такие люди, для которых персидское владычество открывало беспрецедентные возможности, определенно не были заинтересованы в агитации за свободу.
Тем не менее не все было спокойно «на западном фронте». За Сардами, вдоль побережья Эгейского моря, лежали богатые города народа, известного персам как яуна. Выходцы из Греции, ионийцы, как они себя называли, оставались непоколебимо греческими, ничуть не меньше своих соотечественников в Элладе, за Эгейским морем; и это, безусловно, сулило их новым господам немалые проблемы и вызовы. По мнению персов, яуна только и помышляли, что о конфликтах. Даже когда ионийские города-государства не враждовали друг с другом, они не упускали случая развязать гражданскую войну – или в нее вовлечься. Эти бесконечные распри, которые в значительной степени облегчили завоевание Ионии еще во времена Кира, также превратили ионийцев в народ, утомительно свободолюбивый для любой власти. Цивилизованные народы – вавилоняне, лидийцы, даже иудеи – имели чиновников и жрецов, а вот ионийские греки, казалось, могли похвастаться только разнообразными воинствующими фракциями.
В результате, несмотря на гениальность персов как практических психологов, они столкнулись с серьезными сложностями в попытках «приручить» своих ионийских подданных. В Вавилоне или Сардах персы имели возможность строить управление на «фундаменте» эффективной и послушной местной бюрократии, а в Ионии им приходилось полагаться на собственные таланты в области интриг и шпионажа. Задача любого персидского наместника заключалась в том, чтобы выбрать победителей среди многочисленных ионийских участников борьбы за власть, поддерживать их, пока они демонстрировали полезность, а затем избавляться от них с минимумом усилий. Подобная политика, однако, была чревата предательством, и измены случались часто. Покровительствуя одной фракции в ущерб другой, персы неизбежно втягивались в круговорот явной и подковерной классовой борьбы, составлявший суть ионийской политики. Это был разочаровывающий и повергающий в замешательство опыт, подтверждавший вдобавок теорию, которой придерживались многие ионийцы-«философы»: они утверждали, что природой предопределено, будто мироздание есть конфликт, напряжение и перемены. «Все вещи состоят из огня, – как высказался один из этих философов, – и все когда-нибудь снова расплавится в огне»[9].
Это утверждение для новых властителей ионийцев было поистине шокирующим. Огонь, по мнению персов, был проявлением не бесконечных перемен, а, скорее, наоборот, имманентности неизменного принципа истины и справедливости. Персы могли сколь угодно привечать в политических целях чужих богов, однако в глубине души они твердо знали – в отличие от покоренных народов, – что без такого стержневого принципа мироздание погибнет, падет под натиском вечной ночи. Именно поэтому, как они верили, когда Ахура-Мазда, величайший из богов, сотворил все живое в начале времен, он породил Арту, то есть истину, чтобы придать мирозданию форму и порядок. Тем не менее хаос никогда не перестает угрожать миру гибелью, ибо как огня не бывает без дыма, так и Арта, по вере персов, неизбежно омрачается Друджем, ложью. Эти два принципа, воплощения совершенства и лжи, вечно сражаются между собой в противостоянии, древнем, как само время. И праведным смертным надлежит выступать на стороне Арты против Друджа, на стороне правды против лжи, света против тьмы, иначе мироздание пошатнется и рассыплется в прах.
Этот вопрос в 522 г. до н. э., оказалось, значил гораздо больше, нежели спор жрецов о доктрине или теодицее, поскольку он повлиял на будущее персидской монархии. Камбиз Первый, старший сын и наследник Кира, царь, который наконец сумел завоевать Египет, умер при загадочных обстоятельствах на обратной дороге с берегов Нила. Позднее, ранней осенью, его брат и новый царь Бардия, попал в засаду и был зарублен в горах западного Ирана. Его место на залитом кровью троне занял убийца, человек, явно замешанный в узурпации власти; и все же Дарий I, апломб и хладнокровие которого выдают в нем великолепного политика, креативного и беспощадного, заявил, что Бардия, а не никак не он, был узурпатором, обманщиком и лжецом[10]. Все, что он сделал, по словам Дария, все, чего он добился, было совершено на благо Ахура-Мазды. «Говорит Дарий-царь: Милостью Аурамазды я – царь. Аурамазда дал мне царство… Говорит Дарий-царь: Аурамазда дал мне это царство. Аурамазда помог мне овладеть этим царством. Милостью Аурамазды я владею этим царством»[11]. Конечно, Дарий протестовал слишком уж громко, но в основном потому, что, будучи цареубийцей, имел крайне ограниченный выбор средств. Да, он поспешил объявить о своем родстве с домом Кира и заманил сестер Камбиза и Бардии на свое брачное ложе, но его династические притязания на трон были столь беспочвенны, что он не мог рассчитывать оправдать ими свой переворот. Следовало как можно скорее придумать иную легитимизацию. Именно поэтому, куда больше, чем Кир или его сыновья, Дарий настаивал на статусе избранного служителя Ахура-Мазды и знаменосца истины.
Данное «бесшовное» отождествление собственного правления с правлением вселенского божества было призвано подчеркнуть развитие и преемственность. Узурпаторы претендуют на божественную санкцию своим действиям с незапамятных времен, но никто из них прежде Дария не притязал на покровительство непогрешимо праведного Ахура-Мазды. Сокрушая своих врагов, Дарий не просто обеспечивал безопасность собственного правления, но и, с роковыми последствиями, утверждал империю на новом, могучем основании. На Бехистунской скале, в нескольких километрах от места убийства Бардии, царь Дарий повелел высечь в камне славословие его достижениям, прямо над дорогой; эта надпись означала радикальный и показательный отказ от норм ближневосточной саморекламы. Когда ассирийские цари изображали себя покоряющими врагов, они намеренно изображали самые экстравагантные и кровавые подробности на фоне схватки воинов, движения осадных машин и изгнания побежденных. Ничего подобного мы не обнаружим на Бехистуне. Для Дария имели значение не сражения, а результаты, не кровопролитие, а то, что кровь высохла и началась новая эра всеобщего мира. История, как будто бы провозглашал Дарий, близилась к своему завершению. И персидская империя мнилась ее финалом и наивысшей точкой, ибо чем еще может быть держава, простирающаяся от горизонта до горизонта, если не оплотом поистине космического порядка? Подобная монархия, теперь, когда новый царь преуспел в искоренении лжи, конечно, может существовать вечно – несокрушимая и непоколебимая сторожевая башня Истины.
В видении Дария империя предстает сплавом космического, морального и политического порядка; этой идее было суждено доказать в веках свою невероятную плодотворность. Для нового царя были значимы как кровавая практика имперского правления, так и ее отражение, сакральное видение универсального государства, несущего вселенское благо всем покоренным народам. Завет, воплощенный в персидском правлении, отныне надлежало обозначать в каждом проявлении царской власти, будь то дворцы, походы или планы ведения войны: гармония в обмен уничижение, защита взамен смирения, благословение нового мирового порядка за послушание. Это представление, конечно, резко контрастировало с пропагандой ассирийцев, ему недоставало сосредоточенности на кровавой резне, однако оно весьма эффективно оправдывало глобальное завоевание, не ведающее пределов. В конце концов, если царю царей суждено богами принести гармонию в кровоточащее мироздание, те, кто смеет его отвергать, суть приверженцы хаоса, анархии и тьмы, агенты «оси зла». Будучи инструментами Друджа, они угрожают не только персидской власти, но и космическому порядку, который тот отображает.
Не удивительно поэтому, что имперские пропагандисты пришли в итоге к глобальному умозаключению: нет оплота Друджа столь далекого и могучего, который в конечном счете не окажется очищенным от скверны. Мир необходимо сделать безопасным для истины, и именно в этом состоит миссия Персидской империи. В 518 г. до н. э., обратив взор на восток, Дарий отправил морской отряд на разведку таинственных земель вдоль Инда. Вторжение не замедлило, Пенджаб был покорен, и персы получили дань – золотом, слонами и прочими восточными диковинками. В то же время на другом конце империи, на далеком западе, персидский военный флот начал курсировать в водах Эгейского моря. В 517 г. до н. э. был захвачен и присоединен к империи Самос[12]. Соседние острова, опасаясь аналогичной участи, стали размышлять, не подчиниться ли мирно послам Великого царя. Империя неумолимо расширялась, на запад и на восток.
И все же, незаметно и неощущаемо для персидской власти, назревали проблемы – не только в Ионии, но и за Эгейским морем, а также в Элладе. Тут, в стране, которая утонченным агентам глобальной монархии виделась наверняка нищенствующими задворками, воинственный и шовинистический характер ионийской общественной жизни обнаружил себя во всей полноте в немыслимом разнообразии капризных политик. Греция, на деле, представляла собой едва ли больше, чем географическое выражение: это была вовсе не страна, а лоскутное одеяло из городов-государств. Правда, греки считали себя единым народом, единым по языку, религии и обычаям, но как в Ионии, так и в Элладе различные города зачастую, казалось, имели общим только привычку враждовать со всеми подряд. Тем не менее та же склонность к беспокойному стремлению за известные пределы, которая произвела в Ионии значимую интеллектуальную революцию, не обошла стороной и полисы материка. В отличие от народов Ближнего Востока, греки не имели жизнеспособной бюрократии и привычки к централизации. В поисках эвномии – «благого правления» – они двигались, в известном смысле, сами по себе. Одержимые хронической социальной напряженностью, они тем не менее не совсем забывали о дарованной ею свободе: свободе экспериментировать, внедрять инновации, находить собственный, отличный от прочих путь. «Малый град, на утесе стоящий, – так они говорили, – правопорядок блюдя, превосходит град Нина безумный»[13]. Персам подобные рассуждения наверняка казались чушью, но многие греки на самом деле яростно гордились своими малыми родинами, сколь угодно нищими. Непрерывные политические и социальные потрясения на протяжении многих лет обеспечили изрядному числу городов выраженные притязания на самостоятельность. В определенной степени они были проигнорированы персами, которые, естественно, относились к «малым народам» столь пренебрежительно, сколь это возможно для правящей верхушки сверхдержавы; а ведь греки представляли собой потенциально непреодолимое препятствие на пути к бесконечной экспансии, ибо вовсе не горели желанием повиноваться завету Великого царя. Этот народ, по меркам Ближнего Востока, отличался от всех других завоеванных племен коренным образом.
А некоторые из них были еще более иными, чем прочие. В Спарте, например, главном городе-государстве Пелопоннеса, люди, некогда печально известные своей классовой ненавистью, превратились в homoioi – «тех, кто одинаковы». Жестокость и строгая дисциплина учили всякого спартанца, буквально с рождения, что традиция важнее всего. Гражданин вырастал, чтобы занять свое место в обществе, как воин занимал свое место в боевом порядке. И на этом месте он обречен оставаться на всем протяжении жизни: «…широко шагнув и ногами в землю упершись, / Каждый на месте стоит, крепко губу закусив»[14]; и только смерть освобождает от исполнения долга. Прежде спартанцы воспринимались как хищники среди себе подобных, как богачи, истребляющие бедняков, но это осталось в прошлом: теперь они сделались охотниками, что нападали единой смертоносной ватагой. Для их ближайших соседей, в частности, последствия этого преображения были поистине губительными. Граждан одного полиса, Мессены, низвели до состояния жестоко угнетаемых крепостных; других уроженцев Пелопоннеса «всего лишь» подчинили политически. Во всем греческом мире спартанцы славились как наиболее опытные и неустрашимые воины. Некоторые эллины, по слухам, в ужасе бежали с поля битвы, едва становилось известно, что против них выступают «волки» Пелопоннеса.
А в городе, который когда-то был олицетворением отсталости и узости мышления, начинала совершаться еще более значимая по своим последствиям революция. Афины потенциально были единственным конкурентом Спарты в качестве доминирующей силы в Греции, ибо этот город управлял плодородной Аттикой, огромной, по греческим меркам, территорией, притом, в отличие от Пелопоннеса, не отвоеванной силой у других греков. Тем не менее на протяжении всей истории Афин город регулярно получал удары ниже пояса, и к середине VI столетия до н. э. афинский народ окончательно разгневался на собственное бессилие. Кризис пестовал реформы, а реформа порождала новый кризис. На глазах людей происходили родовые схватки, в которых появлялся на свет радикально иной, поразительно новый порядок. Аристократы, пусть они продолжали управлять в промежутках между собственными бесконечными распрями, внезапно обнаружили, что у них нашелся амбициозный соперник: все чаще приходилось обращаться за поддержкой к демосу, то есть к «народу». В 546 г. до н. э. успешный военачальник по имени Писистрат утвердил себя в качестве единственного правителя города – иначе «тирана». Для греков это слово не было связано с кровопролитными переворотами и суровыми расправами (такой смысл оно получило позднее); для них тираном был тот, кого поддерживал народ. Без такой поддержки он вряд ли мог надеяться на долгое пребывание у власти, и потому-то Писистрат и его наследники постоянно стремились ублажить афинский демос, затевали пышные зрелища и учреждали грандиозные общественные работы. Но афиняне требовали все новых и новых развлечений, а некоторые аристократы, соперники Писистратидов, настолько возмутились своим отстранением от власти, что готовились выступить с оружием в руках. В 507 г. до н. э. разразилась революция. Гиппия, сына Писистрата, свергли и изгнали из Афин. Isonomia – «равенство», равенство перед законом, равное право на участие в управлении государством – сделалось афинским идеалом. Так начался великий и благородный эксперимент: создавалось государство, в котором, впервые в истории Аттики, гражданин ощущал себя вовлеченным и ответственным, государство, за которое, возможно, и вправду стоило сражаться.
И в этом и заключалась цель «спонсоров» городской революции из высшего сословия. Такие люди были отнюдь не фантазерами-визионерами, а трезвыми прагматиками, которые, попросту говоря, стремились получить прибыль, будучи афинскими аристократами, от укрепления могущества города. Они подсчитали, что народ, более не разделенный внутри себя, сможет наконец выступить единым фронтом с соседями, не как приспешник очередного предводителя, а как защитник идеала isonomia и самих Афин. Первый год правления, которое последующие поколения назовут «демократией» (demokratia), продемонстрировал, что подобные ожидания вовсе не являются чрезмерными. И, как будет повторяться тысячелетия спустя, в ответ на французскую, русскую и иранскую революции, все попытки соперников-аристократов переманить этого «кукушонка» в новое гнездо оказались успешно, даже триумфально отраженными. Знаменитые слова Гете о битве при Вальми вполне справедливо можно отнести к первым великим победам первого крупного демократического государства: «С этого дня и с этого места начинается новая эпоха мировой истории»[15].
Как в Персии, так и в Аттике: нечто беспокойное, опасное и совершенно новое обретало плоть и кровь. Между глобальной монархией и крошечным городком, который гордился автохтонностью своих жителей, возможно обнаружить определенные соответствия; и все же, как доказали последующие события, идеология обоих была взаимоисключающей. Быть может, не выйди демократия за пределы Афин, прямого военного столкновения удалось бы избежать; но революции, как следует из исторического опыта, неизменно тяготеют к экспорту. В 499 г. до н. э. по Ионии прокатилась целая волна восстаний: горожане свергали изменников-тиранов, которые десятилетиями служили персам, и учреждали у себя демократии, а год спустя афинский воинский отряд, действуя заодно с повстанцами, предал огню Сарды. Сами афиняне, впрочем расстроенные своей неспособностью захватить городской акрополь и огорченные случайным сожжением знаменитого храма, поспешили вернуться обратно в Аттику, преисполненные сожаления и дурных предчувствий. Тем не менее, пусть они откровенно паниковали при мысли, что безжалостный взор царя царей вскоре устремится на них, они бы наверняка ужаснулись пуще того, доведись им правильно оценить норов зверя, которого они столь бесцеремонно дернули за хвост: ведь никакое другое действие не могло бы возбудить больший гнев самого могущественного человека на планете. Дарий, конечно, полагал само собой разумеющимся, что ионийское восстание необходимо срочно подавить, а «террористическое государство» за Эгейским морем подлежит скорейшей нейтрализации в интересах безопасности северо-западных рубежей империи. Чем дольше откладывалось наказание Афин, тем выше становился риск, что подобные очаги возмущения начнут распространяться по всей гористой и труднодоступной Греции – кошмарная перспектива для любого персидского стратега. При этом геополитические соображения были далеко не единственными в рассуждениях Великого царя. Да, Афины были оплотом «террористов», но они также проявили себя как цитадель приверженцев лжи. Следовательно, во имя всеобщего, космического блага, равно как и для будущей стабильности Ионии, Дарий обязан исполнить свою боговдохновленную миссию и перенести «войну с терроризмом» в Аттику. А неизбежное сожжение Афин виделось поворотным пунктом нового этапа имперской экспансии и ударом по демоническим врагам Ахура-Мазды.
Однако, пусть афиняне плохо понимали мотивы и идеалы сверхдержавы, которая им угрожала, персы, в свою очередь, пребывали в роковом неведении относительно сути демократии. Для стратегов, которым поручили подавить восстание ионийских городов, в новой форме правления не было ничего особенного; им казалось, что она разве что усилила фракционные настроения, которые существенно облегчили покорение яуна. В 494 г. до н. э., в решающем столкновении у крошечного островка Ладе, персидские шпионы и имперские навархи, персидские взятки и боевые корабли, что называется, на пару обеспечили окончательное поражение ионийских повстанцев. Четыре года спустя подготовка к экспедиции против Афин началась на основе того же исходного допущения: что соперничающие группировки вражеских городов в конечном счете обрекут афинян на гибель. Отнюдь не совпадением объясняется, например, что Датис, командир персидского экспедиционного корпуса, был ветераном Ионийской кампании; такой полководец понимал, как думают и действуют яуна, и даже мог произнести несколько слов на греческом. Кроме того, в состав отряда включили Гиппия, свергнутого Писистратида, который не уставал заверять Датиса в радушном приеме афинян; эта кандидатура как нельзя лучше отражала одержимость персов поисками коллаборационистов среди «туземной» элиты. Но на сей раз, как показали последующие события, они фатальным образом просчитались. Их разведывательные данные были не то чтобы бесполезными, они попросту устарели.
Афинское войско, вышедшее навстречу персам на равнину Марафон, заблокировало дорогу, что вела к городу (примерно в двадцати милях к югу) – и не разбежалось, как флот ионийских повстанцев при Ладе. Да, по Афинам уже давно бродили пугающие слухи о «пятой колонне» и горожанах, подкупленных золотом Великого царя, но именно осведомленность афинян о возможных опасностях побудила их выйти из-за городских стен на открытое место. При осаде, в конце концов, изменники наверняка бы изыскали способ открыть ворота врагу, а вот на поле брани греческий стиль боя, когда воины двигались бок о бок сомкнутым строем, означал, что все либо сражаются воедино, либо погибают вместе, и всякий, кто хочет жить, даже потенциальный предатель, не имел иного выбора, кроме как взять копье и щит и биться за общую победу. Короче говоря, боевой порядок греков при Марафоне было не подкупить. Надо отдать должное Датису, который в итоге это признал, но все же он не отказался от убеждения, что у каждого греческого полиса есть своя цена. Выждав несколько дней, он решил покончить с помехой на своем пути. Разделив войско, он отправил значительные силы, в том числе, почти наверняка, конницу – вдоль побережья Аттики, чтобы попробовать напугать афинян угрозой десанта в гавани их города. Но именно этот маневр подарил афинянам шанс на победу. Вопреки всем ожиданиям, двинувшись на врага, которого по всей ойкумене признавали непобедимым, пересекая равнину, которая для многих афинян должна была оказаться гибельной, они напали на войско, с каким прежде ни одна греческая армия не отваживалась сходиться в открытом бою. Наградой за их мужество стала славная, обретшая бессмертие в веках победа. По-прежнему опасаясь предательства, измученные и покрытые кровью с головы до ног победители не тратили времени на наслаждение триумфом. Вместо этого, в разгар жаркого дня, они поспешили обратно в Афины, «со всех ног», как уточняет Геродот[16]. Они подоспели в самый подходящий момент, поскольку вскоре после их прибытия появились и персидские корабли, двинувшиеся в сторону порта. Несколько часов эти корабли стояли на якорях у входа в гавань, а с заходом солнца вдруг подняли якоря, развернулись и уплыли прочь. Угроза вторжения миновала – во всяком случае, на этот раз.
Конечно, нет никаких сомнений: Афины на равнине Марафон спасло, в первую очередь, упорство горожан, не просто мужество, но и рвение, с каким они обрушились на врага, удар тяжелых копий и щитов по противнику, облаченному, самое большее, в стеганые куртки и вооруженному, в большинстве своем, лишь луками и пращами. И все же в тот роковой день при Марафоне сошлись не только плоть и металл: Марафон также оказался «испытанием стереотипов», которых обе стороны придерживались в отношении друг друга. Афиняне, отказавшись играть роль, назначенную им персидскими «манипуляторами», должным образом убедили себя раз и навсегда, что ключевые понятия демократии – братство, равенство, свобода – могут на деле оказаться чем-то большим, нежели просто словами. Одновременно сверхдержава, столь долго мнившаяся непобедимой, выставила себя колоссом на глиняных ногах. Персов, как выяснилось, все-таки можно одолеть. «Варвары» – так называли их ионийцы, то есть люди, язык которых воспринимался как тарабарщина, неразборчивое «ба-ба-ба»; и после Марафона это обозначение подхватили и афиняне. Это слово идеально передавало их страх перед силой, которой они были вынуждены противостоять в день своей грандиозной победы: иноземцы, бурлящие бесчисленные орды, явившиеся, чтобы погубить Аттику. Вдобавок слово «варвары», в итоге боя, получило и уничижительный оттенок с намеком на насмешку. Уверенность в себе, в целом, позволила Афинам встать вровень со сверхдержавой.
Вот в чем проявилось главное достижение Марафона: эта битва помогла афинянам в значительной степени избавиться от ощущения собственной неполноценности, которую греки традиционно испытывали, сравнивая себя с великими державами Ближнего Востока. Также – и афиняне никогда не переставали на это указывать – победа была одержана не только на благо одного-единственного города. После этой победы даже те эллины, которые ненавидели демократию, распрямили плечи, фигурально выражаясь, убедились, что качества, отличающие их от иноземцев, возможно, суть признаки их скрытого превосходства. Впрочем, конечно, временная неудача на дальних рубежах империи не лишила персов тщеславия и не опровергла их стремления к насаждению праведности; через десять лет после Марафона, когда Ксеркс, сын и наследник Дария, начал полномасштабное вторжение в Грецию, это столкновение обернулось подлинным конфликтом интересов и идеалов. Что касается персов, стремление Ксеркса придать окончательную форму глобальной миссии было таковым, что оно оказалось сильнее сугубо военными соображениями. И потому получилось, что, вместо того чтобы повести экспедиционный корпус, в духе Кира, способный обрушиться на вражескую пехоту с той же убийственной скоростью, которая позволила разгромить ионийских греков, Ксеркс решил собрать в своем войске контингенты всех многочисленных народов империи; это была коалиция смирных и послушных подданных. Естественно, эта плохо управляемая орда слабо вооруженных рекрутов доставляла постоянную головную боль военачальникам, однако Ксеркс считал, что подобный принцип комплектования войска необходим для надлежащего поддержания его достоинства. В конце концов, присутствие в войске поразительного разнообразия народов лишний раз прославляет его статус земного представителя Ахура-Мазды. И это было еще не все. Слухи о приближении персов, усердно раздуваемые персидскими агентами, обоснованно внушали грекам ужас – и были призваны вдобавок наполнить алчностью сердца воинов при мысли о потенциальной добыче. Должно быть, Ксерксу казалось, когда он приступил к своей великой экспедиции, что Греция в конечном счете падет к его стопам, как перезрелый плод.
Но этого не произошло. Несмотря на отлаженный механизм имперской пропаганды, персы на протяжении всего похода раз за разом обнаруживали, что греки их перехитрили. И дополнительно ситуацию усугубляло то обстоятельство, что на начальных этапах похода персы сумели одержать несколько блестящих побед. Например, у горного прохода Фермопилы они сумели выбить с почти неуязвимой позиции пять тысяч тяжеловооруженных пехотинцев, уничтожить сотни якобы непобедимых спартанцев, а также убить одного из их царей. Неудивительно, что Ксеркс пригласил моряков своего флота посетить Гистиею, дабы «посмотреть, как он сражается с этими безрассудными людьми, которые возмечтали одолеть царскую мощь»[17]. И тоже не удивительно, что пелопоннесская пехота, узнав об исходе битвы при Фермопилах, сразу же отступила за Коринфский перешеек и отказывалась выйти из укрытия почти год. Очевидно, что для всякого грека, настроенного на продолжение войны, было жизненно необходимо превратить катастрофу при Гистиее в проявление доблести, способное должным образом вдохновить Элладу на сопротивление. И действительно, сразу после Фермопил, когда их город остался фактически беззащитным перед безжалостными персами, афиняне, пожалуй, даже громче спартанцев славили погибшего спартанского царя и его телохранителей, называя тех павшими за свободу. Возможно, именно следствием этого стал поступок пелопоннесцев, когда, после захвата Афин и сожжения храмов на Акрополе, те не увели свой флот, как прежде произошло с пехотой, но присоединились к афинским кораблям и вышли к острову Саламин. Тем самым они доказали, что красноречие эллинских пропагандистов достаточно эффективно, что кровавое поражение при Фермопилах на самом деле стало, как уверяли демагоги, своего рода победой.
И победой решающей, к слову сказать. При Саламине и Платеях, на море и на суше, греческие союзники сокрушили экспедиционный корпус, который им противостоял, и не допустили распространения Pax Persica на Элладу. При этом неудача вторжения ни в коей мере не связана с персидским «женоподобием», с их нерешительностью или отсутствием мужества, ибо, как признавали сами греки, персы «не уступали эллинам в отваге и телесной силе; у них не было только тяжелого вооружения и к тому же еще боевой опытности»[18]. Бесспорно, однако, что в схватке один на один греческое оружие и выучка сыграли свою роль; Платеи подтвердили урок Марафона: в рукопашной персидская пехота не способна устоять против фаланги. А более всего разъяренного царя царей, несомненно, уязвило мастерство, с каким его собственные методы были использованы против него: речь о великолепных греческих образцах шпионажа и саморекламы. При Саламине, например, афинский наварх, выказав едва ли не персидское понимание психологии, заманил имперский флот в засаду, убедив Ксеркса, что готов переметнуться на сторону персов; этой лжи Великий царь и его советники, памятуя о Ладе, охотно поверили. Затем, прямо перед началом похода, которому было суждено привести к Платеям, греческие союзники поклялись страшной клятвой, что все храмы, сожженные варварами, следует сохранить как обугленные руины, «дабы они служили напоминанием грядущим поколениям»[19]. Это, разумеется, обращало против Ксеркса все его заявления, выставляло персидского царя не поборником порядка, но его коварнейшим врагом, а Персидскую империю – не олицетворением истины и света, но нечестивой деспотией, которую справедливо покарали боги. Данное убеждение, кстати сказать, никогда не переставало вдохновлять греков. Оно способствовало созданию несравненных шедевров драмы, историографии и архитектура. В итоге, до тех пор пока Эсхила продолжают ставить, Геродота читают, а Парфеноном восхищаются, о победе эллинов не забудут. Пусть минуло две с половиной тысячи лет, но люди, которые сражались при Марафоне и Фермопилах, при Саламине и Платеях, остаются в нашей памяти победителями.
Впрочем, неудачная попытка первой сверхдержавы в мире распространить безопасность и порядок, в ее понимании, на гористую местность на периферии имперских интересов не обязательно означает, что персы и их империя не могут ничему научить современных людей, – совсем наоборот, на самом деле. Если правда, что в вопросах войны и стратегии, как и во многом другом, Запад давно считает себя наследником древних греков, это не мешает «персидскому способу войны» отбрасывать долгую тень на протяжении веков. С этой точки зрения, будущее человеческих конфликтов, по всей вероятности, окажется не менее персидским, чем греческим.
Дополнительная литература
Главным источником (fons et origo) сведений о греко-персидских войнах, конечно, является Геродот, первый и самый читаемый из древних историков. Широко известный перевод «Истории» Геродота на русский язык принадлежит Г. А. Стратановскому и неоднократно переиздавался. Еще один ключевой источник информации – пьеса Эсхила «Персы», со знаменитым описанием битвы при Саламине, составленным ветераном греко-персидских войн; см. переводы С. К. Апта, В. И. Иванова и А. И. Пиотровского. Диодор и Плутарх тоже сообщают немало любопытных подробностей.
Ни один из древних персов не оставил даже упоминания о вторжении в Грецию. Это не означает, однако, что соответствующие источники с персидской стороны отсутствуют. Отметим прежде всего двухтомник Амели Курт «Персидская империя: корпус источников ахеменидского периода» (London: Routledge, 2007). Фундаментальное исследование Персидской империи, эпохальный научный труд, принадлежит перу Пьера Бриана; книга называется «От Кира до Александра: история Персидской империи» (Winona Lake, in: Eisenbrauns, 2002). Другие превосходные исследования последних лет: «Древняя Персия» Йозефа Визехефера (London: Tauris, 2001) и «Персидская империя» Линдси Аллен (Chicago: Chicago University Press, 2005). Каталог недавней выставке в Британском музее «Забытая империя: мир древней Персии», под редакцией Джона Куртиса и Найджела Таллис (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2005), изобилует роскошными иллюстрациями.
По поводу персидского вторжения в Ирак см. сборник статей под редакцией Джона Кертиса «Месопотамия и Иран в персидский период: завоевание и империализм». Материалы семинара памяти Владимира Григорьевича Луконина (London: British Museum Press, 1997). По поводу Лидии и Ионии см. «Аспекты империи в ахеменидских Сардах» Элспет Р. М. Дьюзинбер (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) и «Спарда у Горького моря: имперские связи Западной Анатолии» Джека Мартина Балсера (Chicago: Chicago University Press, 1984). Балсер также является автором увлекательного исследования о возвышении Дария «Геродот и Бехистун: проблемы древней персидской историографии» (Stuttgart: Franz Steiner, 1987). Лучшим исследованием пресловутого «академического болота», то есть древнеперсидской религии, служит сборник Жана Келлана «Очерки Заратустры и зороастризма» (Costa Mesa, California: Mazda, 2000). Подробности персидского военного искусства можно найти в книге «Тени в пустыне: древняя Персия в войне» Каве Фаруха (Oxford: Osprey, 2007). Ценный обзор греко-персидских отношений от покорения Ионии до походов Александра содержит работа «Греческие войны: неудача Персии» Джорджа Коуквелла (Oxford: Oxford University Press, 2005).
Литература по греко-персидским войнам весьма объемна. Перечислим основные исследования: «Персия и греки: оборона Запада» А. Р. Бернса (London: Duckworth, 1984) и чудесные «Греко-персидские войны» Питера Грина (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1970). Лучшее военное исследование принадлежит Дж. Ф. Лазенби: «Оборона Греции в 490–479 гг. до н. э.» (Warminster, UK: Aris & Philips, 1993). Недавние книги по отдельным сражениям: «Фермопилы: битва, которая изменила мир» Пола Картледжа (London: Overlook Press, 2006) и «Саламин: величайшее морское сражение древнего мира, 480 г. до н. э.» Барри Стросса (New York: Simon & Schuster, 2004). Воздействию войн на народное воображение посвящен сборник «Культурные ответы на персидские войны: от античности до третьего тысячелетия» под редакцией Эммы Бриджес, Эдит Холл и П. Дж. Роудса (New York: Oxford University Press, 2007). Скромность, конечно, не позволяет мне рекомендовать мой собственный труд «Персидский огонь: первая мировая империя и битва за Запад» (London: Time Warner Books, 2005).
2. Перикл, Фукидид и оборона империи Дональд Каган
К середине V века до н. э., когда Перикл стал ведущей политической фигурой Афин, защита рубежей империи являлась основной задачей, поскольку они представляли собой ключ к обороне самих Афин. Укрепленные рубежи означали готовность к возобновлению персидской угрозы и предотвращали любые вылазки со стороны Спарты. Кроме того, имперские доходы имели важное значение для планов Перикла по превращению Афин в самый процветающий, красивый и цивилизованный город Эллады. И имперское великолепие было неотъемлемой частью Периклова видения Афин.
Перикл и афиняне признавали необходимость империи, однако сам факт ее существования вызывал и серьезные вопросы. Способна ли империя ограничить собственные аппетиты и амбиции и обеспечить свою безопасность? Или же власть над другими народами неизбежно вынуждает империю безудержно расширяться, тем самым приближая собственную гибель? Да и оправданна ли империя, особенно когда греки правят греками, с этической точки зрения? Или это проявление гюбриса, воинствующего высокомерия, каковое непременно приведет, рано или поздно, к уничтожению тех, кто осмелился править другими людьми, будто боги?
На плечи Перикла, как лидера афинского демоса, легла обязанность осуществлять имперскую политику и оправдать империи в глазах прочих греков, а также в собственных. Обе эти задачи Перикл стал решать принципиально по-новому. Он положил конец имперской экспансии и усмирил афинские амбиции. Также он привел весомые аргументы, на словах и делом, в доказательство того, что империя вправе быть и служит общим интересам всех греков.
Важно помнить, что афиняне не собирались создавать империю и что Делосский союз, ее предшественник, возник только потому, что Спарта самоустранилась; но у афинян при этом были все основания притязать на ведущие роли. Прежде всего, это страх перед новым персидским нашествием. Персы нападали на Элладу трижды на протяжении двух десятилетий, и не было никаких оснований полагать, что они смирятся с понесенными поражениями. Во-вторых, афиняне только приступили к восстановлению того, что уничтожили персы в ходе последнего нашествия, и понимали, что новая атака, несомненно, будет сосредоточена именно на Афинах. Кроме того, акватория Эгейского моря и земли к востоку были чрезвычайно важны для афинской торговли. Зависимость Афин от импорта зерна с территории современной Украины (это зерно транспортировали кораблями с побережья Черного моря) означала, что даже мини-кампания персов, в результате которой враг завладеет Босфором и Дарданеллами, негативно скажется на обеспечении города продовольствием. Наконец, афиняне были связаны общим происхождением, религией и традициями с ионийскими греками, которые составляли большую часть населения угрожаемых городов. Безопасность, процветание и устремления Афин, таким образом, требовали вытеснения персов из всех прибрежных районов и островов Эгейского моря, из Дарданелл, Босфора, Мраморного и Черного морей.
Новый союз представлял собой одну из трех «межгосударственных организаций» греческого мира, наряду с Пелопоннесским и Всегреческим оборонительным союзами, сформированными против Персии; последний серьезно пострадал от отказа спартанцев воевать в Эгейском море. После основания Делосского союза Всегреческий союз стал мало-помалу превращаться в фикцию и распался при первом же серьезном испытании. Полноценными, эффективными и действующими были Пелопоннесский союз во главе со Спартой на материке и Делосский союз во главе с Афинами (Афинская симмахия) в акватории Эгейского моря.
С самого образования Делосский союз показал себя весьма эффективным объединением, поскольку был полностью добровольным, все участники искренне разделяли заявленные цели союза, а его организационные принципы были понятны и просты. Афины стояли во главе союза: все участники, которых насчитывалось почти 140, принесли клятву враждовать с врагами и дружить с друзьями Афин, тем самым сформировав постоянный оборонительно-наступательный союз под афинским руководством. Гегемония, однако, не означала господства. В первые годы существования союза афиняне «стояли во главе сперва еще независимых союзников (с правом голоса на общесоюзных собраниях)»[20]. В те годы на подобных собраниях определяли общую политику и принимал решения, а проходили они на Делосе, и Афины имели всего один голос. В теории, Афины были не более чем равноправным участником собрания, с тем же количеством голосов, что и Самос, Лесбос, Хиос или даже крошечный Серифос. На самом же деле, система была выгодна Афинам. Афинская сухопутная и морская мощь, огромный вклад города в союз и значительный авторитет полиса как гегемона гарантировали, что многие малые и слабосильные государства окажутся под его влиянием, а более крупные полисы, способные оспорить лидерство афинян, будут в меньшинстве. Много лет спустя озлобленные мятежники-митиленцы говорили: «Не может быть прочной дружбы между частными людьми и союза города с городом для какой-нибудь цели, если друзья или союзники не верят во взаимную честность и не сходны по характеру и образу мыслей»[21]. В первые годы союза, однако, как представляется, в отношениях царили гармония и согласие, а степень влияния Афинах была пропорциональна их вкладу в дела. То есть, с самого начала Афины имели возможность благополучно контролировать Делосский союз, не нарушая законов и не тиранствуя.
Первые шаги союза обеспечили ему единодушную и восторженную поддержку: союзники изгнали персов из опорных пунктов на материке и сделали плавание по Эгейскому морю безопасным, уничтожив оплот пиратов на острове Скирос. Победа следовала за победой, персидская угроза казалась все менее реальной, и потому некоторые участники стали считать, что союз и его обременительные обязательства более не нужны. Афиняне, однако, справедливо полагали, что персидская угроза никуда не делась и будет только нарастать по мере ослабления бдительности греков. Фукидид однозначно указывает, что основными причинами последующих восстаний были отказ союзников предоставить согласованное количество кораблей или денег в казну союза, а также собрать необходимое число воинов. Афиняне «строго взыскивали недоимки, не останавливаясь перед принудительными мерами. Поэтому-то власть афинян стала в тягость людям, не привыкшим к притеснениям и не склонным их переносить. И вообще господство афинян не было уже теперь так популярно, как прежде. В совместных походах афиняне обращались с союзниками не так, как с равными, и если кто-нибудь из них восставал, то восставших без труда вновь приводили к покорности. Впрочем, виноваты в этом были сами союзники. Действительно, из малодушного страха перед военной службой (только чтобы не находиться вдали от дома) большинство из них позволили обложить себя налогом и вместо поставки кораблей они предпочитали вносить надлежащие денежные суммы. И таким образом афиняне получили возможность на средства союзников увеличивать свой флот, а союзники, начиная восстание, всякий раз оказывались неподготовленными к войне и беззащитными»[22].
Менее чем через десять лет после создания, возможно в 469 г. до н. э., Делосский союз одержал сокрушительную победу над персидским войском и флотом в устье реки Эвримедонт в Малой Азии. Это поражение персов усилило беспокойство союзников, равно как и суровость и непопулярность афинян. Восстание и осада Фасоса, с 465 по 463 г. до н. э., чему причиной послужил спор между афинянами и фасосцами, лишь опосредованно связанный с делами союза, также способствовал усугублению страхов союзников.
Первая Пелопоннесская война (ок. 460–445 гг. до н. э.) изрядно истощила афинские ресурсы и содействовала распаду союза. Крах афинской экспедиции в Египет в середине 450-х гг. вызвал в Афинах шок, ускоривший трансформацию союза в империю. Многим, должно быть, казалось, что афинское могущество подорвано, и это спровоцировало новые восстания. Афиняне отреагировали быстро и решительно, подавив мятежи, а затем приняли меры, чтобы впредь исключить подобное. В некоторых городах они поставили демократические правительства, дружественные Афинам и зависимые от них. В других полисах разместили военные гарнизоны, в третьи направили своих чиновников для наблюдения за поведением бывших мятежников, а порой комбинировали эти методы. Все они, безусловно, являлись нарушением автономии союзных полисов.
В 440-х гг. Афины еще более ужесточили контроль над империей. Они ввели в союзе использование афинских мер, весов и монет, закрыли местные монетные дворы и тем самым лишили союзников «зримых» символов суверенитета. Также они стали пристальнее следить за сбором союзных платежей и требовали, чтобы суды над лицами, виновными в задержках и недоимках, проходили в Афинах. Они использовали военную силу против полисов, которые восставали и отказывались платить союзные налоги. Иногда афиняне отбирали у мятежников территории и основывали на них колонии с населением из верных союзников или афинских граждан. Когда население подобной колонии состояло целиком из афинян, ее называли клерухией. Эта колония не являлась независимым полисом, ее жители сохраняли афинское гражданство. Подавляя очередное восстание, афиняне обычно устанавливали в завоеванном городе демократическое правление и заставляли горожан принести клятву верности. Вот клятва, которую пришлось принести жителям Колофона:
«Я буду поступать, говорить и советовать то, что я смогу, прекрасным образом и доброжелательно в отношении народа Афин и их союзников и не предам афинский народ ни словом, ни делом, ни сам я, ни будучи убежден другими, и буду любить афинский народ, и не стану перебежчиком, и демократию не разрушу в Колофоне ни сам я, ни поддавшись убеждению других, и не удалюсь в другой город, и не подниму тотчас восстание; в соответствии же с искренней клятвой буду это соблюдать без обмана и не причиняя ущерба, клянусь Зевсом, Аполлоном и Деметрой; и если нарушу клятву, то пусть погибну сам и род мой навеки, мне же, соблюдающему клятву, пусть наградой будут многие и хорошие блага»[23].
Чуть позже аналогичную присягу принесли жители Халкидики, правда, в данном случае они клялись в верности не союзу, а только афинскому народу.
Радикальный шаг по трансформации из союза в империю был предпринят в 454–453 гг., когда союзную казну перенесли с Делоса в афинский Акрополь. Формальным поводом для переноса послужила опасность персидского нападения на острова Эгейского моря после катастрофического поражения афинян в Египте и угроза войны со Спартой. Мы не знаем, насколько обоснованными были эти опасения, но афиняне не тратили времени попусту, не желая рисковать имуществом. С этого года и почти до конца Пелопоннесской войны афиняне брали шестидесятую долю союзных платежей в качестве подношения Афине Полиаде, богине-покровительнице их города, а также и покровительнице союза. Причем «долю богини» они вольны были использовать как им вздумается, вовсе не обязательно на благо союза.
Изменения настолько важные и радикальные, что они превратили добровольный союз в империю, в основном принудительно управляемую Афинами, требовали юридического обоснования, как было принято у древних греков. Во многих отношениях греки напоминали другие античные народы своим отношением к власти, завоеваниям, империи и выгодам, которые те предлагали. Они рассматривали мир как поле жестокой конкуренции, где победа и владычество, сулящие славу, считались наивысшими целями, а поражение и подчинение трактовались как постыдное унижение. Они всегда чтили кредо, сформулированное Ахиллом, величайшим героем греческих преданий: «Во всем быть первым среди прочих». Когда легендарный мир аристократических героев уступил место миру городов-государств, состязания между людьми, домохозяйствами и кланами переродились в поединки и войны между полисами. В 416 г. до н. э., спустя десять лет после смерти Перикла, афинские послы так объясняли мелосцам свою точку зрения на международные отношения: «О богах мы предполагаем, о людях же из опыта знаем, что они по природной необходимости властвуют там, где имеют для этого силу»[24].
Тем не менее «Мелийский диалог», как стали именовать позднее этот знаменитый отрывок Фукидида, образчик международной Realpolitik античного мира, представляет собой характерный пример этической двусмысленности статуса Афинской империи. Суровые слова афинян вынуждают мелосцев заявить, что «божество нас не умалит», ибо Афины ведут себя несправедливо по отношению к нейтральным государствам. Да, жалоба мелосцев могла относиться к каким-либо конкретным действиям афинян, реальным или планируемым, но она была воспринята прочими греками с глубоким сочувствием. Греки не разделяли современных предрассудков по поводу могущества и сулимых последним безопасности и славы, однако их собственный исторический опыт отличался от опыта других древних народов. Их культуру сформировали не великие империи, а малые автономные полисы, и они привыкли полагать, что свобода является естественным состоянием людей, взращенных в подобной среде. Граждане должны иметь личную свободу и свободу выбора конституций, законов и обычаев, а города должны иметь возможность свободно строить свои дипломатические отношения и конкурировать с другими за власть и славу. Греки также верили, что свобода, возможная благодаря правилам жизни полисов, создала новый, особенный тип гражданина и особенный тип власти. Свободные и автономные полисы, по их убеждению, превосходят любые империи. Поэт VI столетия до н. э. Фокилид сравнивал греческий полис с грандиозной Ассирийской империей: «…малый град, на утесе стоящий, / Правопорядок блюдя, превосходит град Нина безумный»[25].
Когда полисы воевали друг с другом, победитель обычно забирал себе пограничную территорию, каковая обыкновенно и выступала предметом спора. Побежденных, как правило, не обращали в рабство, а их основную территорию не аннексировали и не оккупировали. В этих конфликтах, как и во многих других, греки использовали двойные стандарты, по которым они отличали себя от чужаков, не говоривших по-гречески и не взращенных на греческих культурных традициях. Поскольку чужаки не росли свободными гражданами свободных общин, а являлись подданными какого-либо правителя, по сути своей они были рабами, посему покорять их и обращать в рабство – в порядке вещей. Сами греки, с другой стороны, свободны от природы, что они доказывают, создавая либеральные институты полисов и проживая в этих полисах. Чтобы управлять такими людьми, лишать их свободы и независимости, очевидно, неправильно.
Так полагали греки, но действовали они соответственно этим убеждениям далеко не всегда. В незапамятные времена спартанцы покорили других греков, обитавших в Лаконии, а также в соседней Мессении, и сделали их своими рабами. В VI веке до н. э. они создали Пелопоннесский союз, который обеспечил спартанцам существенный контроль над внешней политикой их союзников. Но спартанцы обычно не вмешивались в договоренности союзных городов между собой, и эти города в данном отношении сохраняли видимость автономии. Да, на протяжении двух десятилетий после войны с персами аргивяне уничтожили несколько городов в Арголиде и присоединили их территории, но подобное исключение лишь подтверждало правило и не опровергло общей уверенности в том, что греки должны жить как свободные граждане автономных полисов, а не как подданные великих империй.
Греки разделяли и еще одно убеждение, которое препятствовало им наслаждаться жизнью под властью великой державы/империи. Они полагали, что любое благо, «растиражированное» среди людей до чрезмерной степени, ведет, по череде этапов, к тому, что они называли «гюбрис». Подобные люди, как считалось, выходят за пределы, установленные богами для человека, и тем самым вызывают на себя божественный гнев и божественное возмездие. Таковы были основные идеи, почерпнутые от оракула в храме Аполлона в Дельфах, где были высечены божественные предупреждения человеку, желающему избежать гюбриса: «Познай самого себя» и «Ничего лишнего». Для греков V столетия до н. э. отличным примером гюбриса и немезиды была судьба Ксеркса, Великого царя Персидской империи. Его могущество обернулось слепой самонадеянностью, которая привела к попытке утвердить свою власть над материковой Грецией и к последующей катастрофе.
Поэтому, когда афиняне возглавили коалицию греческих городов после персидской войны и это руководство принесло Афинам богатство и власть и позволило создать фактическую империю, что откровенно признавали сами афиняне, традиционные способы мышления не могли помочь в данной ситуации. Преимущества империи для афинян, материальные и нематериальные, были очевидными. Прежде всего это касалось финансов. Союзные платежи в общую казну, контрибуции и другие платежи к началу Пелопоннесской войны достигали 600 талантов ежегодно. Из 400 дополнительных талантов «домашнего» дохода каждый год большую часть также обеспечивала империя: импортные пошлины и портовые налоги Пирея плюс судебные издержки, оплачиваемые теми гражданами союзников, чьи дела слушались в Афинах. Еще афиняне получали прибыль частным образом, предоставляя различные услуги многочисленным гостям, которые приводили в Пирей и Афины судебные и иные имперские дела, равно как и имперское великолепие самого города.
Имперские доходы, как иногда утверждают, были необходимы для поддержания демократии, предоставляли средства оплаты выполнения общественных обязанностей. Но свидетельства опровергают это утверждение. Плату ввели, в конце концов, прежде чем афиняне стали забирать себе шестидесятую долю дохода. Еще красноречивее тот факт, что афиняне продолжали оплачивать эти обязанности даже после того, как империя и ее доходы остались в прошлом, предлагали «пансион» за присутствие в народном собрании в начале IV века. С другой стороны, нельзя не признать, что эта плата распространилась, когда благодаря империи в Афины хлынул поток богатств в виде трофеев и прибыли от увеличения торгового оборота, и что в годы после введения «афинской десятины» оплачивать стали не только участие в судах и собраниях. Вполне вероятно, во всяком случае, что во времена Перикла афинский демос увязывал блага демократии с благополучием империи.
Помимо прямой финансовой выгоды и, как они полагали, финансовой поддержки демократии, жители Афин также получили возможность улучшить, как это сейчас модно называть, качество жизни. Империя, по словам «Старого олигарха», позволила афинянам общаться со множеством людей из разных уголков ойкумены, и потому они «завели у себя всякие способы угощения, по мере того как завязывали сношения тут с одними, там с другими. Таким образом всякие вкусные вещи, какие только есть в Сицилии, в Италии, на Кипре, в Египте, в Лидии, есть в Понте, в Пелопоннесе или где-нибудь в другом месте, – все это собралось в одном месте благодаря владычеству над морем. Далее, из всякого наречия, какое им приходилось слышать, они переняли из одного это, из другого то. И, в то время как все вообще греки пользуются больше своим собственным наречием, ведут свой особый образ жизни и носят свои особые наряды, афиняне имеют все смешанное, взятое у всех греков и варваров»[26].
Комический поэт-современник эпохи приводит более подробный список экзотических деликатесов и полезных товаров, доступ к которым открыла афинянам империя:
…Сильфия стебли, да шкуры быков он везет из Кирены; Скумбрию из Геллеспонта, за ней солонины раздолье; От фессалийцев – крупу на кашу, да ребра воловьи… Из Сиракуз доставляет свиней и сыр сицилийский… Все это местный товар. Зато паруса подвесные Или папирус – везет Египет, шлет Сирия ладан, Крит же прекрасный везет богам стволы кипариса, Ливия шлет на продажу обилие кости слоновой, Родос – изюму и фиг, что сладостный сон навевают, Груши Эвбея везет, да тучных овец и баранов, Фригия – взятых в сраженьи… Толпы рабов и бродяг клейменых привозят Пагасы. А на закуску миндаль блестящий и желуди Зевса Нам пафлагонцы везут, – «ведь пиру они украшенье». Финики шлет Финикия, мучицу для булок отборных. Для лежебок – Карфаген ковры, да подушки цветные[27].Это, как отмечает Старый олигарх, если «упоминать о менее важном», однако тем самым афиняне сполна ощущали преимущества империи и господства на море.
Возможно, наиболее притягательная черта империи была и «наименее ощутимой», она взывала к особенности человеческой натуры, общей для многих культур на протяжении столетий. Большинство людей предпочитают видеть себя лидерами, а не последователями, правителями, а не подданными. Всякий афинянин гордился величием своего города-государства. Старый олигарх, анонимный автор, выразивший в своем сочинении суть афинского самовосхваления, объяснял, какую выгоду афиняне получили от назначения в городе судов для союзников, излагая позицию обычного гражданина, которого обуревают чувства:
«…если бы союзники не приезжали на судебные процессы, они оказывали бы уважение из афинян только тем, которые выезжают на кораблях – стратегам, триэрархам и послам; а при теперешних условиях вынужден угождать народу афинскому каждый в отдельности из союзников, так как каждый сознает, что ему предстоит, придя в Афины, подвергнуться наказанию или получить удовлетворение не перед кем-либо иным, но перед народом, как того требует в Афинах закон. И он бывает вынужден умолять на судах, бросаясь на колени, и хватать за руку всякого входящего. Вот поэтому-то союзники еще в большей степени стали рабами народа афинского»[28].
Но при всех преимуществах, какие принесло афинянам создание империи, нельзя утверждать, что эти преимущества были совсем уж односторонними: союзники также получили значительную выгоду от подчинения Афинам. Главным была защита от персидской агрессии, основная цель, ради которой создавался союз, – а еще мир, который афинянин Каллий, сын Гиппоника, заключил с Персидской империей. Ионийские города либо оставались под властью варваров, либо отстаивали свою свободу оружием более столетия, так что условия мира были вполне достойными. Успех союза и Афинской империи также обеспечил беспрецедентную свободу мореходства в водах Эгейского моря. Кроме того, война с Персией позволила афинским союзникам, принимавшим в ней участие, разжиться военными трофеями, а коммерческий бум, обогативший Афины, сделал обеспеченными и многие союзные полисы. Короче говоря, афиняне гарантировали свободу от персов, мир и процветание всем грекам в акватории Эгейского моря.
Для многих союзников вмешательство афинян обернулось и установлением демократии, но это не было целью Афин. Перикл и афиняне, когда позволяли обстоятельства, оставляли у власти существующие режимы, даже будь те олигархическими или тираническими. Лишь когда начинались восстания, требовавшие внимания Афин, они устанавливали демократию – и то не всегда. Имперская политика Перикла была разумной и прагматичной, а вовсе не сосредоточенной на идеологии. Тем не менее на протяжении многих лет афиняне устанавливали и поддерживали во многих полисах демократию и воевали с олигархиями и тираниями по всей своей империи. С точки зрения XX века это может показаться очередным завоеванием империи, но это было не так во времена Перикла. Аристократы и люди высших кругов общества в целом воспринимали демократию как новую, неестественную, несправедливую, некомпетентную и вульгарную форму правления, и они были не одиноки в недовольстве ролью афинян в насаждении этой формы. Во многих городах, вероятно даже в большинстве, многие простолюдины рассматривали афинское вмешательство в их политические и конституционны дела как урезания свобод и независимости; они предпочли бы недемократическую конституцию без афинского влияния демократической власти с этим влиянием.
Современные ученые пытаются доказать, что именно афинская поддержка демократии сделала империю популярной среди народных масс в союзных городах и что враждебность, с которой ее позднее стали воспринимать, есть результат «искажения реальности», происки древних авторов-аристократов. Впрочем, нельзя отрицать, что империя была непопулярна у всех классов и слоев населения, исключая небольшую группу демократических политиков, которые благоденствовали на афинские средства. Нет никаких оснований сомневаться в древнем убеждении, будто греки за пределами, а особенно внутри Афинской империи были глубоко ей враждебны. И даже некоторые афиняне возражали против «аморального» поведения Афин по отношению к союзникам.
Перикл предпринял ряд мер, чтобы оправдать афинское поведение и обеспечить бесперебойное поступление налогов от союзников. Имперским городам он объяснял, что на самом деле просто-напросто изменился идеал, лежавший в основе союза. С самого начала некоторые члены союза имели статус колоний, основанных Афинами. А среди греков колониальный статус подразумевал крепкие семейные взаимоотношения, но не подчинение. Кроме того, афиняне давно притязали на роль основателей ионийских городов; и сами ионийцы не только одобряли эти притязания, но и ссылались на них, дабы убедить афинян возглавить союз. На год переноса казны с Делоса выпало празднование Больших Панафиней, справлявшихся раз в четырехлетие; связи между колониями и метрополией обычно укреплялись благодаря таким религиозным обрядам. Союзники Афин обыкновенно подносили на Панафинеи корову и полный доспех, скорее символ верности, чем обременение. Колония, принесшая этот дар, получала почетное право принять участие в торжественном шествии к храму Афины на Акрополе. И потому все союзники Афин хотели обладать этим правом.
Совершенно не обязательно верить, что все были благодарны за такое право и что всех привлекали внешние атрибуты колониальных отношений, причем настолько, что полисы продолжали покорно выплачивать «дань» метрополии. И сомнения наверняка усилились, когда стали известны условия Каллиева мира с Персидской империей 449 г. до н. э.: «Все греческие города на побережье Малой Азии должны быть независимы; сатрапы же персидского царя не должны отплывать по морю (от берегов Малой Азии) дальше чем на расстояние трехдневного пути, и между Фасилидой и Кианеями не должны плавать большие военные суда; если царь и стратеги афинские примут эти условия, то афиняне не должны будут вступать с оружием в страны, которыми управляет царь Артаксеркс»[29]. По этому соглашению персы отказывались от своих претензий на греческие полисы в акватории Эгейского моря и на его побережье, а также на афинские линии коммуникации из Черного моря через Дарданеллы. Персидские войны наконец-то взаправду завершились, и афиняне могли утверждать, что добились победы, которую упустили спартанцы.
Это был великий миг, но серьезные вопросы остались. Пусть Кимон, неутомимый радетель войны против Персии, умер, перед глазами были его пример, его память и его друзья; все это заставляло сомневаться в мире с заклятым врагом. Плюс, если и вправду настал мир с Персией, означает ли это конец уплаты союзных взносов, конец союза и афинской гегемонии?
Что касается самого мира, краеугольного вопроса афинской политики, Перикл исполнил мастерский маневр. Выбор Каллия в качестве переговорщика имел важное значение. Он приходился зятем Кимону, был женат на его сестре Эльпинике. Его назначение послом свидетельствовало о том, что дружба между Периклом и Кимоном пережила смерть последнего и что Каллий, должно быть, немало сделал, чтобы переубедить сторонников политики Кимона. Вообще-то Перикл и по иным связям и знакомствам принадлежал к партии Кимона и продолжал держаться их на протяжении многих лет. Как выразился современный ученый, «за публичной политикой афинского государства стояли семейные узы, политика великих домов, и здесь Перикл был своим»[30].
Политические маневры Перикла, похоже, носили характер действий на публику, если верна реконструкция крупного современного историка. После победы на Кипре афиняне посвятили богам в знак благодарности десятую часть трофеев и поручили поэту Симониду восславить поражение персов. Он «восхвалял доблесть эллинов на Кипре, именовал эту битву величайшим сражением, какое когда-либо видел мир. В то же время это был памятник всем персидским войнам, отношение к которым олицетворял собой Кимон»[31]. Можно полагать, что Перикл стоял за этой пропагандой, из чего следовало, что война была выиграна славной афинской победой, а не завершилась мирным договором, и что Кимон как бы осенял новую политику Перикла. Одновременно памятник Кимону был призван утихомирить его друзей и привлечь их на свою сторону.
Периклу требовались примирение и единство в Афинах. Ведь, несмотря на заключенный мир, он отнюдь не собирался распускать союз, трансформировавшийся в империю. Он не хотел жертвовать славой, политической и военной властью, а также денежными поступлениями. Афины нуждались в империи для своей безопасности и для создания и поддержания великого демократического общества, которое виделось Периклу. В частности, это величие предполагало весьма затратную строительную программу, финансируемую из имперской казны, пусть войны больше нет. И потому Перикл и афиняне стремились обосновать необходимость продолжения платежей, равно как и направить союзников к новым целям.
Но в империи уже возникали проблемы. В 454–453 гг. до н. э. в списке «данников» находим 208 городов, совокупный взнос которых равен 498 талантам. Четыре года спустя городов всего 163, а взнос равен 432 талантам, причем некоторые внесли лишь частичную оплату, некоторые заплатили с опозданием, а третьи не пожелали платить вообще. Нерешительность, неопределенность и мятежи угрожали существованию империи. В то же время Афинам стала снова грозить Спарта. Перемирие, заключенное Кимоном, действовало еще несколько лет, но его самого уже не было рядом, чтобы умиротворить спартанцев снова. Между двумя ведущими греческими державами копились разногласия, и никто не был уверен, что их удастся преодолеть без войны. А вот планы Перикла настоятельно требовали мира.
Вскоре после этого был заключен Каллиев мир. Перикл попытался избавиться от насущных проблем весьма творчески. Он внес в народное собрание законопроект, «предложение о том, чтобы все эллины, где бы они ни жили, в Европе или в Азии, в малых городах и больших, послали на общий съезд в Афины уполномоченных для совещания об эллинских храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые они должны принести за спасение Эллады по обету, данному богам, когда они сражались с варварами, о безопасном для всех плавании по морю и о мире»[32].
Посланников направили во все уголки греческой ойкумены, поручив передать приглашение «принять участие в совещаниях о мире и общих действиях Эллады». Перикл, как выразился один ученый, «взывал к грекам, дабы создать новую коалицию и совершить то, что должен был сделать союз 480 г. до н. э. во главе со спартанцами, – должен был, но не сумел, – и обеспечить мирные потребности, которые до сих пор удовлетворял Делосский союз»[33]. Кроме того, в этом приглашении предъявлялись афинские претензии на всегреческое лидерство, на новых основаниях. Война объединила греков, а поддержание мира и безопасности должно еще прочнее закрепить их единство. Религиозное благочестие, панэллинизм и общее благо – таковы были новые основания сохранения лояльности и жертвенности.
Был ли Перикл искренен? Сожженные персами храмы почти все находились в Аттике, а флот, которому надлежало хранить мир, был в основном афинским. Поэтому Перикл, возможно, ожидал, что спартанцы и их союзники отвергнут предложение Афин и тем самым предоставят ему новое оправдание для консолидации империи. С другой стороны, Перикл мог и вправду стремиться к свободе, безопасности и единству всей Эллады. Циники игнорируют такие факты, как сближение с Кимоном и перемирие со Спартой, явные свидетельства новой политики прочного мира. Но изображать Перикла как бескорыстного поборника идеи всегреческого единства значит упускать из вида те колоссальные преимущества, которые сулило Афинам принятие его предложения другими полисами Эллады. Перикл вполне мог считать, что спартанцы найдут разумным принять приглашение. Политика воинствующей партии в Лаконике обернулась катастрофой в Спарте и взлетом могущества Афин. Согласие Спарты на пятилетний мир 451 г. до н. э. показывает, что эта фракция оказалась дискредитированной. И потому было логично ожидать, что партия мира, пораженная неожиданным союзом Перикла с Кимоном и его очевидным отказом от прежней внешней политики, воспользуется проблемами морской империи Афин, чтобы выторговать прочный мир, как и во времена Кимона. Подобное развитие событий позволяло Периклу достичь поставленных целей и представляло бы дипломатическую победу новой политики мирного империализма.
Если Спарта откажется, впрочем, ничего не будет потеряно, зато многое приобретено. Афины покажут всем свои панэллинские устремления, свой религиозный пыл, свою готовность возглавить греков ради общего блага, обеспечив заодно крепкую нравственную основу для осуществления собственных планов – без помех и жалоб.
Спартанцы отклонили приглашение принять участие в новом проекте международного сотрудничества, и общее собрание греков не состоялось. Но этот эпизод сообщил греческому миру, что Афины готовы взять на себя инициативу в исполнении «святого долга». Он также предоставил Афинам обоснование для восстановления аттических храмов. Теперь Перикл был свободен наводить порядок в империи, продолжать сбор дани от союзников и тратить средства на свои видения.
Поврежденный папирус, ныне хранящийся в Страсбурге, дает неплохое представление о этих планах. Папирус содержит указ Перикла, предложенный летом 449 г. до н. э., вскоре после провала попытки созвать общегреческое собрание. Пять тысяч талантов подлежат единовременному изъятию из казны для строительства новых храмов на Акрополе, а еще двести будут изыматься ежегодно в течение следующих пятнадцати лет, дабы закончить работу. Строительная программа, однако, будет реализовываться не в ущерб содержанию флота (еще одно обоснование дани с союзников). Совет проследит за ремонтом старых кораблей и за тем, чтобы десять новых кораблей в год пополняли существующий флот. Если раньше и могли возникать вопросы, теперь их не осталось: Делосский союз, объединение (симмахия) автономных государств, сделался тем, что сами афиняне уже были готовы именовать империей (архэ), структурой, которая все еще обеспечивала общие выгоды, но предоставляла приоритет афинянам.
Через несколько лет после того, как новую программу начали реализовывать, Перикл столкнулся с жестким политическим сопротивлением партии, которую возглавлял Фукидид, сын Мелесия, блестящий оратор и политический организатор. Он прибегнул к типичным личным нападкам, чтобы заручиться поддержкой народа, утверждал, что Перикл стремится в итоге стать тираном. Эти обвинения он ловко сочетал с упреками в использовании казенных средств на строительную программу Перикла. Плутарх передает суть его претензий, озвученных перед народным собранием:
«Народ позорит себя, – кричали они, – о нем идет дурная слава за то, что Перикл перенес общую эллинскую казну к себе из Делоса; самый благовидный предлог, которым может оправдываться народ от этого упрека, тот, что страх перед варварами заставил его взять оттуда общую казну и хранить ее в безопасном месте; но и это оправдание отнял у народа Перикл. Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой тираннии, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов»[34].
Выступление Фукидида было агрессивным, тонко спланированным и рассчитанным на отклик широких масс. Он выступал не против империи как таковой и не против союзных взносов, иначе оттолкнул бы от себя большинство афинян. Нет, он жаловался, с одной стороны, на неправедное расходование общих средств на личные замыслы Перикла. Это напомнило друзьям Кимона, которые состояли теперь в Перикловой коалиции, что первоначальная Кимонова политика отринута и извращена. С другой стороны, Фукидид обращался к массовой аудитории, упирая на этические моменты. Используя язык традиционной религии и старомодной морали, он играл на чувствах афинян – ведь многие испытывали неловкость из-за того, что их родной город подчинил своей власти других греков.
Нападки Фукидида вынудили Перикла защищать империю и свою новую имперскую политику перед афинянами. В ответ на основную жалобу он не привел никаких оправданий. Афинянам, по его словам, нет нужды задумываться о деньгах, получаемых от союзников, покуда они обороняют тех от варваров:
«…союзники не поставляют ничего – ни коня, ни корабля, ни гоплита, а только платят деньги; а деньги принадлежат не тому, кто их дает, а тому, кто получает, если он доставляет то, за что получает. Но, если государство снабжено в достаточной мере предметами, нужными для войны, необходимо тратить его богатство на такие работы, которые после окончания их доставят государству вечную славу, а во время исполнения будут служить тотчас же источником благосостояния, благодаря тому, что явится всевозможная работа и разные потребности, которые пробуждают всякие ремесла, дают занятие всем рукам, доставляют заработок чуть не всему государству, так что оно на свой счет себя и украшает, и кормит»[35].
Первая часть этого опровержения отвечала на моральные нападки. Использование имперских средств на афинские нужды не аналогично тирании, утверждал Перикл, но сродни беспрепятственному расходованию платы за труд или прибыли человеком, который трудился по найму. А если нет подрыва моральных устоев, значит, это на совести союзников, что уклоняются от уплаты взносов, тогда как Афины продолжают их защищать. Вторая часть ответа адресована прежде всего простолюдинам, благополучие которых напрямую зависело от империи, напоминала им на простейших примерах, что все это лично для них означает.
Афиняне отлично поняли Перикла, и в 443 г. до н. э. он призвал к остракизму; это был одновременно «референдум» о доверии Периклу и о доверии его политике. Фукидида присудили к изгнанию, а Перикл обрел новую степень политического влияния. Народ поддержал его, не в последнюю очередь из-за благ, обеспеченных империей.
Концепция империи вряд ли завоюет сторонников в современном мире, а слово «империализм», производное от «империи», приобрело уничижительный смысл едва ли не с самого своего появления в XIX веке. Оба термина означают доминирование, обеспеченное силой или угрозой применения силы, над чужим народом в структуре, которая эксплуатирует подданных к выгоде правителей. Несмотря на тенденциозные попытки использовать термин «империализм» применительно к любой крупной и могущественной стране, которая давит своим авторитетом слабых, более нейтральное определение на основе исторического опыта требует политического и военного управления, чтобы оправдать такую терминологию.
В этих своих взглядах люди нашего времени уникальны среди всех, кто жил на планете с дня рождения цивилизации. Однако, если мы хотим понять империю Афин времен Перикла и отношение к ней, нам следует учитывать громадную пропасть, отделяющую их воззрения от современных. Для них это был повод для гордости и восхваления, но в некоторых отношениях он вызывал смущение и, по крайней мере у отдельных афинян, стыд. Перикл сам не единожды испытывал эти чувства и рассуждал о них с необыкновенной честностью и прямотой, хотя ни он, ни афиняне не были в состоянии разрешить все двусмысленности данной ситуации.
Афиняне неоднократно признавали непопулярность собственного правления, и историк Фукидид, современник событий и человек выдающейся наблюдательности, не преминул упомянуть об этом. В начале войны, писал он, «общественное мнение в подавляющем большинстве городов склонялось на сторону лакедемонян (между прочим, потому, что они объявили себя освободителями Эллады). Все – будь то отдельные люди или города – по возможности словом или делом старались им помочь… Таким образом, большинство эллинов было настроено против афинян: одни желали избавиться от их господства, другие же страшились его»[36].
Перикл в полной мере осознавал эти чувства и понимал этические последствия и практические проблемы опасности, которую они сулят. Тем не менее он никогда не колебался в отстаивании своего курса.
В 432 г. до н. э., когда угроза войны сделалась явной, афинское посольство прибыло в Спарту, якобы «по иным делам», но в действительности для того, чтобы изложить позицию Афин перед собранием спартанцев и их союзников. И доводы послов находились в полном согласии со взглядами Перикла. Послы утверждали, что афиняне обрели свою империю благодаря стечению обстоятельств, не ими подготовленных, а обеспеченных природными свойствами человеческого характера. С одной стороны, указывали послы, «нашу державу мы приобрели ведь не силой, но оттого лишь, что вы сами не пожелали покончить с остатками военной силы Варвара в Элладе. Поэтому-то союзники добровольно обратились к нам с просьбой взять на себя верховное командование. Прежде всего дальнейшее развитие нашего могущества определили сами обстоятельства. Первое – это главным образом наша собственная безопасность; затем – соображения почета и, наконец, выгода. Наша собственная безопасность требовала укрепления нашей власти, раз уж дошло до того, что большинство союзников нас возненавидело, а некоторые восставшие были даже нами усмирены. Вместе с тем ваша дружба не была уже прежней; она омрачилась подозрительностью и даже прямой враждой; отпавшие от нас союзники перешли бы к вам, что было весьма опасно для нас. Ведь никому нельзя ставить в вину, если в минуту крайней опасности он ищет средства спасения»[37].
Напротив, продолжали послы, афиняне поступили так, как наверняка поступили бы и спартанцы, сохрани те свое лидерство. И в этом случае они тоже сделались бы ненавистными другим. «Таким образом, нет ничего странного или даже противоестественного в том, что мы приняли предложенную нам власть и затем ее удержали. Мы были вынуждены к этому тремя важнейшими мотивами: честью, страхом и выгодой»[38].
Перикл, конечно, полагал, что обстоятельства сделали возникновение империи неизбежным, а основной побудительной причиной действий афинян после Платей и Микала был общий страх перед возвращением персов. Союз добился успеха, затем скрепляющие узы ослабли, афиняне единственные по-прежнему боялись нового прихода персов, а заодно – распада союза. Когда спартанцы стали проявлять враждебность, афиняне испугались, что их союзники дезертируют к новому противнику. Принуждение, необходимое для решения всех этих проблем, и породило ненависть, а потому было уже слишком опасно отказываться от власти, как Перикл позднее объяснял афинянам:
«Не думайте, что нам угрожает только порабощение вместо свободы. Нет! Дело идет о потере вами господства и об опасности со стороны тех, кому оно ненавистно. Отказаться от этого владычества вы уже не можете, даже если кто-нибудь в теперешних обстоятельствах из страха изобразит этот отказ как проявление благородного миролюбия. Ведь ваше владычество подобно тирании, добиваться которой несправедливо, отказаться же от нее – весьма опасно»[39].
Перикл ясно видел невзгоды, избавить от которых способно сохранение империи, но и не оставался глух к рассуждениям о чести и достоинстве. В надгробной речи 431 г. до н. э. он обратил внимание афинян на несомненные преимущества империи и ее выгоды:
«Мы ввели много разнообразных развлечений для отдохновения души от трудов и забот, из года в год у нас повторяются игры и празднества. Благопристойность домашней обстановки доставляет наслаждение и помогает рассеять заботы повседневной жизни. И со всего света в наш город, благодаря его величию и значению, стекается на рынок все необходимое, и мы пользуемся иноземными благами не менее свободно, чем произведениями нашей страны»[40].
Но эти развлечения и отдохновения были для Перикла важны куда менее, нежели честь и слава Афин, обретенные благодаря империи, награды, вновь и вновь оправдывавшие жертвы горожан. Он просил своих сограждан: «…пусть вашим взорам повседневно предстает мощь и краса нашего города и его достижения и успехи, и вы станете его восторженными почитателями. И, радуясь величию нашего города, не забывайте, что его создали доблестные, вдохновленные чувством чести люди, которые знали, что такое долг, и выполняли его»[41]. На следующий год, когда ситуация ухудшилась и возможность окончательного поражения уже нельзя было игнорировать, Перикл вновь обратил внимание афинян на могущество и славу империи и непреходящую ценность ее достижений:
«Конечно, люди слабые могут нас порицать, но тот, кто сам жаждет деятельности, будет соревноваться с нами, если же ему это не удастся, он нам позавидует. А если нас теперь ненавидят, то это – общая участь всех, стремящихся господствовать над другими. Но тот, кто вызывает к себе неприязнь ради высшей цели, поступает правильно. Ведь неприязнь длится недолго, а блеск в настоящем и слава в будущем оставляет по себе вечную память. Вы же, помня и о том, что принесет славу в будущем и что не опозорит ныне, ревностно добивайтесь и той и другой цели… Те, кто меньше всего уязвим душой в бедствиях и наиболее твердо противостоит им на деле, – самые доблестные как среди городов, так и среди отдельных граждан»[42].
Подобные аргументы были не просто красивыми словами. Перикл произносил свою речь в критический момент афинской истории, упирал на важнейшие ценности, почитаемые его согражданами, и все, что мы знаем о нем, указывает, что он сам почитал эти ценности. Но также он был верен имперской идее – по причинам, уже не столь значимым и привлекательным для среднего афинянина. Перикл желал создать новый тип государства, который бы стимулировал стремление к эстетическому и интеллектуальному величию, присущее человеческой природе в целом и греческой культуре в частности. Афины должны стать «светочем знаний Эллады», и потому-то город привлекал в свои пределы величайших поэтов, художников, скульпторов, философов, художников и интеллектуалов. Власть и богатство, которые обеспечивала империя, были необходимым условием исполнения этой мечты, а равно позволяли оплачивать постановку пьес и исполнение великих поэм, строительство прекрасных зданий, написание картин и ваяние скульптур, украшавших город.
Это видение, эта мечта была неосуществима без империи, но империи, отличной от всех, что существовали прежде, даже от той, которую строил Кимон. Эта империя нового типа нуждалась в безопасности и средствах на гражданские расходы, которые доступны только в мирное время. При этом Афинская империя, как и все ее предшественницы, была создана мечом, и многие попросту не представляли одно без другого. Проблема усугублялась и характером Афинской империи, чья власть основывалась не на огромной армии, контролирующей громадные территории, но на военно-морском флоте, который доминировал на море. Эта необычная империя восхищала проницательных современников. Так, Старый олигарх указывал некоторые ее особые черты:
«А из тех подчиненных афинянам государств, которые лежат на материке, большие подчиняются из страха, а маленькие главным образом из нужды: ведь нет такого государства, которое не нуждалось бы в привозе или вывозе чего-нибудь, и значит ни того, ни другого не будет у него, если оно не станет подчиняться хозяевам моря. Затем властителям моря можно делать то, что только иногда удается властителям суши, – опустошать землю более сильных; именно, можно подходить на кораблях туда, где или вовсе нет врагов, или где их немного, а если они приблизятся, можно сесть на корабли и уехать, и, поступая так, человек встречает меньше затруднений, чем тот, кто собирается делать подобное с сухопутной армией»[43].
Морские силы, кроме того, способны совершать набеги на вражеские территории, наносить врагу ущерб без серьезных потерь для себя, могут преодолевать большие расстояния, недоступные сухопутному войску, могут безопасно миновать вражеские земли, тогда как сухопутной армии придется прорываться с боем, и им не нужно бояться неурожая, ибо они в состоянии получить все, что потребуется. В греческом мире, вдобавок, все враги флота уязвимы: «…у всякого материка есть или выступивший вперед берег, или лежащий впереди остров, или какая-нибудь узкая полоса, так что те, которые владычествуют на море, могут, становясь там на якоре, вредить жителям материка»[44].
Фукидид тоже восхищался морским могуществом и описывал его еще более красноречиво. Его реконструкция ранней греческой истории, излагающая хронику рождения цивилизации, трактует морское могущество как жизненно важный элемент. Сначала появляется флот, затем истребляются пираты и обеспечивается безопасность торговли. В результате начинается накопление богатств, которое приводит к возникновению городов-крепостей. Это, в свою очередь, дополнительно обогащает и позволяет создать империю, а мелкие и слабые города обменивают свою независимость на безопасность и процветание. Богатство и власть, обретенные таким способом, допускают расширение власти имперской метрополии. Эта схема отлично описывает рост Афинской империи. Однако Фукидид представляет ее как заложенную в природе вещей, неотъемлемую от любого морского господства и впервые реализованную на практике в современных ему Афинах[45].
Перикл и сам ясно сознавал уникальность морской империи как инструмента афинского величия и в канун Пелопоннесской войны призывал афинян сплотиться, восхваляя имперские блага. Война будет выиграна благодаря денежным накоплениям и владычеством над морем, где империя сулит Афинам неоспоримое превосходство.
«Если они нападут на нашу землю по суше, то мы нападем на них на море, и тогда опустошение даже части Пелопоннеса будет для них важнее опустошения целой Аттики. Ведь у них не останется уже никакой другой земли, которую можно было бы захватить без боя, тогда как у нас много земли на островах и на материке. Так важно преобладание на море!»[46]
На второй год войны Перикл витийствовал еще убедительнее, стараясь восстановить упавший боевой дух отчаявшихся афинян:
«Все же мне хочется указать еще на одно преимущество, которое, как кажется, ни сами вы никогда не имели в виду, ни я не упоминал в своих прежних речах, а именно: мощь нашей державы. И теперь я, пожалуй, также не стал бы говорить о нашем могуществе, так как это было бы до некоторой степени хвастовством, если бы не видел, что вы без достаточных оснований столь сильно подавлены. Ведь вы полагаете, что властвуете лишь над вашими союзниками; я же утверждаю, что из обеих частей земной поверхности, доступных людям, – суши и моря, – над одной вы господствуете всецело, и не только там, где теперь плавают ваши корабли; вы можете, если только пожелаете, владычествовать где угодно. И никто, ни один царь, ни один народ не могут ныне воспрепятствовать вам выйти в море с вашим мощным флотом»[47].
Эта беспрецедентная власть, однако, может оказаться под угрозой из-за двух слабостей. Во-первых, есть непреложный географический факт: метрополия этой великой морской империи – город, расположенный на материке и потому уязвимый для нападения с суши. Так как Афины не находятся на острове, местоположение города означало слабость, ибо землевладельцы не желали жертвовать своими домами и усадьбами.
Перикл это прекрасно понимал: «Подумайте: если бы мы жили на острове, – говорил он, – кто тогда мог бы одолеть нас?»[48] Но Перикл не мог позволить, чтобы природа препятствовала достижению его целей. Раз Афины сделались бы неуязвимыми, будь они островом, значит, они должны стать островом. Поэтому он просил афинян «как можно яснее мысленно представить себе такое положение, при котором нам придется покинуть нашу землю и жилища» и перебраться в город. Под защитой Длинных стен афиняне будут получать пропитание благодаря имперским поставкам и могут сколь угодно избегать сухопутного сражения. В своей чрезвычайно эмоциональной речи Перикл восклицал: «Поэтому следует не скорбеть о наших жилищах и полях, а подумать о нас самих. Ведь вещи существуют для людей, а не люди для них. Если бы я мог надеяться убедить вас в этом, то предложил бы добровольно покинуть нашу землю и самим опустошить ее, чтобы доказать пелопоннесцам, что из-за разорения земли вы не покоритесь им»[49].
Но даже Перикл не смог убедить афинян поступить подобным образом. Использование такой стратегии, основанной на холодном расчете и суровой дисциплине, которые опровергают привычные уложения и традиции, требует особых обстоятельств и особого доверия, на какое он мог лишь уповать; даже при прямой угрозе спартанского вторжения в 465–446 гг. до н. э. Перикл не сумел убедить афинян бросить их владения. В 431 г. до н. э. он все же прибегнул к этой стратегии и реализовал ее, пусть с немалыми затруднениями. Но к тому времени он получил достаточно власти, чтобы это сделать.
Вторая слабость империи была менее очевидной, однако не менее серьезной и проистекала из того самого динамизма, который сотворил морскую империю Афин. Проницательные наблюдатели, равно афиняне и иноземцы, отмечали эту особенность имперского великолепия, а также ее выгоды и опасности. Спустя много лет после смерти Перикла его воспитанник Алкивиад, призывая к походу на Сицилию, изложил свое видение империи, естественный динамизм которой возможно обуздать лишь ценой ее гибели. Афины должны пользоваться любыми возможностями расширить свое влияние, убеждал он, ибо, «как и все могущественные державы, мы также достигли могущества лишь потому, что всегда с готовностью помогали эллинам и варварам, когда они просили нас об этом. Если же мы будем хранить спокойствие или начнем длительное разбирательство, нужно ли помочь кому-нибудь как соплеменнику или нет, то, пожалуй, мало поможем распространению нашего могущества, а скорее совершенно погубим нашу державу»[50]. Подобно Периклу, он предупреждал, что Афинам слишком поздно менять свою политику; ступив на дорогу к империи, город уже не может с нее сойти – либо мы правим, либо нами правят. Алкивиад пошел и еще дальше, уверяя, что Афинская империя обрела силу, не позволяющую ей остановиться, – некую внутреннюю силу, которая не признает пределов и стабильности: «…если государство останется совершенно бездеятельным, то, подобно всякому другому организму, истощится, и все знания и искусства одряхлеют. Напротив, в борьбе оно будет постоянно накапливать опыт и привыкнет защищаться не только на словах, а на деле. Вообще же я совершенно убежден, что именно государство, всегда чуждавшееся бездеятельности, скорее всего может погибнуть, предавшись ей; думаю, что в наибольшей безопасности живут те люди, кто менее всего уклоняется в политике от стародавних обычаев и навыков, даже если они и не совершенны»[51].
В 432 г. до н. э., пытаясь убедить спартанцев объявить войну Афинам, жители Коринфа прибегли к тем же доводам, связав динамичный характер империи с нравами самих афинян. Они противопоставили спокойствие, бездеятельность и оборонительную доктрину спартанцев опасной агрессивности афинян:
«Вероятно, вам еще никогда не приходилось задумываться о том, что за люди афиняне, с которыми вам предстоит борьба, и до какой степени они во всем не схожи с вами. Ведь они сторонники новшеств, скоры на выдумки и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, держитесь за старое, не признаете перемен, и даже необходимых. Они отважны свыше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия, не теряют надежды в опасностях. А вы всегда отстаете от ваших возможностей, не доверяете надежным доводам рассудка и, попав в трудное положение, не усматриваете выхода. Они подвижны, вы – медлительны. Они странники, вы – домоседы. Они рассчитывают в отъезде что-то приобрести, вы же опасаетесь потерять и то, что у вас есть. Победив врага, они идут далеко вперед, а в случае поражения не падают духом. Жизни своей для родного города афиняне не щадят, а свои духовные силы отдают всецело на его защиту. Всякий неудавшийся замысел они рассматривают как потерю собственного достояния, а каждое удачное предприятие для них – лишь первый шаг к новым, еще большим успехам. Если их постигнет какая-либо неудача, то они изменят свои планы и наверстают потерю. Только для них одних надеяться достичь чего-нибудь значит уже обладать этим, потому что исполнение у них следует непосредственно за желанием. Вот почему они, проводя всю жизнь в трудах и опасностях, очень мало наслаждаются своим достоянием, так как желают еще большего. Они не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга, и праздное бездействие столь же неприятно им, как самая утомительная работа. Одним словом, можно сказать, сама природа предназначила афинян к тому, чтобы и самим не иметь покоя, и другим людям не давать его»[52].
Перикл решительно оспаривал подобную точку зрения. Он не верил, что Афинская морская империя должна расширяться безгранично и что демократическая конституция и блага империи совместно сформировали афинского гражданина, который не способен успокоиться и насытиться. Это не означает, что Перикл не видел опасностей чрезмерного честолюбия. Он знал, что некоторые афиняне мечтают завоевывать новые земли, особенно в западном Средиземноморье, на Сицилии, в Италии и даже в Карфагене. Но он был решительно против дальнейшего расширения империи, что и продемонстрировали его последующие действия. В ходе Пелопоннесской войны он неоднократно предостерегал афинян от попыток раздвинуть границы империи. Еще показательно, что о грандиозном имперском потенциале морского флота он заговорил всего лишь за год до смерти, когда афиняне впали в уныние и им требовалась моральная поддержка. Ранее Перикл воздерживался от подобных заявлений – не только, как он сам сказал, избегая хвастовства, но, в основном, чтобы не допустить разжигания чрезмерного аппетита.
Если даже Перикл и грезил втайне о расширении империи, катастрофический исход египетской кампании середины 450-х, кажется, убедил его в тщетности этих грез. Провал похода потряс империю до основания и поставил под угрозу безопасность Афин. С тех пор Перикл последовательно отвергал любые проекты экспансии и старался избегать неоправданного риска. Он явно считал, что рассудок способен подчинить «непокорные страсти», сохранял империю в существующих границах, а также использовал имперские доходы ради иной, безопасной, но, возможно, еще большей славы, чем греки знали прежде. Перикл считал Афинскую империю достаточно крупной и полагал ее расширение ненужным и опасным. Война с Персией закончилась, и теперь успех планов и политики зависел от стремления и умения поддерживать мир со спартанцами.
Таким образом, Периклова оборона Афинской империи представляла собой комплексную стратегию. Афиняне подавляли и предотвращали восстания в союзных городах угрозой применения флота и демонстрацией готовности его использовать, как было на Эвбее в 446–445 гг. до н. э., на Самосе в 440 г. до н. э. и в других местах. В то же время политика управления империей строилась на суровости, но не на жестокости, в отличие от той, к которой прибегли после смерти Перикла в 429 г. до н. э. Его преемники убили всех мужчин и продали в рабство женщин и детей в Скионе и на Мелосе. Ни Кимон, ни Перикл никогда не допускали такого зверства. Перикл, советуя направлять союзников твердой рукой, сопротивлялся призывам к дальнейшему расширению империи, ибо опасался, что это поставило бы под угрозу все достигнутое. Наконец, он продолжал убеждать своих противников в Афинах и других греков, что Афинская империя необходима, ее существование морально оправданно и не несет угрозы прочим эллинским государствам. Фукидид сомневался в способности демократии сдерживать собственные амбиции и умеренно долго жить по-имперски, но полагал, что это возможно при чрезвычайных обстоятельствах – и при таком лидере, каким был Перикл.
Дополнительная литература
Характер и черты Афинской империи лучше всего описаны в классическом обзоре Рассела Мейггса «Афинская империя» (Oxford: Oxford University Press, 1972); также отметим работу Малькольма Макгрегора «Афиняне и их империя» (Vancouver: University of British Columbia Press, 1987) и исследование П. Дж. Роудса «Афинская империя» (Oxford: Oxford University Press, 1985). Различные точки зрения по поводу того, кем были древние афиняне – империалистами-эксплуататорами или просвещенными демократами, защищавшими бедняков через пропаганду народного правительства, – изложены в работе Лорен Дж. Сэмонс «Империя Совы: афинская финансовая империя» (New Haven, CT: Yale University Press, 2000); см. также статью Дональда У. Брэдина «Популярность афинской империи» (Historia, 9, 1960: 257-69). Дж. Э. М. де-Сен-Круа наиболее убедительно отстаивает роль Афин как благонамеренного защитника низших слоев общества; см. его статью «Характер Афинской империи» (Historia, 3, 1954: 1-41). Эту статью дополняет классическая работа по финансам Афинской империи «Пятый век Афинской империи: платежный баланс» М. И. Финли в сборнике «Империализм в древнем мире» (под ред. П. Д. Гарнси и К. Р. Уиттакера, Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
3. Почему не падают стены: полевое исследование афинских укреплений классического периода Дэвид Л. Берки
Судьба Афин в классический период греческой истории тесно связана со строительством и перестройкой городских стен, а также с расширением защитного периметра вдоль границ Аттики. На каждом этапе строительства стены видоизменяли ландшафт и символизировали афинское могущество, как на его пике, так и в момент величайшего упадка[53]. Тысячи афинских граждан и рабов строили эти стены и укрепления, нередко работали без перерывов, когда полису начинала грозить серьезная опасность. На протяжении классического периода строительство стен представляло собой важнейший вид общественных работ, и сам проект имел большое политическое и стратегическое значение для Афин. В современную эпоху высоких технологий крепостные укрепления выглядят устаревшими, однако они возводятся вновь и вновь, в новых формах, пусть даже каждая свежая волна военных стратегов признает их бесполезными. Обзор вековой истории афинских укреплений покажет, почему стены устояли, и объяснит, как развивались строительные практики с течением времени, в соответствии с разнообразными военными и политическими целями.
Великие инвестиции городских ресурсов, человеческие и материальные, в защиту Афин связаны с именами знаменитых политиков и военачальников города, в частности Фемистокла, Перикла и Конона. После кризиса и триумфа в конце персидских войн Фемистокл начал укреплять оборону Афин и намеревался превратить город в оплот военно-морского могущества греческой ойкумены. В последующие десятилетия Перикл приступил к следующему этапу строительства, к возведению Длинных стен. К концу столетия затяжные конфликты в ходе Пелопоннесской войны привели к уничтожению этих стен. Стабилизировавшаяся афинская демократия вступила в послевоенный период с горячим желанием восстановить положение города в рамках межполисной системы. Конон признавал значение крепостных стен и приложил немало усилий для их укрепления. Все эти лидеры осознавали стратегическую важность надежных оборонительных укреплений, но обстоятельства, при которых осуществлялись строительные проекты, как и их влияние на жизнь полиса, были уникальными в каждом случае. По мере смены политических приоритетов стены служили различным стратегическим потребностям. Изучив их историю в классический период, мы сможем оценить это смещение стратегического значения и предложить современные исторические параллели к реликвиям имперской славы Афин.
Стратегия Фемистокла в годы персидского вторжения в Аттику строилась на обеспечении безопасности афинских женщин и детей и позволяли жителям полиса адекватно и агрессивно реагировать на персидскую угрозу. Одних крепостных стен было явно недостаточно для обороны города, учитывая численность армии Ксеркса. Тогдашний Акрополь был опоясан стеной циклопической кладки (это название объясняется убежденностью древних греков в том, что массивные каменные блоки для укреплений этого типа подносили легендарные великаны-циклопы); но основная масса афинских граждан, несомненно, погибла бы при штурме города, не говоря уже о длительной осаде[54]. Указ Фемистокла от 480 г. до н. э. свидетельствует об экстраординарных мерах, которыми афиняне пытались спасти свои жизни, эвакуируя Аттику и оставляя свои владения варварам[55]:
«Город предает себя под покровительство Афины, защитницы полиса, и всех других богов, и молит их об отвращении и спасении от Варвара от имени всей окрестной земли. Афиняне во всем своем множестве, а также пришлые, что живут в Афинах, должны переправить своих детей и женщин в Трезен. Пожилых же людей и движимое имущество надлежит перевезти для безопасности на Саламин. Казна и жрецы останутся на Акрополе и будут охранять то, что принадлежит богам. Остальные афиняне во всем своем множестве и те гости, что достигли возраста мужчин, должны взойти на стоящие в гавани две сотни кораблей и сражаться с Варваром ради свободы, своей собственной и прочих эллинов, заодно с лакедемонянами, коринфянами, эгинянами и другими, кто готов проявить мужество».
Приближаясь к Аттике, персы сожгли города Феспии и Платеи, чьи граждане отказались «предаться царю» (то есть оказать помощь персам)[56]. В этих отчаянных обстоятельствах, по словам Геродота, некоторые горожане присоединились к тем, кому поручили оборону Акрополя:
«Только в святилище (Афины Паллады)… нашли небольшое число афинян – хранителей храмовой утвари и бедняков. Эти люди заперли ворота акрополя и завалили их бревнами, чтобы преградить вход в храм. Они не переехали на Саламин отчасти по бедности и к тому же, как им казалось, только они разгадали смысл изречения Пифии о том, что деревянная стена неодолима: акрополь, думали они, будет им убежищем, которое подразумевал оракул, а не корабли»[57].
Фемистоклово толкование пророческого ответа Аристоники[58], а именно, что слова «деревянные стены» подразумевают строительство флота за счет доходов от серебряных копей Лавриона, оказалось верным. Успех тактики Фемистокла в морском сражении при Саламине оказался решающим для разгрома персидского флота[59]. А вот сухопутные силы персов убили всех греков, что остались в Афинах, разграбили святилище и спалили Акрополь[60].
В следующем году персидский полководец Мардоний снова захватил опустевшие Афины, а перед отступлением в Беотию снес афинские крепостные стены и предал город огню: «Когда же Мардонию не удалось склонить афинян на свою сторону и он понял (истинное) положение дел, то отступил, пока войско Павсания еще не прибыло на Истм, предав огню Афины. Все, что еще уцелело (в городе) от стен, жилых домов и храмов, он велел разрушить и обратить во прах»[61]. Когда афиняне вернулись в свой город после поражения Мардония в битве при Платеях в 479 г. до н. э., они обнаружили остовы разрушенных домов и оскверненные святыни и храмы[62]. Фукидид описывает зрелище, представшее взорам афинян:
«Сразу же после отступления варваров из Аттики афинские власти велели перевезти в город женщин и детей с остатками домашнего имущества из тех мест, куда их отправили ради безопасности, и начали отстраивать город и восстанавливать стены. Ведь от окружной стены сохранились лишь незначительные остатки; большая часть жилищ также лежала в развалинах (осталось лишь немного домов, которые были заняты знатными персами)»[63].
По следам этого поистине глобального разрушения афиняне в первую очередь озаботились созданием безопасной обстановки, в которой они могли бы приступить к восстановлению прежнего образа жизни. Возможности не обращать внимания на понесенные потери, разумеется, не было. Как нынешние американцы приложили максимум усилий, чтобы должным образом почтить память погибших при разрушении небоскребов ВТО в Нью-Йорке, так и древние афиняне уделили немалое внимание увековечиванию памяти павших[64]. Они проголосовали за то, чтобы не использовать повторно камни разрушенных святилищ для возведения новых зданий. Эти камни оставили как есть, в напоминание о персидском нашествии, – возможно, в соответствии с клятвой при Платеях[65]: «…и, победив, сражаясь с варварами… храмов сожженных и получивших урон от варваров я не восстановлю повсеместно, но память о произошедшем я сохраню как свидетельство нечестия варваров»[66]. Соответственно, когда афиняне выстроили новую стену для защиты северной стороны Акрополя и решили использовать камни архаичного храма (что поразительнее всего, макушки старинных колонн), получился как бы военный мемориал, живое напоминание о разрушении города персами[67].
Фукидид начинает историю Пентеконтаэтии (50-летнего промежутка между персидскими войнами и Пелопоннесской войной) со строительства стен Фемистокла и признает их зарождением афинского могущества[68]:
«Прослышав об этом намерении афинян, лакедемоняне отправили послов в Афины, чтобы помешать возведению стен. Они и сами предпочли бы видеть Афины и другие города неукрепленными, и к тому же побуждали их союзники, которые опасались новоявленного морского могущества афинян и отваги, проявленной ими в мидийской войне. Поэтому-то лакедемоняне и требовали от афинян отказаться от укрепления их города и даже предложили помочь им разрушить существующие стены в других городах вне Пелопоннеса. Своих собственных замыслов и подозрений против афинян они, впрочем, не открывали, а ссылались на то, что если Варвар когда-нибудь вздумает вновь напасть на Элладу, то не найдет себе уже никакого опорного пункта (каким в теперешней войне для персов служили Фивы), а всем эллинам достаточным убежищем и опорным пунктом для их военных операций будет Пелопоннес. Афиняне же по совету Фемистокла дали ответ, что сами отправят к ним посольство по этому делу, и отпустили лакедемонских послов. Тогда Фемистокл предложил немедленно отправить его самого послом в Лакедемон, остальных же послов не отпускать вместе с ним, но задержать в Афинах до тех пор, пока воздвигаемая стена не достигнет высоты, достаточной для обороны. Весь город поголовно – мужчины, женщины и дети – должен был строить стены, не щадя при этом ни частных, ни общественных зданий, а просто снося их, если это могло ускорить работы»[69].
Фукидид ставил знак равенства между наличием у Афин крепостных стен и могуществом города. Завершает же он свое рассуждение жалобой, что скорость, с какой возвели стены, ставила под угрозу качество строительства:
«Таким образом, за короткое время афиняне успели восстановить городские стены. И теперь еще заметны следы поспешности при строительстве стен. Действительно, нижние слои сложены из разных и кое-где даже необтесанных камней, то есть их укладывали в том виде, как они были доставлены. Много также было вложено в стену могильных плит и камней, приготовленных ранее для других целей. Так как окружная стена всюду была расширена (по сравнению с прежней), то весь пригодный для строительства материал в спешке приходилось брать откуда попало»[70].
Афиняне тем самым продемонстрировали твердое намерение защищаться. Возможно, Фукидид еще проводит параллель между наличием у города стен и расширением Афинской империи. И стены, и империя строились быстро и олицетворяли разрыв с прошлым. Афиняне возводили стены с использованием надгробий предков, а благодаря возникновению империи в их полис пришло небывалое процветание, преобразив и сам город, и ландшафт. Сохранившиеся остатки этих с стен, 6,5 км длиной, показывают, что, пусть они строились спешно[71], на стройматериалах все же не экономили[72].
Рассказ Фукидида о рождении Афинской империи широко известен и объясняет стратегическую потребность в увеличении охвата афинских крепостных стен. Также этот рассказ обнажает противоречивую природу отношений между Афинами и Спартой и показывает, что их отказ от взаимодействия восходит к временам до персидских войн. Укрепление афинского могущества привело к формированию биполярной структуры в межполисной системе отношений. Афины и Спарта, помимо прочего, различались и подходом к вопросам обороны. Учитывая, что крепостные стены являлись неотъемлемым элементом защиты архаических и классических полисов, следует отметить тот факт, что Спарта ими пренебрегала[73]. Милитаристское спартанское общество не видело доблести в том, что граждане укрываются за оборонительными сооружениями[74]; и лишь вторжения Эпаминонда в Пелопоннес в десятилетие после поражения спартанцев в битве при Левктрах (371 г. до н. э.) заставили спартанцев озаботиться защитой собственной территории и принять во внимание полезность крепостных стен[75].
Фемистокл также осуществил свой давний план по превращению Пирея в главную гавань Афин, как военную, так и торговую; это событие логически предваряло собой последующее возведение Длинных стен. Впрочем, остракизм в 472 г. до н. э. и смерть в 467 г. до н. э. не позволили Фемистоклу в полной мере реализовать свои намерения. Тем не менее увеличение количества кораблей во флоте и доходы от империи убедили афинян в целесообразности общественных работ в Пирее. Они даже призвали милетца Гипподама, которому поручили разработать городскую планировку, предположительно, во времена Перикла[76]. Фукидид приводит доводы Фемистокла в пользу укрепления Пирея, а также излагает его стратегическое видение:
«По настоянию Фемистокла были возобновлены работы в оставшейся еще не укрепленной части Пирея (где работы были начаты уже прежде, в течение года его архонтства). По его мнению, именно это место с тремя естественными гаванями могло дать афинянам (когда они станут морской державой) огромные преимущества для дальнейшего роста их мощи. Фемистокл впервые высказал великую мысль о том, что будущее афинян на море, и положил таким образом начало строительству и укреплению Пирея, взяв это дело в свои руки тотчас же после постановления. По его совету стены, возведенные вокруг Пирея, были такой толщины (как это можно видеть еще и теперь), что две встречные повозки с камнем могли там разъехаться. Внутри стен для скрепления плит не было заложено ни щебня, ни глины, но огромные прямоугольные на обтесанной стороне каменные плиты были плотно подогнаны друг к другу и с внешней стороны скреплены железными и свинцовыми скобами. Правда, по окончании постройки высота стен оказалась равной только половине высоты, задуманной Фемистоклом. Ведь Фемистокл хотел возвести стены настолько высокие и толстые, чтобы враг не смел даже и помыслить о нападении на них, и для охраны их было достаточно горстки людей и даже инвалидов; всех же остальных граждан можно было посадить на корабли… Таким образом, афиняне тотчас после ухода мидян стали укреплять свой город стенами и занялись прочими военными приготовлениями»[77].
Решение афинян сосредоточиться на морской силе и строительстве, обслуживании и управлении триремами имело важнейшие стратегические последствия для классического периода греческой истории, причем не только для Афин, но и для ойкумены в целом. В частности, это позволило преодолеть слабость афинского ополчения, ведь большинству горожан, его составлявших, скудное снаряжение не позволяло толком сражаться в составе фаланги гоплитов. Феты, нижний из четырех Солоновых разрядов горожан, служили теперь гребцами во флоте. Более того, после указов о строительстве флота множество граждан записалось в моряки в стремлении обеспечить безопасность и процветание Афин. А для того, чтобы избегать впредь сухопутных сражений в поле, имело принципиальное значение наличие в полисе оборонительных сооружений. И, как основа расширения политической власти тысяч бедных афинян, крепостные стены Афин, а также Пирея, приобрели в глазах части горожан новый, так сказать, демократический статус[78].
После завершения строительства стен города и пирейских следующий этап в истории укрепления Афин – возведение Длинных стен[79]. Проект изначально предусматривал строительство двух стен, каждая 6 км длиной, от Афин до гавани Фалерон и Пирея. Первая стадия строительства завершилась в начале политической карьеры Перикла[80], а позднее он убедил сограждан построить и третью стену, параллельную пирейским[81]. В случае осады эти стены, охранявшие дорогу из города в порт, обеспечивали доступ к кораблям в гавани, боевым и торговым, равно как и к припасам, что доставлялись по морю. В ходе Пелопоннесской войны Длинные стены также позволили найти укрытие сельским жителям Аттики, хотя это вряд ли было их первоначальное назначение[82]. Дональд Каган так описывает стратегию Перикла:
«Перикл, однако, разработал новую тактику, которая стала возможной благодаря уникальному характеру и степени могущества Афин. Флот позволял им управлять империей, каковая приносила доход, обеспечивавший как сохранение господства на море, так и поступление любых необходимых товаров. Пусть территория Аттики оставалась уязвимой для нападений, сами Афины Перикл превратил фактически в остров, построив Длинные стены, что соединяли город с портом и военно-морской базой в Пирее. При тогдашнем уровне развития осадной техники у греков эти стены были несокрушимы, и потому, решив укрыться за ними, афиняне могли отсиживаться в городе сколь угодно долго, а спартанцы не имели возможности взять город штурмом»[83].
Афинские укрепления успешно защищали горожан во время войны, и лишь когда спартанцы блокировали Пирей, афинянам пришлось капитулировать. Но даже при успешности оборонительной тактики афинян в противостоянии со спартанцами стратегия Перикла шла вразрез с традиционной греческой воинской этикой и не позволила в итоге сдержать спартанцев, пускай те долго рыскали по Аттике, пытаясь вызвать афинян на генеральное сражение. Иначе говоря, при всей их несомненной полезности Длинные стены подорвали традиционные методы сдерживания; так, весной 431 г. до н. э. спартанцы уже уверились, что их гоплиты могут практически беспрепятственно нарушать афинский суверенитет. Как только исчезла угроза ответного удара, набеги спартанцев на Аттику сделались регулярными и продолжались до тех пор, пока то ли чума, то ли разгром и пленение спартиатов на Сфактерии не восстановили соотношение сил противников[84].
В ходе Пелопоннесской войны Афины призывали другие демократические полисы последовать их примеру и строить укрепления от города до порта; это видно, например, по рассказу Фукидида о событиях 417 г. до н. э., когда аргивяне возобновили союз с афинянами и начали строить собственную Длинную стену от города к морю[85]. Все случилось уже после того, как аргивяне-демократы поубивали или изгнали из Аргоса главных олигархов. Стены строились с таким расчетом, «чтобы в случае блокады с суши обеспечить с помощью афинян подвоз продовольствия морем. Некоторые из пелопоннесских городов знали о постройке стены. В Аргосе весь народ – сами граждане с женами и рабами принялись возводить стену, и афиняне послали им плотников и каменщиков»[86]. Афиняне, таким образом, предоставили Аргосу поддержку, на которую были способны, помогли местным демократам укрепить свое влияние и содействовали союзу двух полисов. Стены, тянувшиеся от Аргоса к побережью, обеспечивали доставку в город продовольствия во время осады, но никак не в качестве основы имперской власти. Как следствие, правившие в Аргосе демократы фактически впустили афинян в свой полис. Возможно, важнее всего, однако, был символический статус этого события. Стены воспринимались как олицетворение афинской демократии и афинского могущества. Для аргивян строительство этих стен было равнозначно прямому вызову Спарте.
Признание центральной роли Длинных стен в афинской стратегии и их символических связей с демократией, пожалуй, наиболее явно проявилось в стремлении спартанцев снести эти стены по завершении Пелопоннесской войны (404 г. до н. э.). Условия капитуляции Афин предусматривали разрушение Длинных стен, сокращение численности афинского флота до двенадцати трирем и приход к власти в городе проспартански настроенных олигархов, Тридцати тиранов. Победа Лисандра в предыдущем году в битве при Эгоспотамах вознесла Спарту весьма высоко[87]. Ксенофонт описывает панику афинян, узнавших о катастрофе:
«„Паралия“ прибыла ночью в Пирей и оповестила афинян о постигшем их несчастьи. Ужасная весть переходила из уст в уста, и громкий вопль отчаяния распространился через Длинные стены из Пирея в город. Никто не спал в ту ночь; оплакивали не только погибших, но и самих себя; ждали, что от спартанцев придется претерпеть то же, чему подвергли афиняне лакедемонских колонистов мелийцев, когда после осады их город был взят, гистиэйцев, скионейцев, торонейцев, эгинян и многих других греков… лакедемоняне теперь готовились отомстить афинянам за их прежние преступления, а афиняне обижали жителей мелких городов не отомщения ради, а только из высокомерия: они даже не выставляли никакого другого предлога, кроме того, что те были союзниками лакедемонян»[88].
Следующим шагом Лисандра было обеспечение полной блокады Афин, уже установленной на суше, и захват городской гавани. Едва поставки зерна стали сокращаться, осажденные афиняне признали необходимость переговоров[89]. Первоначально речь шла о примирении со спартанцами на условии, что Афины сохранят свои Длинные стены и стены Пирея. Когда афинские послы прибыли в Селассию на границе Лаконии, эфоры отказали им в праве вступить на земли Спарты и отклонили эти условия мира[90]. Позднее делегация во главе с Фераменом слушала споры победителей о судьбе побежденных афинян:
«…было созвано народное собрание, на котором особенно горячо возражали против заключения мира коринфяне и фиванцы, а также и многие другие эллины; они требовали совершенного разрушения Афин. Но лакедемоняне категорически отказались стать виновниками порабощения жителей греческого города, столь много потрудившегося в эпоху тяжких бедствий, когда великая опасность угрожала Греции. Они выразили согласие на мир при условии снесения Длинных стен и укреплений Пирея, выдачи всех кораблей кроме двенадцати, возвращения изгнанников и вступления в число союзников лакедемонян с подчинением их гегемонии, с обязательством следовать за ними повсюду – на суше и на море, – куда они ни поведут, и иметь одни и те же государства союзниками и врагами»[91].
Сама лишенная стен, олигархическая Спарта настаивала, что стены Афин подлежат сносу. После принятия народным собранием условий спартанцев, «Лисандр вернулся в Пирей. Изгнанники были возвращены; стены были срыты при общем ликовании под звуки исполняемого флейтистами марша: этот день считали началом свободной жизни для греков»[92]. Эта сцена ликования напоминает торжества по случаю слома Берлинской стены, когда толпы людей наблюдали (и сами участвовали) за символическим демонтажем «железного занавеса», пусть даже афинские стены были предназначены отражать врагов, а не удерживать собственных граждан.
Рассказ Ксенофонта о падении Афин представляет собой отчет о завершении периода политического равновесия греческих полисов, существовавшего во время Пелопоннесской войны и, во многих отношениях, на протяжении десятилетий до нее[93]. Решение спартанцев пощадить Афины и не уничтожать город было продиктовано уважением к заслугам афинян на благо Греции во время персидских войн. Это решение кажется особенно великодушным с учетом тяжести и длительности Пелопоннесской войны. Возможно, что в данном случае важнее всего, Спарта даже проигнорировала требования своих ведущих союзников, Коринфа и Фив, ради сохранения Афин. Тем не менее Спарта попыталась подорвать афинскую демократию, уничтожив афинские флот и стены и управляя городом по образцу, напоминавшему «модель» Лисандра, – декархии, гармосты и вооруженный гарнизон. Обеспечив свое военное присутствие в Аттике, спартанцы могли сдерживать влияние Фив в центральной Греции, и, возможно, некоторые из них надеялись использовать пограничные крепости афинян для этой цели[94].
Победа Спарты над Афинами изменила структуру межполисной системы отношений. Утрата Афинами лидирующего положения в былой биполярной схеме побудила Спарту наращивать амбиции, как подобало лидеру победоносной коалиции городов-государств. Вместо того чтобы стать единоличным лидером ойкумены, тем не менее в 404–395 гг. до н. э. Спарта фактически сама потворствовала непростому переходу от биполярности к многополярности отношений. В этот переходный период структура отношений внутри межполисной системы, не би– и не многополярная, пребывала в нестабильности. Эта нестабильность явилась результатом устранения Афин с политической арены и неуверенности в том, какой полис или союз городов займет в итоге их место. Что касается самих Афин, восстановление после поражения в Пелопоннесской войне частично зависело от способности афинян отыскать финансовые ресурсы, необходимые для укрепления обороны города[95]. К счастью для афинян, они обнаружили заинтересованного «инвестора», преследовавшего собственные стратегические интересы. Когда персидский сатрап Фарнабаз встретился с представителями Фив, Коринфа и Аргоса, а также с афинским полководцем Кононом, которого персидский царь Артаксеркс назначил командовать флотом в 397 г. до н. э.[96], на Коринфском перешейке, он ободрил греков, посулил денежную помощь и (по словам Диодора) заключил с ними союз[97]. Ксенофонт приводит слова Конона, обращенные к Фарнабазу, и описывает последующие действия сатрапа:
«Конон заявил Фарнабазу, что если тот оставит в его распоряжении флот, то он будет добывать провиант при помощи сбора продовольствия с островов, благодаря чему он сможет вернуться на родину и помочь афинянам восстановить их Длинные стены и стены вокруг Пирея. „Я хорошо знаю, – говорил он, – что лакедемонянам это будет крайне тягостно, и таким образом ты в одно и то же время угодишь афинянам и отомстишь лакедемонянам: одним ударом ты уничтожишь плод их долгих усилий“. Услышав это, Фарнабаз охотно отправил его в Афины, дав ему с собой денег на восстановление стен. Конон прибыл в Афины и восстановил большую часть стены, причем работа эта производилась как его экипажем, так и нанятыми за плату плотниками и каменщиками: он же выдавал деньги и на все прочие нужды»[98].
Фарнабаз вернулся в Персию, оставив Конона командовать флотом. Сам Конон тогда отправился в Афины и занялся восстановлением афинских укреплений. Древние авторы в целом согласны, что Конон ставил целью низвержение спартанской империи и, как следствие, возрождение могущества Афин[99]. Без поддержки Персии финансировать войну со Спартой было для Афин практически невозможно, но военный разгром спартанцев вновь обозначили при этом основной целью афинской внешней политики[100]. Афиняне уже приступили к восстановлению стен Пирея, а теперь получили возможность заняться и Длинными стенами[101].
На обломках минувшей славы афиняне стремились возродить свое величие и авторитет. В отличие от победителей, построивших стены Фемистокла в конце персидских войн, афиняне, которые возводили новые стены, потерпели поражение. И потому сложная задача, олицетворявшая преемственность былой военной стратегии Афин, не являлась «инновационной». Тем не менее восстановление Длинных стен, символа Афинской империи V столетия, показывало стремление афинян вернуть их полису прежнюю значимость в глазах соседних городов, потенциальных союзников в борьбе против Спарты[102], и тем самым распространять «мягкую власть»[103]. Восстановленные укрепления сигнализировали другим греческим полисам, что в Афинах возрождаются автономия и жизнеспособная демократия.
Желание возродить империю, несомненно, присутствовало в Афинах, но достижима была эта цель или нет – другой вопрос. Афины и прочие крупные греческие города не сумели нарушить гегемонию спартанцев в ходе Коринфской войны. Снарядить флот, сопоставимый по размерам и мощи с былым имперским, оказалось свыше афинских сил. И важнейшая роль, сыгранная Персией, была вдобавок очевидна для всех: в условиях «царского мира» содержались положения о прекращении военных действий на основе требований Артаксеркса. Договор предусматривал, что все полисы Малой Азии, а также острова Клазомены[104] и Кипр, переходят под власть Персии[105]. Все прочие полисы, за исключением афинских владений – Лемноса, Имброса и Скироса, которые имели стратегическое значение для защиты поставок зерна в Пирей[106], – должны оставаться автономными[107]. Всякий полис, отвергавший эти условия, объявлялся врагом царя Персии и подлежал возмездию со стороны персов и тех, кто готов объединиться с ними[108].
Окончание войны принесло победу спартанцам. Спарта распустила Беотийский союз лиги, развалила изнутри альянс Коринфа и Аргоса, вновь сделала Коринф своим союзником и остановила экспансию Афин. Ксенофонт признавал, что победа Спарты в Коринфской войны была дипломатической, а не военной: «В течение этой борьбы силы противников приблизительно равнялись друг другу, теперь лакедемоняне получили значительное превосходство благодаря этому миру, называемому Анталкидовым»[109]. Тот факт, что ведущие греческие полисы приняли условия мира, сформулированные в 387 г. до н. э., отмечает важные перемены в относительной силе рассматриваемых городов и, следовательно, в балансе сил в Греции в целом[110].
«Царский мир» считается первым примером характерного для IV столетия явления общих мирных договоров[111]. По сравнению с их предшественниками V века эти договоры, как правило многосторонние (в отличие от двусторонних), принимались ведущими греческими полисами (даже если формально не подписывались ими), теоретически заключались на неограниченный срок (а не на оговариваемый период времени) и декларировали принцип автономности для всех греческих полисов. С данной точки зрения, «царский мир» вполне отвечает некоторым из этих критериев, но далеко не всем[112]. Пожалуй, более справедливо трактовать «царский мир» как итог переговоров, призванных устранить недостатки предыдущих соглашений. Договор, завершивший Пелопоннесскую войну, породил антагонизм среди его участников – и тем самым создал проблем больше, чем уладил, – в значительной мере потому, что был двусторонним. А ведь Пелопоннесская война была борьбой за гегемонию на всем пространстве греческой ойкумены. Договор Спарты с Афинами положил конец конфликту двух основных сторон, но не решил проблем множества других полисов. Двусторонних переговоров было явно недостаточно для улаживания сложных межгосударственных отношений IV века, в которые вступали многочисленные полисы, чья внешняя политика преследовала конкурирующие цели. «Царский мир», пусть и якобы с участием всех греческих полисов, являлся все же результатом аналогичных двусторонних переговоров[113].
Положение об автономии в «царском мире» (387–386 гг. до н. э.) исключало возможность создания империи по модели V века, однако афиняне отыскали лазейку, чтобы вернуть себе лидерство в греческой межполисной системе отношений. Возможно, вскоре после набега Сфодрия на Пирей в 378 г. до н. э., они основали Второй афинский союз[114]. Приближение Сфодрия через Аттику к городу заставило афинян мобилизоваться. Опустошив Триасийскую равнину, Сфодрий отступил, так и не добившись заявленной цели, хотя и заставил афинян ощутить уязвимость. Если всерьез рассчитывать на восстановление былой имперской славы, требовалось создать сеть оборонительных сооружений, и афиняне обратились к союзникам с призывом объединиться ради общей свободы[115]. Да, «царский мир» лишил их заморских владений (за исключением Лемноса, Имброса и Скироса), однако предоставил при этом определенную гарантию защиты. Они тщательно соблюдали условия мирного соглашения, а вот спартанцы позволяют себе зачастую ими пренебрегать.
Пропагандой «царского мира» афиняне стремились восстановить свой авторитет среди полисов Греции и в глазах Персии, изображая себя противовесом тираническому правлению Спарты. Стела Аристотеля зафиксировала условия нового союзного договора и стала выражением сути афинской политики. Нынешних и будущих членов союза заверяли, что их свобода и автономия неприкосновенны, что Афины не станут размещать гарнизоны и назначать военных чиновников в союзные полисы, что Афины не будут требовать дани[116]и что вернут все земли, государственные и частные, удерживаемые афинянами, членам союза и прекратят практику клерухий. Далее стела перечисляла членов Второго афинского союза.
Афинам требовалось дистанцировать этот новый союз от прежней империи и пойти на уступки союзникам, чтобы приобрести, а затем сохранить последних. Этот союз представляет собой пример объединения слабых государств, дабы противостоять единоличной власти более сильного государства. Он обеспечил защиту Фивам и Афинам: Спарта уже не могла контролировать центральную Грецию, не вступив в серьезную конфронтацию с крупной коалицией полисов. И афиняне, с их смелым планом по формированию нового союза, и недавно освобожденные фиванцы нуждались в гарантиях безопасности от спартанских посягательства, если желали восстановить былую значимость своих городов[117]. Для малых же полисов на побережье Эгейского моря стимулом для присоединения к союзу являлась своего рода система коллективной безопасности, которую сулил союз, и возвращение собственности, до сих пор остававшейся во владении Афин. Задача союза декларировалась как защита автономии его членов от Спарты. Это несколько удивительно, учитывая, что для первых членов союза (исключая Афины и Фивы) потенциальная угроза свободе исходила прежде всего от Персии, а не от Спарты. Афины же постепенно усваивали роль простата, защитника «царского мира», от Спарты. Захват Кадмеи и набег Сфодрия показали всем греческим полисам, что Спарта готова нарушать «царский мир» и вовсе не является его гарантом. Значит, непосредственную угрозу Афинам и материковой Греции представляет Спарта, а не Персия.
Восстановление морского могущества Афин имело значение для системы межполисных отношений по той причине, что полисы Малой Азии и побережья Эгейского моря не желали зависеть исключительно от Спарты в своем противостоянии с Персией. А до тех пор, покуда афинян не вынудили покинуть их город, любая стратегия, основанная на военно-морской силе, требовала наличия Длинных стен. При этом, без флота существенной численности Афины не слишком могли полагаться на Пирей и Длинные стены для обеспечения собственного выживания. В этой высококонкурентной многополярной среде афиняне приняли решение инвестировать в защиту своих границ[118]. Из-за проблем с датировкой древних стен[119] до сих пор не удалось более или менее точно определить возраст этого массива укреплений[120], хотя в целом вполне правомерно относить его к IV столетию. Укрепляя свои оборонительные сооружения, афиняне разрывались между желанием править другими и необходимостью контролировать собственную территорию.
Джозайя Обер подчеркивает «оборонительный менталитет»[121] Афин IV века, и все же укрепление стен города и пограничных крепостей совпало с периодом, в течение которого афиняне проводили агрессивную внешнюю политику, особенно с учетом ограничений, налагаемых новой системой взаимоотношений. Вспоминая опыт, обретенный ими в ходе Пелопоннесской войны, кажется естественным, что защита Аттики имела для афинян первостепенное значение[122]. Они были полны решимости противостоять посягательствам на их территории, наподобие спартанского набега на сельскую Аттику в начале Пелопоннесской войны, последующей оккупации Декелеи в финальной фазе войны и недавнего рейда Сфодрия. Опять же, приняв «оборонительный образ мыслей», афиняне стремились установить полный контроль над своей территорией и тем самым обозначить себя как надежных союзников для единомышленников в других полисах, озабоченных борьбой против спартанской гегемонии, а затем и против Фив.
Чтобы обеспечить собственную безопасность и реализовать свои планы, афиняне сосредоточились на новой стратегии, которая требовала укрепления полиса и прилегающих к нему территорий. В этом контексте позднейшее рассуждение Аристотеля в «Политике» насчет крепостных стен и укреплений, пусть не относящееся впрямую к Афинам, важно для понимания образа мыслей стратегов IV века:
«Что касается городских стен, то отрицающие их надобность для тех городов, которые хвалятся доблестью жителей, судят слишком уж по-старинному, несмотря на то что видят, как такого рода хвастливые притязания городов опровергаются действительностью.
Конечно, когда имеешь дело с неприятелем одинаковой с тобою храбрости или немного превосходящим тебя в численном отношении, неблагородно пытаться защищаться за укрепленными стенами. Но так как приходится и допустимо иметь дело с нападающими, которые своим количеством подавляют и обычную человеческую, и свойственную немногим доблесть, то, раз дело в спасении жизни, избавлении от бедствий и надругательства, следует считать безопасные крепкие стены наиболее нужными во время войны, особенно ввиду того что теперь достигнуты такие успехи в изобретении метательных снарядов и осадных машин.
Требование не окружать города стенами равносильно тому, как если бы кто-нибудь стал искать местность, удобную для неприятельских вторжений, и приказал бы снести все гористые места или запретил бы и частные жилища окружать стенами, так как при наличии их обитатели этих жилищ тоже окажутся трусами. Сверх того, следует считаться и с тем, что если город окружен стенами, то можно пользоваться им и так и иначе, т. е. как имеющим стены и как их не имеющим, что исключается в том случае, если стен у города нет. А если так, то следует не только окружать город стенами, но и заботиться об их исправности: это и поведет к достойному украшению города и послужит для его защиты во время войны как против иных способов осады городов, так и против изобретенных в настоящее время. Подобно тому как нападающие заботятся о способах достижения успеха, так и у тех, кто защищается, одни средства уже найдены, а другие следует изыскивать и изобретать. Ведь на тех, кто хорошо подготовлен, вообще не решаются нападать»[123].
Укрепление города и его границ имеет решающее значение для защиты полиса не только от внешних врагов, но и от внутренних, способных угрожать безопасности граждан мятежами. Именно поэтому автор руководства IV века по полиоркетике (искусству осады городов) Эней Тактик призывал городские власти проявлять бдительность в отношении предательства: опора на стены нисколько не исключает необходимости внимательно следить за настроениями населения.
Афинские стены, стержень обороны города, сыграли попеременно несколько ролей на протяжении истории полиса. С эпохи Фемистокла возведение городских стен сулило безопасность граждан от вторжения. Эти же стены позволили афинянам вступить на дорогу к империи и процветать демократии, основанной на морском могуществе и власти тысяч бедных, которые благоденствовали на имперских доходах. При Перикле афиняне продолжали строить оборонительные сооружения и укреплять имперскую власть, и стены являлись неотъемлемой частью данной стратегии. В ходе Пелопоннесской войны стратегия Перикла обернулась недооценкой последствий перемещения тысяч граждан за стены и опустошения сельской местности; разразившаяся эпидемия в немалой степени способствовала ослаблению города. Вдобавок Перикл, похоже, не просчитал последствия отказа от прежней тактики сдерживания врага и фактически дал тому понять, что можно невозбранно вторгаться на территорию Аттики; в этих условиях война сделалась неизбежной.
После поражения Афин и разрушения городских стен Конон заново отстроил эти стены из практических и символических соображений. Впрочем, его планы потерпели неудачу в результате перемен, произошедших в системе греческих межполисных отношений. Вследствие этих перемен и участия в Коринфской войне афиняне осознали, что следовать прежней стратегии недостаточно, и попытались утвердить свою власть над собственной территорией за счет строительства пограничных крепостей; это значительно расширило оборонительные возможности города, прежде сводившиеся к пассивной обороне. Вторая половина IV века засвидетельствовала коренные изменения в тактике осады и применении осадной техники, изменения, которые выходят за рамки настоящей статьи. Афинские стены и пограничные укрепления оказались бессильными против Филиппа Македонского и его армии, и афиняне сдались, так и не испытав на практике свою дорогостоящую и обширную сеть обороны.
Более ста лет афинская демократия экспериментировала с различными укреплениями – городские стены, Длинные стены до моря, сеть пограничных крепостей – ради поддержания военного могущества и реализации разнообразных политических и экономических программ. Постоянным, как представляется, было разве что стремление строить каменные преграды для отражения любой потенциальной угрозы. А в последние полвека существования свободных греческих городов-государств за пределами Афин были возведены даже еще более амбициозные укрепления, что демонстрирует цепочка огромных крепостей на Пелопоннесе – в Мантинее, Мегалополе и Мессене: грандиозные стены окружили цитадели, спроектированные так, чтобы в городе нашлось место сельскохозяйственным участкам, и сулившие защиту населению всех окрестных городов в составе нового, единого демократического государства.
Даже в наши дни, в эпоху высоких технологий, стены и укрепления продолжают играть важную, пусть и менее значимую роль в оборонительной стратегии. Военные технологии развиваются по экспоненте, появление воздушного и космического оружия значительно сократили эффективность линий обороны, однако при определенных обстоятельствах крепости по-прежнему доказывают свою полезность (из чего следует, что цикл вызовов и ответов в ратном искусстве непрерывен и бесконечен).
Если приводить свежие примеры, ситуация в Ираке заставила ускорить создание «зон безопасности» и стен, разделяющих воюющие стороны[124]. Армия США в Багдаде возводит баррикады, чтобы обеспечить иракцам хотя бы подобие нормальной жизни, и постепенный отказ от этих огромных бетонных стен, возможно, указывает на ослабление напряженности между соперничающими группами в истерзанном войной городе[125]. Израиль установил целый ряд переходящих друг в друга барьеров и стен для предотвращения атак террористов-смертников; выяснилось, что это эффективное средство противодействия терроризму, пусть большинство экспертов предсказывало, что столь «ретроградное» решение вряд ли может быть успешным. Стена между Саудовской Аравией и Ираком – еще один пример современной фортификации. Для предотвращения угрозы проникновения иракских солдат Саудовская Аравия возвела дорогостоящую стену по всему периметру границы. Соединенные Штаты в настоящее время строят массивный, стоимостью несколько миллиардов долларов, «забор» из бетона и металла для укрепления американо-мексиканской границы. Первая часть, от Сан-Диего в Калифорнии до Эль-Пасо в Техасе, почти завершена и, судя по отчетам, резко сократила поток незаконной эмиграции – оказалась, таким образом, столь же эффективной, как меры наподобие увеличения числа патрулей, внедрения электронных датчиков, «виртуальных заборов» и применения санкций к работодателям. Явно устаревшие по сравнению со спутниковой связью, беспилотными летательными аппаратами и сложными компьютерными системами, металлические заборы и бетонные заграждения во всем мире продолжают тем не менее обеспечивать защиту там, где отсутствуют высокотехнологичные альтернативы. И чем сложнее технологии проникновения сквозь, под и над стенами, тем хитроумнее становятся преграды, опирающиеся на вековые преимущества укреплений, что продолжают мешать прямому входу (а иногда и выходу) или делают усилия нападающих слишком затратными, а потому контрпродуктивными.
Как верно для любого элемента военного искусства, функции и цели использования стен менялись со временем, но представление о материальном препятствии не устарело. В отличие от рвов и подъемных мостов эти препятствия в виде разнообразных стен продолжают широко и даже творчески использоваться[126]. Для афинян классической эпохи стены воплощали в себе не только линию обороны: они были символами власти и славы, помогали сформировать стратегический ландшафт межполисной системы и, в случае Длинных стен до Пирея, обеспечивали автономию низших слоев общества, столь важную для жизнеспособности афинской демократии и ее морской империи.
Эти укрепления создали стратегическую возможность наращивания могущества, их уничтожение сигнализировало о полном поражении, а восстановление стен содействовало возрождению Афин как потенциального могучего союзника полисов, заинтересованных в сдерживании Спарты. Подобно тому как британское владычество на морях служило самым разным целям в разных уголках планеты в период взлета и падения Британской империи – гарантировало безопасность торговли, поддерживало колониальную экспансию, принуждало к повиновению грубой силой, – афинские стены проектировались и строились многими ради множества целей. Относительно нашего высокотехнологичного будущего определенно можно сказать, что чем громче стены и укрепления отвергаются как реликвии военного прошлого, тем чаще они будут использоваться по-новому, совершенно неожиданно, и тем полезнее обращаться в прошлое за объяснением, почему они стоят до сих пор.
Дополнительная литература
Истории Афин и их стен подробно изложена в сочинениях Геродота и Фукидида с одинаковым названием «История». Кроме того, отметим текст автора IV века до н. э. Энея Тактика «О перенесении осад».
Возможно, именно по причине их вездесущности в древнегреческой ойкумене стены и укрепления привлекли значительное внимание ученых. В дополнение к многочисленным статьям и археологическим отчетам опубликовано несколько крупных монографий, рассматривающих фортификацию и оборону полисов на различных этапах греческой истории. Выявление и прослеживание хронологического развитии крепостной кладки и строительных техник обсуждается в работе Роберта Лоренца Скрэнтона «Греческие стены» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1941). «Греческая фортификация» Ф. Э. Уинтера (London: Routledge & Kegan Paul, 1971) и «Назначение греческих укреплений» А. У. Лоуренса (Oxford: Clarendon Press, 1979) предлагают содержательные обзоры древнегреческих укреплений. Работа И. Гарлана «Исследования греческой полиоркетики» (Paris: Bibliotheque de écoles françaises d'Athènes et de Rome, 1974) имеет важное значение для понимания роли валов в классической греческой оборонительной тактике. «Греческая военная архитектура» Ж. – П. Адама (Paris: J. Picard, 1982) содержит отличные фотографии и подробные чертежи укреплений древнегреческого мира. Нарастание сложности этих сооружений отражает развитие тактики их штурма; см. по данной теме книгу Э. У. Марсдена «Греческая и римская артиллерия в историческом развитии» (Oxford: Clarendon Press, 1969). Что касается Пелопоннесской войны, Виктор Дэвис Хэнсон посвятил укреплениям той поры целую главу (глава 6, «Стены и осады (431–415)») своей книги «Непохожая война: как афиняне и спартанцы сражались в Пелопоннесской войне» (New York: Random House, 2005).
Если переходить непосредственно к Афинам, археологические раскопки городских стен обсуждаются в работе Р. Э. Уичерли «Камни Афин» (Princeton: Princeton University Press, 1978), см. особенно главу 1 «Стены». Совсем недавно Джон Кэмп опубликовал отличный обзор археологии афинского гражданского строительства в «Археологии Афин» (New Haven: Yale University Press, 2001). Как ни удивительно, полномасштабное изучение Длинных стен было предпринято только в наши дни. Дэвид Х. Конуэлл проделал замечательную работу по сбору всех сохранившихся сведений в произведениях античных авторов, эпиграфике и среди археологических находок; «Соединить город с морем: история афинских Длинных стен» (Leiden: Brill, 2008). Выходя за пределы городских стен на равнины Аттики, мы отметим три основных исследования, посвященных обороне этого региона: «Укрепленные военные лагеря Аттики» Дж. Р. Маккреди (Princeton: Princeton University Press, 1966), «Аттические крепости: оборона афинских пограничных территорий, 404–322 гг. до н. э.» Дж. Обера (Leiden: EJ Brill, 1982) и «Оборона Аттики: Народная стена и Беотийская война 378–375 гг. до н. э.» Марка Г. Манна (Berkeley: University of California Press, 1993). Последние две работы содержат живой обмен мнениями между авторами по поводу дат, целей и эффективности древнеафинской системы сельских укреплений.
Примечания
Я благодарен моему другу Мэттью Б. Когуту за прочтение нескольких черновиков этой статьи и полезные комментарии.
4. Фиванец Эпаминонд и доктрина превентивной войны Виктор Дэвис Хэнсон
Французский эссеист XVI века Мишель Монтень однажды сравнил между собой троих людей, которых считал тремя величайшими полководцами древности. И сделал странный вывод, что в настоящее время почти забытый фиванец Эпаминонд (ум. в 362 г. до н. э.), а вовсе не Александр Великий или Юлий Цезарь был среди них самым выдающимся, ибо его ставят особняком нрав, этический характер военной карьеры и не утратившие значения последствия его побед.
Монтеня, усердного ценителя классической древности, вряд ли можно упрекнуть в эксцентричности за то, что он предпочел полузабытого освободителя крестьян в юго-западном Пелопоннесе двум великим империалистам, которые покорили, соответственно, значительные части территорий Персидской империи и Западной Европы. Он попросту воспроизвел общие настроения греков и римлян, которые высоко ценили воинскую доблесть на службе политического идеализма. Например, римский государственный деятель Цицерон, «архивраг» Юлия Цезаря и Марка Антония, спустя три столетия после смерти фиванского полководца углядел в Эпаминонде защитника республиканских свобод и назвал его princeps Graecia – «первым человеком Греции». Забытый историк IV в. до н. э. Эфор, современник фиванской гегемонии, писавший в тени автократа Филиппа II, именовал Эпаминонда, в агиографической манере, величайшим среди всех греков, военным гением, который сражался за более значимые цели, нежели собственное величие[127].
Но, пусть древние воспринимали сокрушение фиванцами спартанского владычества и освобождение илотов в Мессении как одно из наиболее заметных этических события в их коллективной памяти, мы сегодня мало что знаем о карьере фиванского полководца и государственного деятеля Эпаминонда и еще меньше – о его достижениях, стратегическом мышлении и противоречивых доктринах упреждения и демократизации. Его нынешняя малоизвестность отчасти объясняется фрагментарностью сохранившихся источников, а также сосредоточенностью древних и современных ученых на Афинах и Спарте и общим пренебрежением Фивами[128].
Тем не менее всего за два с небольшим года (371–369 гг. до н. э.) Эпаминонд унизил спартанское милитаризированное государство, превзойдя персов и афинян, так и не добившихся этого в ходе длительных войн. Он освободил более 100 000 мессенских илотов, содействовал обращению к демократии десятков тысяч греков, помог основать новые укрепленные и автономные города и провел блестящую «упредительную» военную кампанию против Спарты – причем события этой кампании невероятным образом повторились почти 2400 лет спустя, после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года.
Беотия четвертого века
Обычно древнегреческую демократию ассоциируют с Афинами Перикла (V в.): огромный флот, активность безземельных бедняков, морская империя и блестящие культурные достижения современников Перикла, таких как Аристофан, Еврипид, Фидий, Сократ, Софокл и Фукидид.
По контрасту, более поздняя фиванская демократическая гегемония IV в. зачастую игнорируется и в целом менее изучена, несмотря на свою необычность и политическую значимость. Беотийская демократическая культура, конечно, не породила ни Фукидида, ни Еврипида. И она, вопреки большинству других случаев древней демократии, не отражала усиление влияния безземельной бедноты, уничижительно именовавшейся ochlos, и не стремилась перераспределить доходы или обеспечить радикальный эгалитаризм, изрядно выходящий за рамки обыкновенного политического равноправия. Скорее, беотийское демократическое движение ограничивалось расширением политического участия народа и сделалось олицетворением интересов консервативных крестьян-гоплитов. Если же рассуждать в терминах империи, фиванские реформаторы-демократы, казалось, ставили под сомнение весь существующий порядок (сотни автономных городов-государств), а не рвались создать, в типично имперской манере, эксплуататорскую империю покоренных городов за рубежами[129].
Поражение Персии в 479 г. стало катализатором роста Афинской империи, а победа греческих союзников над Афинами в 404 г., в свою очередь, способствовала началу постепенного возвышения Фив. После Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.) бывшие победоносные союзники, Фивы и Спарта, быстро перессорились из-за добычи, отношения к побежденным Афинам и разделения сфер влияния. Действительно, на протяжении большей части последующей половины столетия (403–362 гг.) эти два соперника почти постоянно пребывали в конфликте, что оборачивалось ожесточенными стычками, частыми спартанскими вторжениями в Беотию и краткими перемириями. Современники поначалу воспринимали их противостояние как поединок, с непредсказуемым исходом, между традиционно грозной спартанской фалангой и новоявленным фиванским боевым строем, впоследствии прославленным, но вряд ли как способ распространить фиванскую власть за пределы беотийской культурной глуши с ее сомнительной историей[130].
Долгие десятилетия войны с редкими перемириями обернулись, однако, неожиданным поворотом в 379 г. до н. э. В этом году спаянная группа фиванских демократов свергла правившую олигархию Леонтиада, который опирался на поддержку спартанцев. Вместо олигархии реформаторы установили конфедеративную беотийскую демократию, свободную от чужого влияния и твердо настроенную положить конец постоянному вмешательству Спарты в дела греческих городов-государств. Мало того, что продолжающаяся война между двумя соперниками теперь обрела идеологический характер (демократия против олигархии), – конфликт разгорелся с новой силой благодаря компании фиванских политиков, не совсем доктринерски принимавших традиционные представления о балансе сил между городами-государствами. Ведомые сначала Пелопидом, а затем Эпаминондом, фиванские демократы решительно приступили к ликвидации «спартанской угрозы».
В ответ на это на протяжении большей части следующих восьми лет спартанцы повсюду мстили фиванцам за свое изгнание из Беотии. Царь Агесилай справедливо опасался, что новая фиванская демократия под началом Эпаминонда превратится из обычного соперника в борьбе за власть в уникального проводника революционных перемен, который в конечном счете станет угрожать собственным интересам Спарты на Пелопоннесе, а также трансформирует «извечную» сеть малых автономных полисов в более крупную и гораздо более враждебную демократическую коалицию. Итогом этих опасений были попытки (не менее четырех с 379 по 375 г.) вторгнуться в Беотию, дабы низвергнуть новую демократическую беотийскую конфедерацию[131].
Если не считать военных союзов с Афинами «по случаю», беотийцы использовали попеременно то пассивную, то активную тактику, чтобы воспрепятствовать регулярным спартанским вторжениям. Они то возводили массивные деревянные крепости, охранявшие их самые плодородные сельскохозяйственные угодья, то нападали на захватчиков силами легковооруженных патрулей и конных разъездов. Порой – это происходило редко – им удавалось заманивать спартанцев в засады и втягивать в локальные стычки, наподобие нечаянно победоносного столкновения при Тегирах в 375 г.
Это соперничество фиванской демократии и спартанской олигархии первоначально велось в ограниченных масштабах, в соответствии с традиционной греческой «моделью» сезонных вторжений, когда захватчик пытался нанести урон сельскохозяйственной инфраструктуре враждебного государства. Царь Агесилай, тот самый, что первым осознал опасность фиванского усиления, почти сумел за сезон или два обеспечить Фивам голод и построил крепости в ряде городов Беотии – в Платеях, Орхомене, Танагре и Феспиях. Но в целом спартанцы, несмотря на едва ли не десятилетие усилий, не смогли окончательно лишить Фивы демократического правления. Эти годы непрерывной и безуспешной войны в Беотии объясняют не только позднее радикальное стремление Эпаминонда сойтись со спартанцами в сражении на Левктрах, но и его последующее, куда более радикальное решение напасть на саму Спарту. В какой-то миг этого десятилетия Эпаминонд, очевидно, понял, что нет иного способа порвать с привычной практикой сезонных вторжений, кроме как покончить с той Спартой, какую греки наблюдали предыдущие 300 лет[132].
Вторжение зимы-весны 370–369 гг
Ход этой затяжной войны на истощение радикально изменился во второй раз в середине лета 371 г., когда спартанцы нарушили общее перемирие 375 г. и в очередной раз вторглись в Беотию. Но теперь, под командованием фиванца Эпаминонда, уступавшее числом беотийское войско наконец-то сошлось со спартанскими захватчиками в драматическом сражении среди покатых холмов Левктр, неподалеку от Фив. Исход битвы оказался неожиданным: беотийское войско практически наголову разгромило захватчиков – в схватке пали спартанский царь Клеомброт и около 400 человек из 700 воинов-спартиатов, а также были убиты сотни союзников-пелопоннесцев, остальные же разбежались и вернулись домой, стыдясь поражения. Эта битва мгновенно изменила стратегический баланс власти среди греческих полисов и стала предвестием скорого окончания едва ли не регулярных спартанских набегов на севере Эллады[133].
Большинство предыдущих побед в схватках греческих гоплитов – в первой битве при Коронее (447 г.), при Делионе (424 г.) или в первом сражении при Мантинее (418 г.) – приводило к временному утихомированию локальных конфликтов на несколько лет. Но победа при Левктрах, несмотря на пугающий для спартанцев результат, обернулась в скором времени возобновлением, а не прекращением беотийско-спартанского противостояния и оказалось предвестником грандиозных перемен на Пелопоннесе. Если сицилийская экспедиция 415–413 гг., в которой около 40 000 афинских воинов и союзников погибли, попали в плен или пропали без вести, подвела черту под мечтой о расширении Афинской империи, потеря около 1000 пелопоннесцев и унижение легендарного спартанского военного искусства аналогичным образом подорвали экспансионистскую политику Спарты и поставили под сомнение стабильность ее владычества в Греции вне долин Лаконики.
Примерно через полтора года после этой битвы (которая состоялась в июле 371 г. до н. э.), в декабре 370–369 гг. до н. э., полководец Эпаминонд убедил беотийских лидеров нанести по югу предупредительный удар. Официальной причиной для похода был назван призыв о помощи, с которым к фиванцам обратился полис из недавно объединенной Аркадии, Мантинея, умолявший о подмоге против постоянных нашествий спартанского царя Агесилая. Эпаминонд, по-видимому, заключил, что даже после Левктр спартанская армия продолжает грозить крупным демократическим государствам, а значит, лишь вопрос времени, когда спартанцы перегруппируются и попытаются снова вторгнуться в Беотию. Своевременное обращение аркадян и других пелопоннесцев с просьбой о защите, как представляется, подстегнуло Эпаминонда к разработке нового – еще более амбициозного и окончательного – плана по уничтожению спартанской гегемонии на Пелопоннесе[134].
Огромная союзная армия Эпаминонда насчитывала тысячи пелопоннесцев, которые присоединялись к беотийцам, стоило тем пересечь Коринфский перешеек; возможно, среди присоединившихся были и те, кого пощадили более года назад при Левктрах. Войско маршем преодолело почти 200 миль в глубь полуострова, к самому сердцу спартанского государства, легендарной неуязвимой страны, как говорили, не видавшей врагов без малого 350 лет. Разграбив спартанские владения и загнав спартанскую армию в город, за ледяной Эврот, беотийцы попытались было взять штурмом акрополь Спарты, но не преуспели. Тогда они сожгли спартанский порт Гифий, в двадцати семи милях к югу от Спарты, после чего, вместе с частью победоносных союзников-пелопоннесцев, двинулись по зиме на запад, через гору Тайгет в Мессению, историческую житницу спартанского государства, где трудились закабаленные крепостные, известные как илоты, обеспечивая Спарту провиантом[135].
Беотийцы, вероятно, спустились со склонов Тайгета вскоре после начала 369 г. до н. э., отрезали спартанцев от их богатого «протектората» Мессении, освободили большую часть тамошних илотов и помогли заложить громадную цитадель Мессены. Прежде чем уйти с Пелопоннеса весной, Эпаминонд удостоверился, что новое, автономное и демократическое, государство Мессения с укрепленной столицей в Мессене надежно защищено от спартанских репрессий. И к тому времени, когда Эпаминонд отправился домой, он вновь унизил Спарту и прервал ее паразитическую зависимость от мессенской провизии (эта зависимость и бесперебойность поставок еды позволяла свободным спартиатам, воинской касте, сосредоточиваться исключительно на войне). Мечта Эпаминонда об антиспартанский оси, опорами которой служили Мессена, заново укрепленная Мантинея и поднимавший голову Мегалополь, казалось, осуществляется[136].
Это замечательное вторжение во многих отношениях представляло собой аномалию. В начале IV века греческие армии, даже после внедрения инновационной тактики, разработанной в ходе Пелопоннесской войны (431–404 гг.), по-прежнему выступали в поход в конце весны, предпочтительно во время сбора урожая, чтобы воспользоваться хорошей погодой и обеспечить себя достаточным пропитанием, а также чтобы получить больше шансов спалить созревшие зерновые и сохнущие пшеницу и ячмень на чужих территориях. Подобные «сезонные» армии обычно уходили в поход на несколько дней или недель, поскольку дома ожидал урожай, который требовалось собирать. Будучи непрофессионалами, солдаты имели мало возможностей обеспечивать себя во время длительного пребывания вдали от дома, не важно, по чему судить – по расстоянию или по сроку отсутствия. Обыкновенно целью выбирался близко расположившийся вражеский отряд или сельскохозяйственные ресурсы соседнего вражеского полиса, а вовсе не разгром далекого противника и прекращение его существования в качестве самостоятельного государства. Тотальная война на уничтожение сравнительно крупного государства была редкостью[137].
Эпаминонд с восхитительным безразличием проигнорировал большинство проверенных временем традиций междоусобных греческих войн. Он вышел из Фив в декабре, когда в полях еще не заколосилась пшеница, а дороги утопали в грязи, и его годичное пребывание на посту беотарха должно было закончиться через несколько дней после отправления в поход, в первый день нового года по беотийскому календарю. Он ушел на пять или на шесть месяцев, почти до завершения сбора урожая весной 369 г. И по возвращении Эпаминонду пришлось предстать перед судом за нарушение условий своего годичного пребывания в должности. Но его целью было не просто нанести поражение спартанскому войску и даже не оккупация самой Спарты, а, по-видимому (трудно сказать, пришла эта мысль ему до похода или уже на Пелопоннесе), полное уничтожение спартанской государственности[138].
Разумеется, в его решении начать беспрецедентную превентивную кампанию в разгар зимы ощущается толика отчаяния, и это обстоятельство заставляет задаться рядом важных вопросов. Подобная превентивная война – являлась ли она уникальной для греческой истории? Каковы были глобальные цели Эпаминонда и сумел ли он добиться этих целей? Или его беотийцы просто усугубили давно назревавший и грозивший вот-вот выплеснуться с хватке конфликт между двумя былыми союзниками? И насколько осуществима вообще превентивная война, учитывая внутриполитическую оппозицию в Беотии и конечность ресурсов, необходимых для столь дорогостоящей и длительной экспедиции за рубежи своей страны? И имеют ли уроки фиванской превентивной войны и распространения демократии какое-либо значение для настоящего времени?
Прежде чем отвечать на эти вопросы, следует отметить еще раз, что античный мир причислял Эпаминонда к величайшим полководцам, но мы располагаем лишь обрывочными сведениями о его карьере и еще меньше знаем о подробностях великолепного вторжения на Пелопоннес и основания крепости Мессена. Не сохранилось ни современных тем событиям речей, отражавших его планы, или свидетельств историков, обсуждавших его намерения. Ксенофонт, единственный современник эпохи, писавший о фиванских походах, то ли не сумел оценить масштаб достижений Эпаминонда (в «Греческой истории» Эпаминонда называют по имени только в рассказе о его финальной кампании и смерти в Мантинее), то ли имел врожденное предубеждение против всего фиванского. Жизнеописание Эпаминонда от Плутарха погибло. В результате, приходится опираться на фрагменты сочинений Диодора, Плутарховых «Пелопида» и «Агесилая», на Павсания и на поздних компиляторов, наподобие Непота. В значительной степени мотивы и цели Эпаминонда трудно отыскать и реконструировать, так что они до сих пор туманны и вряд ли перестанут быть таковыми[139].
Упреждение силы и превентивная война
Оба типа войны, предупредительная (упреждение силы) и превентивная, в той или иной мере оправданны в качестве оборонительных действий и тем самым якобы отличаются от прямой агрессии или откровенно карательных операций. Никто, например, не станет утверждать, что персидский царь Ксеркс вторгся в Грецию в 480 г., чтобы предотвратить грядущее крупное наступление эллинов на Персидскую империю. И Александр Великий пересек Геллеспонт не для того, чтобы удержать Дария III от вторжения в Грецию. Несмотря на все рассуждения о «братстве людей», Александр начал завоевательный поход, чтобы грабить, разорять – и отомстить персам за более чем столетнее вмешательство во внутренние греческие дела.
Вопреки афинской риторике 415 г., накануне катастрофической сицилийской экспедиции, вопреки воспоминаниям о прошлых обидах и предостережениям о будущих опасностях с запада, к примеру предупреждениям Алкивиада, что «против сильнейшего врага следует не только обороняться, но и предупреждать его нападение», немногие афиняне, должно быть, верили, будто предлогом похода против Сиракуз является, в краткосрочной или долгосрочной перспективе, ожидаемое нападение сицилийцев на Афинскую империю. Это было очевидное проявление имперской агрессии, направленной на получение стратегического преимущества во время перерыва в Пелопоннесской войне. Список подобных однозначно агрессивных войн греческого мира легко расширить; он будет включать в себя такие эпизоды, как персидские вторжения в Грецию в 492 и 490 гг., поход Агесилая в Малую Азию в 396 г. ради освобождения греческих городов-государств Ионии и набег Филиппа на Грецию в 338 г., завершившийся поражением греков при Херонее[140].
Напротив, для так называемых оборонительных войн обычно различают упреждение и превентивный удар – на том основании, что тут существует (или, по крайней мере, считается, что существует) непосредственная угроза. Достоверность данного утверждения определяет, признается ли такое нападение сугубо вынужденным. Когда государство – часто считающееся традиционно слабейшим – наносит удар первым, оно предположительно уверено, что в противном случае потенциально враждебная цель ударит сама и несомненно воспользуется преимуществом своей силы. Опять же, изначальная агрессивность превентивных войн, как правило, подается под видом оборонительных действий, с учетом надвигающейся опасности. А если между двумя сторонами конфликта имеется долгая история противостояния, этот довод получает дополнительное подкрепление[141].
По-настоящему превентивные войны, с другой стороны, наподобие войны в Ираке 2003 г. или немецкого вторжения в Советский Союз в июне 1941 г., являются гораздо более противоречивыми. Нападающий – ныне принято считать, что это сильнейший из двух соперников – утверждает, что время играет на руку и укрепляет геополитический статус и врожденную агрессивность противника, который рано или поздно наберется сил и нанесет удар. Таким образом, зачинщик полагает, что его собственная, неизбежно проигрышная позиция в сравнении с воинственным соперником может быть укреплена посредством ослабления или устранения потенциальной угрозы, еще до того как подобные действия окажутся менее эффективными или вовсе невозможными. Но поскольку близость опасности, как правило, не кажется общепризнанной, в отличие от предупредительных операций, а зачинщиком обыкновенно выступает сторона, более мощная в военном отношении, «профилактические» войны подвергаются критике гораздо чаще, нежели войны агрессивные.
Японцы, например, никого не убедили, что их «превентивный» налет на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. предполагал ослабление противника, который иначе оказался бы сильнейшей стороной в неминуемой американо-японской войне. Большинство людей восприняло этот налет как первый шаг в расширении империи на запад, через Тихий океан, в увеличении пределов существующей «великой восточноазиатской сферы процветания» с Японией во главе. В свою очередь, Соединенные Штаты не стремились напасть на Японию первыми, из опасения, что подобное нападение может быть истолковано не как превентивная война для предотвращения японской агрессии, а, в лучшем случае, как более спорная «профилактическая» война, которую осудят многие американцы-изоляционисты: мол, это ненужная, милитаристская, имперская тактика, а не оборонительная и необходимая.
Осаждаемый Израиль, с общего одобрения мирового сообщества, всего на считанные часы опередил своих врагов-арабов во время Шестидневной войны в июне 1967 года, разбомбив египетские аэродромы прямо перед началом запланированного вторжения на свою территорию. Но, по контрасту, любой современный удар по иранским ядерным объектам со стороны более сильной израильской армии, подобный бомбардировке реактора в Осираке в 1981 г., вызовет недовольство во всем мире. Такой удар воспримут как первый этап крайне сомнительной превентивной войны, предпринятый на более чем спорном основании, что Иран якобы планирует немедленную атаку Израиля; дескать, создание Тегераном ядерного оружия, в сочетании с его нашумевшими обещаниями покончить с еврейским государством, означает серьезную угрозу безопасности Израиля и неизбежное ослабление несомненного военного превосходства Израиля в регионе.
Конечно, тонкое различие между редкими превентивными и более частыми предупредительными войнами не всегда возможно уловить. Наличие непосредственной угрозы обыкновенно становится предметом спора для сторонних наблюдателей. Почти всякое государство, начинающее открытые боевые действия, отрицает факт агрессии и утверждает, что просто вынуждено защищаться, а исходные условия конфликта вскоре становятся малозначимыми. Когда администрация Буша решила сосредоточиться только на иракском оружии массового поражения, чтобы оправдать «профилактическое» вторжение в Ирак, несмотря на 23 постановления Конгресса, в октябре 2002 г. разрешившего силовое устранение режима Саддама Хусейна, мировое, а затем и американское общественное мнение очень скоро подвергло войну обструкции. Поскольку запасов опасного оружия так и не было обнаружено, это означало, что основное официальное обоснование данной войны против тирана оказалось ложным. Но даже после фиаско с поисками ОМП критика превратилась в шквал обвинений только летом 2003 г., когда стало понятно, что временная администрация не в состоянии поддерживать мир в стране разгромленного за три недели баасистского режима и что началась новая, террористическая война.
В древнегреческом мире мы находим яркие примеры как упреждающих, так и превентивных войн. Общепризнанно сильнейшие спартанцы пересекли границу Афин в 431 г. под предлогом, что они вправе нанести превентивный удар и развязать Пелопоннесскую войну. Спарта была убеждена не в том, что Афины собираются напасть на нее в том году, но что, как сформулировал Фукидид, «явное преобладание» враждебной Афинской империи неминуемо приведет к упадку Спарты. Спартанцы справедливо устрашились: «Покажем афинянам, что для достижения своей цели им лучше нападать на людей, не способных обороняться, но что им не уйти без борьбы от тех, которые не привыкли порабощать чужие земли, но сумеют защитить с оружием в руках свободу родной земли»[142].
Схожим образом, незадолго до прихода спартанского царя Архидама в Аттику, его союзники-фиванцы напали на близлежащий беотийский город Платеи. И здесь та же история: фиванцы не столько тревожились, что крошечный город готов призвать афинян, сколько были уверены, что поддерживаемое из Афин демократическое движение Беотии, опираясь на афинское могущество и богатство и на пример независимых Платей, в конечном счете ослабит положение Фив.
В самом деле, нередко тактика древнегреческих армий заключалась в нападении без предупреждения на соседние «подозрительные» полисы и разрушении их стен, о чем свидетельствует, к примеру, история многократно подвергавшихся нашествиям Феспий. Возможно, наилучшее оправдание упреждающего удара привел фиванский полководец Пагонд в речи перед сражением при Делионе (424 г.): «Обыкновенно враги, уверенные в своей силе (как теперь афиняне), не колеблясь нападают на соседей, если те бездействуют и лишь в крайнем случае дают отпор на своей земле. Напротив, если врага встречают заранее, еще за пределами своей страны, и даже в подходящий момент сами нападают, то он скорее уступает»[143].
Поход Эпаминонда в 369 г. следует рассматривать скорее как упреждающий удар, чем в качестве превентивной войны. Да, спартанцы чуть более года назад при Левктрах потерпели чувствительное поражение и не планировали немедленного вторжения в Беотию; тем не менее они продолжали набеги на территории других городов-государств, одновременно восстанавливая свои силы. Так, Спарта заняла Мантинею летом 370 г., чтобы не допустить установления в городе нового, демократического управления. Фивы в глазах других греческих государств выглядели традиционно слабейшими, и с их стороны разумно было ожидать, что спартанцы вскоре, как произошло в ходе Пелопоннесской войны, нападут первыми, в стремлении забыть о Левктрах и вновь утвердить спартанское владычество, как было в 380-х гг.
Поражение в Левктрах в середине лета 371 г. ознаменовало начало заката спартанского могущества, но в значительной степени урон был всего-навсего психологическим, поскольку сама армия вряд ли сильно пострадала от потери 1000 спартиатов и союзных гоплитов. Несомненно, утрата была тяжелой, но 90 процентов армии уцелело и добралось до Пелопоннеса. Большинство городов-государств согласились бы с Эпаминондом: спартанская угроза для беотийской конфедерации в 370 г. оставалась по-прежнему реальной и неумолимой, а вовсе не отдаленной и теоретической.
Долгосрочные цели Эпаминонда
План Эпаминонда – без сомнения, учитывавший легкое сопротивление коллег-беотархов – состоял в том, чтобы опередить Спарты, вторгнувшись на Пелопоннес, и затем отважиться на беспрецедентный шаг и вступить на территорию Лаконики. Неожиданное решение принять приглашение мантинейцев и отправиться в поход зимой побуждает выдвинуть еще два соображения. Во-первых, Эпаминонд, вероятно, чувствовал, что Спарта вскоре может ударить сама, не ограничиваясь территорией Мантинеи, возможно, в ходе «сезонной» кампании, поздней весной или летом. Нападение же на спартанцев, будь то у Мантинеи или в самой Лаконике, да еще по зиме, исключало возможность подобного развития событий и сулило вдобавок эффект неожиданности. Беотийское решение окрепло, когда другие государства Пелопоннеса прислали денег на покрытие расходов, необходимых для превентивного удара[144].
Во-вторых, в начале 370 г., если даже не раньше, вторжение виделось частью более крупной экспедиции по «умиротворению» Пелопоннеса через унижение Спарты или разгром спартанского войска, предоставление новым аркадским городам Мантинея и Мегалополь беотийского покровительства, освобождение илотов в Мессении и основание нового города Мессена на горе Итом. Все это требовало длительного отсутствия дома, и потому предпочтительнее было выйти зимой, чтобы армия, состоявшая в основном из крестьян, могла вернуться в Беотию к сбору урожая 369 г.[145]
Несмотря на скудные описания современников, мы можем предположить, что Эпаминонд отчаянно стремился вызвать спартанскую фалангу на поединок, а затем, когда та отступила, пересек реку Эврот и осадил спартанский акрополь, дабы физически уничтожить оплот могущества Спарты. Его желанием было не просто победить, но раз и навсегда разгромить спартанскую земельную олигархию на Пелопоннесе. Впрочем, едва стало понятно, что эти цели недостижимы, а беотийцы не сумели ни разбить спартанскую армию, ни захватить город, в новом, 369 г. Эпаминонд предпочел забыть об истечении законного срока своего пребывания на посту. Он задержал войско на Пелопоннесе и, после короткого пребывания в Аркадии, двинулся осуществлять вторую цель – освобождать илотов Мессении, видимо убежденный, что падение «крепостного права» в Мессении приблизит падение Спарты, которую ему пока не удалось победить иначе[146].
Эта цель была гораздо более амбициозной. Беотийцам пришлось взойти на гору Тайгет и спуститься по ее отрогам в начале зимы, избавить Мессению от спартанского гарнизона, мобилизовать илотов на работу, немедленно начать строительство огромного нового города – и допустить, что мессенские националисты окажутся надежными демократическими союзниками, – одновременно продолжая удерживать на безопасном расстоянии силы царя Агесилая. Мечтой Эпаминонда явно была конфедерация трех пелопоннесских городов с громадными цитаделями – Мантинеи, Мегалополя и Мессены, демократических полисов, способных под руководством Фив обуздать спартанский авантюризм, постепенно подрывая могущество Спарты, лишившейся значительной части илотов и былых союзников. Эпаминонд вовсе не чурался временных союзов по расчету с олигархическими государствами Пелопоннеса, однако он, кажется, предполагал, что новая конфедеративная демократия в Аркадии и Мессении останется, по своим «врожденным» политическим симпатиям, враждебной Спарте и приверженной альянсу с демократической Беотией[147].
Последствия
Оказался ли упреждающий удар Эпаминонда в 370–369 гг. успешным в долгосрочной перспективе?
Если ставилась цель исключительно прекратить череду спартанских вторжений в Беотию на протяжении последних сорока лет, ответ будет однозначно положительным. Спартанское войско с тех пор уже не переходило Коринфский перешеек, чтобы напасть на другой греческий город-государство. Если целью было подорвать могущество спартанской «империи», этого также удалось добиться, вне всяких сомнений. Пусть спартанское войско по-прежнему время от времени громило региональных конкурентов на поле боя, особенно в знаменитой «бесслезной битве» 368 г., обернувшейся разгромом аркадян, земельные владения Спарты на Пелопоннесе постепенно ужимались, благодаря возникновению автономных государств в Мантинее, Мессене и Мегалополе, освобождению мессенских илотов и утрате сельскохозяйственных угодий в Мессении. Спарта, предчувствуя закат, старалась сохранить свое главенствующее положение на Пелопоннесе, но всего тридцать лет спустя ее отсутствие при Херонее в общегреческом союзе против македонян уже не имело стратегического значения[148].
Покончило ли вторжение 369 г. со спартанской воинственностью?
Вряд ли. Олигархия Спарты обеспечивала известную стабильность на Пелопоннесе с окончания войны против Афин в конце V века. После фиванского освобождения илотов и союзных городов по полуострову прокатилась волна восстаний, потребовавшая трех новых беотийских походов на Пелопоннес – в 369, 368 и 362 гг.; их кульминацией стала так ничего и не решившая битва при Мантинее (362 г.). В этом сражении Эпаминонд был убит, как раз когда беотийцы стали праздновать победу. Как остроумно выразился историк Ксенофонт: «Это сражение внесло еще большую путаницу и замешательство в дела Греции, чем было прежде». Диодор воспользовался случаем, чтобы совместить восхваление Эпаминонда с утверждением, что его смерть означала конец краткого периода фиванской гегемонии[149].
По всей видимости, исходные устремления Эпаминонда, как бы к ним ни относиться, сводились к тому, чтобы не просто выдавить Спарту из Беотии, но «переформатировать» греческий мир таким образом, чтобы исключить любую возможность возрождения спартанского могущества; подобная цель, учитывая отдаленность Фив, означала почти постоянное военное присутствие фиванцев на Пелопоннесе. Вдобавок это колоссальное по своим масштабам предприятие требовало капитальных резервов, наличия морского флота и политического единства, что намного превосходило возможности сельских демократических Фив. Эпаминонд, похоже, сам осознал пределы беотийской власти и нарастание политической оппозиции его грандиозным зарубежным планам, когда в 362 г. снова вознамерился вторгнуться в Лаконику и захватить спартанский акрополь, будто его предыдущие достижения (освобождение илотов и создание укрепленных демократических городов) не оказали желаемого воздействия на устранение Спарты с региональной «шахматной доски» греческой политики[150].
Автономия, локальная политическая независимость, была эллинским идеалом, который ставился даже выше демократии. Едва демократические федеративные государства Аркадия обрели независимость от Спарты и Фив, никто не мог гарантировать, что их народные собрания, из благодарности к Эпаминонду, будут по-прежнему склоняться к союзу с Беотией. К 362 г. Эпаминонд уже шел на Пелопоннес не только чтобы додавить Спарту, но и чтобы усмирить Мантинею, недавнего демократического союзника, просьба которого побудила Фивы к первоначальному вторжению почти десять лет назад.
По-видимому, к 362 г. мантинейцы заключили, что ослабленная, близкая и дорическая Спарта лучше для «прагматичного союза», чем агрессивная беотийская гегемония на севере. Фивы помогли установить в Мантинее демократию и ослабили традиционного союзника, Спарту; в свою очередь, мантинейцы рассудили, что агрессивные, пусть и демократические Фивы теперь представляют большую угрозу для «извечной» автономии греческих городов-государств.
Уроки превентивной войны Эпаминонда Чем все закончится?
Успешная превентивная война способна обеспечить немедленное стратегическое преимущество, но дивиденды от столь рискованного предприятия могут оказаться весьма скудными, если не предусмотрено заранее спланированных методов превращения военного успеха в более широкий политический, в итоге ведущий к выгодному, в том или ином отношении, миру. По самой своей сути превентивная война должна быть короткой, своего рода набегом на противника, повергающим в ступор и заставляющим идти на политические уступки. В демократических государствах подобная спорная тактика не может гарантировать длительной общественной поддержки, особенно если нападение оборачивается затяжной схваткой на истощение, норовит проглотить, как трясина, словом, становится своей полной противоположностью. Нравится нам это или нет, успешная и завершившаяся периодом покоя превентивная война часто признается морально оправданной и оборонительной, а дорогостоящая и неспособная принести мир задним числом всегда выглядит необязательной, безрассудной и агрессивной.
Эпаминонд постиг парадокс – он сражался одновременно и со спартанцами, и против времени, если учитывать неопределенность общественного мнения дома; таким образом, не сумев захватить спартанский акрополь и разгромить политическую и военную элиту Спарты, он приступил к реализации двух планов, которые в сочетании могли завершить боевые действия и ослабить Спарту на условиях, выгодных для Фив, после окончательного прекращения войны. Если бы Эпаминонду, перед броском в Мессению, удалось форсировать Эврот и сжечь Спарту, победить оставшихся гоплитов в Лаконике и освободить всех илотов, вполне вероятно, что Спарта исчезла бы вообще с карты Греции зимой 370–369 гг. и беотийской армии не понадобилось бы снова вторгаться на Пелопоннес в последующие годы.
С другой стороны, демократизация Пелопоннеса представляла собой долгосрочный проект. В случае успеха она обеспечивала медленный упадок олигархической Спарты, которая уже никогда не смогла восстановить Пелопоннесский союз под своей эгидой, – этому мешали три укрепленных конкурента и собственная бездарность в искусстве осады[151].
Освобождение мессенских илотов рано или поздно заставило бы спартиатов самим заняться производством пропитания и исподволь подрывало бы владычество поддерживаемой полисом военной касты, превосходство которой в сражениях гоплитов в прошлом компенсировало недостаток численности войска. Две трети илотов Лаконики, оставшиеся в «крепостничестве» Спарты, уже были не в состоянии поставлять достаточно продовольствия, чтобы сохранить привычный образ жизни спартанской военной культуры.
Когда Эпаминонд погиб, военные цели были в основном достигнуты, благодаря повторному рейду на Пелопоннес, хотя в самой Беотии уже началось брожение умов. Из этого следует, что трагедия Эпаминонда, возможно, заключалась в его неспособности признать очевидное: к 362 г. фиванцы в основном добились заявленной цели похода – радикально ослабить спартанское влияние на Грецию. В некотором смысле, поздние действия Эпаминонда на Пелопоннесе представляли собой попытку ускорить, в несколько опасной манере и, как выяснилось впоследствии, ненужными образом, финал спартанской гегемонии, явно неизбежный, с учетом предыдущих подвигов фиванца. И пусть Фивы не удержали свое военное превосходство после смерти Эпаминонда, – по крайней мере, Спарту они ослабили навсегда.
Цели и средства
Первоначальная неудача во взятии Спарты в 369 г. означала, что короткая превентивная война трансформировалась в десятилетнее противостояние, потребовавшее гораздо больше ресурсов, чем предполагалось. Основная «изюминка» превентивной войны в том, что она рассматривается как экономичный способ решить проблему опасного и невыгодного мира без затяжной и изнурительной схватки. Так что вряд ли Эпаминонд предполагал в 370 г., что за первым зимним вторжением на Пелопоннес почти сразу последует второе, поздним летом 369 г., а потом еще два в течение ближайших семи лет, причем закончится все гибелью полководца восемь лет спустя при Мантинее.
Аналогично, после войны 2003 г. Соединенные Штаты и их союзники явно осознали, что превентивная попытка свергнуть Саддама Хусейна неизбежно потребует хотя бы частичной оккупации Ирака. Усилия коалиции по установлению гражданского, демократического управления в стране призваны воспрепятстовать появлению другого автократического лидера, наподобие Хусейна, способного превратить колоссальное нефтяное богатство Ирака в битком набитые арсеналы, региональную агрессию и угрозы основным запасам нефти в мире.
На первых порах эта мысль казалась вполне здравой. Но расчеты на создание первого конституционного правительства на арабском исламском Ближнем Востоке, в самом сердце древнего халифата, были чрезмерно оптимистичными, поскольку ни Ирак в частности, ни Ближний Восток в целом не продемонстрировали готовности воспринять насаженное из-за рубежа демократическое управление сразу после свержения Саддама Хусейна. Учитывая характер современного демократического общества капиталистического потребления, американская публика и европейские союзники отнюдь не были в восторге по поводу пятилетней оккупации, обошедшейся в 4200 погибших солдат и около триллиона долларов, – не больше, чем крошечная Беотия по поводу девятилетней кампании Эпаминонда, которая, с победы при Левктрах и до поражения при Мантинее, обернулась почти непрерывными сражениями и бесконечными финансовыми и человеческими потерями, тяжким бременем ложившимися на бедное сельскохозяйственное государство. Враги Эпаминонда наверняка приводили те же аргументы против превентивной войны за рубежом, к каким прибегают противники военной операции в Ираке, в том числе – что долгосрочные выгоды сомнительны, тогда как текущие расходы невыносимы.
Чтобы оказаться успешной, следовательно, превентивная война, подобно упреждению силой, должна изменить первоначальные условия конфликта, причем довольно быстро, либо уничтожить противника, как произошло с Карфагеном в Третьей Пунической войне, либо обернуть его политику себе на пользу и создать союзника вместо врага. Превентивный удар может ослабить соперника, но не добивать поверженного рискованно: гнев, желание отомстить и законные основания для мести чреваты гибельными последствиями.
И наконец, превентивная война есть парадокс. Она привлекательна тем, что предлагает простой и быстрый способ устранить угрозу и исходит из отсутствия у противника военных средств отражения атаки; но для успеха в долгосрочной перспективе она зачастую подразумевает послевоенные инвестиции, противоречащие начальной концепции мгновенного и ограниченного удара.
Демократическая ирония
Как на древнем Пелопоннесе, так и в современном Ираке превентивная война должна была привести к созданию новых демократических государств, которые, в свою очередь, будут способствовать региональной стабильности и разовьются в единомышленников-демократов. В значительной степени это справедливо в отношении последствий вторжения Эпаминонда в 370–369 гг.: Мантинея, Мегалополь и Мессена на некоторое время сделались барьерами, которые помешали спартанской армии восстановить земельную империю или двинуться на северо-запад, к Коринфскому перешейку. Тем не менее уже в статусе демократических автономных государств они проводили собственную внешнюю политику, отражавшую местные проблемы, которые порой заставляли забывать об идеологической солидарности и принимать во внимание текущий баланс сил. К 362 г. Мантинея, например, вернулась к союзу с олигархической Спартой и сражалась против демократических Фив.
Опять же, ирония заключается в том, что, выпуская на свободу «джинна демократии», мы не в состоянии гарантировать его вечную верность освободителю, в чем Соединенные Штаты убеждались на протяжении большей части 2008 года, ссорясь с иракским правительством по всем вопросам, от гарантий безопасности до отношений с Ираном. Банальность, впрочем, не становится менее верной: и в древнем мире, и в современном демократические государства менее склонны воевать с другими демократиями, в отличие от олигархий, и это в конечном счете говорит в пользу демократических освободителей.
Древняя превентивная война и современный Ирак
К 2004 г. многие наблюдатели стали вспоминать печально известную афинскую экспедицию на Сицилию в 415–413 гг. до н. э., предпринятую во время затишья в Пелопоннесской войне: потеряно 200 афинских кораблей, погибли или пропали без вести десятки тысяч человек. В этом виделось предупреждение относительно войны в Ираке. И США, и древние Афины, имея «на руках» множество противников и текущую войну, по глупости «ввязались в новую авантюру» и в одностороннем порядке развязали дополнительный конфликт, на сей раз против врага, который не представлял даже элементарной угрозы. Многие комментаторы указывали на истерический милитаризм афинского народного собрания накануне экспедиции, красноречиво описанный историком Фукидидом: мол, чем не предостережение ораторам, генералам и политикам, пытающимся одурачить общественное мнение ради катастрофического преследования имперских интересов?[152]
Но при ближайшем рассмотрении многие якобы очевидные сходства исчезают. Демократические афиняне напали на крупнейшую демократию древнего мира, причем когда Сиракузы имели больше населения, чем сами Афины. Чтобы подкрепить эту сомнительную аналогию между древностью и современностью, Соединенные Штаты, заключив временное перемирие с радикальным исламом, должны были бы внезапно вторгнуться в далекую демократическую Индию, многоконфессиональное государство, которое не является угрозой, но находится далеко и превышает размерами США.
Более проблематичной видится аналитическая оценка Фукидидом сицилийской катастрофы, в некоторой степени расходящаяся с его собственным описанием предыдущих событий. Поражение при Сиракузах, он говорит, не было предопределено. Оно объясняется не столько дурным планированием или изъянами стратегического мышления (хотя его собственные рассуждения в VI и VII книгах предполагают именно это). Настоящим виновником катастрофы, утверждает историк, стало нежелание афинян безоговорочно поддерживать войну, которую они сами санкционировали; к этой теме Фукидид нередко обращается в своем труде, особенно в речах, которые он вкладывает в уста Перикла, афинского государственного деятеля, укорявшего афинян: дескать, когда Пелопоннесская война виделась вам короткой и победоносной, вы были за нее, а когда она сделалась затяжной и трудной, вы возложили всю ответственность за нее на мои плечи[153].
Вместо афинской экспедиции, если уж искать в древнем мире параллели, способные напомнить о сложностях превентивной войны и ее последствиях, с особым упором на Ирак, лучше всего обратиться к вторжению Эпаминонда на Пелопоннес в 370–369 гг. Беотийская превентивная война ставила целью устранение давно враждебного режима в надежде обеспечить региональную стабильность и установить демократию в регионе. Перед этим вторжением Беотия вела почти непрерывную войну со Спартой даже дольше, чем двенадцать лет противостояния между Соединенными Штатами и Ираком, которое началось в 1990 г. с иракского нападения на Кувейт и продолжилось созданием контролируемых американцами запретных зон в воздушном пространстве Ирака. Эпаминонд и его советники, как дома, так и за рубежом, были ревностными поборниками демократии, которые ставили далеко идущие цели, превосходившие ресурсы Беотии и не имевшие полноценной государственной поддержки. Действительно, Эпаминонда окружали фанатики пифагорейской утопии, подобные неоконсервативным идеалистам, предположительно влиявшим на Джорджа Буша[154].
Чтобы судить, насколько американские и беотийские усилия обоснованны и достигли цели, оправдав расходы, нужно понять, каким образом мы ведем стратегические расчеты, сопоставить относительные затраты человеческих и материальных ресурсов и количество жизней, спасенных и потерянных в ходе той и другой операции. До Эпаминонда Пелопоннес в основном состоял из олигархий под сильным спартанским влиянием, сто тысяч или более мессенских илотов пребывали в рабстве, а Спарта похвалялась длинным списком вторжений в демократические государства северной Греции. После девяти лет долгой и дорогостоящей войны (мы не располагаем данными о совокупном числе убитых и раненых беотийцев) Пелопоннес стал в значительной степени демократическими, илоты в Мессении обрели автономию и образовали демократическое государство, Спарта лишилась былого могущества, а греческие города-государства на севере избавились от угрозы спартанских набегов[155]. К концу 2008 года долгие мытарства союзников в Ираке – 4200 погибших американских солдат, сотни жертв среди союзных контингентов, почти триллион долларов расходов и тысячи раненых – будто бы привели к относительному спокойствию и установлению демократии в Ираке, освобождению его народа и избранию правительства, дружественного Соединенным Штатам и враждебного по отношению к радикальным исламским террористам. Но лишь спустя долгое время после того, как уляжется нынешний политический шум по поводу Ирака, история одна рассудит, как она сделала это применительно к античному миру, стоила ли свеч дорогостоящая современная превентивная война[156].
Дополнительная литература
Тому немногому, что нам известно о карьере Эпаминонда и его превентивном ударе 370–369 гг. по Пелопоннесу, мы обязаны «Греческой истории» Ксенофонта, сочинению Диодора и Плутарховым жизнеописаниям Пелопида и Агесилая; их дополняют отрывочные сведения в трудах Павсания и Непота (см. примечания). Д. Баклер в своих работах уделил много внимания возвышению Беотии при Эпаминонде: «Центральная Греция и политика власти в IV веке до н. э.» (совместно с Г. Беком, Cambridge: Cambridge University Press, 2008); «Эгейская Греция в IV веке» (Leiden: Brill, 2003); «Фиванская гегемония» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
О деятельности Эпаминонда как демократического освободителя см.: Хэнсон В. «Душа битвы» (NY: Anchor Paperbacks, 2001). Хорошее описание битвы при Левктрах, со ссылками на источники: Дж. К. Андерсон «Военная теория и практика в эпоху Ксенофонта» (Berkeley & LA: University of California Press, 1993). Спартанская точка зрения на Эпаминонда изложена в работах: П. Картледж «Агесилай и кризис Спарты» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987); К. Гамильтон «Агесилай и падение спартанской гегемонии» (Ithaca: Cornell University Press, 1991). Широкая панорама событий в десятилетие фиванской гегемонии описана Д. Льюисом, Дж. Бордменом, С. Хорнблауэром и М. Оствальдом в 6-м выпуске «Кембриджской древней истории: IV век до н. э.» (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
Для специалистов почти все древние свидетельства об Эпаминонде собраны (на итальянском языке) в книге М. Фортины «Эпаминонд» (Turin: Societa Editrice Internazional, 1958) и на немецком в статье Г. Свободы «Эпаминонд» в сборнике под редакцией А. Паули, Г. Виссова, В. Кроля, К. Витте, К. Миттельхауса и К. Циглера «Pauly’s Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft: Neue Bearbeitung» (Stuttgart: J. B. Metzler, 1894 1980).
5. Александр Великий, строительство нации и создание и сохранение империи Ян Уортингтон
Александр Великий (356–323 гг. до н. э.) демонстрировал блестящие примеры стратегического мышления при осадах и в сражениях против численно превосходящего врага и создал одну из величайших по размерам империй древности, от Греции на западе до страны, которую греки называли Индией (современный Пакистан), на востоке. Накануне своей смерти он собирался предпринять вторжение в Аравию, а затем, вполне вероятно, мог бы выступить против Карфагена. Империю он создал всего за десять с небольшим лет, переправившись в Азию в 334 г. и умерев в Вавилоне в 323 г. Даже римляне, что похвалялись своей империей как крупнейшей в древности, не могли приписать ее создание одному-единственному человеку, и им потребовались века, чтобы достичь пределов своего могущества. Походы Александра также способствовали распространению греческой культуры в регионах, которыми двигались он и его войско, и открыли новые торговые маршруты и контакты между Западом и Востоком, навсегда изменившие отношения Греции и Азии.
В этой статье рассказывается, как Александр основывал свою империю, обсуждаются проблемы, с которыми он сталкивался, пытаясь управлять многочисленными и мульти-культурными подданными, и рассматриваются его методы и стратегии реализации того, что можно назвать строительством нации. Вдобавок материал позволяет также воздать Македонцу должное – и покритиковать его действия. Опыт Александра по умиротворению Азии, возможно, окажется полезен современным творцам стратегий и пригодится для разрешения текущих затруднений в любом регионе мира с иными, чем у нас, культурными традициями. В то же время можно отметить, что неудачи Александра (иногда по его вине, иногда нет) показывают, сколь малому современный мир учится у прошлого (обычно он его, увы, игнорирует).
Александр взошел на македонский престол после убийства его отца, Филиппа II, в 336 г. К тому времени он уже проявил себя на поле брани: в 340 г., когда ему было шестнадцать, отец оставил его «регентом» Македонии, и за этот срок Александр разгромил медов в верховьях реки Стримон. Филипп явно остался доволен наследником и два года спустя, в 338 г., доверил сыну командовать македонским левым флангом и конницей гетайров в битве при Херонее. В этом сражении Греция потеряла свою независимость, на следующий год грекам пришлось вступить в так называемый Коринфский союз, который возглавлял македонский царь и который обеспечивал македонскую гегемонию в Элладе. В яростной схватке при Херонее Александр отличился тем, что содействовал разгрому знаменитого фиванского «священного отряда» численностью 300 бойцов.
Когда Александр стал царем, ему сразу же пришлось улаживать ряд проблем, в том числе восстание греков против «македонского ига», с чем он быстро справился. Затем он возродил отцовский Коринфский союз, а вместе с ним и план общегреческого похода в Азию, чтобы отомстить персам за страдания греков, в особенности афинян, в годы греко-персидских войн и освободить греческие города Малой Азии. Впрочем, сборы затянулись, и лишь весной 334 г.
Александр повел свое войско – около 48 000 пехотинцев и 6000 конных, при поддержке боевого флота в 120 кораблей, из Греции в Азию. Перед высадкой на азиатский берег, как гласит легенда, он вонзил копье в почву под Троей, чтобы показать, что считает всю Азию завоеванной копьем[157].
В трех крупных сражениях с намного более многочисленной персидской армией (на реке Граник в 334 г., при Иссе в 333 г. и при Гавгамелах в 331 г.) Александр победил персов. Он взял верх благодаря хорошо обученной армии, унаследованной от Филиппа II, а также комбинации стратегического гения, дерзости и удачи[158]. Дарий III, Великий царь персов, при Гранике отсутствовал (персидским войском командовал Арсит, сатрап Фригии на Геллеспонте), но он сражался с Александром при Иссе и Гавгамелах, и в обоих случаях Александр, преследуя цель убить Дария или захватить в плен, заставлял персидского царя бежать с поля битвы. И деморализующий эффект бегства в обоих случаях переломил ход сражения в пользу Александра. Также деморализующим для персов – и случившимся до Исса и Гавгамел – наверняка был рейд Александра на Гордий (рядом с современной Анкарой) в 333 г. В этом городе находилась повозка Мидаса, усыновленного фригийцем Гордием, беглым крестьянином, который отправился странствовать и в итоге стал царем Гордия. Повозка была знаменита узлом из древесины кизила на ее дышле; пророчество, связанное с этим узлом, гласило, что тот, кто развяжет его, будет править Азией. Не стоит уточнять, что Александр развязал узел (или разрубил мечом) [159]. Иными словами, рейд в Гордий имел политическую цель: показать всем, что он – следующий правитель Азии.
Между сражениями при Гранике и Иссе Александр прошел вдоль побережья Малой Азии и Сирии, и в некоторых случаях местные города сразу капитулировали перед ним, а в других ему приходилось прибегать к осаде (самые известные осады, вероятно, это Галикарнасс, Тир и Газа). В 332 г. он вступил в Египет, где персидский сатрап Мазак немедленно сдал столицу Мемфис, а значит, и всю страну. У Мазака, в общем-то, не было выбора, поскольку египтяне утомились персидским владычеством и приветствовали македонян как освободителей; вздумай Мазак сопротивляться, египтяне наверняка восстали бы против него. Будучи в Египте, Александр совершил знаменитое паломничество к оракулу Зевса-Аммона в оазисе Сива в Ливийской пустыне, дабы получить подтверждение, что его истинный отец – Зевс[160]. Эти притязания в итоге и привели его к гибели.
Победа Александра при Гавгамелах означала, что Персидская империя фактически прекратила свое существование. Минуло совсем немного времени, и ее важнейшие и богатейшие города оказались в руках македонян. В числе этих городов были Вавилон, Экбатаны, Сузы и наконец Персеполь, столица Дария Великого и Ксеркса, «наиболее ненавистный грекам город Азии» [161]. Незадолго до ухода македонского войска из Персеполя весной 330 г. царский дворец сгорел дотла. Была это случайность или нет, доподлинно неизвестно, но этот пожар, подобно гордиеву узлу, посчитали символичным: народы Персидской империи больше не подвластны Великому царю, они теперь подданные Александра, повелителя Азии.
Сожжение Персеполя на самом деле означало и то, что первоначальная цель азиатского похода – месть персам и освобождение греческих полисов Малой Азии – благополучно достигнута; вероятно, многие воины полагали, что пора возвращаться домой[162]. Но Александр не стал поворачивать на запад. Он собирался покончить с Дарием раз и навсегда и потому отправился в погоню. Он настиг Дария у Гекатомпил, уже мертвого: Бесс, сатрап Бактрии, один из тех, кто сверг Дария и был причастен к его смерти, провозгласил себя Великим царем под именем Артаксеркса V. Македонские воины снова ожидали, что Александр велит начать долгий путь домой[163], и снова обманулись в ожиданиях – Александр приказал преследовать Бесса.
Пусть армия требовала возвращения домой в Персеполе и в Гекатомпилах, Александр справедливо считал необходимым устранить Бесса, чтобы сохранить порядок в новообразованной империи. И тем не менее македонский поход вступил в новую фазу, превратился в завоевание ради завоевания. И отношение Александра к народам, которых он покорял по пути на восток, тоже поменялось: массовая резня и даже геноцид сделались едва ли не нормой.
К Бессу вскоре примкнули Сатибарзан, сатрап Арейи, и бактрийские вожди, в частности Оксиарт (отец Роксаны) и Спитамен, которому подчинялось многочисленное войско, в том числе отличная конница. Чтобы подавить эту угрозу, Александр вторгся в Бактрию и Согдиану. Скорость, с которой двигались македонцы, вынудила вожаков восстания отступить за реку Окс, а затем Александр переправился через реку, и Оксиарт со Спитаменом предали Бесса: Артаксеркса V пленили и передали македонянам, которые его казнили. Впрочем, гибель Бесса не утихомирила персов; на первый план вышел Спитамен, и македонянам пришлось вступить в яростную партизанскую войну в этом враждебном уголке Центральной Азии. В 327 г., однако, сопротивление было подавлено, Спитамен погиб, а Александр включил в свое войско отряды бактрийской и согдианской конницы.
В ходе Бактрийской кампании были раскрыты два потенциально крупных заговора против Александра. Первый, так называемый заговор Филоты, раскрылся в 330 г. во Фраде, главном городе Дрангианы. Хотя Филота, командир конницы гетайров и сын Пармениона, не имел ничего общего с заговорщиками, его отрицательное отношение к «оперсиванию» Александра и «заискиванию» царя перед персидской знатью привели к гибели этого воина. Его обвинили в измене и предали смерти. Затем Александр отдал приказ убить не менее критично настроенного Пармениона, который в ту пору находился в Экбатанах и попросту ничего не знал о заговоре. В 327 г. в Бактрии раскрыли заговор с участием нескольких царских телохранителей, иначе «заговор пажей». Каллисфен, придворный историк, который оправдывал попытки Александра ввести при своем дворе проскинезу (азиатский обычай простираться ниц перед Великим царем), пострадал, вполне возможно, невинно: его казнили, хотя доказательств против него не нашлось. И, словно этих сфабрикованных обвинений Александру было недостаточно, чтобы избавиться от критиков, в 328 г. царь убил своего товарища Клита в Мараканде (Самарканд), разругавшись с ним в пьяной ссоре. Нет сомнений в том, что Бактрийская кампания стала поворотным пунктом в судьбе Александра как правителя и как человека.
После умиротворения Бактрии (фактического или мнимого) Александр двинулся дальше на восток, в Индию. Там ему пришлось выдержать всего одно крупное сражение – против индийского царька Пора на реке Гидасп в 326 г. Македоняне одержали очередную победу, но она стала финальной точкой в завоевательном походе Александра. Люди роптали все громче: они-то ждали, что вернутся домой еще в 330 г., после сожжения Персеполя, но царь не слушал их и требовал двигаться дальше. После семидесяти дней похода под муссонными ливнями в направлении Ганга армия взбунтовалась на реке Гифасис, пытаясь заставить Александра наконец повернуть назад. Царь, впрочем, не упустил случая исполнить давнишнюю мечту: проплыл по Инду и спустился к Южному (Индийскому) океану. При этом он едва не погиб при осаде крепости Малла, однако это путешествие оказалось одним из его величайших достижений в Индии.
Покинув Индию, Александр повел часть войска на запад, через Гедросийскую пустыню. Он выбрал этот маршрут по личным причинам: бог Дионис, с которым Александр к тому времени отождествлял себя, пересек, как гласили мифы, эту пустыню, а вот Киру Великому, владыке персов, это не удалось. Злополучный марш лишил Александра почти трети воинов, умерших от пребывания в суровых природных условиях. Но царя манила слава покорителя страшной пустыни[164].
Тем временем восстали Бактрия и Согдиана, Индия тоже последовала их примеру. Александр ошибочно верил, что поражение в битве означает окончательное подчинение, но афганцев по сей день никто не сумел покорить. Пуштунские племена на нынешней северо-западной границе Афганистана постоянно враждуют друг с другом, и поговаривают, что они объединяются только против общего врага. Именно таким врагом был для них в IV в. до н. э. Александр, в XIX в. – британцы, а в ХХ столетии – Советский Союз, да и сегодня мало что изменилось. Короче говоря, на сей раз Александр не сумел подавить сопротивление.
Два года спустя, в 324 г., в Описе вновь случился военный мятеж, теперь из-за стремления царя распустить по домам ветеранов: при этом Александр строил планы вторжения в Аравию, наряжался в комбинацию персидских и македонских одежд [165] и верил в собственную божественность (люди смеялись: «Вот и ступай в Аравию со своим отцом Зевсом»); красноречия царя не хватило, чтобы переубедить ветеранов, мятеж длился три дня и завершился, лишь когда царь передал командование войсковыми отрядами от македонян персам. Другими словами, он сыграл на расовой ненависти к персам, чтобы положить конец мятежу. Через год, в Вавилоне, в июне 323 г., накануне выступления в Аравийский поход, Александр Великий умер, не дожив нескольких месяцев до тридцать третьего дня рождения. Он не оставил после себя наследника (его жена Роксана, бактрийская принцесса, еще находилась в тягости, когда царь умер), а на смертном одре, когда его спросили, кому править империей, он загадочно ответил: «Лучшему». Так началось тридцатилетие кровавого соперничества между полководцами Александра, которое привело к распаду Македонской империи и появлению великих эллинистических царств.
Важно помнить, что империя Александра никогда не была статичной, она постоянно изменяла границы и включала в себя все новые народы. Не было ни единого случая, чтобы Александр вел армию в последний и решительный бой; ему никогда не доводилось править империей мирно; будучи в Азии, он непременно сталкивался с оппозицией, от персидского Великого царя и вождей племен Центральной Азии до индийских раджей и аристократических семейств, которые, естественно, воспринимали Александра как угрозу своей власти и престижу. После битвы при Гранике в 334 г. изрядное количество уцелевших врагов бежали в Милет. Когда Милет пал после непродолжительной осады, многие из них подались в Галикарнасс, вынудив Александра снова приступить к осаде. И с годами сопротивление не ослабевало. На фоне этого непрекращающегося сопротивления разрубание гордиева узла приобрело дополнительный смысл: этим действием Александр как бы подчеркивал, что пришел править Азией, а не просто ее завоевать, в соответствии с древним пророчеством.
Можно было бы ожидать, что окажется эффективным политическое использование религиозного символизма; Александр, вероятно, придерживался такого мнения, учитывая религиозный характер своего народа. Тем не менее он оставался завоевателем, а, несмотря на попытки привлечь местную аристократию, которой достались важные управленческие посты, никто не любит пребывать завоеванным. Даже после, казалось бы, сокрушительного поражения при Иссе Великий царь сумел перегруппироваться и дать Александру бой при Гавгамелах. Победы Александру давались нелегко, ибо враг всегда превосходил македонян числом, а вдобавок Дарий, располагавший огромными ресурсами (тут Александр уступал безоговорочно), был искусным стратегом и командиром[166]. И никогда не сдавался: после Исса он собрал новое войско, а после Гавгамел был полон решимости продолжить борьбу, на сей раз с войском, набранным в основном в восточных провинциях. Но сатрапы решили иначе: Дария свергли и убили.
И даже тогда сопротивление Александру нисколько не ослабело, продолжилось под руководством Бесса и вынудило Александра пойти на Бактрию и Согдиану. К Бессу быстро присоединился Сатибарзан, которого Александр назначил сатрапом Арейи, но который принял сторону Бесса против захватчика. С подобным типом нелояльности Александру приходилось разбираться снова и снова.
Поначалу Александр одержал верх в Бактрии, что выразилось в пленении и передаче ему Бесса, но Спитамен, сменивший Бесса, был гораздо более опасным и тактически искушенным противником. Использовав бесплодный, пустынный и скалистый ландшафт, который он и его люди отлично знали, в отличие от македонской армии, Спитамен втянул Александра в интенсивную партизанскую войну, длившуюся два с лишним года. Помимо этого, Александр был вынужден подавлять нараставшее недовольство собственных командиров, а также простых воинов, – недовольство, что выплеснулось в 326 г. на Гифасисе, заставив царя уйти из Индии. Если бы армия не восстала, он бы дошел до Ганга, а если бы не умер в Вавилоне, то вторгся бы в Аравию.
Таким образом, Александр никогда не правил территорией с фиксированными географическими границами, не демонстрировал желания управлять империей с такими границами, что явствует из его непрерывных походов, и никогда многочисленные подданные не впадали в ступор и не оказывали царю поддержку. Все эти факторы делали единое управление империей затруднительным, да и убеждать войско продолжать поход становилось все сложнее[167].
Персидские цари сознавали невозможность единоличного управления тем большим и разнообразным государством, которое они создали. Именно поэтому Дарий I (522–486) разделил империю на двадцать сатрапий (административных регионов) и лично назначал сатрапа (наместника) в каждую из них. Сатрапии были обязаны платить ежегодные налоги в казну и предоставлять воинские отряды для персидской армии, а в остальном сатрапы пользовались в своих владениях всей полнотой власти; Великий же царь пребывал на вершине административной иерархии и являлся абсолютным монархом.
Система сатрапий уцелела после завоевания именно благодаря относительной автономии сатрапов и их подчинению Великому царю. Александр мог именовать себя повелителем Азии, но это было далеко не то же самое, что титул Великого царя, и многие из сатрапов сражались против него. Как завоеватель, Александр имел основания сомневаться в их лояльности, но он признавал эффективность системы сатрапий, а потому сохранил ее, с незначительными изменениями[168]. На ранней стадии Азиатской кампании он назначал главами западных сатрапий македонян, так Каллас стал сатрапом Фригии у Геллеспонта, Антигон – Фригии, Асандр – Ликии, а Балакр – сатрапом Киликии. Однако, когда имперская территория стала прирастать на восток, особенно после Гавгамел, Александр начал привлекать к управлению ею персидских аристократов и поставил некоторых во главе сатрапий. Первым «выдвиженцем» оказался Мазей, назначенный сатрапом Вавилонии в 331 г. Среди прочих имен упомянем Абулита, сатрапа Суз, Фрасаорта, сатрапа Парсиды, и Артабаза, сатрапа Бактрии и Согдианы. Действия Александра призваны были облегчить установление нового, «переходного» режима (так он надеялся), обеспечить сотрудничество влиятельных местных семейств, чью власть подорвал приход македонян. Кроме того, эти люди говорили на местных языках и знали местные обычаи. Последнее являлось принципиально важным: будучи частью административной иерархии, персы-сатрапы могли примирить народные массы с владычеством эллинов и тем самым позволить хотя бы сравнительно мирную оккупацию.
Опасность, конечно, заключалась в том, что покоренный народ нельзя оставлять фактически на произвол судьбы. Александр не мог допустить восстаний в своем тылу, вследствие чего он внес ряд важных изменений в систему сатрапий. Да, местные сатрапы продолжали пользоваться значительной гражданской властью и взимать налоги в своих сатрапиях. Тем не менее они являлись немногим более, чем подставными фигурами, поскольку Александр поставил македонян ведать казной и вооруженными силами каждой сатрапии. Таким образом, реальная власть в сатрапиях теперь принадлежала македонянам. Изменения коснулись не только сатрапий, но и якобы союзных территорий, как в Карии, где царица Ада считалась сатрапом, но военными делами заправлял Птолемей[169], или как в Египте, где обязанности наместника исполнял перс Долоасп, но фактически все решал Клеомен, грек из Навкратиса, который использовал свое положение сборщика налогов и надзирающего за строительством Александрии для захвата власти. Новая система укреплялась на всем протяжении царствования Александра, хотя в 325 г., по возвращении из Индии, он казнил многих нелояльных сатрапов (и командиров наемных отрядов) и назначил их преемниками как персов, так и македонян; например, сатрапом Парсиды стал Певкест (единственный из македонян, кто выучил персидский язык и усвоил персидские обычаи, что немало льстило персам, если верить Арриану) [170].
Позволив сатрапам продолжать собирать налоги, Александр одновременно учредил должность имперского казначея – в 331 г. или, возможно, чуть раньше. Друг детства царя Гарпал курировал все имперские финансы (сначала из Экбатан, а затем из штаб-квартиры в Вавилоне). При этом Александр, кажется, выделил греческие города своей империи в особую категорию, поскольку налоги с полисов Малой Азии собирал Филоксен, а налоги с Финикии – Койран[171].
Сподвижники Александра, по-видимому, не ожидали, что побежденные враги сохранят за собой сколько-нибудь значимые посты, а сатрапы, разумеется, были крайне недовольны утратой контроля над местными отрядами и финансами. Военная мощь македонян препятствовала слишком активному возмущению, но не удивительно, что местные сатрапы забыли о лояльности, когда Александр ушел в Индию, и что в Центральной Азии сатрапии Бактрии и Согдианы восставали дважды. Бактрия оказалась столь серьезной проблемой, что вместо смещенного Артабаза в 328 г. Александр назначил туда Клита, командира конницы гетайров; увы, Клит был убит прежде, чем успел вступить в должность, и на его место назначили другого македонянина, Аминту, под чье командование передали крупнейший среди всех сатрапий контингент войск[172].
Подобная нелояльность также является прямым следствием единоличного управления империей, особенно когда эта личность олицетворяет завоевание. В присутствии Александра и могущественной армии сопротивление на время ослабело, но когда он ушел, все сразу стало иначе – и в Бактрии, и в Индии. В последней Александр признал власть многих местных раджей, которые повиновались ему, например Таксилы к востоку от Инда, да и после битвы при Гидаспе Пору позволили сохранить свое царство, пусть он и стал вассалом Александра. Однако стоило царю покинуть Индию, как все местные правители забыли о клятвах и оказались вассалами лишь на словах.
Диодор рассказывает, как еще Александр намеревался управлять империей. В своем повествовании о так называемых последних планах Александра он говорит, что царь собирался основывать города и переселять жителей Азии в Европу и наоборот, дабы объединить «величайшие территории в общее и дружественное государство через смешанные браки и семейные узы» [173]. Александр не успел приступить к реализации проектов переселения народов, но основал множество городов, не менее семидесяти. Однако большинство из них представляли собой не привычные полисы с конституциями, гимнасиями, театрами и прочими атрибутами греческой городской жизни; скорее, это были гарнизонные городки, зачастую заселенные ветеранами и местными, чтобы контролировать ту или иную местность[174]. Настоящих городов Александр, вероятно, основал лишь десяток, и среди них наиболее известна Александрия в Египте[175].
Основание городов по стратегическим причинам не являлось новшеством. Филипп II поступал точно так же, укрепляя северо-западную границу Македонии, где постоянно доставляли хлопоты иллирийские племена; заимствование Александром элемента отцовской тактики показывает: он понимал, что привлечения местных сатрапов недостаточно для умиротворения новых подданных. Филипп покорил многочисленные иллирийские племена, объединил Македонию, а затем включил иллирийцев в состав македонского войска. Тем не менее он бдительно следил за ними на протяжении всего своего царствования[176]. И Александр тоже не мог допустить, что он обойдется назначениями местных сатрапов. Именно поэтому он разместил гарнизонные городки в тех областях империи, где ожидалось наибольшее сопротивление, – вполне естественно, что основная их масса была сосредоточена в восточной части империи. Впрочем, даже этого не хватило в Бактрии и Согдиане[177].
Новые поселения также содействовали развитию торговли и коммуникаций, хотя экономической значимости они достигли уже после Александра. Египетская Александрия, к примеру, сделалась культурным и экономическим центром в эллинистический период, после того как Птолемей I перенес в нее столицу[178]. Реальные преимущества использования городов для сохранения господства над огромными территориями демонстрирует владычество Селевкидов в Сирии. Не может считаться совпадением, что Селевк, первый из них и первый «осознанный» градостроитель, был одним из полководцев Александра. Он хорошо изучил проекты своего царя.
Диодор также говорит о «единении» западной и восточной половин империи Александра благодаря смешанным бракам. Эти рассуждения, в сочетании со стремлением Плутарха представить Александра философом и идеалистом (в риторическом трактате «О судьбе и доблести Александра»), привели к убеждению, что Александр намеревался создать посредством своей империи общечеловеческое братство. Конечно, нельзя отрицать заслуг политики, которая пытается сделать чужеземное правление приемлемым не через насилие, но через пропаганду равенства и братства, и некоторые действия Александра на протяжении его царствования, кажется, подтверждают мнение, что он стремился обеспечить такое равенство. Особое место среди этих поступков занимают создание местных подразделений в имперской армии, назначение местных администраторов, свадьба весной 327 г. с бактрийской принцессой Роксаной, попытка ввести при дворе проскинезу, коллективное бракосочетание в Сузах в 324 г., на котором царь и девяносто старших македонских чинов женились на персидских аристократках, и, наконец, «пир примирения» в Описе в 324 г., где Александр публично молился о всеобщей гармонии.
Но в лексиконе Александра не было таких слов, как «политика объединения человечества» [179]. Ни один из перечисленных выше поступков не был идеологическим по своим целям; как и все, что предпринимал Александр, это была чистой воды прагматика, схожая, к примеру, с основаниям городов для поддержания македонского присутствия. Скажем, иноземцы в его войске, будь то инженеры из Ирана или конники-бактрийцы, оставались «моноэтническими» единицами до 324 г., когда их включили в армию по тактическим соображениям – для Аравийского похода[180]. Местные сатрапы, как уже отмечалось, являлись номинальными фигурами: таким образом могущественным семействам как бы возвращали подобие их бывшей власти в обмен на поддержку.
Роксана для самого Александра, возможно, и вправду была «единственной женщиной, которую он когда-либо любил», но этот брак был прежде всего политическим[181]. Ее отец Оксиарт оказал Александру упорнейшее сопротивление, так что брак, по мысли Александра, должен был обеспечить его лояльность, а следовательно, лояльность Бактрии; вдобавок царь сделал Оксиарта и сатрапом Парапармисады. То есть, брак Александра ничем не отличался от первых шести браков его отца, заключенных ради утверждения границ Македонии и рождения наследника престола. Ребенок Роксаны умер в 326 г. на Гидаспе[182]; это обстоятельство объясняет, зачем Александр в 324 г. женился еще на двух персидских принцессах: так он укреплял свою власть и заботился о наследнике накануне Аравийского похода (Роксана, кстати, забеременела снова вскоре после этого).
Проскинеза разделила персов и греков; последние верили, что человек не заслуживает божественных почестей. Попытка Александра распространить этот обычай и на эллинов показывает, что он намеревался установить некий общий социальный протокол, способный объединить Запад и Восток. Тем не менее он был воспитан в традиционной вере в богов и приносил традиционные гекатомбы вплоть до конца своих дней, а посему должен был понимать, что эллины и македоняне воспримут проскинезу как кощунство. Даже поза была неприемлемой – ведь греки обычно молились стоя, просто воздевали руки, а на земле простирались ниц лишь рабы. Вероятно, Александр искренне поверил к тому времени в собственную божественность, ничем другим проскинезу не объяснить.
Символизм коллективного бракосочетаниях в Сузах кажется очевидным, но важно отметить, что это не гречанок выдавали замуж за азиатских аристократов, а наоборот. Если бы Александр на самом деле желал объединить народы, он не пожалел бы греческих женщин. Нет, царь всего-навсего загрязнял чистоту персидской крови, чтобы дети от этих браков никогда не смогли претендовать на персидский престол. Более того, греки и македоняне были против женитьбы и после смерти Александра, все, кроме Селевка, развелись.
Наконец, молитва о гармонии после мятежа в Описе: Александр подавил мятеж, сыграв на ненависти македонян к персам. На «пиру примирения» места за столами распредели так, чтобы подчеркнуть превосходство захватчиков: македонцы рядом с Александром, далее греки, а уже потом все остальные. Кроме того, молитва о гармонии подразумевала единство армии, а не человечества в целом; ведь Александр планировал вторжение в Аравию, и разногласия в войске ему изрядно мешали.
Аристотель, личный наставник будущего царя с четырнадцати до шестнадцати лет, советовал Александру «относиться к грекам, как если бы он был их владыкой, а к прочим людям, как будто он был их хозяином, уважать греков, как уважают друзей и семью, но вести себя по отношению к прочим народам, будто они растения или животные» [183]. Аристотель, вполне возможно, разжег в Александре любопытство ученого, стремление узнать побольше о природных ресурсах тех мест, где пролегал его путь[184], но Александр не последовал советам Аристотеля в отношении азиатских подданных. В то же время Александр знал, что обязан относиться к покоренному населению с подозрением, и поэтому все, что он делал, определялось сугубо политическими соображениями.
Еще одним фактором, способным пролить свет на отношения Александра с покоренными народами и, следовательно, на сохранение империи, является распространение греческой культуры. Эллинизация стала своего рода стержнем в государственном строительстве Александра. По большому счету, распространение греческой цивилизации было неизбежно – хотя бы вследствие прохождения войска Александра по новым землям и знакомства жителей этих мест с греческим образом жизни. Александр был страстным почитателем Гомера (особенно «Илиады») и греческой трагедии (выделял среди драматургов Еврипида), а его воины разделяли вкусы правителя. Когда армия вернулась в Тир из Египта летом 331 г., Александр устроил празднества в честь Геракла, заодно со спортивными состязаниями и драматическими спектаклями. Среди исполнителей были знаменитые актеры Фессал (личный друг Александра) и Афинодор, который отказался от обещанного выступления на афинских Дионисиях, чтобы попасть в Тир. Афины его оштрафовали, но Александр заплатил за него.
Подобного рода культурные мероприятия не имели бы смысла, если бы люди их не ценили, и они наверняка оказывали определенное воздействие на местное население. Действительно, содействие Александра насаждению греческой культуры заставило более поздних авторов, вроде Плутарха, рассуждать о царе как о человеке, что принес цивилизацию чужеземным варварам[185]. И можно утверждать, что распространение греческой культуры было не просто естественным следствием похода, но что Александр сознавал политические выгоды, которые сулят культурные изменения. Проблема состояла в том, что царь почти не пытался уважать местные обычаи и религиозные обряды и запрещал то, что не нравилось грекам или ему самому.
Например, греков потрясло, что в Персии братья женятся на сестрах, а сыновья на матерях[186]. С другой стороны, на это можно было посмотреть сквозь пальцы, так как греки осуждали и семейные обычаи македонян, прежде всего многоженство (впоследствии в Египте династия Птолемеев приняла практику женитьбы братьев на сестрах, первым стал Птолемей II Филадельф, взявший в жены свою сестру Арсиною). И совсем другое дело – скифские обычаи жертвоприношения пожилых родителей, выпивания крови первого убитого человека и использования трупов в повседневной жизни[187]. И не менее омерзительным виделось отношение бактрийцев к старости: «Тех, кто лишился сил из-за возраста или болезни, живыми отдавали собакам, которых держали специально для этой цели и на местном языке именовали „стервятниками“. Земля за стенами бактрийских городов обыкновенно выглядела чистой, зато внутри стен было полно человеческих костей» [188].
Нас, как и древних греков, этот обычай шокирует, но такова была традиционная местная практика. Тем не менее это не помешало Александру ее прекратить, и он не пожелал слушать возражений. Именно подобное пренебрежение установленными социальными практиками возбуждало у местного населения недовольство к македонянам и способствовало распространению антигреческих настроений. Особенно характерны поздние примеры, с царской династией Птолемеев в Египте: скажем, цари выделили коренных египтян в отдельное сословие и препятствовали их участию в государственном управлении. Горечь унижения достигла катастрофической остроты в царствование Птолемея IV (221–203), и Египет охватила гражданская война, которая едва не покончила с правящей династией.
С другой стороны, Александр был более терпим к религиозным убеждениям, но в ту пору греки вообще повсюду находили «соответствия» своим божествам. Например, Александр отождествил местного бога Мелькарта в Тире с Гераклом, в Сиве находился оракул Зевса-Аммона, а в индийской Нисе местное божество (Индру или Шиву) сочли соответствием Дионису. Религия является отличным средством обеспечения единства, и царь прибегал к нему, когда и как полагал нужным, хотя и не всегда правильно понимая, что религия призвана разделять людей. Так, в Египте он позаботился принести жертву Апису в Мемфисе, а в Вавилоне повелел восстановить храм Бела, который уничтожил Ксеркс. Он пощадил жителей Нисы в 326 г. (вопреки собственной практике тех лет вырезать местные племена), поскольку те утверждали, что ведут свой род от спутников Диониса, бродившего по этим краям. Нисой звали няню Диониса, и Александра убедили, что местные чтят плющ, символ Диониса.
Впрочем, порой Александр проявлял политическую близорукость. В 332 г., когда жители Тира сдались, Александр выразил пожелание совершить поклонение богам в местном храме. Храм был посвящен Мелькарту, которого греки отождествляли с Гераклом, а последнего Александр причислял к своим предкам. Но все же это был храм не Геракла, а Мелькарта, и поклонение чужеземного царя виделось тирянам кощунством; они отказали и предложили Александру помолиться на материке (в древности Тир располагался на острове). Вместо того чтобы насладиться политическими выгодами сдачи Тира (контролировать Тир означало не пускать в окрестные воды финикийский флот) и принять компромисс вследствие религиозных осложнений, Александр оскорбился. В ярости он повелел приступить к осаде. Когда город пал после длительной и тяжелой осады, царь предал многих горожан смерти, а остальных продал в рабство. В качестве примера для других городов, которым вздумается бросить ему вызов, Александр также повелел распять вдоль побережья тела 2000 тирян. Этот шаг лишь заставил другие города устрашиться, так что следующий город, к которому подошла армия, Газа, отказался открыть ворота. После непродолжительной осады Газа, конечно, тоже пала, и Александр сурово покарал ее жителей, в том числе велел проволочь командира гарнизона Батиса за колесницей под городскими стенами.
Как правитель и как полководец Александр имел определенные недостатки, однако победить его казалось невозможным. Еще он был «собственным наибольшим достижением» [189]. Тем не менее принято переносить его качества, недостойные царя и человека, на его планы по строительству единой империи. Он не проводил сознательную экономическую политику, если использовать современный термин, для империи в целом, хотя и признавал экономический потенциал областей, в которых побывал и в которые намеревался идти – именно поэтому, кстати, он наметил следующей целью Аравию, богатевшую на прибыльной торговле пряностями. Постоянное движение на восток, пока войско не заставило повернуть обратно, приводит к заключению, что он не знал иных удовольствий, кроме битвы[190]. И все же Александр уделял внимание проблемам управления империей и размышлял, как сохранить македонское господство. Он принимал административные меры, наподобие оптимизации системы сатрапий и создания имперского казначейства. Он привлек на свою сторону персидские аристократические семейства, чья поддержка была необходима, и начал носить персидское платье и диадему (в 330 г., после убийства Дария III), чтобы стать своим для персов и избавиться от угрозы в лице Артаксеркса V[191].
Эти факты позволяют понять, каким образом подвиги Александра двухтысячелетней давности соотносятся со сложностями современного государственного строительства. Нам легко представить, какими еще способами он мог бы завоевать любовь подданных. Например, он мог бы больше уважать местные обычаи, религиозные верования и культуры и развивать их на равных основаниях со своей собственной. Не было ничего дурного в том, чтобы приобщать жителей Азии к греческой культуре, но не следовало и игнорировать их культуру, осуждать ее или притеснять лишь на том основании, что она не нравилась грекам (что бы это ни значило). Опять же, возможно, «равенство» в реальном мире недостижимо. То, что Александр сделал (или чего не сделал), демонстрирует, что нынешняя дилемма западного государственного устройства существовала уже в древности, или, наоборот, что проблемы государственного строительства при Александре заложили тенденции на последующие века, вплоть до современной эпохи.
Чтобы убедить своих воинов двигаться дальше, продолжать завоевания, а значит, расширять империю, Александру пришлось публично признать, что эллинизация сулит выгоды народам бывшей Персидской империи, а также что завоевание и сохранение Азии принесет преимущества (экономические и прочие) Македонии. Эти выгоды и преимущества стоили того, чтобы за них сражаться – и умирать, – хотя, разумеется, армию не лишали и очевидных материальных выгод, то бишь военных трофеев. В то же время ему приходилось так или иначе находить компромисс с завоеванными народами и пытаться править империей при минимальной оппозиции. Однако этих людей привлекали перспективы эллинизма, но не за счет их собственной культуры и, что еще более важно, их свободы. Опираясь на местные аристократические семейства, назначая сатрапов из их членов, нанимая местных в свое войско и нося азиатские одежды, Александр, возможно, пробовал «достучаться» до своих новых подданных.
Но эти методы отчуждали от него македонян и были очевидны для местных: никакой иноземный сатрап не подумал бы, что в Азии ничего не изменилось со времен Великого царя. Тот факт, что македонцы стояли во главе армии и казначейства в каждой сатрапии, ежедневно напоминал о нашествии и поражении. Благодаря череде македонских побед статус Александра как повелителя Азии не подвергался сомнению. Однако чем дальше на восток он уходил, намереваясь расширять свою империю, тем сложнее становилась ситуация в якобы усмиренных областях. Напряженное противостояние в Бактрии и Согдиане стало поворотным моментом в отношениях Александра с собственными воинами, которые до того преданно следовали за царем. Поход в эти области, а затем и в Индию, наряду с «ориентализмом» Александра, оказался последней каплей, как явствует из мятежа на Гифасисе. Этот мятеж показал, что влияние Александра на Азию в целом начало сокращаться. Военные успехи стали основой его власти, – именно они, а не эллинизация и не строительство империи, о чем говорят восстания в Индии, Бактрии и Согдиане после ухода македонян, равно как и деятельность сатрапов, полководцев и казначеев в западных провинциях в отсутствие царя. И тут стоит вспомнить, что перед пожаром Персеполя, как гласит предание, Парменион предупреждал Александра о возможной реакции местных на уничтожение дворца. Тогда бунтов не случилось, но это доказательство не столько признания Александра за своего, сколько страха перед македонской армией.
Никто не хочет быть завоеванным, и только военная сила, а не идеализм, способна сохранить власть завоевателя. Империя Александра не пережила его самого, но вряд ли она просуществовала бы дольше и в противном случае. Он создал империю, которая некоторое время не имела себе равных, но сами ее размеры и культурное разнообразие не позволяли одному человеку (или одному режиму) управлять ею эффективно. Эти обстоятельства уже сами по себе вели к провалу попыток сохранить империю. В то же время, без Александра не было бы великих эллинистических царств и культурных столиц в Александрии, Антиохии и Пергаме. Эти городские центры возникли в результате распространения греческой цивилизации, которое началось с Александра и которое продолжили эллинистические династии, что подтверждает легкость, с какой египетские Птолемеи и сирийские Селевкиды, чьи династии основали полководцы Александра после распада империи, приманивали греков с Запада.
Дополнительная литература
Десятки историй царствования Александра были написаны во время и вскоре после его жизни (так называемые первичные источники), но до наших дней сохранились лишь фрагменты. Повествовательные истории правления и походов Александра (вторичные источники) записаны спустя столетия после его смерти; это и труд Диодора Сицилийского (I в. до н. э.), и сочинения Квинта Курция Руфа (ок. середины I в. н. э.) и Арриана (II в.), и извлечения Юстина из более ранней работы Помпея Трога (ныне утраченной, II или III в.). Из вторичных источников наиболее надежным признают Арриана, в основном из-за его критического и сбалансированного подхода к первоисточникам и его опоры на рассказ очевидца Птолемея. К числу более поздних источников можно добавить Плутархово жизнеописание Александра (II в.) и его же трактат «О судьбе и доблести Александра», хотя последний – риторическая, а не историческая работа.
Существует также множество современных книг об Александре, от научных биографий до откровенной беллетристики. Книгу «По следам Александра» Майкла Вула (Berkeley & LA: University of California Press, 1997) можно рекомендовать в качестве общего введения в тему; особо отметим фотографии областей, через которые проходила македонская армия, – Вул сам проследовал этим маршрутом. Также см.: Питер Грин «Александр Македонский, 356–323 гг. до нашей эры: историческая биография» (Harmondsworth, UK: Penguin, 1974); Робин Лейн Фокс «Александр Великий» (London: Penguin, 1973); А. Б. Босуорт «Завоевание и империя: правление Александра Великого» (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); он же «Александр и Восток» (Oxford: Oxford University Press, 1996); Д. Ф. Фуллер «Александр Великий как полководец» (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1960); Н. Д. Л. Хэммонд «Александр Великий: царь, полководец и государственный деятель» (Bristol: Bristol Press, 1989, эта работа предпочтительнее более поздней «Гений Александра Великого», 1997); Пол Картледж «Александр Великий: в поисках нового прошлого» (London: Routledge, 2003) и Ян Уортингтон «Александр Великий: человек и бог» (London: Pearson, 2004). Перечислим и ряд сборников научных статей, посвященных различным аспектам царствования Александра: «Александр Великий в фактах и вымыслах» под ред. А. Б. Босуорта и Э. Д. Бейнхэма (Oxford: Oxford University Press, 2000); «Александр Великий: основные проблемы» под ред. Гая Т. Гриффина (Cambridge: Cambridge University Press, 1966); «Сопроводительная литература к истории Александра Великого» (Leiden: Brill, 2003); «Перекрестки истории: эпоха Александра» под ред. Вальдемара Геккеля и Лоуренса Т. Тритла (Claremont, Cal: Regina Books, 2003). По истории Персидской империи лучшей по-прежнему остается книга Пьера Бриана «От Кира до Александра: История Персидской империи» (Winona Lake, В: Eisenbrauns, 2002).
6. Городская война в классической Греции Джон У. Ли
Дождливой, почти безлунной ночью в начале лета 431 г. до н. э. боевой отряд фиванцев численностью триста человек проник в маленький городок Платеи в Центральной Греции. Их впустил местный житель, сторонник олигархической партии, которая надеялась захватить власть при поддержке фиванцев. Во мраке отряд поспешил на платейскую агору. Там они объявили: Платеи оккупированы, и горожанам разумнее всего принять это как данность. Ведь некогда Платеи с Фивами, в конце концов, были союзниками и могут стать таковыми снова. Поначалу платейцы, устрашенные присутствием врага в самом центре города, согласились на эти условия. Вскоре, однако, они поняли, что фиванцев совсем мало. Прокопав туннели сквозь земляные стены домов и перегородив улицы повозками, в качестве баррикад, платейцы окружили захватчиков. В предрассветных сумерках они напали. Воины двинулись к агоре по улицам, а женщины и рабы бросали камни и глиняную посуду с крыш. Застигнутые врасплох, фиванцы сумели отразить несколько атак, но потом все же побежали, а платейцы бросились в погоню. Заблудившиеся в извилистых улочках, не видя ворот из-за сумрака и дождя, фиванцы в отчаянии разбегались кто куда. Одна группа решила, что нашла ворота, но это оказался сарай у городской стены, и там их и зажали. Лишь несколько фиванцев все-таки добрались до ворот, остальных порубили на улицах. К утру все было кончено. Сто двадцать трупов на улицах и в домах, сто восемьдесят пленных – их всех, опасаясь новых «фиванских уловок», платейцы казнили.
Благодаря афинскому историку Фукидиду бойня в Платеях ныне известна как первое сражение Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.) между соперничающими союзами Афин и Спарты[192]. Литературное мастерство Фукидида превратило нападение в стенах Платей в один из наиболее известных эпизодов этой войны. Однако платейской драме как частному случаю сражения внутри крепостных стен уделяется относительно мало внимания в исследования военного искусства классической Греции[193]. Вместо этого ученые демонстрируют склонность сосредоточиваться на битвах в открытом поле между войсками облаченных в доспехи копейщиков, или гоплитов. А изучение греческих фортификаций и осад фокусируется на осадной технике и штурмовых тактиках, но не на схватках внутри городов.
Однако городские бои вряд ли можно назвать редкостью для классической Греции. Действительно, с 500 по 300 г. до н. э. основные города Эллады, включая Аргос, Афины, Коринф, Спарту и Фивы, становились свидетелями крупных сражений в пределах своих границ. Некоторые из самых отчаянных и кровопролитных столкновений классической древности велись в городских пределах. Афинская демократия родилась из народного восстания против олигархов и их сторонников-спартанцев в 508–507 гг. После Пелопоннесской войны, когда «хунта» Тридцати узурпировала власть в городе, демократию удалось восстановить только в результате гражданской войны, которая ознаменовалась боями в афинском порту Пирей. Именно городскими восстаниями 379 г. фиванцы избавились от спартанского господства и сумели добиться недолгой гегемонии над Грецией. На протяжении этого периода фиванские войска нападали на Спарту дважды, в 370–369 и 362 гг., причем во второй раз дошли почти до центра города. Александр Македонский, в свою очередь, подчинил фиванцев в жестокой схватке на улицах и разрушил их город в 335 г.
Западные и восточные регионы античного мира также были знакомы с внутригородскими войнами. Начальный этап Ионийского восстания 499–494 гг., которое в конечном счете привело к греко-персидским войнам и сражениям при Марафоне, Фермопилах и Саламине, отмечен разграблением ионийскими греками и их союзниками-афинянами персидской провинциальной столицы Сард[194]. Наемники Кира, чью историю Ксенофонт излагает в «Анабасисе», неоднократно ввязывались в городские бои во время отступления из Месопотамии к Бизантию в 401–400 гг[195]. На Сицилии Сиракузы и прочие города регулярно сталкивались с городскими боями с 460-х по 350-е гг.[196]
За двадцать пять столетий, минувших со столкновения в Платеях, городской бой неизменно присутствовал в планах стратегов и полевых командиров[197]. Но, несмотря на многочисленные жертвы современных городских боев в таких местах, как Сталинград, Берлин, Хюэ, Могадишо и Грозный, эти бои в последние десятилетия отошли, скажем так, на второй план военного мышления. Подобно тому как древние греки отдавали предпочтение генеральным сражениям гоплитов, многие современные военные предпочитают готовиться к «типовым» массированным схваткам на открытой местности. Однако в конце первого десятилетия XXI в. городская война вновь стала насущной задачей. Операция США в Ираке, где иностранные вооруженные силы, обученные и оснащенные для сражений на открытой местности, с большим трудом адаптировались к условиям действий в оккупированных населенных пунктах, внесла решающий вклад в обретение нового понимания городской войны. В сегодняшнем мире мгновенных коммуникаций боевики и террористы оценили не только тактические преимущества, но и пропагандистскую ценность нападений на западные войска в городах, где неизбежно гибнут мирные жители. И это касается не только Ирака. Около половины населения земного шара проживает ныне в городах, и темпы глобальной урбанизации нисколько не замедляются[198]. Следовательно, проблемы боя в населенных пунктах будут заботить военных теоретиков и практиков еще долго.
Армии и города, конечно, изменились радикально в промежуток времени между Платеями и Эль-Фалуджей. Но, несмотря на множество различий в топографии, технологии и культуре, разделяющих древность и XXI в., изучение тактики городских боев в классической Греции, помимо того что проливает свет на историю войны в древности, позволяет взглянуть свежим взглядом на настоящее. Эта статья представляет собой введение в практику и идеологию городской войны в классическом греческом мире. Мы начнем с анализа различных типов городских столкновений. Далее мы рассмотрим древние города в качестве поля битвы, а также оценим способность классической армии к действиям в городских условиях. «Совмещение» ландшафта и войска позволит нам понять природу античных городских боев и дать оценку вниманию к городской войне в классической греческой военной мысли. В завершение мы поместим классический опыт в широкий исторический контекст и рассмотрим, какие уроки он может преподать сегодняшним стратегам и полевым командирам.
Типы городского боя
Классические литературные источники сохранили многочисленные эпизоды осад и нападений на городские стены. В них также описываются убийства, массовые беспорядки и «бандитские разборки» внутри городов. Эти явления заслуживают исследования сами по себе, но здесь мы остановимся на крупномасштабных вооруженных столкновениях внутри городских стен, когда поведение комбатантов определялось планировкой города, а не укреплений. С учетом этих ограничений древние тексты содержат десятки отчетов о городских боях. Многие из этих отчетов довольно короткие, но они позволяют выделить несколько основных моделей городских схваток.
Во-первых, атакующая армия может брать стены города штурмом, осадной техникой или предательством, чтобы столкнуться с продолжением сопротивления на улицах, в домах и общественных местах. Это одни из самых ожесточенных видов городского боя, и он часто приводил к полному истреблению защитников. Платеи в 431 г. и Фивы в 335 г. – вот всего два примера этой модели. При этом далеко не всякая успешная осада или штурм оборачивались внутригородскими столкновениями. Порой, особенно когда их заставали врасплох, обороняющиеся попросту сдавались или разбегались[199]. Тем не менее внутригородские бои при взятии городов, вероятно, происходили гораздо чаще, чем можно предположить по классическим текстам. Город Олинф в Северной Греции, взятый Филиппом II Македонским летом 348 г., является поучительным примером. В литературных источниках упоминается лишь, что богатые олинфяне предали своих сограждан и переметнулись к Филиппу, но раскопки развалин Олинфа позволили обнаружить сотни свинцовых шариков для пращей, наконечники стрел и другое оружие. Разбросанность и количество находок показывают, что македонянам пришлось покорять Олинф дом за домом[200]. Грядущие археологические исследования вполне могут открыть новые подробности «неучтенных» городских боев классического периода.
Вторым типом городских боев будем считать стасис, гражданскую войну между различными городскими партиями[201]. Такая война могла оказаться следствием соперничества между крупными и богатыми семействами, проявлением классовой ненависти или отражением иноземного вмешательства. В ходе Пелопоннесской войны антагонизм между проафинской и проспартанской фракциями привел к гражданским кровопролитиям во многих городах греческой ойкумены. Коркира на северо-западе Греции, место самого известного стасиса, вынесла два года гражданской войны, которая началась с интенсивных городских боев и привела к полному уничтожению проигравших и их родичей[202]. В других городах фракционные столкновения начинались с убийств на агоре[203]. Уцелевшие, которым удавалось бежать, нередко возвращались, чтобы снова попытать счастья, и это приводило к возобновлению городской войны.
Городские бои также вспыхивали, когда мятежники и «боевики» пытались изгнать из своего города чужеземных оккупантов. В 335 г., например, фиванцы восстали против македонского гарнизона[204]. В других случаях наличие иностранного гарнизона, который поддерживал правящую фракцию, приводило к городским восстаниям, что объявляли своей целью изгнание чужаков и тех, кто сотрудничал с ними. Афинская революция 508–507 гг. и фиванское восстание 379 г. служат примерами подобных выступлений. В обоих случаях победоносные мятежники позволили гарнизону уйти по условиям перемирия. Городские восстания такого типа, не слишком популярные в античном мире, широко распространились в эллинистический период (323-30 гг. до н. э.), когда иноземные гарнизоны стояли в большинстве городов.
Вторжение или гражданские волнения иногда оборачивались тем, что противоборствующие армии или фракции, ни одна из которых не владела городом полностью, сталкивались друг с другом в пределах городских границ. Так было на начальном этапе гражданской войны в Коркире, где олигархи и демократы занимали отдельные районы города и несколько дней вели сражения на городских улицах[205]. Продолжительность большинства городских столкновений измерялась часами или днями, однако эти столкновения вполне способны превратиться в хронический конфликт, когда город поделен между воюющими сторонами, и те могут даже возвести внутренние фортификации. Подобное произошло в городе Нотий в Малой Азии в первые годы Пелопоннесской войны, когда враждебные проафинская и проперсидская партии закрепились в каждая в части городских кварталов[206]. И Сиракузы в конце 460-х гг. были поделены между горожанами и взбунтовавшимися иноземными наемниками, что привело к нескольким годам войны в городе[207].
Разумеется, типизация городских боев античности довольно условна, и под нее нельзя подвести каждый классический случай городского боя. Вдобавок некоторые городские бои демонстрируют сочетание типов. В Спарте в 369 г., например, царь Агесилай одновременно защищал город от фиванцев и подавлял мятеж группы разочарованных его правлением спартиатов[208]. Фиванцы в 335 г. едва успели изгнать из города македонский гарнизон, как им пришлось обороняться от подошедшей армии Александра. Но, вне зависимости от того, как они начались, все городские столкновения той поры определялись планировкой древнегреческих полисов.
Город как поле боя
Полис – это слово переводится как «город-государство» – был характерной формой политического устройства классической Греции[209]. С физической точки зрения типичный полис представлял собой обнесенное стеной поселение в окружении сельскохозяйственных угодий. Центром города являлся акрополь, или крепость на естественном возвышении. Внутри городских стен располагались храмы, общественные здания, рынок и частные дома. В IV в. Мантинея, Мегалополь и Мессена включили в городскую черту поля и пахотные земли, которые защищали фортификации, но города подобных размеров были исключениями. В других местах, случалось, пригороды выступали за стены[210]. Большие полисы охраняли малые городки и деревни в своей «глубинке»; полисы поблизости от моря, но не прямо на берегу, часто строили порты и гавани. Не считая Пирея, который со временем сам превратился в крупный город, ни один из этих второстепенных пунктов никогда не достигал статуса полиса по размерам или по значимости.
По современным меркам, большинство полисов были крошечными. Акрополь Халаи в Центральной Греции, например, имел размеры 160 на 70 метров, а вся площадь городских стен, возможно, составляла всего 0,85 га (2,1 акра)[211]. Классический Халаи, вероятно, насчитывал несколько тысяч жителей. Афины, с их сотнями тысяч коренных афинян, множеством чужеземцев и рабов все на площади в несколько квадратных миль, опять-таки, представляли собой исключение. При этом не имело значения, большой полис или маленький, – сами греки жили в деревнях, а не в городе.
Крепостные стены определяли городское пространство[212]. Греки начали строить городские укрепления в VI в. до н. э., и к концу классического периода лишь несколько крупных городов, в частности Спарта, оставались неукрепленными. Большинство стен возводилось из массивных каменных блоков, с использованием кирпичей, глины и щебня. Ворота с фланговыми башнями и порой с намеренно усложненными подъездами преграждали доступ в город. Дополнительные башни и бастионы вдоль стен обеспечивали надежность оборонительных позиций.
«Урбанистическое поле битвы» начиналось только внутри стен, но это не означало, что стенами можно пренебречь. Даже если они не могли предотвратить проникновение врага в город, стены при городском бое могли задержать его при отступлении, как это было в Платеях, где городские стены помешали десяткам атакованных фиванцев благополучно скрыться[213]. С внутренней стороны стен также могли безопасно перегруппироваться защитники города. И городские ворота тоже служили важными элементами тактики – через них могли подойти подкрепления. В Тегее в 370–369 гг., например, соперничавшие партии отступили к противоположным окраинам города после первого столкновения. Аркадская партия укрылась за стеной, неподалеку от восточных ворот, на дороге в Мантинею, откуда должны были подойти союзники. Их оппоненты сосредоточились на другом конце города, возле ворот на дороге в Паллантион. Когда к аркадянам прибыло подкрепление, противники поспешно бежали[214].
Укрепленные цитадели внутри городов также формировали тактику городского боя. В большинстве городов имелся единственный акрополь, но в более крупных полисах насчитывалось несколько опорных пунктов. В Афинах, например, помимо знаменитого Акрополя были холм Мусейон поблизости и холм Mунихий в Пирее[215]. Отряд, укрывшийся в акрополе или в иной крепости, мог использовать ее как базу для контратак. В Сиракузах в 350-х гг., к примеру, наемники Дионисия II начали наступление с укрепленного острова Ортигия[216]. Удерживание акрополя, впрочем, не гарантировало контроля над городом. Революционеры в Афинах в 508–507 гг. успешно заперли олигархов и их сторонников-спартанцев в Акрополе[217]. В Сардах в 499 г. персы отстояли акрополь, но не смогли помешать афинянам и ионийцам разграбить остальной город[218]. Когда фиванцы в 335 г. вернули себе власть над городом, македонский гарнизон они оставили под присмотром в Кадмее, фиванском акрополе[219]. В затяжных внутригородских конфликтах, как мы видели, соперничающие группировки или общины могли полагаться и на внутренние стены, позволявшие создавать укрепленные позиции[220]. Такие стены разделяли городских комбатантов, сужая пространство для маневра, как произошло в Сиракузах в 357–356 гг.[221]
Истинным «нервным центром» классического города был рынок, или агора. Расположенный на пересечении главных улиц и часто застроенный по периметру основными административными зданиями, рынок представлял собой самую просторную открытую площадку в пределах городских стен. Иноземные захватчики, вступая в город, обычно двигались прямиком к агоре, да и защитники обычно отступали тоже к ней[222]. Если удавалось удержать агору и перегруппироваться, у обороняющихся появлялся шанс вытеснить захватчиков из города. Афиняне и ионийцы в Сардах в 499 г., например, были вынуждены отступить, столкнувшись с персидскими отрядами, что собрались на агоре[223]. С другой стороны, потеря агоры могла оказаться решающей для окончательной утраты защитниками города боевого духа[224]. Тем не менее чрезмерно самоуверенные или уступающие врагу численностью силы, как фиванцы в Платеях, на собственном опыте узнавали, что овладеть агорой недостаточно.
Многие гражданские войны начинались с переворотов или массовых убийств на агоре[225]. Опять же, овладение агорой не гарантировало общей победы, что доказала олигархическая партия Элиды в 397 г. Захватив агору, олигархи объявили о своей победе, а потом узнали, что Фрасидей, вождь народа, вовсе не погиб – он отсыпался «там, где свалился пьяный». Оправившись от похмелья, Фрасидей возглавил контратаку и разгромил олигархов[226].
Будучи средоточием коммуникаций и пунктами сбора, рынки также обеспечивали городских комбатантов запасами оружия[227]. Заговорщики, которые будто бы пытались захватить власть в Спарте в 400–399 гг., например, планировали воспользоваться в качестве арсенала местным ремесленным рынком, где в изобилии продавались топоры, тесаки и серпы[228]. По крайней мере один город был захвачен повстанцами с помощью оружия, которое доставили тайком на агору в корзинах с фруктами и тюках с полотном[229]. Забыв об опасности, которую может представлять толпа вооруженных горожан, спартанец, командовавший обороной Митилен в 427 г., вооружил население города – и последнее вскоре восстало против него[230].
Помимо агоры важность имело любое просторное и позволявшее обороняться место, где комбатанты могли собираться или найти убежище. К таким местам относились театры, храмы, гимнасии и иные крупные сооружения[231]. В ходе афинской гражданской войны 404–403 гг. конница олигархов размещалась в Одеоне Перикла, театре прямо под Акрополем, в то время как легкая пехота демократов собиралась в театре Пирея[232]. Подобно рынкам, храмы и общественные здания использовали и как арсеналы. В Фивах в 379 г. антиспартанская партия вооружалась мечами из храма – возможно, религиозными жертвоприношениями[233]. Если в их распоряжении было достаточно времени, защитники могли рыть канавы поперек улиц и площадей или загромождать улицы препятствиями, чтобы помешать продвижению врага[234].
Крупные здания сулили безопасность, однако могли оказаться смертельными ловушками. На заключительном этапе гражданской войны в Коркире члены олигархической партии, зная, что их наверняка казнят, решили укрыться то ли на складе, то ли в сарае. Враги взобрались на крышу, проломили ее и засыпали укрывшихся стрелами; те, кто сумел уцелеть, покончили с собой, чтобы не сдаваться[235]. Нечто подобное произошло и в Тегее в 370–369 гг., когда побежденные спрятались в храме Артемиды. Их противники окружили храм, взобрались наверх, сняли крышу и принялись закидывать кирпичами. Вынужденных сдаться, пленников позднее предали смерти[236].
Городские бои также подразумевали уличные столкновения. Древнейшие греческие города росли органически на протяжении веков и поэтому не имели правильной планировки. Нерегулярная сеть узких улиц и переулков, пересекавших эти города, легко могла запутать и дезориентировать иноземных захватчиков – снова вспомним фиванцев в Платеях, – а защитники, знавшие эти улицы сызмальства, быстро перемещались из квартала в квартал. Лабиринты улиц вынуждали командиров дробить силы на мелкие отряды, затрудняя коммуникации и делая взаимную поддержку практически невозможной. Когда нападающие и обороняющиеся разделялись на малые отряды, действовавшие несогласованно, уличные стычки могли продолжаться всю ночь, и воины убивали друг друга чисто случайно, в темноте, как произошло в Сиракузах в 355 г.[237]
К середине V века в новых городах стали применять регулярную планировку, это же касалось и расширения старых городов[238]. Теперь ширина улиц варьировалась от 3–5 метров для жилых переулков до 13–15 метров для основных городских артерий[239]. Как отмечал Аристотель, города, построенные в этом новом, «Гипподамовом» стиле, отлично подходят для удобной и приятной жизни, но сулят меньше безопасности в войну[240]. Чтобы укрепленность города не страдала, Аристотель советовал городским зодчим использовать правильную сетку улиц только в некоторых кварталах либо строить кварталы с несколькими широкими «проспектами» и примыкающими к ним малыми улицами[241]. Регулярная планировка, конечно, облегчила задачу атакующих, которые отныне могли посылать отряды по параллельным улицам, обеспечивая их взаимную поддержку, да и риск заблудиться стал гораздо ниже. В ответ защитники принимались копать канавы и траншеи на улицах и строить баррикады. Также они проламывали стены домов, чтобы обойти противника с флангов[242].
Но даже в городах с регулярной планировкой узкие улицы порой заставляли выстраивать войска в порядки, к которым вынуждали обстоятельства. В Пирее в 404–403 гг., например, олигархам пришлось составить фалангу глубиной пятьдесят гоплитов[243]. А еще регулярная сетка улиц предоставляла очевидные преимущества стрелкам. Те же олигархи в Пирее смогли занять агору, но когда они двинулись по главной улице в сторону холма Мунихий, демократы отбросили их градом камней, дротиков и стрел[244].
В спланированных городах дома строились кварталами, имели общие стены, иногда с узкой аллеей по центру квартала. Как и в современной практике, дома каждого квартала отличал общий дизайн. Дома в спланированных районах могли быть просторнее других. На Северном холме Олинфа, например, квадратные дома имели в среднем длину стороны около 17 метров[245]. В старых городах дома часто были меньше, и каждый дом отличался от всех прочих. При этом, новые или старые, именно жилые дома, пожалуй, являлись наиболее уязвимым звеном классической греческой городской местности. От Сицилии до Ионии типичный греческий дом строился из сырцового кирпича на каменном фундаменте[246]. Узкий проход вел во внутренний двор, куда выходили все помещения. Смотревшие вовне окна располагались высоко от земли и до них было не дотянуться. Некоторые дома имели второй этаж, часто отдававшийся под женские помещения. Как правило, крыши были скатные, крытые глиняной плиткой, хотя в некоторых регионах предпочитали плоские крыши.
В отличие от сражений на открытой местности городская война велась в трех измерениях. В городе крыши домов обеспечивают жизненно важное преимущество. Глиняная плитка весила от 10 до 30 кг и представляла собой готовые метательные снаряды, которые защитники могли обрушивать на головы нападающих. Даже женщины и рабы поднимались на крыши домов, чтобы обстреливать врага подобными ракетами[247]. Иногда преимущество высоты создавали и другие сооружения. Фиванскую атаку на Коринф в 369 г. отбили легкие войска: воины забирались на надгробные памятники и метали оттуда камни и дротики[248]. Нападавшие тоже не чурались крыш, как поступили, к примеру, фиванцы при штурме спартанского города в 370–369 гг.[249] При этом позиции на крышах не были неуязвимыми. Беотийцы, оборонявшие Коринф в 393 г., например, поднялись на крыши корабельных сараев и складов, попали в ловушку и были убиты[250].
Жилые дома, с их узкими дверными проемами и прочным фундаментом, становились порой последним оплотом обороны. Город могли объявить «умиротворенным» после захвата агоры и общественных зданий, но горожане, намеренные сопротивляться, по-прежнему вынуждали захватчиков освобождать буквально дом за домом. Если соседи прорубали отверстия в общих стенах, целый квартал мог превратиться в своего рода «редут». А выполнять подобные зачистки всегда было опасно и затруднительно. За каждым темным проемом, за каждым «слепым пятном» мог скрываться отчаянный враг, готовый сражаться до последнего. Данные раскопок в Олинфе свидетельствуют, что македоняне прорывались во дворы частных домов только для того, чтобы их немедленно обстреляли из комнат. Очевидно, они и сами отвечали залпами метательных снарядов, прежде чем войти в очередное помещение[251]. Тринадцать лет спустя македоняне, вероятно, столкнулись с аналогичной ситуацией в Фивах. Когда отряды Александра захватили ключевые пункты города, некоторые фиванские пехотинцы засели в собственных домах, где и погибли вместе с семьями[252].
Помимо перечисленных тактических затруднений, бой в домах угрожал дисциплине и сплоченности нападавших. Солдаты бросались грабить и насиловать и фактически выпадали из схватки. Хуже того, контратака могла застать их врасплох. В Сиракузах в 355 г., например, Дион и сиракузяне настигли вражеских наемников в момент грабежа и наголову их разбили[253].
Дома обладали столь внушительным оборонительным потенциалом, что иногда их «встраивали» в фортификации. В Мотии на Сицилии, например, имелись многоэтажные дома вблизи северных ворот. Когда греки штурмовали город в 397 г. до н. э., карфагенские воины использовали эти дома в качестве второй линии обороны[254]. Когда Филипп Македонский пытался ворваться в Перинф в 341–340 гг., защитники города превратили свои дома в импровизированные крепости и заблокировали улицы, чтобы помешать наступлению македонян[255]. Платон утверждал, что «надо с самого начала, при строительстве жилищ, так располагать частные дома, чтобы весь город представлял собой одну сплошную стену; при этом доброй защитой будет служить однородность и сходство всех домов, выходящих на улицу. Приятно было бы видеть город, имеющий облик единого дома; к тому же его, весь в целом, было бы чрезвычайно легко охранять и таким образом сберечь»[256]. Платонова идея нашла воплощение в Олинфе, где тыльная сторона первого ряда домов вдоль западного края Северного холма была встроена в северо-западные укрепления города[257].
Необычный рельеф Спарты привел к тому, что оба фиванских штурма города представляли собой сочетание открытого сражения и городского боя. Классическая Спарта не имела стен и раскинулась по обоим берегам реки Еврот. Во «внешней» части жилые дома перемежались рощами и полями. В центральной части города, где жили спартаты, то есть полноправные граждане, судя по всему, была плотная застройка без регулярного плана. При этом в центре имелись стены, заборы и открытые пространства. А вокруг города было много религиозных святилищ и общественных зданий[258].
В 370–369 гг. фиванцы под водительством Эпаминонда первоначально ограничились тем, что разграбили пригороды. Еще они валили деревья и строили полевые укрепления у своего лагеря в сельской местности. Затем они двинулись к сердцу города, наступая в сторону открытого ипподрома в святилище Посейдона. Спартанцы же использовали городской рельеф к своей пользе и разместили засаду в храме Тиндаридов[259]. Эта засада, в сочетании с конной атакой через ипподром, остановила фиванцев. В 362 г., опасаясь нового нападения, спартанцы принялись сносить дома в центральной части города и пускать груды щебня на перегораживание проходов, переулков и открытых пространств. Некоторые авторы даже утверждают, что спартанцы использовали большие бронзовые треноги из святилищ, чтобы возвести баррикады[260]. Эпаминонд, однако, не пошел в лобовую атаку, из опасения, что его воинов будут обстреливать с крыш[261]. Вместо этого он прибегнул к «непрямым действиям»: притворился, будто выстраивает войско для открытого сражения, и это позволило беотийцам вступить в жилые кварталы, не попав под обстрел. Лишь отчаянная атака сотни спартиатов во главе с царем Архидамом отбросила беотийцев от жилых домов Спарты.
Комбатанты
Снаряжение, боевой порядок и командные структуры классической греческой армии были плохо приспособлены для войны на застроенной местности. Гоплиты, основа армий всех полисов, представляли собой пехотинцев-ополченцев, вооруженных большими круглыми щитами и длинными копьями. Щит гоплита был, как принято считать, тяжелым и громоздким, но есть свидетельства, что в поединке воин обращался с ним быстро и эффективно, даже в городских боях; рельефы на гробнице IV в. до н. э. в Малой Азии изображают даже, как гоплиты со щитами карабкаются по штурмовым лестницам. Хотя пока не найдено бесспорных доказательств этому, возможно, что гоплиты в городах бились, отбросив щиты, – для большей свободы маневра. Еще сильнее затрудняло бои в городах обычное оружие гоплитов. Они носили мечи, но только в качестве вспомогательного оружия, а по сути были копейщиками; и длинные, 2,5 метра, скорее, мешали, чем помогали в непосредственной близости или внутри домов. Что уж говорить о воинах македонской фаланги, снаряженных копьями-сариссами длиной от 3 до 7 метров! Некоторые греки обучались владению мечом, но систематическое обучение этому искусству оставалось уделом богатых. И за пределами Спарты большинство гоплитов не проходили формального обучения до конца классического периода.
Серьезные сложности при городском бое доставлял и боевой порядок гоплитов. Обычно гоплиты строились глубоким и массивным построением, которое именовали фалангой. Идеальная фаланга, плотная масса воинов в восемь рядов глубиной, могла преодолеть минимум милю по открытой местности, не ломая строя. Излишне пояснять, что этот строй невозможно сохранить на городских улицах. Только на агоре гоплиты могли использовать привычное построение. Разделение же фаланги на мелкие отряды, для зачистки городского рельефа, осложнялось отсутствием командных структур и координации действий. За исключением спартанцев, у которых в войске присутствовала сложная тактическая иерархия, а само общество хранило почти религиозную приверженность порядку, в большинстве греческих армий было очень мало офицеров – и никаких тактических единиц кроме отряда. И даже те офицеры, которые имелись, наверняка не могли ничего поделать из-за дефицита в армиях полисов военной дисциплины в ее классическом понимании[262].
Любительский этос полисных армий имел и другие важные последствия для городской войны. С одной стороны, греки никогда не задумывались о специализированных войсках, будь то разведчики, инженеры или саперы. Гоплиты выполняли при случае необходимые полевые работы, но их инженерные навыки и оборудование и близко не напоминали навыки и снаряжение римских легионов. В то же время, поскольку гоплиты-ополченцы снаряжали себя сами, у многих горожан на руках было оружие. И бои в городе, будь то с захватчиками или в ходе гражданской войны, как правило, вовлекали все мужское население, а не только «регулярные» силы.
Легкая пехота, включая лучников, пращников и метателей дротиков, была куда лучше приспособлена для городских боев. Эти воины могли стрелять с крыш и даже сметать врага с улиц залпами метательных снарядов[263]. Раскопки в Олинфе доказывают, что пращники и лучники могли стрелять по врагам прямо из домов[264]. Легкие войска показали свою ценность в ходе боев в Пирее в 404–403 гг. Силы олигархов, фаланга гоплитов глубиной в пятьдесят щитов, двигалась на холм Мунихий, на вершине которого демократы смогли собрать фалангу глубиной всего десять рядов. Но за этими десятью рядами гоплитов расположились легкие пехотинцы. Холмистый рельеф обеспечил обороняющимся преимущество высоты и позволил легкой пехоте стрелять над головами своих гоплитов. При том, что противник выстроился в пятьдесят рядов внизу, стрелки вряд ли могли промахнуться[265].
Роль конницы в городских боях определить затруднительно. Афинские Тридцать тиранов, похоже, использовали конницу в Пирее в 404–403 гг., но конники не сыграли значимой роли в сражении[266]. Вероятно, конницу развернули на пирейской агоре и поручили охранять тыл олигархических сил гоплитов. Фиванская конница участвовала в схватке в Фивах в 335 г., но ей мешали узкие улицы, и конники ускакали, едва македоняне заняли агору[267]. Римский писатель Павсаний видел трофей у Пестрого портика в Афинах, сразу при выходе с агоры; этот трофей отмечал победу афинской конницы над македонской, вероятно, в 304 г.[268]. По крайней мере, классические греки не использовали в городских боях слонов. Пирр Эпирский позднее попытаться сделать это в Аргосе в 272 г. и выяснил, что его воинам пришлось снимать стрелковые платформы со спин животных, чтобы слоны могли войти в городские ворота[269].
Городская война и классическая военная мысль
Оценка места уличных боев в классическом военном мышлении требует понимания приоритета стен в стратегии тех лет. Строительство крепостной стены являлось крупнейшей и наиболее дорогостоящей общественной работой, какую когда-либо выполняли граждане большинства полисов[270]. Возведенные стены сообщали всей ойкумене о самостоятельности и автономности полиса. Платон мог ратовать за «стены из бронзы и железа» против земляных, но когда речь заходила о защите родного города, греки никогда не пренебрегали практической ценностью фортификаций[271]. Да, классическая война рисовалась как жестокий и кровопролитный поединок и ставила открытый бой выше осад и различных «хитростей», к середине V в. до н. э. оборонительная стратегия уже основывалась на неприступности стен и была хорошо известна в Афинах[272]. Этот город был исключительно хорошо подготовлен для реализации такой стратегии, поскольку мог опираться на доходы от торговли с заморскими колониями. Впрочем, граждане малых полисов тоже считали укрытие за стенами вполне допустимым при обороне, особенно когда сталкивались с численно превосходящим противником. Они выбирали открытый бой, только если численность войск примерно совпадала. На самом деле, тщательный анализ Пелопоннесской войны показывает, что осада городов случалась вдвое чаще, чем сражения на открытой местности[273].
Запасы, которые греки классического периода размещали внутри стен, отражают поголовную панику, что порой охватывала защитников при известии о появлении сил противника в пределах территории города. Даже спартанцы, гордившиеся отсутствием у Спарты городских стен, были подвержены этой панике: в 370–369 гг. мужчины и женщины переполошились при появлении фиванцев в пригородах[274]. С учетом расходов, необходимых для строительства городских стен, и психологической важности их возведения и целостности, нет ничего удивительного в том, что бои внутри стен почти всегда рассматривались как крайняя мера, а не как стратегический вариант. Показательно, что древние источники упоминают единственный случай добровольного отказа защищать стены ради сражения в городе. Это произошло в фессалийском Фарседоне в середине IV столетия до н. э., когда защитники города безуспешно пытались заманить македонян Филиппа в засаду на улицах[275].
Греческие военные мыслители, вероятно, отрицали значимость городских боев как предпочтительного способа ведения войны еще и по той причине, что это опровергало устоявшиеся представления о гендерной и статусной иерархии. Классический идеал гражданина означал, что война является сугубой прерогативой свободных мужчин. Женщины и рабы должны оставаться дома, под надежной защитой домашних стен. Бои в городе, однако, лишали мужчин приоритета в этой области, не говоря уже о том, что они ниспровергали понятие дома как исключительно частного пространства. Отметим, кстати, что в рассказах о городских боях обыкновенно подчеркивается активное участие женщин и рабов[276]. Кроме того, городские бои ставили бездоспешную бедноту вровень с зажиточными гоплитами, как бы подрывая устои общественного устройства.
Вдобавок греческие командиры понимали, что городская война жестока и переменчива, даже по древним меркам. Женщины и дети, наряду с комбатантами, считались справедливой добычей. Измены, массовые убийства, поединки до смерти были обычным явлением. Городская топография делала сражение более отчаянным, поскольку воинам, запертым на узких улицах и в домах, некуда было отступать. Даже те, у кого возникало желание пощадить сдающегося врага, могли отказаться от своего намерения, испугавшись внезапного нападения с тыла. Отсутствие связи с подразделениями в условиях городского боя означало, что командиры имели меньше возможностей прибегать к дипломатии – скажем, заключать перемирия, что было характерно для битв на открытой местности. Ночные бои и схватки в плохую погоду усугубляли влияние городского рельефа и слабой управляемости войск. А характер комбатантов не меньше, чем характер местности, способствовал жестокости городских схваток. Противоборствующие группировки в ходе гражданских беспорядков проявляли непримиримую враждебность: в Коркире граждане подожгли собственный город в попытке вытеснить противников[277]. Те, кто оборонял город от иноземных захватчиков, знали, что они сражаются не только за свою жизнь но и за жизни их семей и за само существование города. Нападавшие, в свою очередь, ворвавшись в город после длительной осады и кровопролитного штурма, рвались отомстить или «отплатить» как можно дороже и не разбирали, воин перед ними или мирный житель[278]. Все эти факторы заставляли греков опасаться городских боев.
Тем не менее есть несколько свидетельств того, что греческие командиры умели вести городскую войну, когда к тому вынуждали обстоятельства. Платейцы, конечно же, не преминули воспользоваться топографией своего города, чтобы истребить фиванских захватчиков. В Пирее в 404–403 гг., поскольку демократам не хватало людей, чтобы оборонять весь контур стен вокруг гавани, они умышленно сосредоточили силы на холме Мунихий, опорном пункте, до которого можно было добраться только по городским улицам. Разместив воинов на склонах Мунихия, предводитель демократов Фрасибул максимально использовал оборонительный потенциал городского ландшафта и обратил свой перевес в численности легкой пехоты против олигархов[279]. Эпаминонд, один из вдохновителей фиванского восстания 379 г., был хорошо осведомлен о сложностях городских боев. Признавая, что местность в центре Спарты не подходит для сражения между фалангами, он избегал прямого нападения на центр города в 370–369 и в 362 гг.[280] В Сиракузах в 350-х гг. полководец Дион попытался преодолеть раздробленность городской схватки. Он разделил свое войско на отдельные отряды и сгруппировал их в колонны, чтобы получить возможность нападать в нескольких местах одновременно[281].
В позднюю классическую эпоху городская война удостоилась некоторого внимания в трудах Энея Тактика. Этот человек, возможно, был родом из города Стимфал на Пелопоннесе и, быть может, служил военачальником Аркадскому союзу; он жил и действовал в первой половине IV века до н. э. Хотя на сегодняшний день его работы в значительной степени неизвестны вне круга специалистов по греческой истории, Энея можно назвать первым стратегом городской войны[282].
Эней написал несколько трактатов, из которых сохранился всего один, а именно «Полиоркетика», датируемая примерно 355–350 гг. до н. э.[283] Хотя это название часто переводят как «Искусство осады городов», на самом деле трактат является руководством по защите города от внутренних угроз (измены), внезапного нападения и предательства наемников. Это удивительная коллекция советов, анекдотов и наблюдений, которая содержит и практические советы («Перепиливая засов, следует поливать его маслом; таким образом он перепилится быстрее и с меньшим шумом), и проницательные замечания психологического свойства („В тех частях города, где будут наиболее удобные для противника места подхода и нападения, следует ставить часовыми граждан самых состоятельных, пользующихся наибольшим почетом и занимающих в городе особенно высокие должности. Ведь в высшей степени естественно, что они-то не предадутся удовольствиям, но в сознании [своего положения], всегда будут проявлять бдительность“)»[284].
Эней подчеркивает многие из тех аспектов городского боя, которые мы уже рассмотрели. Он отмечает важность агоры и других стратегических точек[285]. Он перечисляет способы, которые помогут городу защититься от неожиданного нападения и от внутренних угроз. Войска города, пишет он, должны быть хорошо организованы и управляемы; наем и дисциплину наемников следует тщательно регламентировать. Кроме того, Эней пропагандирует различные, удивительно современно звучащие тактики удержания под контролем городского населения: регистрации или конфискация оружия, выдача пропусков, допросы торговцев и иноземцев, запрет общественных пиров и так далее. Даже за шествиями и религиозными церемониями должно наблюдать, добавляет он, чтобы они не стали поводом для возмущения. Взаимный контроль поступков горожан, говорит он, лишит заговорщиков любой возможности осуществить свои планы.
Что ж, очевидно, что Эней был хорошо знаком с долгой историей городских противостояний в классической Греции. Он описывает столкновения в Платеях, Спарте и Аргосе в качестве примеров действий по защите города. И предлагает некоторые способы сражения внутри стен, в том числе уловку по заманиванию врага в открытые ворота и последующего истребления[286]. Тем не менее истинной целью Энея было не описать, как выиграть городской бой, но показать, как предотвратить проникновение войны в город – бдительность у ворот и на рынке, активная защита городских стен, строгий контроль за потенциально мятежными элементами. В некотором смысле Эней просто увековечил традиционную классическую стратегию обороны с опорой на городские стены.
По иронии судьбы, как раз когда Эней завершал свое руководство, началась новая эра греческой военной техники. Большие натяжные стрелометы и катапульты предоставили нападающим на города серьезные преимущества. Через несколько лет после появления «Полиоркетики» Филипп Македонский использовал осадные орудия для взятия некогда неприступного Амфиполя. Продолжая упирать на важность городских стен, Эней и его греческие соратники упустили из вида возможности новой осадной техники. Возможно, пиши он несколько лет спустя, Эней предложил бы иной подход к стратегии, уже не предусматривающий отпора захватчикам на стенах, а предписывающий заманивать их в город, где нападающих легко окружить и уничтожить, как проделали это платейцы с фиванцами в 431 г.
Уроки античности
Копья и мечи, дома из сырцового кирпича, женщины на крышах из глиняных плиток… На первый взгляд кажется труднопредставимым, что события и наставления двадцатипятивековой давности могут оказаться полезными для современной городской войны, в которой высокотехнологичные западные армии противостоят вооруженным гранатометами повстанцам в расползшихся бетонных городских агломерациях. За исключением разделенных городов, наподобие Нотия и Сиракуз, история классического городского боя имеет мало общего с современной тактикой борьбы с повстанцами. Тем не менее поставим Платеи рядом с Могадишо 1993 г.: уступавший числом американский десант заплутал в лабиринте незнакомых улиц. Очевидно, кое-что не так уж изменилось[287].
Возможно, первый урок из опыта греческих городских боев следующий: крайне необходимы хорошая разведка и знание местности. Без понимания городской топографии не только в физическом, но и в более широком смысле, без учета экономических и социальных отношений, что связывают город и его жителей, современные солдаты окажутся в грязи и темноте, как фиванцы в Платеях. Для западных армий, действующих в зарубежных городах, не слишком передовые технологии и недорогие решения, скажем, наличие достаточного числа переводчиков или начальное обучение солдат иностранному языку, будет полезнее, чем применение реактивных истребителей или иных напичканных гаджетами устройств.
Кроме того, классический опыт способствует понимаю контекста, в котором существуют месть и фракционности, характерные признаки современной городской войны. Сектантская враждебность, которой отмечены многие городские конфликты наших дней, уже не покажется столь радикальной на фоне гражданской войны, например, в Коркире. Классический греческий город был пронизан семейными и родовыми связями. Гражданские беспорядки представляли собой сосуд, куда стекались все антагонизмы – классовые, политические, личные[288]. Неутолимая фракционная ненависть, массовые убийства, лишение себя жизни, чтобы не сдаваться – все это неотъемлемые черты стасиса, вовсе не исключительная собственность одной идеологии, места или времени. Как давно сказал Фукидид, событиям свойственно повторяться «по свойству человеческой природы в том же или сходном виде»[289].
Способность греческих полисов мобилизовать население на городскую войну также представляет собой урок для современных западных армий, привычных к строгому разграничению между военным и гражданским персоналом.
С классической точки зрения, вооруженное население есть более разумный подход, нежели профессиональная военная каста, изолированная от остального общества. Греки, правда, предпочитали полагать, что битва является уделом гоплитов, то есть граждан мужского пола. В городских боях, впрочем, эта идеология не применялась: каждый мужчина и каждая женщина в городе могли сражаться. Бросание женщинами плиток с крыш в древнем городе напоминает нам, насколько успешно нерегулярные комбатанты способны использовать городской рельеф, чтобы нейтрализовать технологические преимущества обычных вооруженных сил.
История городского боя в Афинах и Фивах, кроме того, показывает, что иностранные войска и гарнизоны, при всей их полезности для установления нового режима, являются средоточием интереса местной оппозиции. Иногда вооруженные силы в городе приносят больше вреда, чем пользы. Интересно, например, что случилось бы в Афинах в 508–507 гг., если бы олигархическая партия не призвала спартанцев. Возможно, олигархи удержали бы власть, и афинская радикальная демократия потерпела бы поражение. А предупреждения Энея Тактика об опасности наемников дают дополнительную пищу для размышлений. Да, классические авторы порой чрезмерно пристрастны к наемных воинам, однако не без причин. Высокомерные, жестокие или ленивые наемники оскорбляют народ и могут оказаться поводом для восстания. В наши дни не подчиняющиеся регулярному командованию и излишне агрессивные частные военные подрядчики, наподобие «Блэкуотера», угрожают успеху западных армий и препятствуют достижению стратегических целей.
Если город нужно взять или отстоять, греческий опыт показывает, что недостаточно удерживать центральную точку, будь то акрополь или «зеленая зона». Городская война требует контроля рынков, улиц и домов. Более того, как признавал Эней Тактик, победу следует обеспечивать репрессиями, бдительностью и взаимной ответственностью, чтобы предотвратить мятеж или вторжение еще до его начала. Энею, конечно, не приходилось иметь дела с мировым общественным мнением, но в этом отличии, пожалуй, и заключается важнейший урок античного городского боя. Эксцессы и зверства в Коркире, Фивах и Сиракузах подчеркивают опасность ситуации, когда войска выходят из-под контроля, зацикливаются на мыслях о «мести» и сражаются всего-навсего за сохранение власти, а не за более высокую цель. Современные западные демократические армии – это не только вооруженные силы. Они олицетворяют общественную репутацию и ценности своих стран и находятся за рубежом только до той поры, пока пользуются поддержкой большинства дома. Враг может быть сколь угодно коварным и бесчестным, но офицеры и солдаты современной демократии должны всегда помнить о моральных и этических обязательствах, будь то в ходе городского боя или где-либо еще.
Дополнительная литература
Читатели, желающие узнать больше о древних городских войнах, могут начать с изучения «Полиоркетики» Энея Тактика. Описаниями античных войн изобилуют сочинения Фукидида и Геродота. В работах Обера «Гоплиты и препятствия» (1991) и Ли «Городские бои в Олинфе» (2001) анализируются тактики древних городских боев. Подробнее о классической греческой армии см. в «Кембриджской истории греческих и римских войн» (2007). Книги «Война в городе» (1991) Эшворта и «Солдаты в городах» (2001) Дэша прогнозируют развитие тактики городского боя. О городском бое в современном глобальном контексте см. работу Калдора «Новая и старая война» (2007), а также «Асимметричные войны» (2007) Торнтона.
Антал Д., Брэдли Г. Городские бои: избранные случаи уличных боев от Второй мировой войны до Вьетнама. New York: Presidio Press, 2003.
Барри У. Д. «Черепица и городское насилие в древнем мире» // «Греческие, римские и византийские исследования», 37, № 1, 1996.
Боуден М. Падение черного ястреба: история современной войны. New York: Penguin, 1999.
Ван Веес Г. Греческая война: мифы и реальность. London: Duckworth, 2004.
Вэйвелл Дж. «Спарта и ее топография» // BICS, 43, 1999.
Гарлан И. Исследования греческой полиоркетики. Paris: E. de Boccard, 1974.
Гарланд Р. Пирей от V до I века до н. э. London: Duckworth, 2001.
Герке Х. – Й. Стасис. Minich: Beck, 1985.
Гилл Д. «Гипподам и Пирей» // Historia, 55, № 1, 2006.
Гленн Р., Пол К., Тодд Х., Стейнберг П. «Люди строят город»: наблюдения за взаимодействием горожан и военными операциями в Афганистане и Ираке. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2007.
Джос Э. Д. Городская партизанская война. Lexington: University Press of Kentucky, 2007.
Дэш М. К. Солдаты в городе: военные операции в городской местности. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U. S. Army War College Command, 2001.
Дюфур Ж. – Л. Война, город и солдат. Paris: Odille Jacob, 2002.
Иссерлен Б. C., Дю-Пла-Тейлор Д. Мотия: финикийский и карфагенский город на Сицилии. Leiden: Brill, 1974.
Калдор М. Новая и старая война: организованное насилие в глобальную эпоху. Stanford: Stanford University Press, 2007.
Кренц П. Тридцать тиранов в Афинах. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982.
Кренц П. «Стратегическая культура Перикловых Афин» // Полис и народ: исследования политики, войны и истории Древней Греции. Claremont, CA: Regina Books, 1997.
Кэмп Д. «Стены и полис» // Полис и политика: исследования по истории Древней Греции. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2000.
Кэмп Д. Археология Афин. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.
Кэхилл Н. Бытовая и городская организация Олинфа. New Haven, CT: Yale University Press, 2002.
Линтотт Э. Насилие, гражданская война и революция в классическом городе. London: Croom Helm, 1982.
Лоуренс А. У. Греческие фортификации. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Ли Д. У. «Городские бои в Олинфе, 348 г. до н. э.» // Поле битвы: прогресс и перспективы военной археологии. B. A. R. International Series, 958, Oxford, 2001.
Макниколл А. У., Милнер Н. П… Эллинистические укрепления от Эгейского моря до Евфрата. Oxford: Oxford University Press, 1997.
Мартен Р. Урбанизм греческой античности. Paris: A. et J. Picard, 1974.
Обер Д. «Гоплиты и препятствия» // Гоплиты: классический греческий боевой опыт. Berkeley & LA: University of California Press, 1991.
Рафтопулу С. «Новые находки из Спарты» // Спарта в Лаконике: материалы 19-го классического коллоквиума Британской школы в Афинах (Лондон, 6–8 декабря 1995 г.). London: British School at Athens, 1998.
Раш С. М. Полиоркетика в Пелопоннесской войне. University of Pennsylvania, 1997.
Рой Д. «Угроза из Пирея» // Космос: исследования мирного и военного общества классических Афин. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Ролингс Л. «Альтернативные мучения: бои гоплитов и боевой опыт вне фаланги» // Война и насилие в Древней Греции. London: Duckworth, 2000.
Сабин Ф., Ван Веес Г., Уитби М. Кембриджская история греческих и римских войн. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Соколичек А. «О феномене диатехисматы в греческих городах» // Forum Archaeologiae, 27/VI/2003 ().
Страссер Р. Ориентиры Фукидида. New York: Free Press, 1996.
Страссер Р. Ориентиры Геродота. New York: Pantheon, 2007.
Торнтон Р. Асимметричная война: угрозы и ответные меры в XXI веке. Malden, MA: Polity Press, 2007.
Тритл Л. От Мелоса до Сонгми: война и выживание. London: Routledge, 2000.
Уайтхед Д. Эней Тактик: как выжить в осаде. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Уинтер Ф. Греческие фортификации. Toronto: University of Toronto Пресс, 1971.
Хабихт К. Афины от Александра до Антония. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
Хансен М., Гейне Т. Описание архаических и классических полисов. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Хепфнер В., Швандер Э. – Л. Дом и город в классической Греции. Munich: Deutscher Kunstverlag, 1994.
Шипли Г. «Лакедемон» // Описание архаических и классических полисов. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Эшворт Дж. Г. Война и город. London: Routledge, 1991.
7. Борьба с терроризмом и враги Рима Сьюзан П. Маттерн
Римлянам, как и любой другой имперской силе в истории, недоставало ресурсов, чтобы господствовать везде и всюду. Римская экономика по некоторым показателям была передовой – плотность населения, урбанизация, монетизация и развитие горнодобывающей промышленности достигли пикового уровнях для Средиземноморья во II в. н. э., причем этот уровень остается непревзойденным по сей день. Но ученые считают, что имперское правительство собирало налогов на сумму меньше (возможно, гораздо меньше) 10 процентов от ВВП, и это налоговое бремя неравномерно распределялось в экономике, в которой большая часть населения производила или зарабатывала средства, едва-едва обеспечивавшие «прожиточный минимум». При этих доходах государство содержало армию численностью чуть менее полумиллиона человек, и армии вменялись в обязанность расширение и защита границ империи с населением 60–70 миллионов человек и площадью 4 миллиона квадратных километров[290]. Будучи вдобавок единственной крупной и доступной общественной рабочей силой, армия привлекалась к выполнению невоенных или полувоенных функций, например несла службу в лавках мытарей и караульную службу, сопровождала важных персон, собирала налоги, охраняла тюрьмы и строительные бригады и сама занималась строительством[291]. Италия, центр имперской власти и родина римлян, не «экспортировала» значительного количества иммигрантов, будь то колонисты или солдаты. Исключение составляет короткий период правления Юлия Цезаря и Августа, когда около 200 000 отставников – главным образом итальянцев, ветеранов гражданской войны, которые уже не могли нести армейские тяготы – получили земельные участки в заморских колониях, поскольку в самой Италии свободная земля была в дефиците. Эти люди сыграли существенную роль в культурной трансформации Запада, но это было всего одно поколение «катализаторов»; данные колонии не сформировали этнически обособленное население или правящий класс. Последним на Западе считались коренные римские аристократии, а на Востоке и на Сицилии – греческая или эллинизированная местная аристократия, возникшая до римской оккупации[292]. Бюрократию Рим тоже не экспортировал: наместники провинций, их администрация и чиновники ранга всадников исчислялись всего лишь десятками, пусть они обычно привозили с собой друзей, рабов и клиентов[293]. И римляне строго соблюдали эти ограничения.
Современные ученые выявили факторы, которые в глазах населения империи делали ее жизнеспособной. Система налогообложения объединяла, монетизировала и урбанизировала экономику, «цивилизационные манки» обеспечивали глубокие культурные изменения, особенно на Западе, ряд имперских идеалов и форм – римское право и юриспруденция, образ императора и культ империи – присутствовал везде и вызывал ощущение сопричастности великому целому[294]. Но всего этого римляне достигли при наличии государственности в зачаточном состоянии и исчезающе малого сенаторского правящего класса, в основном, через развитые социальные механизмы.
Для предотвращения и подавления мятежей римляне полагались на сложную сеть взаимоотношений, пронизывавших едва ли не каждую страту общества, а также на агрессивную военную оккупацию наиболее нестабильных регионов, на пропаганду «решительного и безжалостного ответа» при необходимости и на способность собирать, пусть не сразу и с большими издержками, подавляющую силу, когда военные ресурсы империи сосредоточивались в одном месте. Риторика, отличавшая римлян от их менее цивилизованных, менее добродетельных и менее дисциплинированных врагов и подданных, маскировала реальность, в которой подданные трудились вместе с римлянами и в которой подданных было сложно отличить от римлян. Ни одно из средств, использованных римлянами против восстаний и мятежей, не могло искоренить саму проблему. Римляне управляли мятежами, но не ликвидировали их причин; бесчисленные большие и малые восстания на протяжении имперского периода, равно как и бандитизм, были свойственны империи все годы ее существования. Не было такого времени, когда численность римской армии могла быть безопасно сокращена – например, если оккупация успешно завершилась, – или же когда армию целиком можно было освободить для новых крупных завоеваний. Напротив, численность римской армии росла следом за расширением территориальных пределов империи[295].
Основные восстания и мелкие мятежи на протяжении имперского периода хорошо документированы. Один исследователь подсчитал, что с правления Августа, первого императора, по 190 г. произошло более 120 актов неповиновения; подсчет учитывает только события, упомянутые в древних источниках, но можно с уверенностью предположить, что многие эпизоды избежали упоминания[296]. Различные области, формально будучи имперскими, оставались в основном свободными от римского владычества, подконтрольными местным «бандитам» или аристократам[297]. Два крупных восстания известны в подробностях благодаря очевидцам: это восстание Верцингеторикса 52 г. до н. э., описанное Цезарем в «Галльской войне», и еврейское восстание 66–73 гг. н. э., описанное Иосифом Флавием. Иосиф командовал отрядами повстанцев, был взят в плен будущим императором Веспасианом и написал хронику войны на арамейском (текст утрачен), а затем на греческом языке (эта версия сохранилась)[298].
Стоит отметить не только кровопролитные восстания против Рима. В знаменитом сражении 9 г. германский вождь Арминий разгромил римские легионы Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, вследствие чего Рим никогда более не претендовал на господство над «Вольной Германией». Другие известные инциденты подобного рода – восстание Боудикки в Британии при Нероне, восстание батавов Цивилия во времена римской гражданской войны 69 г. и восстание евреев под началом Симона Бар-Кохбы в 132–135 гг.[299]
Некоторые авторы описывали травмирующие и унизительные процессы консолидации общества непосредственно после завоевания, когда новые налоги и набор местных мужчин в армию становились основными поводами для возмущения не до конца покоренного населения, склонного к бунтам. Римляне разделяли эту точку зрения. Римские писатели (мнения самих повстанцев не сохранились) рассуждали о свободе, об угрозе родовым ценностям и образу жизни и о коррупции среди римских чиновников как о ведущих мотивах ранних восстаний[300]. Примеры восстаний этого типа – вскоре после оккупации, во главе с местными лидерами, в ответ на трудности консолидации – мятеж Верцингеторикса в Галлии, действия Арминия в Германии и Боудикки в Британии.
Впрочем, мятежи и бунты случались и в провинциях, давно входивших в империю, – уже по иным причинам. В провинциях с открытыми границами, за которыми лежали «неумиротворенные» области или труднодоступные районы, возникали зоны долгосрочной или постоянной нестабильности, поскольку местные жители меняли свою лояльность в зависимости от обстоятельств (это касается северной Испании, северо-западной и восточной Англии, африканских провинций и других областей с эндемичным бандитизмом; подробнее см. ниже).
Кроме того, местные аристократы в давно «романизированных» провинциях могли возглавлять восстания, когда видели возможность отложиться; лучший пример тому – Галлия (восстание Юлия Флора и Юлия Сакровира в 21 г. и восстание Юлия Цивилия в 69 г.). Галлия быстро урбанизировалась и романизировалась, в I в. н. э. многие местные семьи имели римское гражданство, а эдикт императора Клавдия в 48 н. э. допустил некоторых галло-римлян в правящую элиту империи, в число сенаторов. Но эти лидеры могли опираться на своего рода «коренную идентичность», возможно вновь обретенную или укрепившуюся в итоге римского завоевания (галлы не знали, что они галлы, пока Юлий Цезарь не назвал их таковыми). Наконец, потенциальные цари и императоры, люди высокого ранга и большого влияния, могли искать союзников на местах в гражданских войнах и с их помощью претендовать на престол (например, Серторий в Испании, Виндекс в Галлии и Авидий Кассий на Востоке; гражданская война, покончившая с республикой, породила множество подобных связей)[301].
Эта схема кажется чрезмерно упрощенной, но суть в том, что все провинции оставались лишь сравнительно мирными, пусть характер и интенсивность восстаний менялись с течением времени. По меньшей мере три восстания в Азии и Ахайе возглавляли люди, именовавшие себя императором Нероном, который совершил самоубийство после свержения в 68 г. В провинции Вифиния (ныне северная Турция) император Траян запретил организации (коллегии) любого рода, поскольку этот регион имел репутацию оплота повстанцев; мы не располагаем достаточными доказательствами обоснованности забот Траяна, но император запретил даже пожарные бригады, а его указ заложил основы преследования христиан[302]. Ко времени восстания Бар-Кохбы Иудея являлась римским протекторатом (или провинцией) уже почти 100 лет. В ходе политического и военного кризиса III в. огромные части империи на Востоке и Западе – Сирия и Египет под властью Зенобии, царицы Пальмиры, и
Галлия под властью собственной династии императоров – восстали и сопротивлялись независимо друг от друга на протяжении десятилетий, прежде чем они были в конце концов усмирены; но по большей части мы оставим этот бурный период вне рассмотрения и сосредоточимся на хорошо документированном промежутке примерно с 100 г. до н. э. по 200 г. н. э.
Чтобы сохранить мир, римляне отчасти опирались на неотвратимость возмездия, причем эту идею они формулировали, используя идеологические, а не более абстрактные, стратегические термины. Римские историки говорили о восстаниях как об оскорблениях и вызовах, правильными ответами на которые была месть, достаточно суровая, чтобы внушить повстанцам благоговение и страх. В некоторых случаях они не чурались геноцида, истребляя племена и даже целые народы, что также засвидетельствовала римская литература. Они прибегали к террору как к инструменту политики, в том смысле, что творили крайние жестокости в массовых масштабах, дабы запугать подданных. Несмотря на то, что Рим никогда не оккупировал территорию по ту сторону Рейна после восстания Арминия, походы под началом будущего императора Тиберия, а затем его племянника и приемного сына Германика опустошили эту территорию: римские воины не щадили мирное население и явно намеревались истребить германцев[303]. Также римляне использовали нанесение увечий, массовые депортации, массовые грабежи и массовые убийства на грани геноцида, чтобы карать, мстить и усмирять. После восстания Бар-Кохбы император Адриан, который лично возглавил поход против восставших, изгнал евреев из Иерусалима и основал город заново в качестве римской колонии. Один древний источник говорит, что свыше полумиллиона человек погибли тогда и выжили лишь немногие. Другие данные свидетельствуют о наличии богатой раввинской культуры в регионе после восстания – депопуляцию и разрушение затруднительно осуществлять тщательно и успешно, – но документы сохранили и сведения о безжалостности римлян. Таково значение слов, приписанных Тацитом британскому мятежнику Калгаку: «отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир». Знаменитые цитаты из Полибия и Иосифа, историков, что описывали покорение их собственных народов, отражают старательно культивировавшийся римлянами образ сурового, но справедливого Рима[304].
Некоторые восстания потребовали от Рима значительного напряжения сил. На подавление восстания Иллирика в 6 г. бросили десять из двадцати восьми легионов империи, под командованием будущего императора Тиберия. Через несколько лет, после восстания Арминия, тот же Тиберий вторгся в Германию с восемью легионами – всей армией Рейна, около 40 000 воинов, плюс вспомогательное войско неизвестной численности, вероятно, около того или даже больше. Еврейское восстание 66 г. подавляли четыре легиона, в общей сложности около 50 000 воинов, в течение нескольких лет[305].
Но мы опять упрощаем. Мятежи в Римской империи вовсе не представляли собой череду разрозненных событий и ответных мер; сопротивление фиксировалось во все периоды римской истории и во многих местах. Вооруженные восстания и «обычная» война были всего лишь двумя его проявлениями. Каким же образом и с помощью каких постоянных «инструментов» римляне предотвращали мятежи, управляли ими и реагировали на сопротивление изо дня в день?
Некоторые повстанцы использовали террор в качестве тактики. Большинство историков ссылаются в качестве примера на группу, которую Иосиф называет сикариями. По его словам, группа действовала в Иерусалиме в 50-х гг., убивала своих жертв при свете дня, часто на многолюдных церемониях, а ее название происходит от лат. sica – «кинжал». Подобно некоторым современным террористам, сикарии выбирали символические цели, их первой жертвой стал первосвященник Ионафан, «олицетворение сотрудничества жреческой аристократии с пришлыми римскими правителями и эксплуатации людей»[306]. Они также нападали на богатых землевладельцев в сельской местности и уничтожали их имущество, опять же, в знак предостережения против сотрудничества с римлянами. По словам Иосифа Флавия, сикарии были идеологически мотивированными последователями «четвертой философии», что призывала к восстанию против римлян на религиозной почве[307].
Иосиф Флавий именовал сикариев «бандитами» (lestai) и использовал то же уничижительное обозначение для других повстанцев, помимо сикариев. Бандитизм был весьма распространенным явлением в империи, и даже при отсутствии идеологических оснований его зачастую справедливо называть мятежом, поскольку римское правительство неуклонно стремилось его искоренить. Некоторые полководцы и императоры утверждали, что сумели уничтожить всех бандитов на подвластных им территориях, но на самом деле ссылки на бандитизм пронизывают литературные и документальные свидетельства всех периодов Римской империи, причем бандиты разбойничали во всех без исключения провинциях империи, в том числе в «исконных» и особенно в Италии[308]. Греческое и римское понимание бандитизма обычно включало насилие в сельской местности, то есть набеги, грабежи, похищения, нападения, разбой на дорогах и убийство; из-за бандитов путешествовать в римском мире было очень опасно, даже на короткие расстояния. Бандиты, как правило, принадлежали к отбросам общества, на «большую дорогу» подавались рабы-пастухи, скотоводы, обитавшие на задворках цивилизации (особенно на Сицилии и в южной Италии), отставные солдаты и дезертиры.
Крупные социальные группы, проживавшие в пределах Римской империи, в том числе некоторые племена и иные этнические единицы, древние источники также классифицировали как бандитов. Среди наиболее заметных были буколои с болот в дельте Нила. В Киликии, на юго-востоке Малой Азии, горные исавры никогда по-настоящему не инкорпорировались в империю, сохраняли свой язык и племенную организацию и совершали разбойничьи набеги на более урбанизированные низменности весь период римского владычества; римляне вели с ними переговоры и изредка воевали, как с внешним врагом.
В Иудее, для которой единственной имеется большое количество литературных свидетельств на протяжении нескольких столетий, бандитизм оставался эндемическим явлением на всем протяжении римского владычества. Причем бандитизм в этой провинции нередко носил идеологический оттенок: местные жители воспринимали бандитов как защитников еврейской свободы от Рима. Различие между бандитизмом и партизанской войной в этом регионе провести крайне затруднительно. Сети вырубленных в скалах пещер поблизости от некоторых поселений в Иудее могли быть штаб-квартирами бандитов или укрытиями партизан-повстанцев, возможно, участников мятежа Бар-Кохбы, и эти группы населения существенно перекрывали друг друга. Датировать их деятельность сложно, вполне вероятно, что они действовали на протяжении десятилетий, если не веков[309].
Различие между бандитом, вождем племени, мелким царьком или лидером восстания зависит исключительно от интерпретации; многие люди подпадают сразу под несколько определений в древних источниках. Таким образом, крупные географические районы в пределах Римской империи оставались независимыми от римской власти – в основном, в горной местности, с ее мобильным населением и труднодоступным рельефом. Это были своего рода «карманы», где власть Рима не признавалась.
Аналогия между древним и современным бандитизмом выглядит натянутой. Идеология могла присутствовать и отсутствовать в древнем бандитизме, который в основном был экономическим, и даже там, где сопротивление являлось этническим или идеологическим, террор (в смысле непредсказуемого насилия, призванного порождать нестабильность и страх) оказывался малоподходящей тактикой, сработавшей разве что против сикариев. Опять же, за исключением сикариев, те люди, кого именовали бандитами в древности, действовали в сельской местности, обитали зачастую в недоступных горных районах, а не в многолюдных городах, этих предпочтительных мишенях современных террористов. Однако налицо и важные параллели. Бандиты не воспринимались как обычные преступники, они были врагами государства, против которых римляне вели войны. Это была не совсем война в прямом смысле, в отличие от походов против других государств; римляне рассматривали войну с бандитами как партизанскую, или, как мы теперь говорим, «асимметричную», хотя и не использовали эти термины. Считалось, что бандиты не действуют в одиночку. Они опирались на лояльность и ресурсы местных сообществ, которые помогали им, либо находились под защитой крупных землевладельцев, которые использовали их для собственных целей: грабить и убивать, похищать и запугивать соседей, а также в качестве «карательных отрядов» в постоянной конкуренции за землю и власть. Некоторые землевладельцы содержали фактически целые частные армии бандитов, способные отразить нападение любого военного соединения, которым располагала та или иная провинция.
Бандиты со связями в местных сообществах или подчинявшиеся землевладельцу попадались благодаря разведке, доносам и предательству. Их травили, как зверей на охоте; источники описывают армейские экспедиции, отправку наемников и поощрение местных шпиков[310]. Известны профессиональные и полупрофессиональные охотники на бандитов, причем некоторых из них было трудно отличить от самих бандитов[311]. Закон обязывал от общин и индивидов разыскивать и отлавливать бандитов, и за убийство бандита никакого наказания не полагалось[312]. Римское право вдобавок преследовало тех, кого обвиняли в соучастии, защите бандитов и сбыте награбленного ими – увы, это мало кого останавливало[313]. Некоторые богатейшие и влиятельнейшие персоны практически открыто покровительствовали бандитам, в том числе и многие представители римской сенаторской аристократии. Пропагандистская риторика, противопоставляющая бандитизм и легитимную власть, маскировала ситуацию, когда пребывавшая в зачаточной форме римская государственность оперировала в тени (или являлась частью) гораздо более сложной и развитой системы личной власти, включавшей в себя бандитов и их покровителей.
Армия охраняла граждан от бандитов. Август и Тиберий держали военные гарнизоны (stationes) по всей Италии, чтобы ловить бандитов, – ведь бандитизм распространился еще шире в годы гражданской войны, что покончила с республикой[314]. В некоторых регионах солдаты охраняли дороги от бандитов, а также возводили сооружения, этакие пограничные посты, куда затем направляли воинские подразделения. В Киликии римляне постепенно (в III и IV веках) укрепили всю внутреннюю границу с исаврами[315].
Против больших банд или «бандитствующих народов» римские наместники и их чиновники вели локальные войны. Цицерон возглавил жестокую карательную экспедицию против бандитов, будучи наместником Киликии, и в ходе ее разрушал деревни и истреблял их жителей; в одном поселении взял заложников после длительной осады, но долгосрочного успеха не добился. Тацит упоминает новые походы на бандитов в регионе, предпринятые чиновниками наместника Сирии в 30-х гг. и в 51 г.[316]
Римские наместники и императоры порой пытались нейтрализовать бандитов, нанимая сами банды для наведения порядка или заманивая бандитов в армию, по отдельности или en masse[317]. Еще чаще римские командиры вступали с бандитами в переговоры. Так, Цицерон завязал дружественные отношения (hospitium, гостеприимство) с одним исаврийским вождем («тираном», по его словам); этот и иные виды «ритуализированой дружбы» являлись основными инструментами римской внешней и внутренней политики на закате республиканского периода и на протяжении большей части римской истории в целом. Цицерон, Помпей и Марк Антоний дружно признавали другого исаврийского вождя, Тарконтидмота, «другом Рима» или своим личным другом[318].
В крошечной горной провинции Мавритания Тингитана, на крайнем северо-западе Марокко, римские наместники заключили мирный договор с вождями горных племен; текст этого соглашения, выбитый на камне, представляет собой почти единственное письменное свидетельство римской политики в регионе. За пределами сильно милитаризованной зоны в равнинной местности римское культурное влияние почти не ощущалось, хотя эту область окружали старинные римские провинции. Ни один сохранившийся источник не называет население горной Мавритании бандитами, однако аналогия с Исаврией несомненна[319].
Как с бандитизмом, так и с повстанцами в целом: военный фактор играет важную роль, однако армия действовала в более широком контексте социальных отношений. Римская армия была оккупационной, захватнической и одновременно дружественной. Это было особенно верно в отношении провинций Испания, Британия, Мавритания (современное Марокко), Сирия, Палестина (после еврейского восстания 66 г.) и Египет. В этих провинциях армия располагалась в городских центрах или была рассеяна по всей области, а не сконцентрирована на границе (провинция Испания не имела границ, а граница Британии была очень короткой)[320]. Некоторые районы империи оккупировались интенсивно, в частности Иудея, очень маленькая территория, где располагались в начале II в. примерно 20 000 солдат, а в Мавритании Тингитане в воинском лагере квартировали 10 000 солдат; за пределами «военной зоны» римское влияние едва ощущалось[321]. В обоих случаях интенсивная оккупация доказала свою бесполезность. Гарнизоны в Иудее не смогли предотвратить восстание Бар-Кохбы или подавить эндемичный бандитизм в провинции, и лагерь в Мавритании Тингитане был заброшен в III веке.
Осложняло ситуацию то обстоятельство, что армия не выступала из центра на периферию, как подобало бы одному народу, доминирующему над многими другими, хотя император притязал на верховную власть везде и во всем. В I в. н. э. римская армия быстро превратилась из ополчения итальянских граждан-солдат в силу, набираемую по всей империи, а не преимущественно из Италии. Легионерами становились главным образом граждане провинций, в частности, из ветеранских колоний. Но эти колонии представляли собой отнюдь не изолированные, этнически обособленные сообщества; среди их граждан были и ветераны-поселенцы, и вольноотпущенники, и отдаленные потомки переселенцев или вольноотпущенников, смешавшиеся за многие поколения с местным населением. Потомки отставников из вспомогательных войск служили, вероятно, еще одним важным источником пополнения легионов. Вспомогательные войска, набиравшиеся исключительно из неграждан, были гораздо многочисленнее регулярной армии. Увольняясь после десятилетий службы, эти солдаты приобретали римское гражданство и пенсию и, как правило, селились в тех регионах, где стояли их части. Таким вот образом армия Рима пополнялась за счет подданных империи[322].
Рассмотрим ситуацию в Иудее до восстания 66 г. Ирод Великий правил при поддержке римлян вплоть до своей смерти в 4 г. до н. э. и содержал типичную эллинистическую армию, набранную в местных военных поселениях[323]. Ему служили в основном сарматы, идумейцы, евреи-лучники из Вавилона и этнические палестинские евреи, хотя известно, что телохранителями Ирода были германцы, фракийцы и галлы. «Туземные» поселения продолжали снабжать армию, которая поддерживала всех преемников Ирода и составила гарнизон Иудеи после 6 г. до н. э. Многие воины этой армии сохранили верность римлянам и сражались заодно с ними, подавляя восстание 66 г. под командованием правнука царя Ирода, Агриппы II. С другой стороны, Ирод, вероятно, смоделировал свою армию по подобию римской и привлек на службу некоторых урожденных римлян; вполне возможно, что многих евреев забрали в легионеры или во вспомогательное войско как в его царствование, так и позже. Но созданный Мелом Гибсоном в «Страстях Господних» образ солдата-латинянина неточен. Солдаты в «римского» гарнизона в Иудее говорили на арамейском.
Армия, которую римляне первоначально направили против мятежников в 66 г., под командованием Цестия Галла, наместника Сирии, состояла из легионеров (то есть граждан Рима), вспомогательных отрядов (из неграждан), контингентов двух местных царьков-союзников («клиентов») и сирийского ополчения. В то же время еврейские силы, верные Агриппе II, выступили против мятежников тремя отрядами. Позднее римская армия под командованием Веспасиана стала куда многочисленнее: 55 000-60 000 легионеров и вспомогательных войск, 15 000 союзников, плюс, по крайней мере, один высокородный еврей, Тиберий Юлий Александр из Египта.
В этом примере и во множестве других, со всей империи, трудно различить римлян и их подданных, и процедура дополнительно осложняется тем, что многие аборигены, романизируясь, меняли имена на римские, а потому чрезвычайно непросто выделить в общей массе этнических итальянцев. Например, некоторые офицеры Ирода носили римские имена, но мы не знаем, были ли они романизированными евреями или выходцами из легионеров. Должны ли мы считать всех римских граждан римлянами, включая царя Ирода и его преемников, а также Иосифа Флавия и всех отставных солдат вспомогательных войск, их вольноотпущенников, их потомков и потомков их вольноотпущенников? Римлянин ли Павел из Тарса, чья семья приобрела римское гражданство благодаря неведомому покровителю, и римляне ли вольноотпущенники его семьи? Или следует именовать римлянами только чиновников из Италии, то есть прокуратора и его окружение? Или же нужно относить к римлянам одних легионеров? Но до восстания 66 г. в Иудее не было легионов. Один исследователь, изучавший Галлию, предположил, что термин «римлянин» был показателем социального статуса, а не этнической принадлежности, и потому не имел фиксированного значения: можно быть более или менее римлянином, в зависимости от подверженности влиянию римской культуры, а четкое различие между правителем и подданным попросту отсутствовало[324].
События, которые большинство историков упрощенно характеризуют как завоевание Иудеи Помпеем в 66 г. до н. э. и подчинение территории Риму через династию царей-марионеток, Иосиф Флавий описывает как невероятно запутанный процесс лавирования в хитросплетениях еврейских династических интриг на фоне гражданской войны в Риме, «треугольника» дипломатических отношений и конфликтов между римлянами и парфянами, римлянами и евреями и евреями и парфянами, а также на фоне локальных взаимоотношений, особенно между Иудеей и Аравией. Всякое отступление римских войск из региона ознаменовывалось новым восстанием во главе с новым кандидатом на престол и возрождением местной власти; относительная стабильность наступила только после поражения Ирода от Аристобула в 37 г. Поглощение Римом греческого Востока и завоевание Цезарем Галлии тоже можно описать подобным образом: лишь пристальное внимание к напряженности и конфликтам, свойственным данной местности, способно адекватно объяснить римскую интервенцию и описать ее последствия[325]. История римского империализма не есть история непобедимой армии, выступающей из центра империи против окруживших ее кольцом менее цивилизованных будущих подданных; да и управлялась империя не волей военизированного правящего класса, подчинившего себе этнически и культурно отличное население.
Современные исследования любых вопросов устройства Римской империи превращаются в фантазии без учета роли персональной власти по сравнению с властью государства. Один ученый отмечает, что в своей исчерпывающе подробной истории Иудеи под римским владычеством Иосиф Флавий едва касается римской государственности и, кажется, не понимает саму концепцию государственной власти[326]. Армия являлась в ту пору крупнейшим институтом римского государства, но именно социальные отношения, а не преимущественно армейские, связывали империю воедино. Большей частью «римское» управление осуществляли местные аристократы, мелкие царьки, вожди, «большие шишки» и крупные землевладельцы, что преследовали собственные цели и обращавшиеся к римской армии и римскому правительству, когда им требовалось. Налоги собирали местные агенты, продолжали действовать многие органы местного самоуправления. Участники локальных распрей и конфликтов взывали к римскому наместнику о разрешении споров – такова была суть римского права и римской провинциальной власти, а вовсе не эдикты и оккупация. Даже там, где «коренные» институты испытывали трансформацию под влиянием контактов с Римской империей, многие никогда не видели официальных представителей Рима, разве что солдат, а в некоторых провинциях даже последние встречались редко. Обмен привилегиями и унижениями, что регулировал общественные отношения, управлял и самой империей.
Можно пойти еще дальше и сказать, что описывать римские провинции как территориальные единицы значит все упрощать. Хотя римское право и политика признавали провинцию в качестве административной единицы, под управлением наместника сенаторского ранга, области наподобие Сицилии, Галлии или Иудеи не имели «унифицированных» отношений с Римом. Скорее, каждая из них являлась сетью сообществ и индивидов с уникальным набором связей в римском государстве, в лице сената и императора (или, при республике, «сената и народа Рима»), а также с отдельными римскими аристократами. Это было верно даже там, где Рим управлял провинциями непосредственно; мы постоянно читаем об изумительном разнообразии мелких царьков и местных правителей, союзных Риму и вроде бы предавшихся под руку империи. Этот сложный момент стоит проиллюстрировать двумя примерами.
Авторитеты по римской истории согласятся единодушно, услышав, что в Иудее римляне поддерживали дружественного себе царя Ирода Великого в течение нескольких десятилетий, вплоть до его смерти в 4 г. до н. э. Тем не менее было бы правильнее сказать, что сначала Юлий Цезарь, затем тиран Кассий, затем Марк Антоний и в конце концов император Октавиан поддерживали Ирода и что Ирод в ответ поддерживал каждого из этих людей[327]. В суматохе после убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. Ирод, хотя его отец был обязан римским гражданством и троном Цезарю, принял отряд Кассия в обмен на предложение союза. Когда Марк Антоний победил Кассия, Ирод сменил покровителя и предложил свою поддержку Антонию. Когда парфяне вторглись в Сирию и Иудею, свергли первосвященника и поставили собственного жреца, Антоний поддержал усилия Ирода по изгнанию парфян, а сенат официально объявил его царем Иудеи. Ирод и его армия также приняли участие в неудачной кампании Антония против Парфии, приблизительно в те же годы. Наконец, когда Октавиан победил Антония при Акции в 31 г. до н. э., Ирод совершил знаменитое паломничество к Октавиану и еще раз переметнулся к недавнему врагу. Убедив императора, что он будет столь же верным ему, каким был когда-то Антонию, Ирод обзавелся другом-императором. Октавиан передал Ироду несколько городов в Палестине – прежде римляне считали их своими или принадлежащими почившей царице Египта.
Ирод направлял римским друзьям войска, когда его просили об этом, и вообще всячески отстаивал их интересы. В свою очередь, он получал средства, с помощью которых расправлялся с династическими соперниками и расширял царство. Действия Ирода неразрывно увязали еврейскую политику и римскую гражданскую войну с региональной и международной политикой. Именно за счет подобных комплексных отношений Римская империя отражала внешние и внутренние угрозы (в этой системе их нелегко разделить), и система работала лучше при условии, что выгоды получали все заинтересованные стороны.
После смерти Ирода его царство оставалось разделенным между четырьмя выжившими сыновьями до 6 г. н. э.[328] В то время, воспользовавшись гражданскими беспорядками, римляне свергли Архелая и создали префектуру Иудея, включавшую часть царства Ирода вместе с Иерусалимом. Однако сыновья Ирода продолжали управлять остальной территорией царства. В 41 г. император Клавдий вручил внуку Ирода Агриппе I власть над всем царством, некогда принадлежавшим Ироду. Когда Агриппа I умер в 44 г., Клавдий подчинил большую часть этой территории римскому прокуратору ранга всадника, а сын Агриппы I, Агриппа II, продолжал править частью Галилеи. Такова была ситуация в провинции, о которой мы знаем больше всего; насколько ее история сложнее истории прочих, сказать трудно. Но явно, что определение империи как власти, которая в основном опирается на прямой военный или бюрократический контроль, не подходит к данному положению дел. Здесь непременно нужно учитывать динамические отношения между римским государством, отдельными римлянами и местными элитами.
Самым доступным «окном» в провинции, долго пребывавшие под прямым римским управлением – то есть подчиненные римским наместникам, – являются публичные выступления оратора Цицерона на процессе обвинявшегося в коррупции Гая Верреса в 70 г. до н. э. К тому времени Сицилия была частью Римской империи уже почти два столетия. Речи Цицерона «Против Верреса» раскрывают сложность отношений Рима с Сицилией и хитросплетения социальных уз, что связывали римский правящий класс и элиту эллинизированного города.
Большая часть провинции выплачивала одну десятую урожая зерновых в качестве налога. Право собирать налоги на Сицилии было продано местным; это было (или, по крайней мере, воспринималось) «как раньше», при последнем царе Сиракуз Гиероне II, что правил во время двух первых Пунических войн. На протяжении своих долгих речей Цицерон не раз с почтением упоминал «закон Гиерона» как институт, неуважение к которому обернулось дурным правлением. Кроме того, пять городов освободили от пошлины; два расплачивались самостоятельно, без договоров, а соглашения по сбору повинностей с некоторых городов продавались в Риме, на условиях, для них менее выгодных[329]. При этом условия соглашения каждой общины с Римом отражали обстоятельства ее участия в Первой Пунической войне и в последующих конфликтах либо ее отношение с римскими покровителями. Семейство Клавдиев Марцеллов и сам Цицерон считали себя покровителями острова в целом; Цицерон называл сицилийцев «союзниками и друзьями римского народа и своими близкими». Отдельные города, такие как Сегеста, Сиракузы и Мессана, имели тесные отношения с аристократическими семействами[330]. Представители эллинизированной сицилийской элиты также пользовались покровительством римских сенаторов, что стало очевидно в ходе судебного разбирательства; одной из наиболее часто упоминаемых форм покровительства было гостеприимство (hospitium). Особенно показательно, что улики против Верреса были получены при перекрестном допросе его «гостя», Гавия из Мессаны, и что Веррес сам несправедливо осудил другого своего «гостя», Стения из Ферм[331].
На Сицилии не было римской армии. Когда Верресу требовался «карательный отряд» для осуществления очередного вымогательского плана, он призывал рабов-охранников из местного храма Афродиты в Эриксе, чьи обязанности вообще-то заключались в охране храмовой казны[332]. Он брал взятки от местных купцов и от враждующих аристократов, которые отправляли своих врагов на его суд[333]. Взыскуя справедливости, сицилийцы слали гонцов, а города отправляли делегации в Рим, умоляя покровителей в сенате о защите, ибо только сенат мог приструнить Верреса[334]. Правление Верреса было коррумпированным и хищническим, но крепкие связи внутри и за пределами Сицилии позволяли ему выходить сухим из воды. Цицерон не упоминал о каких-либо восстаниях и характеризовал сицилийцев патерналистски, как послушный и по-детски доверчивый народ[335]. Более правдоподобным объяснением низкого уровня недовольства на Сицилии в эпоху Цицерона – если верить этой характеристике – будет плотность отношений и связей между местным правящим классом и римской аристократией, плотность, которую речи Цицерона прекрасно иллюстрируют.
Что же тогда называть мятежом, а что – контртеррористическими действиями? Одна точка зрения предлагает трактовать мятежи, сопротивление и бандитизм как следствия «дыр» в сети социальных отношений, что связывали империю воедино, вместе с сенаторской аристократией и императором. В ряде случаев один «узелок» – местный царек, римский аристократ, командир вспомогательного отряда – мог перенаправить узы в новом направлении, создавая новый набор связей, наперекор доминирующему. Международные отношения, местная политика и внутреннее соперничество римского правящего класса – все это работало заодно.
Римляне вели переговоры с мелкими царьками, вождями племен, бандитами и кочевниками[336]. Они платили выкупы и заключали соглашения. Они предоставляли гражданство, имена и военную поддержку. Они формировали бесконечное множество личных связей, что сплетали в сеть интересы римского правящего класса, местной аристократии и бандитов. Если «социальные сети» не помогали, как часто бывало, римляне правили силой. Они оккупировали территории, в некоторых случаях очень плотно. Они вели крупные войны против повстанцев и гордились, побеждая тех за счет превосходной дисциплины, доблести и лучшего оснащения. Они направляли против бандитов патрули, отряды, а иногда и целые армии. Они терроризировали мятежные регионы суровыми репрессиями. Насколько были действенны последние, сказать сложно. Римская империя просуществовала долго, но не знала периода, свободного от мятежей и бандитизма. Впрочем, речь не об эффективности или неэффективности римской армии; важно, что военный аспект мятежей и их подавления и самой империи является лишь верхушкой айсберга. Римляне правили потому, что их социальные отношения проникали повсюду – во всяком случае, далеко. Этими отношениями мог манипулировать кто угодно. Создание сети напряженных и динамичных отношений, все участники которой активно преследуют собственные интересы – сеть с пробелами и дырами, имеющая также «подсети», слабо связанные с основной, – возможно, таков наиболее точный и показательный способ описания империи.
В своей внешней политике Соединенные Штаты сегодня сталкиваются с проблемами, аналогичными для всех древних и современных империй. В частности, оккупация заморской территории всегда обходится дорого и порождает трудности, а «правящая» власть всегда остается в ничтожном меньшинстве. В последнее десятилетие стало модно искать в опыте Римской империи уроки для современности. Некоторые из подобных изысканий просочилось за пределы университетских лабораторий, проникли в популярную культуру[337]. Основные экономические, технологические (представьте себе римлян с ядерным оружием), демографические и социальные различия между современной и древней эпохами превращают поиски таких уроков в чрезвычайно сложное занятие, и не все согласны с тем, что прямая аналогия приемлема или может считаться научно обоснованной. Мы разделяем позицию скептиков[338]. Но раз нас попросили прокомментировать практическую ценность римской истории, мы полагаем небесполезным обратить внимание на решающую роль социальных институтов в жизни Римской империи. Римляне правили потому, что, как «коллективное государство» и как индивиды, они являлись элементами сложнейшей сети зависимостей, взаимных услуг и согласований, охватывавшей весь римский мир. Там, куда римские социальные сети не дотягивались или где часть правящего класса разворачивала собственную сеть против остальных, возникали неприятности. Рим преуспел, поскольку он опирается на созданный им общий социальный и культурный код, единый для местных элит, и поскольку многие влиятельные элементы на местах признавали власть Рима в собственных интересах. Ближайшей современной параллелью этой системе может оказаться «глобальная деревня», продукт взаимодействия телекоммуникационных технологий, финансовых институтов, свободной торговли и потребительских вкусов и интересов, что связывают международное сообщество сегодня. Внимание к общим экономическим и культурным интересам, а не к идеологии, представляется перспективным направлением будущей внешней политики.
Дополнительная литература
Тема восстаний и мятежей в римских провинциях не получила должного внимания со стороны ученых. Две статьи Стивена Дайсона, «Восстания народов Римской империи» (Historia, 20, 1971) и «Модели народных восстаний в Римской империи» (Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Berlin: Walter de Gruyter, 1975), по-прежнему остаются едва ли не единственными исследованиями темы. О бандитизме см. работы Брента Д. Шоу, особенно его классическую статью «Бандиты Римской империи» (Past & Present, 105 1984). Бенджамин Айзек приложил много усилий для прояснения роли римской армии как оккупационной силы, инструмента полицейского контроля и орудия репрессий против бандитов и иных мелких угроз; см. его книгу «Границы империи: римская армия на Востоке» (Oxford: Clarendon, 1992). О еврейском восстании см. исследование Мартина Гудмена «Правящий класс Иудеи: истоки еврейского восстания против Рима в 66–70 гг.» (New York: Cambridge University Press, 1987) и более общую работу «Рим и Иерусалим: столкновение древних цивилизаций» (New York: Knopf, 2007). О личной власти в Римской империи см.: Ричард П. Соллер «Личный патронат в эпоху ранней империи» (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); Брент Д. Шоу «Тираны, бандиты и цари: личная власть в сочинении Иосифа Флавия» (Journal of Jewish Studies, 49, 1993); сборник под ред. Эндрю Уоллеса-Хадрилла «Патронат в древнем обществе» (London: Routledge, 1989); Фергус Миллар «Император в римском мире» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992). Книга Дж. Э. Лендона «Империя чести: искусство управлять в римском мире» (Oxford: Clarendon, 1997) отлично показывает принципы действия системы персональной власти. Исследование Эрика С. Грюэна «Эллинистический мир и пришествие Рима» (Berkeley & LA: University of California Press, 1984) революционизировало наше понимание римского империализма, сфокусировав внимание на социальных институтах и политической борьбе будущих имперских подданных; только с учетом этих факторов можно объяснить, как Рим закрепился в этом регионе и обрел господство. Другие важные работы по невоенным аспектам римской имперской власти: Грег Вулф «Стать римлянами: истоки провинциальной цивилизации в Галлии» (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); и Клиффорд Андо «Имперская идеология и провинциальная лояльность в Римской империи» (Berkeley & LA: University of California Press, 2000).
8. Войны с рабами в Греции и Риме Барри Стросс
Жестокие убийства мирных жителей, харизматические религиозные лидеры, провозглашающие террор, повстанцы, скопом окружающие солдат, легионеры, загоняющие беглых рабов в холмы, ряды крестов вдоль дорог и распятые трупы пленных повстанцев, храмы, возведенные в память их мученической смерти, – все эти образы неплохо знакомы любому, кто интересуется историей; вдобавок некоторые из них популяризировал Голливуд, а иные буквально «рвутся в заголовки», как гласит присказка журналистов из таблоидов. Такова правда древних восстаний рабов. Но если не брать семидесятилетний период поздней Римской республики, со 140 по 70 г. до н. э., восстания рабов в древнем мире происходили довольно редко.
Это может показаться странным, поскольку рабство играло центральную роль в экономике Греции и Рима. Миллионы мужчин и женщин со всего античного Средиземноморья жили и умирали в ошейниках. Большинство из них примирялось с банальностью порабощения, некоторых ожидала участь вольноотпущенников, что чаще случалось у древних, нежели в современных рабовладельческих обществах. И лишь немногие отвечали на побои и унижения ежедневным неповиновением. Рабы не слушались, манипулировали хозяевами или сбегали – или покорно принимали свою судьбы и жили как придется. Тем не менее восстания, то есть массовые вооруженные выступления во имя свободы, были редкостью.
Спартак, мятежный гладиатор, чье восстание терзало Италию с 73 по 71 г. до н. э., был настолько же необычен, насколько стал знаменит. Особые условия, как мы увидим, превратили позднюю Римскую республику в золотой век древних рабских войн. На протяжении остальных столетий античности лишь малое число рабов отваживалось рискнуть тем немногим, что у них было, в бою против римских легионов или греческих фаланг; и совсем у горстки была возможность сражаться или хотя бы вступить в повстанческую армию, не говоря о том, чтобы собрать такую армию. Но хозяева все равно беспокоились, и относительная малочисленность восстаний обратно пропорциональна вниманию, которое хозяева уделяли своей безопасности. Представители греческой и римской элиты призывали к постоянной бдительности свободных против рабов, злоумышляющих насилие. Целый ряд мер предосторожности стал общепринятым для хозяев – например, не покупать слишком уж гордых в качестве рабов или держать рабов одной национальности отдельно друг от друга, чтобы они «не замыслили недоброе».
Тем не менее восстания случались, и не только на закате республики. Прежде чем перейти к описанию, нужно определиться с терминами, ибо древнее рабство вовсе не представляло собой монолитный институт. Древний мир знал различные категории подневольного труда. Две основные из них – рабский труд и общественные работы[339]. Труд рабов есть наиболее распространенное понимание рабства, знакомое нам по таким историческим областям, как американский Юг, острова Карибского бассейна или Бразилия, где людей привозили из-за моря и покупали и продавали как предметы обихода. Общественные работы – имеются в виду принудительные, конечно – подразумевали коллективное порабощение социальных групп, в рамках одного сообщества либо «со стороны». Чтобы избегать путаницы, многие ученые именуют общественных рабов сервами, пусть условия принудительных общественных работ были суровее, чем средневековое крепостное право. Крепостных, например, нельзя было убивать без причины, а вот убивать общественных рабов вполне допускалось. При этом древние, как правило, относились к личным рабам с большим презрением, чем к общественным, так что различие между сервом и рабом имеет определенный смысл.
Рабский труд был широко распространен в классической и эллинистической Греции и в республиканском и имперском Риме. Афины и другие города-государства, скажем, Эгина и Хиос, а также некоторые районы Анатолии являлись центрами греческого рабства, в то время как Италия и Сицилия и испанские копи служили оплотами рабства римского. До падения и уничтожения в 146 г. до н. э., Карфаген также содействовал крупномасштабной работорговле в Северной Африке. Общественное рабство считалось в основном греческим явлением, отмечалось в таких регионах, как Фессалия, Крит и Аргос, но самым известным его примером были спартанские илоты. Эта группа состояла из двух региональных групп, каждую из которых Спарта покорила по отдельности: илотов из контролируемой Спартой Лаконики на юго-востоке Пелопоннеса и рабов из подвластной спартанцам Мессении на юго-западе.
Стоит также сделать ряд предварительных замечаний об источниках наших сведений. Древние войны относительно хорошо документированы, но то же никак нельзя сказать о древних восстаниях рабов. Сохранилось сравнительно немного сведений. Отчасти причиной тому неудачные стечения обстоятельств, а отчасти – и малый интерес к этой теме со стороны античной элиты. Рабские войны сулили мало славы, совсем мало добычи, зато, вероятно, в избытке стыда. Рабов считали презренными существами. Следовательно, нет чести в победе над ними, и римляне подтвердили это, отказывая в триумфе полководцу, победившему в рабской войне. О трофеях тоже мечтать не приходилось, так как командиры не допускали грабежи на дружественной территории.
Наконец, следует отметить парадокс войны против рабов: убийство противника признавалось контрпродуктивным, потому что тем самым уничтожалось имущество соотечественников. А уж уступать рабам, конечно, было непозволительно.
Еще по поводу источников: практически все они выражают точку зрения хозяев. Мы можем лишь строить обоснованные догадки о планах и мотивах повстанцев. То же самое относится и к изучению рабства даже в более близкие к нам периоды истории.
Обращаясь непосредственно к рабским войнам, мы сталкиваемся с двумя различными явлениями: с восстаниями рабов как таковых и с восстаниями общественных сервов. Последние в ходе восстаний пользовались преимуществом общего происхождения, имели, так сказать, местные корни, уходящие на несколько поколений вглубь. Они чаще, чем личные рабы, прислуживали хозяевам в армии и на флоте, как правило, исключительно в качестве слуг или гребцов, но иногда и как солдаты[340]. Обеспечивая хозяевам дополнительные мечи в случае необходимости, сервы имели возможность воспользоваться поддержкой от иноземных врагов своих хозяев. Личные же рабы, восставая, вынуждены были преодолевать все сопутствующие недостатки своего положения: неоднородность, отчужденность, относительное отсутствие военного опыта и малую вероятность помощи извне. Однако они обладали одним существенным преимуществом перед общественными рабами, а именно внезапностью мятежа. Редкость восстаний личных рабов порой убаюкивала хозяев, и те ослабляли бдительность. Низкий статус личных рабов вдобавок тоже оказывался подспорьем, поскольку хозяева не рвались воевать против столь «недостойного» и якобы заведомо слабого противника.
Восстания общественных рабов в классической Греции происходили довольно часто. Согласно Аристотелю, пенесты (общественные рабы) в Фессалии и спартанские илоты восставали едва ли не регулярно[341]. Мы мало знаем о Фессалии, но много о Спарте. Различные древние авторы подробно описывали меры безопасности спартанцев против восстаний илотов – от запирания дверей (и снимания щитовых ремней во время походов) до ежегодных войн против илотов, когда спартанских юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати отправляли обучаться ратному искусству на поселениях илотов. Основную угрозу представляли скорее мессенские, чем лаконские илоты. Они восстали около 670 г. до н. э.; это известное по обрывочным сведениям восстание вошло в историю как Вторая Мессенская война (Первая Мессенская война, около 735 г. до н. э., ознаменовалась спартанским завоеванием Мессении). Позднее случился еще один мятеж, сравнительно лучше документированный и известный как Третья Мессенская война (464–455 гг. до н. э.)[342].
Третья Мессенская война закончилась около 455 г., когда Спарта даровала повстанцам право безопасно покинуть крепости; Афины, извечный соперник Спарты, поселили бывших рабов в городе Навпакт на северном берегу Коринфского залива (этот город являлся, говоря современным языком, стратегической военно-морской базой). В 425 г. Афины построили крепость в Пилосе, на мессенском побережье, и поощряли мессенцев из Навпакта совершать набеги на спартанскую территорию и побуждать к бегству местных илотов. В 424 и 413 гг. афиняне основали и другие базы на спартанской территории, дабы подстрекать илотов к дезертирству. Полную свободу мессенским илотам принесло вторжение на Пелопоннес беотийского войска в 369 г.; беотийцы освободили область от почти 350 лет спартанского владычества и сделали Мессену столицей независимого полиса.
По сравнению с восстаниями общественных сервов восстания личных рабов были редкостью. Сохранившаяся греческая история дает всего три примера подобных восстаний: на острове Хиос, во главе с неким Дримаком, вероятно в III в. до н. э., а также в Афинах, на Делосе и где-то еще в 135–134 гг. до н. э. и снова в Афинах около 104–100 гг. до н. э. Гораздо чаще в греческой истории случалось, что полисы или повстанцы предлагали свободу личным рабам за их поддержку; так, например, поступили Афины, воззвав к спартанским илотам в ходе Пелопоннесской войны. В последние годы Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.) более 20 000 афинских рабов бежали в пелопоннесскую крепость Декелея, в холмах на северной границе Афин[343]. Спартанцы, которые построили эту крепость, откровенно мстили афинянам за их помощь восстанию мессенских илотов в Спарте. Кстати, некоторые афинские беглецы, похоже, попали, как говорится, из огня в пламя, поскольку их «задешево скупили» фиванцы, другой конкурент Афин[344].
Что касается иных примеров обещаний повстанцев или полисов освободить рабов, можно вспомнить попытку государственного переворота некоего Сосистрата в Сиракузах в 415–413 гг. до н. э.; предложение свободы рабам в ходе войны против Рима Сиракузами в 214 г., Ахейским союзом в 146 г. и Митридатом VI Евпатором Понтийским в 86 г., а затем и в 65 г. до н. э.; также упомянем националистическое восстание Андриска против Рима в Македонии в 149–148 гг. до н. э., отчасти опиравшееся на рабов, и аналогичное восстание в Анатолии Аристоника Пергамского в 133–129 гг. до н. э.
Римская история документировала восстания личных рабов несколько лучше, хотя все равно сведения остаются весьма скудными. Мы слышим о восстаниях буквально с первых дней существования республики, но первым достоверным отчетом о восстании рабов является документ о мятеже в центральной Италии в 198 г. до н. э. порабощенных военнопленных-карфагенян, захваченных в ходе недавно закончившейся Второй Пунической войны (218–201 гг. до н. э.). Известны еще несколько восстаний рабов в Южной Италии (и в одном случае в центральной Италии) в 180 г. и около 104 г. до н. э. Некоторые из них представляли собой бунты пастухов, возможно даже, вдохновленные экстатическими религиозными ритуалами. В отдельных случаях в восстаниях участвовали тысячи рабов, но настоящие проблемы начались позднее.
Грандиозные восстания рабов, каждое с участием многих десятков тысяч человек, вспыхнули сначала на Сицилии, а затем в Италии между 140 и 70 гг. до н. э… Это так называемые Первая и Вторая Сицилийские войны рабов (соответственно 135–132 и 104–100 гг. до н. э.) и восстание Спартака (73–71 гг. до н. э.). Таковы крупнейшие рабские войны древнего мира; более того, они занимают место среди наиболее значительных восстаний рабов в мировой истории. Они длились по несколько лет на относительно небольшом географическом пространстве – следует учесть, кстати, что Спартак пытался распространить свое восстание из южной Италии на Сицилию. Отделенные друг от друга двадцатью-тридцатью годами, они обеспечили «веселую жизнь» примерно трем поколениям римлян[345].
Получившие чрезмерное значение благодаря марксистской историографии и преуменьшаемые по значимости в большинстве «буржуазных» исследований о событиях времен поздней республики, другие римские рабские войны были по-настоящему важными. Неспособность Рима справиться с первым сицилийским восстанием рабов внесла немалый вклад в ощущение кризиса, который стимулировал реформы Тиберия Гракха, что, в свою очередь, привело к римской революции[346]. А неспособность Рима подавить восстание Спартака содействовала карьере «штабных» полководцев, представлявших наибольшую угрозу республике. Плюс, не позволяя сельской местности успокоиться, восстания рабов усугубили чувство незащищенности, которое в итоге заставило римлян принять переход от республики к империи.
Ни эпоха, ни место великих рабских войн не являются случайными. Между 300 и 100 г. до н. э. в римской Италии и на Сицилии сложилась новая экономика. Вдохновленный своими военными завоеваниями в Средиземноморье, Рим заполонил Италию подневольными рабочими руками. К I в. до н. э. на Апеннинском полуострове насчитывалось 1–1,5 миллиона рабов, это приблизительно около 20 процентов населения Италии. Значительную часть этих рабов составляли прежде свободные люди. Рабов поставляли римские военачальники, местные предприниматели и работорговцы, а также пираты. Последние активно действовали в восточной части Средиземного моря около 100 г. до н. э. и обеспечивали существенную часть «товарооборота» в работорговле. Подобно современным криминальным картелям, переправляющим наркотики через международные границы, пираты переправляли людей – невинных жертв похищений, продаваемых в рабство.
Хотя некоторые из римских рабов подвизались в городах, большинство было занято в сельском хозяйстве, где доминировали крупные предприятия-латифундии. Основными единицами сельскохозяйственного производства были фермы и конезаводы, и везде трудились рабы. Сицилия и Южная Италия, в особенности Кампания, являлись главными центрами рабского сельского хозяйства. Там рабы буквально кишели.
Рим непреднамеренно готовил почву для восстаний, нарушая все правила. Римляне сочетали массовую эксплуатацию с недостаточным вниманием к вопросам безопасности. Хотя древние писатели, от Платона и Аристотеля до Варрона и Колумеллы, предостерегали хозяев от привычки концентрировать в одном месте рабов одной национальности, римляне размещали вместе огромное количество рабов из восточного Средиземноморья. Будучи выходцами из разных земель, большинство этих рабов говорили на одном языке, греческом. Римляне также допускали чрезмерную концентрацию фракийцев и кельтов, например в гладиаторской казарме, где родилось восстание Спартака. Спартак был фракийцем, а два его сподвижника, Крикс и Эномай, – галлами.
По тем же причинам бдили за рабами недостаточно тщательно. Общественная «полиция» была в ту пору примитивной или вообще отсутствовала. Рабы с ферм трудились в оковах и проживали в бараках, где велся довольно строгий надзор, но вот на конезаводах и прочих «ранчо» все обстояло иначе. Пастухи крупного рогатого скота, овец, свиней и коз свободно перемещались вместе со стадами с пастбища на пастбище. Летом они уходили на высокогорье, зимой спускались на равнины. Их знания местности позволяли успешно скрываться от властей. Из-за угрозы со стороны бандитов, медведей и кабанов рабам-пастухам разрешалось носить оружие. Многие рабы умели пользоваться оружием, поскольку их нередко набирали из военнопленных, что прошли в свое время необходимую подготовку. Спартак, например, служил во вспомогательном отряде римской армии (то есть он воевал в составе союзного подразделения, вероятно конного), прежде чем каким-то образом нарушил закон и в итоге превратился в раба. Без сомнения, другие рабы имели опыт ораторов и организаторов, полученный на свободе. Надсмотрщики тоже обладали организаторскими способностями, и некоторые из них присоединялись к восставшим. Например, Афинион, один из вождей второго сицилийского восстания, раньше был надсмотрщиком.
Вынужденные самостоятельно добывать пропитание, сицилийские рабы сбивались в банды и отправлялись разбойничать. Концентрируя рабов одной национальности или языка, многие из которых были прежде солдатами, и давая им относительную свободу и даже оружие, а также доступ к горным убежищам, Рим, безусловно, играл с огнем.
Читатели вправе предполагать, что восстания рабов подпитывала и риторика, направленная против рабства. Движения Нового времени, такие как аболиционизм и ранняя борьба за отмену работорговли, а также гражданская война в США и, прежде всего, марксистское признание Спартака символом пролетарской революции, вполне соответствуют подобным ожиданиям. Некоторые ученые отмечают, однако, что почти во всех античных восстаниях рабов идеология фактически отсутствовала. Мы знаем лишь нескольких людей, которые выступали против рабства в принципе. К их числу принадлежат греческие философы (всего одного, малоизвестного Алкидама, источники называют по имени), быть может, две маргинальные еврейские группы, по крайней мере один отец христианской церкви, Григорий Нисский, и, возможно, отдельные христианские еретические группы. В остальном доктрина аболиционизма оставалась неведомой ни свободным гражданам, ни рабам[347].
Естественно, восставшие рабы добивались свободы. Рабы, восставшие в Первой Сицилийской войне, жаловались на суровое и унижающее достоинство обращение. Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой этого восстания были рабовладельцы Дамофил Энна и его жена Металлида (или Мегаллида), чьи жестокие наказания сподвигли рабов на ответное насилие. Дамофил владел огромным «ранчо» крупного рогатого скота и славился вульгарным стремлением кичиться богатством; Металлида же была известна жестокостью к своим прислужницам и рабыням. Когда однажды к нему подошли голые рабы и попросили одежду, Дамофил отправил их отбирать накидки у путников; чем не совет «кушать пирожные»?[348] Когда началась революция, супругов застали врасплох в сельской местности и притащили, связанных и в оковах, в Энну, где выставили перед толпой в театре. Дамофила убили там же, без суда; Металлиду ее рабыни растерзали и сбросили с утеса. Но их дочь-подростка пощадили, потому что она всегда относилась к рабам гуманно.
Если первая война вспыхнула из-за жестокости хозяев, Вторая Сицилийская война была порождена пустыми надеждами, которые внушили рабам римляне. В ответ на жалобы важного союзника из Анатолии римляне решили предоставить свободу похищенным и проданным в рабство. На первом слушании наместник Сицилии освободил несколько сот рабов, но затем богатые сицилийские рабовладельцы воспользовались своим влиянием, чтобы остановить этот процесс. И тем самым, не подозревая о том, спровоцировали новое восстание.
Обратимся к другому примеру: когда Спартак и его товарищи в 73 г. до н. э. вырвались из гладиаторской казармы, где их держали как рабов, они поступили так, по словам одного автора, чтобы «отважиться попытать свободу вместо услаждения взоров зевак»[349]. Ими двигали стремление к свободе и чувство собственного достоинства, если верить этому свидетельству, а вот о желании освободить всех рабов мы ничего не слышим. Думается, такого желания не было и в помине. Спартак и его люди, например, освобождали в основном гладиаторов и сельских рабов, лишь немногие из их последователей принадлежали к более «элитной» группе городских рабов.
Но все же время от времени мы сталкиваемся с проявлениями более широкой идеологии. Восстание Аристоника в Анатолии (133–129 гг. до н. э.) стоит особняком, потому что он созывал бедняков, негреков и рабов, которых освобождал; он называл всех своих сподвижников Heliopolitae («гражданами солнца»)[350]. Греческий философ Ямбул (возможно, III век до н. э.) написал утопию о Гелиополе, «Городе солнца»; в этом городе кастовое общество, возможно, свободное от рабства (сохранившиеся отрывки не позволяют сказать наверняка)[351]. Быть может, и сам Аристоник опирался на некую фантазию – или просто использовал пропаганду, чтобы заручиться поддержкой.
Не менее важно, что Спартак настаивал на равном распределении добычи между его сторонниками и не требовал львиной доли. Это была, пожалуй, просто разумная политика, а вовсе не зачаточный коммунизм. Зато равенства не было в сицилийских восстаниях рабов, чьи вожди именовали себя царями, рядились в диадемы и пурпурные одежды. Спартак не принимал титула, но позаимствовал такие атрибуты римской республиканской власти как фасции, символ власти, в том числе власти предавать смерти.
Впрочем, и «врожденную» враждебность восставших к рабству в целом нельзя исключать полностью. Хотя об этом ни словом не упоминается в источниках, не будем забывать, что эти источники фрагментарны и написаны с точки зрения хозяев[352]. Однако все же наличие подобной идеологии маловероятно, поскольку дохристианскому миру Греции и Рима, как правило, недоставало мобилизующих идеологий всеобщего освобождения. И никакое учение древности, в отличие от позднего марксизма, не сочетало утопическое светское видение с международной идеологией. Революции той поры были локальными и «приходскими».
К тому же, в них бросается в глаза мессианизм[353]. Религия всегда играла важную роль в древней политике, от Фемистоклова решения использовать оракул, чтобы созвать афинян в поход к Саламину, до римского обожествления императоров. Вожди восстаний рабов шли еще дальше и объявляли себя наместниками богов на земле и даже воплощениями божеств. Всякий раз, изучая античное восстание рабов, мы видим харизматичного лидера.
Одним из рабов-мятежников, которому покровительствовали боги, был Дримак (вероятно, III век до н. э.). Он объявил гражданам Хиоса, что восстание рабов – не обычная секулярная революция, а результат божественного вмешательства. И хиосцы согласились с ним, по крайней мере, посмертно. Добровольная сдача Дримака хозяевам по их требованию не принесла рабовладельцам покоя; наоборот, выступления рабов только усилились. В сельской местности появился даже храм Дримака, посвященный «Добродетельному герою». Четыреста лет спустя, во II в. н. э., беглые рабы по-прежнему приносили в этот храм толику украденного. А Дримак, как гласит легенда, являлся свободным хиосцам в их снах и предупреждал о грядущем восстании рабов, за что и они тоже делали подношения в его святилище[354].
Вожди Первой и Второй Сицилийских войн притязали каждый на прямое личное родство с богами. В Первой войне (135–132 гг. до н. э.) Эвн, греческий раб в сицилийском городе Энна, призывал недовольных к восстанию. Уроженец сирийской Арамеи, он утверждал, что получает во сне божественные откровения, полные пророческих посланий. А еще он умел входить в состояние, подобное трансу, выдыхать дым изо рта (используя трюк с полой раковиной и угольями) и изрекать пророчества. Избранный царем мятежников, он принял тронное имя Антиох, как монарх из династии Селевкидов, и стал чеканить собственные монеты. На этих монетах изображена богиня – возможно, греческая Деметра или весьма популярная на Востоке Богиня-Мать.
Повстанцы во Второй Сицилийской войне (104–100 гг. до н. э.) выбрали себе царем некоего Сальвия, известного умением играть на флейте экстатическую музыку на религиозных женских праздниках, а также пророчествами. Он принял тронное имя Трифон, напоминавшее имя киликийского авантюриста, что притязал на престол Сирии около 140 г. до н. э.; это, безусловно, импонировало многим киликийцам среди рабов острова. Другой вождь этого восстания, Афинион, славился как астролог.
Мы также можем разглядеть за восстаниями рабов фигуру Диониса. Будучи божеством вина и театра, Дионис вдобавок считался богом освобождения. Римляне относились к нему с подозрением. В 186 г. до н. э. римский сенат заявил, что бродящие по всей Италии дионисийские труппы готовят заговор. Развернулась «охота на ведьм», сенат запретил римлянам отправлять культ Диониса, отныне это дозволялось только женщинам, иноземцам и рабам. Словом, Диониса оставили «униженным и оскорбленным» Италии, и они приняли его всем сердцем. В 185–184 гг. восстали рабы-пастухи Апулии, на «пятке» итальянского «сапога», и источники намекают, что они называли своим покровителем Диониса. Оба сицилийских восстания рабов обращали мольбы к Дионису[355]. Митридат VI Евпатор Понтийский, возмутившийся против Рима в 88–63 гг. до н. э., именовал себя «новым Дионисом» и чеканил монеты, на одной стороне которых были лик божества и виноградная лоза, а на другой – колпак освобожденного раба.
Восстание Спартака объединило образ Диониса, пророчества и ореол «звезды сцены». Будучи гладиатором, Спартак добился немалой известности. Он был человеком «огромной силы и крепости духа», и это, пожалуй, не просто шаблонное описание: гладиаторов подбирали по росту и силе, а Спартак был мурмиллоном, то есть «тяжеловесом»[356]. Еще он был фракийцем, а те славились статью и мощью.
Кроме того, о фракийцах ходила слава истинно религиозного народа, и в этом отношении Спартак тоже был настоящим фракийцем. У него имелась фракийская «женщина» (жена или подруга), которая впадала в транс, якобы вдохновленный Дионисом[357]. Божество многих ипостасей, Дионис в одном из своих многочисленных проявлений считался богом Фракии. Без сомнения, это добавляло доверия к пророчествам, которые изрекала женщина Спартака. Когда Спартака впервые продали как раба и он уснул, змея обернулась вокруг его головы; во всяком случае, так рассказывали. Поскольку змеи обычно не ведут себя подобным образом, это был либо сон, либо чудо. В любом случае, фракийская женщина объявила это «знаком великой и страшной силы» и предсказала, что Спартака ждет славная (или, по некоторым текстам, бесславная) судьба[358]. Возможно, отзвуком пророчеств фракийской женщины полнятся слова позднего римского поэта о том, что Спартак «прошел по всей Италии огнем и мечом, как почитатель Диониса»[359].
От Хиоса до Сицилии и Италии личная харизма вождей вдохновляла повстанцев. И вдохновение требовалось им на самом деле, потому что античные восстания рабов неизменно воплощали торжество надежды над реализмом. Противник имел в своем распоряжении все ресурсы государства, и у восставших было мало шансов на успех в долгосрочной перспективе. Используя внезапность и нетрадиционную тактику, они добивались краткосрочных побед, причем иногда весьма значимых. Так, Спартак и его люди, например, спустились с горы Везувий по веревкам, сплетенным из дикого винограда, а затем напали на плохо охранявшийся римский военный лагерь.
Успеху способствовало и продвижение по территории, населенной «мягкими целями» – то есть мирными гражданами.
Месть являлась мощным побудительным мотивом, оборачивалась сексуальным насилием, пытками, нанесением увечий, убийствами (прежде всего хозяев, которые жестоко обращались с рабами). Жадность тоже не стоит сбрасывать со счетов, что доказывают широко распространенные грабежи и уничтожение имущества.
Повстанцам обычно не хватало оружия, продовольствия и других ресурсов. Вождь сицилийцев Эвн, к примеру, вооружил своих людей крестьянскими инструментами, то есть топорами и серпами; сторонники Спартака начали восстание с кухонными ножами и другой утварью. Обе группы использовали самодельное снаряжение вроде щитов из виноградной лозы и закаленных в очаге копий; позже они раздобыли настоящее оружие – грабили римских пленников и снимали мечи с трупов. Они также переплавили свои цепи и ковали из них оружие и доспехи. А Спартак еще покупал железо и бронзу (проза жизни).
Хотя очень многие рабы имели военное прошлое, поскольку в свое время оказались в плену на войне, повстанческим отрядам не хватало сплоченности, которая достигается совместным обучением. Языковая и этническая неоднородность затрудняла общение, не говоря уже о солидарности. Кроме того, лагерь приходилось разбивать на враждебной территории, без стен и городской базы.
Поскольку противник обычно собирал хорошо вооруженных и подготовленных воинов, привычных сражаться вместе и не избегающих столкновений, эти люди представляли собой силу, которую повстанцы вряд ли могли одолеть в «регулярном» бою. Точнее, они не могли надеяться на победу в долгосрочной перспективе. Да, поначалу восставшие брали верх, когда превосходили римлян числом и бились с легионерами-новобранцами. На Сицилии, например, два легиона наместника были, скорее, полицейскими, нежели военными отрядами. Понадобились подкрепления с материка, во главе с консулом, чтобы разбить мятежников. В Италии Спартак и его люди тоже вначале сражались с новобранцами. Они даже смогли разгромить консульские армии. Это, безусловно, свидетельство тактического мастерства Спартака, но также и доказательство отсутствия в Италии в ту пору ветеранов, которые воевали за рубежами – в Испании, на Балканах и в Анатолии.
Посему лучшей тактикой для повстанцев, как правило, являлись набеги. Партизанские методы и нетрадиционные тактики были присущи всем восстаниям рабов. И это часто сбивало с толка хозяев (плюс ситуация усугублялась политическими затруднениями и экономическим парадоксом). Тяжело вооруженная пехота с трудом справлялась с налетами повстанцев, потому что предназначалась совсем для другого. Вдобавок мятежники отлично знали местный ландшафт, прежде всего холмы и горы, обычные укрытия восставших рабов.
Для хозяев необходимость переоснащать войска для борьбы с повстанцами была досадной, само переоснащение требовало времени, а кроме того, нередко хозяева не испытывали ни малейшего желания что-либо предпринимать. В подавлении восстания рабов немного славы, и еще меньше чести и доблести в боях с «недостойной» тактикой. Рабские войны, говорил один римлянин, «не заслуживали зваться войнами»[360]. Идеальным решением считалось заставить большую часть мятежников сдаться, предпочтительно – после убийства их вождей, дабы искоренить зерна новых бунтов. И потому хозяева обычно окружали и осаждали лагеря и укрепления повстанцев. В Первой Сицилийской войне, например, римский консул Публий Рупилий в 132 г. до н. э. успешно взял измором два главных оплота мятежников – Тавромений и Энну.
Сознавая все это, лидеры повстанцев преследовали три возможные стратегические цели: (1) оторваться от противника и создать полноценные поселения в горах – позднее такие поселения стали называть «мароновыми», от испанского слова, означающего «жить в горах»; (2) бежать за пределы Рима или (3) найти союзников среди свободных, либо за границей, либо из числа недовольных дома.
Дримак, вождь восстания рабов на Хиосе (вероятно, III в. до н. э.), успешно использовал «маронскую» тактику. Бежав в горы и став лидером беглых рабов, Дримак принялся нападать на хиосские фермы и разбил несколько отрядов, высланных против него. Потом он предложил перемирие, пообещал не допускать новых грабежей и вернуть беглых рабов, не способных доказать жестокое обращение со стороны хозяев. Хиосцы согласились на эти удивительно прагматичные условия, и предположительно число побегов и вправду сократилось. Но в конце концов хиосцы отказались от перемирия и назначили награду за голову Дримака. По преданию, уже в преклонном возрасте Дримак велел своему любовнику убить себя, обезглавить тело и получить вознаграждение. Лишь впоследствии он в глазах хиосцев обрел божественность.
Менее реалистичными, без сомнения, выглядели попытки вождей рабов на Сицилии основать собственные царства – с монаршими почестями, царскими советами и народными собраниями. Изгнав с острова карфагенян, Рим не мог допустить, конечно, чтобы Сицилия перешла в руки рабов. Возможно, повстанцы черпали воодушевление в поддержке части населения Сицилии – свободной бедноты. К сожалению, источники, повествующие о сицилийских восстаниях рабов, настолько односторонние и путанные, что один ученый даже заявил: это были вовсе не восстания рабов, а народно-освободительные войны[361]. Эта теория, скорее, остроумна, чем убедительна, но нельзя отрицать, что рабы находили союзников среди свободных бедняков. Когда началась Первая Сицилийская война, «простой народ… радовался, так как завидовал неравномерному распределению богатств и неравенству положения». Вместо того чтобы помочь подавить мятеж, «чернь… из зависти, под видом рабов устремившись по деревням, не только расхищала имущество, но и сжигала виллы»[362]. Во Второй Сицилийской войне, говорит тот же источник, «всю Сицилию охватили расстройство и целая цепь бедствий… Не только масса рабов опустошала охваченную мятежом область, но и свободные, не имевшие имений в ней, обратились к грабежу и бесчинствам»[363].
Спартак, чуткий к переменам, пытался реализовать обе тактики – бежать за границу и найти союзников. Первоначальный план, когда восстание разгорелось, подразумевал поход в Северную Италию, где его люди разделились бы на группы, преодолели Альпы и разошлись бы по домам. Этот план потерпел неудачу из-за разногласий среди рабов. Спартак не мог «взять авторитетом» этнически неоднородную массу повстанцев, ему противостоявших: среди них были кельты и германцы, а также фракийцы и другие племена, подвергавшие сомнению его распоряжения. Кроме того, рабов испортил успех: многочисленные победы убедили их остаться в Италии. Будучи ветераном, Спартак понимал кратковременность этого успеха: он знал, что рано или поздно Рим выставит обученное и опытное войско, с которым «мятежному сброду» не справиться, сколько этот сброд ни муштруй.
Так все и случилось. Марк Лициний Красс получил особые полномочия и собрал новую армию. Многие из его солдат-ветеранов, вероятно, сражались за Суллу в римских гражданских войнах десять лет назад, других быстро «вразумили» благодаря железной дисциплине, которой сумел добиться Красс. На всякий случай римляне даже отозвали легионы из Испании, где Помпей (Гай Помпей Великий) только что разгромил местный мятеж. С помощью надписи на стене Спартак убедил своих отступить на юг и попытаться попасть на Сицилию через Мессинский пролив. Он надеялся на лучшее – либо начать Третью Сицилийскую войну рабов, либо использовать остров как перевалочный пункт для бегства за море. Но сперва требовалось пересечь пролив.
Не имея лодок, Спартак попытался нанять пиратов, которые в те дни имели на Сицилии укрепленную базу. Для него это был не первый опыт союза со свободными людьми.
Фракийский гладиатор в первые дни своего восстания пользовался поддержкой «многих беглых рабов и некоторых свободных людей с полей»[364]. Возможно, он даже получил некоторую помощь от южноитальянской элиты, либо вследствие их неприязни к «римской кичливости», либо просто потому, что их удалось подкупить.
Возвращаясь к пиратам: они были родом из южной Анатолии или с Крита, считали себя врагами Рима и давно уже состояли в дружбе с главным врагом Рима на Востоке, царем Митридатом. Таким образом, союз с ними казался весьма перспективным. Однако, получив от Спартака деньги, пираты бросили восставших рабов на итальянском берегу. Виной тому то ли банальная нечестность, то ли страх перед римским наместником Сицилии, Гаем Верресом. Увековеченный Цицероном как коррупционер, Веррес на самом деле предпринимал энергичные меры по укреплению береговой линии Сицилии и преследовал мятежных рабов по всему острову. Вполне вероятно, что он лично вел переговоры с пиратами – или, что называется, перебил предложение Спартака. Оставшись ни с чем, фракиец велел своим людям строить плоты, но те не выдержали студеных зимних волн. Возможно, Спартак установил связь и с Митридатом, как римский мятежник Серторий несколько лет назад из Испании. Митридат позднее восхвалял восстание Спартака перед кельтами, побуждая тех вторгнуться в Италию (вторжение не состоялось). В любом случае, Спартак не нашел новых союзников, и рабы вынужденно остались в Италии.
Эндшпиль обоих сицилийских войн и восстания Спартака мало отличаются по сути. В Первой Сицилийской войне рабам удалось разгромить несколько римских отрядов, которые они значительно превосходили числом, и занять ряд городов. После череды унизительных поражений консул Публий Рупилий осадил два главных города мятежников и в каждом отыскал предателя, открывшего ворота. Затем он приступил к «зачисткам» по всему острову. Что касается Второй войны, поначалу ее последовательно провалила вереница некомпетентных полководцев, но вот консул Гай Ацилий оказался на высоте. Он убил царя повстанцев в поединке, и это принесло бы ему в Риме наивысшие воинские почести, будь противник свободным человеком, а не рабом.
Спартак разбил римлян в девяти схватках, но не смог совладать с войском Красса. Сначала Красс попытался блокировать его в горах на «мыске» итальянского «сапога» зимой 72–71 гг. до н. э., причем римляне развернули масштабное строительство стен и окопов. Спартак прорвался, но заплатил немалую цену. Преследуемый врагом по пятам, он наконец решился на бой, вероятно, в верхней части долины реки Силар (современная Селе), недалеко от современного города Салерно. Римляне разгромили войско рабов, сам Спартак был убит.
Вопреки популярной легенде, Спартака не распяли, но вот 6000 его соратников ожидала именно такая участь. Их тела висели на крестах вдоль дороги от Рима до Капуи (город недалеко от Неаполя, колыбель восстания Спартака). Тело Спартака так и не нашли. После битвы при Силаре войско Спартака перестало существовать как боевая единица. Оно распалось на множество групп. Римляне охотились на них время от времени и уничтожили последнюю «маронскую» общину в горах Южной Италии лишь в 60 г. до н. э.
Гибель Спартака ознаменовала конец великой эпохи античных восстаний рабов. Спорадические восстания, конечно, вспыхивали и позже, например восстание некоего Селура на Сицилии при жизни географа Страбона (ум. после 21 г.), восстание рабов в южной Италии в 24 г. и вероятное восстание во главе с Буллой Феликсом в Италии в 206–207 гг.[365] Но с крупными восстаниями было покончено.
Несколько факторов способствовали этому. Римляне эффективно применяли репрессии. За каждым провалившимся восстанием следовали показательные расправы. Также, о чем свидетельствуют действия Верреса на Сицилии в ожидании Спартака, римляне в конце концов научились принимать всерьез угрозу восстания. Еще не будем забывать о череде гражданских войн 49–30 гг. до н. э.: эти неурядицы обеспечили возможности «трудоустройства» для недовольных рабов. Уже не было необходимости формировать собственное войско: так, 30 000 беглых рабов примкнули к повстанческому флоту Секста Помпея (сына Помпея Великого), который господствовал в водах Сицилии с 43 по 36 г. до н. э.[366]
Возможно, наиболее важным фактором был сам Pax Romana. Возвышение Августа, первого римского императора (30 г. до н. э. – 14 г. н. э.) завершило эпоху римской экспансии. Это, разумеется, неизбежно сократило число военнопленных, которые становились рабами. Ранее, в 60-х гг. до н. э., Помпей Великий сумел изгнать большинство пиратов из Средиземного моря, тем самым уничтожив другой источник пополнения рабской силы. Да, сама работорговля продолжалась, но источники рабов были уже не столь обильны, а рабы не столь дешевы. Кончилось все тем, что среди римских рабов большинство составили домашние рабы. Без постоянного притока военнопленных и иноземцев ряды потенциальных мятежников существенно сократились.
Все больше и больше рабы смирялись с новой жизнью в Италии и на Сицилии и воспринимали вольноотпущенничество, а не восстание, как путь к свободе. Греческое и римское рабство всегда предусматривало такую возможность на гораздо более выгодных условиях, чем современные общества. Конечно, никто не отрицает жестокость древнего рабовладения, но этот факт может объяснить, почему люди вроде Спартака в конечном счете превратились в пугала для детей, а не в реальную силу внутри римского общества.
В наше время имя Спартака широко известно. Если не считать Артура Кестлера, разочарованного экс-коммуниста, который видел в Спартаке своего рода постреволюционного Ленина, развращенного властью, большинство современных людей почитают Спартака как освободителя или первого социалиста; девятнадцатое столетие превратило его в националиста, наподобие Гарибальди.
Если, однако, беспристрастно рассмотреть действия Спартака или Дримака, Сальвия или Эвна с точки зрения военного искусства, нам предстанет совершенно иная картина. С военной точки зрения, они наглядно показали малую вероятность победы восставших над регулярной армией. «Мятежный сброд» Греции и Рима не мог соперничать с логистическими и институциональными преимуществами государства. Они могли собирать своих людей в подобия легионов и громить перепуганное ополчение, могли искать союзников за рубежом, но едва государство обрушивалось на них всей силой, они неизменно терпели поражение.
Вдобавок рабы не могли рассчитывать на существенную добровольную поддержку местного свободного населения; последнее наверняка сознавало, что в конце концов большинство мятежников окажется в цепях или повиснет на крестах. После первого побега и нескольких успешных налетов на виллы, ради добычи и мести, восставшим нередко советовали уходить как можно дальше, в горы или за границу.
Вот урок для сегодняшнего дня. Мятежники могут отпраздновать громкий успех, как было со Спартаком и его гладиаторами. Могут добиться религиозной поддержки и терроризировать местное население. Могут привлекать в свои ряды новых недовольных – на первых порах. Могут даже спуститься с холмов и попробовать завладеть городом или провинцией. Но стоит государству отреагировать «как положено», мятежники обыкновенно обречены.
Современные восстания, как правило, ожидает аналогичная судьба. В Ираке, например, когда союзники продемонстрировали политическую волю и подобрали эффективную военную тактику, им не составило труда разгромить повстанцев (2003–2009 гг.). Тем не менее нельзя утверждать, что всякий мятеж непременно ведет к провалу. Изменить исход возможно несколькими способами, одинаково маловероятными, но все же допустимыми. Например, можно выиграть время и пространство и превратиться из «сброда» в регулярную армию. Изолированная база вдали от центров силы весьма этому способствует. Опыт китайской коммунистической Красной армии после Великого похода 1934 г. служит тому примером. Вторая возможность – заручиться помощью какого-либо государства. Афганские моджахеды опирались на поддержку таких стран, как Китай, Иран, Пакистан и США, что позволило им победить советскую армию в 1980-х.
Наконец, нынешние повстанцы обладают преимуществом, которого были лишены мятежные рабы древности: они могут взывать к общественному мнению в стране-противнике. В ходе алжирской войны за независимость (1954–1962 гг.), например, повстанцы терпели военные поражения, но выиграли войну обращениями к французскому общественному мнению.
Гаитянская революция (1791–1804 гг.) – единственное успешное восстание рабов в истории, и она использовала перечисленные выше факторы. Повстанцы вели длительную войну вдали от метрополии. Британцы оказывали помощь вопреки блокаде острова. Французская революция воодушевляла мятежников. И после нескольких лет кровопролитной войны и эпидемий французы сдались.
Успешные мятежи, однако, являются исключением. Древние восстания рабов напоминают нам, что, когда доходит до войны, торжествует обычно государство.
Дополнительная литература
Отличным введением в тему является работа Брента Д. Шоу «Спартак и работорговые войны: краткая история с документами» (Boston: Bedford / St Martins, 2001). Книга Терезы Урбанчик «Восстания подданных в античности» (Stocksfeld, UK: Acumen Publishing, 2008) содержит отличный обзор источников. О восстаниях рабов в Древней Греции см.: Ивон Гарлан «Рабство в Древней Греции» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988); о восстаниях в Древнем Риме: Кейт Брэдли «Рабство и восстания в римском мире, 140-70 г. до н. э.» (Bloomington: Indiana University Press, 1989).
Другие труды по античному рабству: М. И. Финли «Античное рабство и современная идеология» (Princeton, NJ: Marcus Wiener Publishers, 1998); Й. Фогт «Античное рабство и идеал человека» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975); Кейт Хопкинс «Завоеватели и рабы» (Cambridge: Cambridge University Press, 1978); Питер Гарнси «Идея рабовладения от Аристотеля до Августина» (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Ф. Г. Томпсон «Археология греческого и римского рабства» (London: Duckworth, 2003); Томас Грюневальд «Бандиты в Римской империи: миф и реальность» (London: Routledge, 2004); Нил Маккаун «Изобретение античного рабства?» (London: Duckworth, 2007); сборник документов под редакцией Томаса Видемана «Греческое и римское рабство» (London: Routledge, 1981).
Отдельные аспекты античного рабства: Питер Хант «Рабы, войны и идеология в трудах греческих историков» (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Пол Картледж «Спартанцы: мир воинов-героев Древней Греции, от утопии к кризису и коллапсу» (Woodstock, NY: Overlook Press, 2003); он же «Спарта и Лаконика: региональная история, 1300-362 гг. до н. э.» (London: Routledge, 2002); Нино Лураджи и Сьюзен Олкок «Илоты и их хозяева в Лаконике и Мессении: история, идеология, структура» (Washington, DC: Center for Hellenic Studies & the Trustees for Harvard University, 2003); Нино Лураджи «Древние мессенцы: реконструкция этноса и памяти» (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Александр Фукс «Восстания и смуты на Хиосе в III в. до н. э.» // Atheneum, 46, 1968; П. Грин «Первая Сицилийская война рабов» // Past and Present, 20, 1961; Н. А. Машкин «Эсхатология и мессианство в последний период Римской республики» // Феноменологические исследования, 10, вып. 2, 1949; Барри Стросс «Война Спартака» (New York: Simon & Schuster; London: Weidenfeld & Nicholson, 2009).
9. Юлий Цезарь: полководец как государство Адриан Голдсуорти
Ранним утром 11 января 49 г. до н. э. Юлий Цезарь повел Тринадцатый легион через Рубикон – и стал бунтарем. Река эта на самом деле была немногим больше ручья, и сегодня ее уже невозможно отыскать, но когда-то она обозначала границу между провинцией Цизальпийская Галлия и Италией. К северу от этой границы Цезарь, наместник провинции, имел законное право командовать войсками. К югу такого права у него не было. Девятнадцать месяцев спустя, глядя на трупы своих врагов в Фарсале, Цезарь обмолвился: «Они сами этого хотели! меня, Гая Цезаря, после всего, что я сделал, они объявили бы виновным, не обратись я за помощью к войскам!»[367]
Цезарь был наиболее успешным среди всех римских полководцев, одержал «пятьдесят побед в сражениях, превзойдя Марка Марцелла, который победил в тридцати девяти»[368]. И все же его репутация слегка подмочена, поскольку многие свои сражения он вел против других римлян. Более чем за год до пересечения Рубикона Цезарь и его противники в сенате затеяли игру в балансирование на грани войны, и каждый по очереди повышал ставки. Вероятно, обе стороны ожидали, что соперник рано или поздно отступит. При этом нельзя сказать, что между ними были глубокие идеологические разногласия. Противники Цезаря стремились загубить его карьеру, а сам он намеревался ее сохранить. Итогом оказалась война, охватившая все Средиземноморье и обошедшаяся в десятки тысяч жизней. Противники Цезаря могли быть сколь угодно неблагоразумными, но именно Цезарь перешел Рубикон и начал гражданскую войну 49–45 гг. до н. э. Цицерон считал эту войну ненужной и глупой, но продолжал осуждать поведение Цезаря: «И все это он, по его словам, делает ради достоинства. Но где достоинство, если не там, где честность?»[369]
Мятежники выиграли войну. Цезарь стал пожизненным диктатором и завладел верховной властью в республике. Ему также целиком подчинялась римская армия. Его правление было не особенно тираническим. Врагов он помиловал, многим даже помогал, а принятые законы выглядят вполне разумными. Тем не менее республиканская система призвана была предотвращать единоличное обладание подобной властью. По этой и ряду других причин группа сенаторов убила Цезаря 15 марта 44 г. до н. э. Чуть более десяти лет спустя приемный сын Цезаря победил своего последнего соперника и стал первым императором Рима. Август создал систему, которая просуществовала несколько столетий, монархию во всем, кроме названия. Само имя Цезаря превратилось в титул верховного правителя. Цезари правили Римом в течение 500 лет, а также в Восточной и Византийской империях – еще почти тысячу лет. До нашего времени этот титул дошел в словах «кайзер» и «царь».
Цезарь покорил Галлию, вторгся через Рейн в Германию, пересек Английский канал и воевал в Британии. По римским меркам все эти походы были оправданны и служили общему благу государства. От успешных командиров ожидали, что они будут получать выгоды от своих побед, и к Цезарю это относилось в полной мере, учитывая масштабы его кампаний. Гениальный полководец, он затем повернул армию против собственных недругов в республике и провозгласил себя диктатором силой оружия. Его карьера была карьерой талантливого человека, который начинал как слуга государства, а потом сделался его господином.
В современной демократии вооруженные силы должны всегда оставаться подконтрольными гражданским властям; таков незыблемый принцип управления. Важность этого принципа первой оценила Британия, в которой в годы гражданской войны правили Кромвель и военные губернаторы. Воспоминания об этом преследовали американских отцов-основателей, и Джорджа Вашингтона за отказ баллотироваться на третий президентский срок восхваляли ничуть не меньше, чем за победу в войне за независимость. Соединенные Штаты должны были стать «улучшенной версией» древней республики и ни в коем случае не повторить римского сползания к военной диктатуре и императорской власти. По контрасту, революция во Франции возвысила местного Цезаря – Наполеона Бонапарта. На коронации в 1804 году сам Наполеон возложил императорскую корону себе на голову, чтобы подчеркнуть, что он захватил власть, а не получил ее от народа.
Диктаторы обретали власть посредством военных переворотов во многих странах, хотя со времен Второй мировой войны эта ситуация повторялась исключительно в странах третьего мира и казалась невозможной на Западе. Однако важно помнить, что Цезарь появился вовсе не из ниоткуда. Он не в одиночку уничтожил республику и не разрушал стабильную и слаженно функционирующую демократическую систему. Конфликт 49–45 гг. до н. э. не был первой гражданской войной в Риме, и другие римляне не менее Цезаря были готовы прибегать к насилию. Сулла установил диктатуру в 82 г. до н. э., безжалостно преследуя своих врагов. Считается, что он велел выбить на своей надгробной плите хвастливую надпись – мол, никто не сделал больше добра друзьям и зла врагам[370].
Римская общественная жизнь во времена Цезаря была весьма опасной. Ведущие политики теряли родственников и друзей в ходе борьбы между Суллой и Марием. Сенаторы жили с ощущением того, что политическое соперничество легко способно обернуться запугиваниями, насилием или даже войной. Времена наступили менее стабильные, чем на заре республики, и это означало, что появились возможности для быстрого карьерного роста. Помпей Великий нарушил почти все существовавшие правила, добиваясь верховенства в Риме, славы величайшего полководца и одного из «вождей народа». По иронии судьбы, ему предстояло погибнуть, защищая республику от мятежника Цезаря.
Римская республика уже одряхлела в ту пору, когда Цезарь начал свою карьеру; что говорить о времени, когда он перешел Рубикон. Это не значит, что коллапс был неизбежен, но он представлялся реальной возможностью. Военные диктаторы обычно появляются, когда в государстве начинаются серьезные, как правило, долгосрочные проблемы. Наполеон не мог бы прийти к власти, не будь хаоса революции и террора. Военачальник может быть сколь угодно популярным и успешным, но необходимы конкретные обстоятельства, чтобы он выступил против собственного государства. Диктатура Цезаря не являлась армейским переворотом. Политические лидеры республики также располагали армией, и в 49 г. до н. э. они решили использовать легионы для разрешения политического соперничества.
Из истории Цезаря можно извлечь и еще один урок. При всех своих военных успехах он не сумел стать полноценным политиком – и был убит. Есть пределы того, чего можно добиться исключительно силой. Цезарь, возможно, сохранил бы жизнь и власть, прими он меры предосторожности и управляй с большей жестокостью. Август не повторил ошибки и трагической участи своего приемного отца.
Политика и война
Одни и те же люди стояли во главе Рима в мирное время и в годы войн. Мужчины, вступая в публичную жизнь, следовали правилам карьеры, cursus honorum, которые подразумевали череду военных и гражданских должностей. Провинциальные наместники обладали комбинированной высшей военной, гражданской и судебной властью в пределах территории, которой они управляли. Магистраты избирались и занимали должность один год. Наместников, как правило, назначал сенат, и фиксированный срок пребывания на посту для них отсутствовал: они правили, пока им не присылали замену. Впрочем, наместники редко оставались в должности долее нескольких лет.
Командование армией в успешной войне сулило славу и богатство. А слава и богатство обещали значительные политические преимущества, помогая самому полководцу и его потомкам в общественной жизни. Ежегодные выборы означали неизбежную конкуренцию за популярность среди избирателей. Сравнительно короткие сроки пребывания на посту заставляли провинциальных наместников воевать и побеждать, прежде чем их сменят. Сама система способствовала агрессивности и стремлению расширять границы на всем протяжении республиканского периода. Она не поощряла долгосрочного планирования и установления мирных отношений с соседними народами.
Цезарь происходил из аристократического рода, довольно долго остававшегося в сравнительной безвестности. Его ранняя карьера полна событий, но во многих отношениях типична для республиканского Рима. Он начал военную службу младшим «офицером» в Малой Азии, когда ему еще не исполнилось двадцати, и сумел получить corona civica, высшую награду за доблесть, которую традиционно вручали за спасение жизни сограждан. Как частное лицо он собрал отряд, чтобы разгромить пиратскую шайку, а в другой раз сделал то же самое, дабы отразить нападение на римскую провинцию Азия солдат Митридата Понтийского. Позднее Цезарь служил военным трибуном, скорее всего, в годы войны против Спартака. Каких-либо сведений о ратных подвигах в годы его квестуры не сохранилось. В 61 г. до н. э. он отправился наместником в Испанию и возглавил карательную экспедицию против лузитанов. Его армия равнялась по численности трем легионам[371].
К тому времени, когда ему исполнилось сорок, Цезарь успел послужить, не долее шести-семи лет, на различных армейских должностях. Пожалуй, это был показатель чуть ниже среднего для римского политика, но именно что чуть. Его послужной список был неплох, но многие другие римляне могли похвалиться сопоставимыми достижениями. Возвышению Цезаря содействовали его военные успехи, но гораздо важнее иные факторы. Он отстаивал требования простых солдат, завоевал репутацию оратора и юриста и не скупясь тратил заемные средства, чтобы рекламировать себя и добиться популярности. Как выразился Саллюстий, «Цезарь поставил себе за правило трудиться, быть бдительным; заботясь о делах друзей, он пренебрегал собственными, не отказывал ни в чем, что только стоило им подарить; для себя самого желал высшего командования, войска, новой войны, в которой его доблесть могла бы заблистать»[372].
Трудно вообразить себе больший контраст, чем разница между карьерами Цезаря и Помпея. Будучи всего на шесть лет старше, Помпей собрал три легиона за счет своих поместий и сражался за Суллу в годы гражданской войны. Он не имел на это законного права, но его армия была достаточно крупной, чтобы с нею считаться. Все его ранние победы одержаны над врагами Рима, когда он громил противников Суллы в Италии и Африке и заслужил прозвище Молодой Мясник за энтузиазм, с которым он казнил сенаторов. В 78 г. до н. э. сенат поручил ему разобраться с попыткой государственного переворота консула Лепида. После этого его отправили в Испанию, добивать сторонников Мария. Он получил должность проконсула, но никогда не избирался магистратом и даже не был сенатором. В 71 г. он вернулся в Рим, потребовал и получил право на консульство и наконец стал сенатором. В 67 и 66 гг. до н. э. в качестве наместника необычайно крупных провинциальных единиц он разгромил по-настоящему серьезных иноземных противников. По возвращении в Рим в конце десятилетия он был уже сказочно богат и имел послужной список, с каким не мог соперничать ни один другой сенатор.
Цезарь желал войны, чтобы добиться славы, как у Красса и Лукулла, а в идеале – как у Помпея. Также война требовалась ему, чтобы оплатить огромные долги. В 60 г. до н. э. он вступил в тайный союз с Помпеем и Крассом, которые оба были разочарованы тем, что не получили того, к чему стремились, от сената. Цезарь стал консулом в 59 г. до н. э. и с поддержкой Помпея и Красса провел законы, которых те хотели, а также некоторые из своих собственных. Кроме того, он обеспечил себе военное командование, объединив провинции Цизальпийская Галлия и Иллирия, что предоставило в его распоряжение армию из трех легионов. Это произошло не по воле сената, но по вотуму народного собрания, который одновременно установил пятилетний срок его наместничества. (Помпей аналогичным образом получал некоторые свои назначения.) Сенат же лишь увеличил провинцию Цезаря, прибавив к ней Трансальпийскую Галлию после внезапной смерти ее правителя. Эта область предоставила Цезарю еще один легион.
Подготовка к войне
Как и многие успешные государственные деятели, Цезарь был оппортунистом. Когда он отправился в свою провинцию в 58 г. до н. э., он искал войны, любой войны, которую можно вести с размахом. Первоначальные планы предусматривали поход на Дунай, скорее всего против богатого и могущественного царя даков Буребисты. Неожиданное добавление Трансальпийской Галлии вскоре обернулось известием о миграции гельветов, племени из тех мест, где ныне расположена Швейцария. Гельветы хотели пройти через римскую провинцию и были восприняты как угроза племенам, союзным Риму. Цезаря наверняка бы критиковали, проигнорируй он эту проблему. Так или иначе, он быстро оценил представившуюся возможность и незамедлительно принял меры. Армия провинции приготовилась отразить угрозу и разбила гельветов. Затем Цезарь покинул провинцию, чтобы преследовать рассеянных гельветов и постепенно покорить.
К концу кампании было уже слишком поздно вспоминать о походе на Балканы. Чтобы не терять зря время, Цезарь решил атаковать германца Ариовиста. Последнего некогда призвали в Галлию секваны, но постепенно он подчинил себе это племя и его соседей. До сих пор римляне мирились с таким положением дел, и в 59 году до н. э. Цезарь сам назвал Ариовиста «другом и союзником римского народа». Но теперь он заявил, что германский вождь представляет собой серьезную угрозу для союзных Риму племен, таких как эдуи. Римская армия, разумеется, победила Ариовиста. Вовлеченность в дела Галлии предлагала и иные возможности для вмешательства. В 57 до н. э. Цезарь опять объявил, что необходимость защиты союзников и интересов Рима требует еще одного масштабного похода, на сей раз против белгов.
Цезарь тщательно излагал собственные мысли и фиксировал достижения в своих знаменитых «Записках», которые, по-видимому, публиковались отдельными книгами в зимние месяцы после похода[373]. Текст изображал полководца, всегда помышляющего и действующего на благо республики. Но там не упоминалось о более личных факторах, которые сказывались на войне; вместо этого перед читателем представала вереница славных – и логически обоснованных – побед. Племена галлов рисовались как неспокойные, склонные к бунтарству, но по сути статичные. Зато германские племена Цезарь описывал как полукочевых скотоводов, постоянно глядящих на запад, на плодородные земли Галлии. Подобные описания пробуждали воспоминания и давние страхи перед кимврами и другими племенами, что угрожали самой Италии в конце II в. до н. э. Рейн изображался природной разделительной линией между галлами и германцами, хотя из собственного рассказа Цезаря следует, что все обстояло несколько сложнее. В любом случае, он обрел четкую границу территорий, подлежавших оккупации, и очевидный повод для истребления любого германского племени, отважившегося прийти в Галлию. Вылазки за Рейн были краткими и не предусматривали постоянной оккупации. Они лишь показывали, что римляне могут переправиться через реку, если сочтут нужным. А переправа по наведенным мостам – что намного превосходило возможности местных племен – дополнительно подчеркивала подавляющее превосходство Рима[374].
В 56 г. до н. э. война носила локальный характер, и в значительной степени ее вели подчиненные Цезаря, командовавшие отдельными подразделениями армии. Отчасти это было вызвано тем, что основные очевидные цели и противники уже пали, а отчасти – политическими трудностями, которые задержали Цезаря в Цизальпийской Галлии, как можно ближе к Италии. Напряженность в отношениях между Помпеем и Крассом едва не разрушила их союз. Оба приезжали к Цезарю в его провинцию, на так называемую встречу в Луке. В итоге удалось достичь нового соглашения, одним из следствий которого стало продление полномочий Цезаря еще на пять лет.
Это расширило для Цезаря горизонты планирования. Вполне вероятно, что он уже тогда обдумывал экспедицию в Британию. В 56 г. до н. э. он победил венетов, племя, обладавшее флотом и способное помешать этой экспедиции. В 55 г. до н. э. пришлось снова сражаться с мигрирующими германскими племенами, так что лишь малочисленный римский отряд пересек Канал в самом конце года. Поход закончился катастрофой, поскольку большая часть флота была потеряна во время шторма. Цезарь вернулся на следующий год, с крупными силами. Он одержал малую победу, но в очередной раз недооценил коварство Английского канала и чуть было не оказался отрезанным на острове. В военном отношении экспедиция в Британию не оправдала связанных с нею рисков. Зато политически она принесла ошеломляющий успех, сенат проголосовал за награждение Цезаря двадцатью днями общественных молебствий – никто не удостаивался такого прежде[375].
Кампании Цезаря были агрессивными и оппортунистическими. Тем не менее они ровным счетом ничем не отличались от других римских завоевательных походов. Разве что Цезарь, в отличие от большинства полководцев, имел в распоряжении многочисленное войско и дольше прочих оставался в должности. По римским меркам, его войны были справедливыми. Единственным, кто подверг нападкам кампанию в Галлии, был Катон Младший в 55 г. до н. э. – после того, как Цезарь рассеял мигрирующие германские племена. Озабоченность Катона вызвала не сама бойня, а то обстоятельство, что она произошла во время перемирия и потому нарушила хваленую верность Рима слову (fides). И накануне гражданской войны оппоненты Цезаря продолжали попрекать его «резней 59 г.», усматривая в ней проявление его истинных амбиций. Кажется, иных упреков за деятельность в Галлии они ему предъявить не могли[376].
Различные политики
Цезарь выиграл почти все сражения, которые затевал, и не потерпел неудачи ни в одной кампании. Тем не менее с самого начала своего пребывания в Галлии он понял, что успеха на поле боя недостаточно. Рим заключал союзы со многими племенами, особенно с теми, что обитали на границе Трансальпийской Галлии. Защита этих союзников являлась основным поводом для первоначального вмешательства Цезаря и большинства последующих кампаний. Чем дальше он проникал в Галлию, тем больше становилось у Рима новых союзников. И Цезарь всегда был значительно более жестоким к врагам из-за пределов Галлии, чем к уже осевшим на галльских землях племенам. Ариовиста, гельветов и мигрирующие германские племена разгромили наголову и беспощадно рассеяли. А вот с галльскими племенами, которые воевали против него, он обходился куда мягче. Союзные племена поставляли ему войска и пользовались плодами его побед. Эдуи, давнишний римский союзник, извлекли много выгод и расширили свое влияние, когда стало ясно, что их союзники тоже не обойдены римскими милостями.
Отдельные вожди и предводители от дружбы Цезаря выигрывали более прочих. Каждый год он созывал вождей племен на совет (часто не один раз). Он также встречался и советовался с ними по отдельности. Некоторые из них служили в его армии длительное время. Коммий из племени атребатов сыграл значимую роль в ходе экспедиции в Британию и был вознагражден за эту и другие услуги, став царем своего народа и владыкой менапиев. Дивициак из эдуев показал себя верным союзником и заручился сторонниками из других племен, поскольку было известно, что Цезарь часто ему покровительствует.
Цезарь пристально следил за взаимоотношениями племен и поддерживал лидеров, которые демонстрировали лояльность. Для таких людей приход римской армии представлял возможность укрепить свои позиции. Кроме того, это была реальность, которую нельзя игнорировать. То же самое верно и в отношении Ариовиста, приглашенного секванами, но впоследствии подчинившего их самих и соседние племена. Цезарь уничтожал всех потенциальных соперников, чтобы остаться единственным «внешним фактором» в политике местных племен.
Завоевание Галлии не обернулось переселением в регион большого числа римских колонистов. Провинцию, которую он создал – как, впрочем, и в случае с практически любой другой римской провинцией, – предстояло заселить людьми, уже проживающими на этой территории. Для успеха этого начинания требовалось убедить достаточное количество местных жителей, что принять римское владычество в их интересах. Могущество римской армии являлось сдерживающим фактором для сопротивления, но самого по себе его было мало. Цезарь увеличил свои силы с четырех легионов до дюжины в ходе Галльской кампании, но даже после этого войска не могли присутствовать везде одновременно. Да и непрактично (и нежелательно) удерживать провинцию грубой силой. Ведь содержание крупной армии может стоить больше дохода от провинции. Необходимость гарнизонов вдобавок давала понять, что война на самом деле не выиграна, и значительно ослабляла ценность победы.
Таким образом, с 58 г. до н. э. Цезарь посвящал немало времени и сил дипломатии, рассчитывая завоевать доверие племенных вождей. Прежних союзников поощряли, с побежденными врагами обращались милостиво, чтобы превратить их в новых союзников. Таков был стандартный римский метод, свойственный, кстати сказать, самым успешным империям в истории. Цезарю немало помогало то обстоятельство, что он обладал гражданской и военной властью; это означало, что в каждой кампании стратегия формировалась с учетом текущей политической ситуации. Пожалуй, подобного сложнее добиться в современном мире, где ситуации зачастую более комплексные, а авторитетов минимум несколько. На момент написания статьи Соединенные Штаты и их союзники участвовали в конфликтах в Ираке и Афганистане, где вооруженные силы сами по себе не способны победить без обеспечения стабильного политического урегулирования. Тем не менее не стоит забывать, что Цезарь не пытался создать жизнеспособную демократию, а затем уйти из региона. Он покорял навсегда и бывал весьма жесток. Римлянам не приходилось задумываться о мировом общественном мнении[377].
Однако некоторые факторы не меняются и по прошествии тысячелетий. На каждого племенного вождя, выигравшего от прихода Цезаря, находились те, кто понес урон. Местная политика представляла собой яростную конкуренцию между племенами, как и в Римской республике. Если вождь видел, что ему предпочитают его соперников, у него имелось мало личных стимулов поддерживать Рим. Один из вариантов сопротивления заключался в призыве о помощи к «внешним силам» – например, к германцам, – но это было чревато утратой самостоятельности. Кроме того, вождь мог напасть и победить своего соперника. В идеале это можно было сделать быстро и решительно, чтобы Цезарю пришлось признать свершившийся факт; но в целом наместник следил за порядком и сурово карал подобного рода нападения[378]. Веди он себя иначе, и самих римлян рано или поздно изгнали бы из Галлии. Слишком упрощенно представлять себе про– или антиримские фракции в каждом племени и не менее ошибочно рассуждать о наличии про– и антизападных групп в современных конфликтах.
Люди наподобие Коммия и Дивициака лелеяли собственные планы и амбиции. Такие вожди полагали, что используют Цезаря в той же степени, в какой он использовал их, и расширяли свою власть благодаря римский поддержке. Брат Дивициака Думнорикс искал помощи среди других племен, чтобы стать верховным вождем эдуев. Видя, что его брат обретает все большее влияние, Думнорикс втайне начал злоумышлять против римлян. Позже, вероятно после смерти Дивициака, Думнорикс принялся распускать слухи, что Цезарь намеревался именно его сделать царем эдуев. Впоследствии он был убит по приказу Цезаря, когда попытался улизнуть от участия в первой экспедиции в Британию.
Лояльности, как известно, переменчивы. Личный интерес более всего определял, какие вожди поддерживают Рим или сопротивляются Цезарю. И этот интерес также был подвержен колебаниям. Зимой 53–52 гг. многие галльские вожди сочли, что присутствие римлян сковывает их свободу действий. Вспыхнуло крупное восстание, в ходе которого к вождям, впавшим в немилость Цезаря и постоянно ему сопротивлявшимся, присоединились и те, кто пользовался покровительством Рима. Верцингеторикс, лидер этого восстания, был любимцем Цезаря, хотя в «Записках» об этом не упоминается[379]. И куда подозрительнее выглядело отступничество Коммия.
Цезарь был близок к поражению в 52 году до н. э. и потерпел серьезную неудачу, тщетно осаждая Герговию. Но он не сдавался и, одержав малозначимую победу, перехватил инициативу и запер Верцингеторикса в Алесии. После кровопролитного штурма Верцингеторикс был вынужден просить пощады. Впрочем, на этом война не закончилась. Более года Цезарь и его легаты последовательно проводили карательные операции против племен, которые все еще оказывали сопротивление. На вождей вроде Коммия охотились особо, хотя лично ему удалось бежать в Британию. Когда был взят город Укселлодун, Цезарь приказал отрубить руки всем, кого взяли в плен.
Тем не менее, как всегда, наряду с репрессиями и угрозой силы использовалась дипломатия. Как выразился один из легатов, «…единственной целью было сохранять дружественные отношения с общинами, ни в одной из них не возбуждать излишних надежд на восстание и не подавать повода к нему… Поэтому он обращался к общинам в лестных выражениях, их князей осыпал наградами, не налагал никаких тяжелых повинностей и вообще старался смягчить для истощенной столькими несчастливыми сражениями Галлии условия подчинения римской власти»[380]. Задача была выполнена за два с небольшим года. Как обычно, дипломатия основывалась на личных контактах. И в 49 г. до н. э. Цезарь увел почти всю свою армию сражаться в гражданской войне. Галлия не восстала, когда римские войска покинули провинцию и Цезарь оказался занят в другом месте.
За этот успех пришлось заплатить позднее. Цезарь неправильно оценил ситуацию зимой 53–52 гг. до н. э. и был застигнут восстанием врасплох. Хотя в итоге он снова победил, потребовалось много времени и сил, чтобы восстановить мир. По Риму бродили слухи о серьезных поражениях в Галлии, побуждавшие оппонентов Цезаря верить в его уязвимость. И сроки подготовки к возвращению в Рим пришлось сократить. Проведи Цезарь год или более в Цизальпийской Галлии, ближе к Италии, с ним легче было бы связываться влиятельным людям, а это, возможно, позволило бы избежать гражданской войны. Впрочем, тут многое зависело и от Помпея. Именно его переход на сторону врагов Цезаря обеспечил тех воинским контингентом для начала войны[381].
Частные армии
Ни одна из гражданских войн не состоялась бы без готовности римских солдат убивать друг друга. К I в. до н. э. римская армия уже представляла собой профессиональную военную силу, пополняемую в основном из бедных слоев общества. Таким новобранцам армия сулила постоянный, пусть и не особенно щедрый заработок, сытость и одежду. В отличие от прежней армии, набиравшейся из собственников, эти людей не имели источников доходов после увольнения из армейских рядов. Сенат обычно избегал рассматривать подобные вопросы, и, как правило, только невероятными усилиями командир мог добиться участков в сельской местности для отставников-ветеранов. Это укрепляло связь между полководцем и солдатами, и такая связь зачастую оказывалась крепче уз между легионерами и государством. Защита участков ветеранов стала одним из главных мотивов, побудивших Помпея к союзу с Крассом и Цезарем. Последний же внес необходимые изменения в законодательство в 59 г.[382]
При этом связи между полководцем и солдатами укреплялись не только экономической зависимостью. Общие победы помогали создавать взаимное доверие, хотя самого по себе этого было недостаточно. Лукулл, несомненно, являлся одним из изощреннейших тактиков своего периода, но солдаты его не любили, называли скрягой, ибо он был скуп на вознаграждения. Зато Помпей куда щедрее делился плодами побед.
Цезарь отличался харизмой, и верность ему солдат в ходе гражданской войны была почти фанатичной; во всей истории человечества подобную верность заслужили всего несколько человек, например Наполеон. Верность при этом не была мгновенной и не возникла из ничего. В 58 г. до н. э. Цезарь возглавил четыре легиона, собранных другими наместниками. Он сразу же набрал два новых легиона, а следующей зимой добавил к ним еще два. За двенадцать месяцев его армия удвоилась, а вскоре и утроилась.
Поначалу солдаты не знали Цезаря и не особенно ему доверяли. В кампании против гельветов он совершал ошибки, в частности, предпринял неудачное ночное нападение на лагерь, в результате которого часть войска оказалась отрезанной, а остальные, с Цезарем во главе, не имели возможности сражаться. Гельветы попросту не заметили свой шанс или почему-то не сочли нужным им воспользоваться. Позже, летом, произошел мятеж в Везонтионе, где некоторое время армия отказывалась выступать против Ариовиста. Цезарь лестью и посулами переубедил солдат, а затем быстро разгромил противника. За победами 58 г. последовал трудный успех на Самбре в 57 г. до н. э. В этой битве Цезарь лично командовал строем, подвергся наиболее сильному давлению противника, демонстрируя, что не бросает своих воинов. Со временем легионеры почувствовали, что могут положиться на своего командира, что тот всегда поддержит их и приведет к победе. Уверенность в том, что они непременно победят, сделала солдат Цезаря чрезвычайно упорными бойцами.
Не сомневаясь в победе, солдаты Цезаря одинаково не сомневались и в награде. А добыча была существенной. Один источник утверждает, что миллионы людей были проданы в рабство в ходе Галльской кампании. Другой упоминает о разграблении местных святынь и присвоении их сокровищ. Цезарь сурово следил за дисциплиной в армии и установил изматывающий режим тренировок, но смягчал недовольство, даруя солдатам свободу в другое время. Доблесть и мужество вознаграждались деньгами и продвижением по службе – а также упоминанием по имени в «Записках». Цезарь и другие источники неоднократно утверждают, что римские солдаты воевали лучше, когда видели своего командира, который имел власть награждать и наказывать[383].
Многие из старших офицеров Цезаря сделались чрезвычайно богатыми людьми за время его кампаний (порой их высмеивал поэт Катулл). Командование армией наделяло римского наместника значительной властью патрона, что позволяло ему назначать клиентов легатами и трибунами, равно как и на иные посты. Еще он распределял «контракты» среди «бизнесменов». Доходы от военных действий также имели большое значение для завоевания друзей в Риме. Цезарь одолжил денег Цицерону и назначил легатом его брата Квинта, который изображен в весьма выгодном свете в «Записках». Огромные суммы, по слухам, были потрачены на покупку поддержки Эмилия Павла и Куриона, соответственно консула и народного трибуна в 50 г.[384]
Увеличение численности армии, да еще столь радикальное, не было санкционировано сенатом. Он осуществил это по собственной инициативе и своей властью, обеспечив финансирование за счет доходов от провинции. К уроженцам Цизальпийской Галлии он относился как к гражданам Рима и зачислял их в легионы. Позже он проделал то же самое в Трансальпийской Галлии, сформировав легион, Legio V Alaudae, целиком из местных[385]. В 55 г. до н. э. Помпей и Красс не только допустили продление полномочий Цезаря, но и задним числом добились от сената одобрения увеличения численности армии и государственного финансирования. Сам Цезарь лишь, вероятно, как диктатор смог даровать римское гражданство галлам из своей армии.
Увеличение армии не просто обеспечило Цезаря избытком военной силы, но и предоставило новые возможности патроната. Каждый новый легион имел шестьдесят должностей центуриона и около полудюжины постов трибуна. В «Записках» Цезарь говорит, что производил центурионов в старшие командиры за верную службу, нередко перебрасывая ветеранов в новые подразделения. К концу кампании в Галлии, вполне вероятно, каждый центурион в армии был обязан своим назначением или новым чином Цезарю. В 48 г. до н. э. легионы Цезаря имели в среднем менее половины стандартной численности, а когда он достиг Александрии, ветеранский VI легион имел менее 1000 человек, всего 20 процентов от полного состава. Мы не знаем, насколько часто новобранцы пополняли существующие легионы, но возможно, что предпочтение всегда отдавалось созданию новых подразделений, через назначения в которые поощрялись лояльные сторонники[386].
Рядовые солдаты – nostril, «наши люди» – в «Записках» превозносятся за храбрость и навыки, но по именам Цезарь их почти никогда не называет. Даже знаменосец Десятого легиона, который лихо спрыгнул с борта судна и возглавил атаку на берег во время высадки в Британии в 55 г. до н. э., остался анонимным. Центурионов Цезарь выделял и отмечал гораздо чаще. Собирая заново строй на Самбре, он обращался к группам солдат, но центурионов звал по именам. (В ту пору в армии насчитывалось 480 центурионов – одному человеку по силам, в принципе, запомнить столько имен. Сегодня от командиров батальонов ожидают узнавания в лицо каждого солдата под их командованием, но подобного никак не ждут от командиров бригад и дивизий[387].)
Несмотря на устойчивый миф, будто в центурионы производили простых солдат, Цезарь ни разу не упоминает о подобном. Многие, если не все центурионы, как кажется, назначались непосредственно и, вероятно, были выходцами из умеренно-зажиточных и местных аристократов. Значительное число центурионов Цезарь отпускал помогать в ходе важных выборов в Риме. Отчасти это было запугивание, но, учитывая, что римская система голосования ориентировалась на достаток, это также показывает, что многие центурионы были людьми обеспеченными. Некоторые из них были вознаграждены Цезарем настолько, что сделались всадниками, как Скева, который удержал Диррахий от массированного нападения в 48 г. до н. э. Упоминания центурионов в «Записках» дополняет впечатление, что они происходили из политически значимого класса, который Цезарь стремился привлечь на свою сторону[388].
Рубикон и не только
Переход Рубикона ознаменовал неудачу Цезаря-политика. Это была игра, отсюда и его известное высказывание «Жребий брошен». Было бы гораздо лучше вернуться мирно, получить второе консульство, а затем новое назначение в провинцию; оба поста надежно оградили бы Цезаря от преследования. Такая победа принесла бы и куда больше удовлетворения, заставив соперников признать его заслуженное превосходство. Исход экспедиции Цезаря не должен заслонять от нас тот факт, что во многих отношениях шансы были против него. Помпей и его союзники не были готовы защищать Италию – отчасти потому, что никто не ожидал начала войны в январе, задолго до обычного «военного сезона», а отчасти из-за того, что в решимость Цезаря попросту не верили. Тем не менее им удалось уйти со значительной армией в Грецию. Там Помпей мог опереться на ресурсы восточных провинций и собрать большое войско.
Цезарь быстро захватил Италию, но не располагал флотом, чтобы преследовать Помпея. Бездействие только усиливало его врагов, и потому он повел свою армию в Испанию. Помпей контролировал испанские провинции со времени своего второго консульства в 55 г. до н. э., управлял через легатов, а сам держался недалеко от Рима. Цезарь одержал еще одну быструю победу, «переманеврировав» легатов Помпея. Он не мог допустить серьезного поражения. Поскольку целью войны была защита его карьеры и положения, подобное поражение совершенно бы их дискредитировало. Противникам же было намного проще терпеть такие потери и удары по престижу. Цезарь был вынужден продолжать наступление и побеждать, но даже после его первых успехов враги все равно обладали громадными ресурсами.
Помпей ожидал Цезаря, чтобы атаковать его в Греции. Той же стратегии придерживались Брут и Кассий в 42 г. до н. э. и Марк Антоний в 31 г. до н. э. Многое говорило в ее пользу, поскольку каждый из них имел сильный флот, превосходивший флот противника. Несмотря на это, они были разбиты, а рисковавший взял верх. Сохранение инициативы очевидно является необходимым условием успеха в гражданских, равно как и в прочих войнах. Кампания 48 г. до н. э. велась, что называется, на грани и вполне могла закончиться катастрофой для Цезаря. Вопреки феноменальной доблести и выносливости своих солдат, Цезарь не смог взять Диррахий и был вынужден отступить. Помпей решил, что армия Цезаря существенно ослаблена, и отважился дать сражение при Фарсале. Это не был неразумный шаг, пусть Помпей и поддался значительному давлению со стороны сенаторов, которые обвиняли его в затягивании войны без необходимости. Неспособность Цезаря привлечь значимых сторонников, кстати, имела положительную сторону: никто и никогда не оспаривал его действия. Стремление взять врага измором, однако, чревато неприятностями в гражданской войне. Цезарь принял предложение боя и, проявив себя лучшим тактиком, одержал сокрушительную победу.
Гражданская война на этом не закончилась. Помпей бежал в Египет и был убит. Цезарь преследовал его и оказался втянут в местную гражданскую войну. Он возвел на трон Клеопатру и задержался на некоторое время в Египте, по причинам личным и политическими. Эта задержка позволила уцелевшим помпеянцам собраться снова в Северной Африке. Они, впрочем, были разгромлены в 46 г. до н. э. Другая группа, во главе с сыном Помпея, потерпела поражение в Испании в 45 г. до н. э. Цезарь не намеревался захватывать верховную власть силой. Но, когда это случилось, ему пришлось сражаться, чтобы отстоять ее, а также решать, как наилучшим образом ею воспользоваться. Важно помнить, сколь короткое время Цезарь провел в Риме в качестве диктатора. После его убийства гражданская война вспыхнула с новой силой, сначала между его сторонниками и его убийцами. Обе стороны буквально заливали общество потоками пропаганды относительно намерений Цезаря. На самом деле сейчас невозможно восстановить эти планы с какой-либо степенью достоверности.
Ближайшие планы, насколько известно, подразумевали крупные экспедиции против даков и парфян. Эти войны сулили «чистую» славу побед над внешними врагами республики, а не над соотечественниками. Цезарь назначил магистратов на ближайшие три года, и это позволяет предположить, что он собирался надолго покинуть Италию. Парфяне представляли собой грозных противников, которые разгромили и убили Красса в 53 г. до н. э., а позже сурово расправились с армией Антония. Преуспел бы Цезарь или нет, сказать сложно. Неясно, планировал ли он завоевание и оккупацию или просто большую карательную экспедицию, дабы отомстить за гибель Красса.
Как диктатор, Цезарь был главой республики. Поскольку он пришел к власти силой, было очень важно сохранить контроль над армией. В какой-то момент, возможно непосредственно перед гражданской войной или во время нее, Цезарь удвоил базовую ставку оплаты легионерам. Без сомнения, «оклады» высших чинов возросли пропорционально. Ветеранов увольняли, наделяя их фермами. Насколько возможно, это делалось без причинения серьезного ущерба существующим общинам. Примерно в то время, когда он праздновал свои триумфы, случилось выступление недовольных солдат. С мятежниками обошлись чрезвычайно сурово, несколько человек были казнены. Став диктатором, Цезарь продолжал быть щедрым, но справедливым со своими солдатами. Офицеры всех рангов получали щедрое вознаграждение. Еще Цезарь назначил большое число новых сенаторов, в том числе всадников-офицеров, некоторых галлов и бывших центурионов[389].
Многие воины получили выгоду от диктаторства Цезаря. Сама армия не обрела особых привилегий и вовсе не контролировала любые новые аспекты жизни. Цезарь пришел к власти в результате гражданской войны, но, как и в Галлии, надеялся создать режим, который существует благодаря силе и согласию. В последние месяцы своей жизни он распустил своих испанских телохранителей. Предположительно, он чувствовал, что если новому режиму предстоит пережить три года его отсутствия в походе, то в Риме он должен демонстрировать уверенность в себе. Сулла отказался от диктатуры, которую добыл силой, но Цезарь называл этот поступок глупостью – «Сулла не знал и азов, если отказался от диктаторской власти»[390]. Цезарь считал, что должен держаться за власть. Он не осознал приверженности других римлян традициям – и был убит.
Пределы силы
Цезарь был гениальным полководцем. Подобно Александру или Наполеону, он не прославился как великий военный реформатор и принял войско, уже подготовленное и обученное другими. Но все трое «оттачивали» свои армии, вдохновляли их, воодушевляли собственными амбициями и воображением, что в итоге обеспечивало невероятный успех. Кроме того, Цезарь, как и Наполеон, использовал свой военный успех, чтобы захватить высшую власть в государстве. В отличие от французского императора, правда, он не столь радикально перестроил государство под себя. Цезарь эффективно манипулировал выборами и сам считался высшим авторитетом над магистратами. Тем не менее магистраты по-прежнему служили, сенат и народные собрания продолжали собираться и голосовать, а суды функционировали приблизительно так же, как и до диктатуры. Заговорщики считали, что едва ли не единственным препятствием на пути возвращения республики является сам Цезарь.
Диктатор пал жертвой внутренних, а не внешних врагов, опять-таки в отличие от Наполеона. Военного успеха было недостаточно, чтобы Цезарь сумел создать стабильный режим; эту задачу осуществил Август. Он тоже захватил верховную власть с помощью военной силы. Потребовались десятилетия, чтобы создать новый режим и превратиться из жестокого триумвира, который выгрызает путь к вершине, в почитаемого «отца нации». Август позаботился о том, чтобы армия сохраняла верность ему одному. Более двух столетий длилась республиканская традиция сенаторского контроля за военной и гражданской властью. В любое время лишь несколько сенаторов были способны заменить императора. В Риме вновь вспыхивали гражданские войны – в 68–69 и 193–197 гг., зато было и гораздо больше стабильности, чем в последние десятилетия республики. Август и его преемники были военными диктаторами, но, жертвуя политической независимостью, одарили римский мир стабильностью. Сенаторы пользовались своим статусом и порой продолжали искать славы, но теперь уже как представители императора. Это и многое другое изменится в III в.
Цезарь стал диктатором силой оружия. Его исключительно долгое и успешное командование в Галлии позволило превратить тамошнюю армию в эффективное орудие и способствовало созданию крепких личных связей между солдатами и командиром. Без этого Цезарь не сумел бы захватить и удержать власть. Тем не менее его победа в гражданской войне не была предопределена. Помпей обладал огромными ресурсами и уже давно был признан величайшим полководцем Рима. Сомнительность людской славы – auctoritas, как выражались римляне – отражает легкость, с какой новые достижения Цезаря сначала соперничали, а затем превзошли былые заслуги Помпея в коллективном сознании. Немногие политики усомнятся в необходимости «оставаться в заголовках» и в том, что былые заслуги быстро забываются и вытесняются новыми событиями. Во всяком случае, темп жизни современного мира и современные СМИ существенно ускорили этот процесс. (Для некоторых, возможно, приятно, что ошибки и скандалы забываются тоже быстрее.)
Многое изменилось, и лишь немногие современные лидеры, по крайней мере на Западе, способны поспорить с ратной славой Цезаря. Это не значит, что даже в нашем обществе воинскую славу (даже если не использовать это слово) нельзя трансформировать в политический капитал. Однако, как и прежде, слава мимолетна. Военная неудача, будь то реальная или раздутая пропагандой, может моментально разрушить репутацию. Такие лидеры, как Наполеон и Цезарь, которые обеспечили свое возвышение воинской славой, должны постоянно «подновлять» эту славу крупными победами, если хотят сохранить популярность и власть. Цезарь был военным диктатором, но правил умеренно сурово. Один из наиболее удручающих уроков истории этого периода заключается в том, что гораздо более безжалостный Август смог удерживать власть более сорока лет и в конечном счете умер в своей постели.
Дополнительная литература
Основными источниками по карьере Цезаря и военным кампаниям являются его собственные «Записки» о событиях в Галлии и годах гражданской войны. Дополнительные книги (восьмая книга «Галльской войны», «Александрийская война», «Африканская война» и «Война в Испании», финал «Гражданской войны») предлагают несколько отличный взгляд на его поведение. В обширном литературном наследии Цицерона Цезарю и его достижениям отводится немало места. Жизнеописания, составленные Плутархом и Светонием, содержат много фактов, не упоминаемых в других текстах, а сочинения Диона и Аппиана дополняют эти труды. Все перечисленные источники, впрочем, следует использовать с осторожностью, так как Цезарь оставался весьма спорной фигурой – и при жизни, и после смерти.
Современная литература по Цезарю весьма обширна; см., например: Маттиас Гельцер «Цезарь» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968); Кристиан Майер «Цезарь» (New York:
Basic Books, 1996) и А. Голдсуорти «Цезарь: жизнь колосса» (New Haven, CT: Yale University Press, 2006). Работа Т. Райса Холмса «Завоевание Цезарем Галлии», пусть прошло сто лет после ее публикации, по-прежнему остается неоценимым источником сведений о Галльской войне.
«Становление римской армии» Лоуренса Дж. Кеппи (London: Batsford; Totowa, NJ: Rowman & Littlefeld, 1984) представляет собой одно из лучших исследований римского военного искусства. Интересны также: Эмилио Габба «Римская республика, армия и союзники» (Berkeley & LA: University of California Press, 1976); Жак Арман «Армия и солдаты Рима, 107-50 гг. до н. э.» (Paris: А. et J. Picard, 1967); Ричард Эдвин Смит «Служба в постмарианской римской армии» (Manchester, UK: University of Manchester Press, 1958). Работа Натана С. Розенштейна «Imperatores Victi: военное поражение и аристократическая конкуренция в средней и поздней республике» (Berkeley & LA: University of California Press, 1993) показывает, какое поведение ожидалось от римского полководца в бою; см. также мою книгу «Римская армия в войне 100 г. до н. э. – 200 г. н. э.» (Oxford: Clarendon, 1996). Сборник статей «Юлий Цезарь как искусный репортер: записки Цезаря как политический инструмент» (London: Duckworth, 1998) содержит различные точки зрения на «Записки» Цезаря.
10. Держать рубежи: оборона границ и поздняя Римская империя Питер Дж. Хизер
Согласно теории, впервые предложенной Эдвардом Луттваком в середине 1970-х гг., Римская империя сознательно перешла от пограничной политики, основанной на экспансии, к глубоко эшелонированной обороне; это случилось в правление императора Септимия Севера, в начале III в. н. э. С этого момента военные усилия империи направлялись на стратегическое планирование строительства «укрепленных поясов», призванных отражать мелкие угрозы; в резерве находилась мобильная региональная армия, которой вменялось противостоять крупномасштабным вторжениям[391]. Летом 370 г., например, налетчики-саксы на кораблях обошли пограничные укрепления северного Рейна и высадились на севере Франции. Начались разбои и грабежи, но со временем местный римский полководец собрал достаточно тяжелой конницы и пехоты, чтобы разгромить ничего не подозревавших саксов, усыпленных ложным чувством безопасности – ведь заключенное ранее перемирие обещало им жизнь и свободу[392]. Это хрестоматийный пример пограничной стратегии, обозначенной Луттваком; но при ближайшем рассмотрении – и вопреки влиятельности его работы, опубликованной более тридцати лет назад, – выясняется, что этот анализ в значительной степени ошибочен.
С одной стороны, археологические раскопки подтверждают активную миграцию вдоль имперской границы, причем на расстоянии многих тысяч километров, от устья Рейна до устья Дуная, но нередко возведение крепостей и военные походы предпринимались из-за внутренних политических неурядиц, а вовсе не по причине рационального военного планирования. «Удержание варваров» служило фундаментальным обоснованием необходимости сурового налогообложения сельскохозяйственного производства, которое обеспечивало существование империи. Неудивительно, что императоры любили показывать помещикам, которые и выплачивали, и взимали эти сравнительно крупные суммы ежегодно возобновляемых богатств, что государство не церемонится с варварами и заботится о подданных. В 360 г., например, братья-императоры Валентиниан и Валент взялись энергично строить крепости по Рейну и Дунаю, демонстрируя, что надлежащим образом следят за обороной империи, пусть даже строительство привело к разрыву ряда соглашений с приграничными племенами, прежде вполне миролюбивыми[393]. Валентиниан также единоличным решением снизил размер ежегодных «субсидий», что выплачивались некоторым алеманнским вождям Верхнего Рейна, – дабы иметь возможность утверждать, что он не покупает миролюбие варваров[394]. Оба направления политики были весьма иррациональными с позиций поддержания безопасности границ, поскольку фактически они провоцировали беспорядки; но для императоров первостепенное значение имели внутриполитические факторы[395].
Наступательные войны, разумеется, тоже не прекратились к концу III в., вопреки использованию тактики тщательно спланированных, стратегически обоснованных решений с опорой на рациональный анализ экономических возможностей империи по поддержанию регулярной армии для защиты существующих активов. Скорее, дальнейшие попытки завоеваний постепенно выдыхались на всех границах Рима, особенно когда стало слишком очевидно, что плоды завоеваний – обычно измеряемые личной славой, а не стратегическими и экономическими выгодами – более не заслуживают стараний[396].
Эго политиков и внутриполитические интриги вечно мешают рациональному военному планированию, и вряд ли должно удивлять, что подобное было свойственно и древнему миру. Возможно, основным недостатком анализа Луттвака является его пренебрежение тем, каким образом пограничные активы – сочетание укреплений и войск, столь проницательно им подмеченное, – использовались Римом на практике в III и IV столетиях. Вплоть до конца IV в. римская армия не просто дожидалась прихода варваров, отсиживаясь за «поясами» огромных укреплений, своего рода предшественников французской линии Мажино. Да, подобные варианты развития событий случались на границе, как и в случае с саксами в 370 г. например, но слишком редко для того, чтобы считать их доминирующей стратегией, с помощью которой римляне обеспечивали безопасность границ. Подобная стратегия в любом случае не могла оказаться успешной. Чтобы сэкономить на жаловании солдатам, снаряжении и амуниции, многие подразделения армии находились в состоянии столь низкой боеготовности в мирное время, а малые скорости передвижения столь замедляли реагирование, что существовала немалая вероятность благополучного возвращения обратно за границу даже довольно крупных варварских сил задолго до нанесения по ним эффективного контрудара. Армейские отряды, не считая гонцов, передвигались не быстрее 40 километров в сутки, а чтобы не усугублять проблемы снабжения, даже мобильные части не размещались в плотно населенных областях. Сосредоточить достаточное количество воинов, а затем перебросить их в точку, где требовалось вмешательство, – на это в целом уходило несколько недель, а не дней, так что сугубо «ответная» стратегия фактически предоставляла налетчикам массу возможностей для грабежа[397]. Если снова вспомнить набег саксов 370 г., вероятно, местный римский полководец заключил фиктивное перемирие с врагом только ради того, чтобы выторговать себе время на сбор и переброску войск.
Прибавляя свидетельства исторических источников к данным военной археологии и известным фактам развертывания войск, мы получим совершенно иную картину общей стратегии Римской империи. Фортификации и мобильные отряды были всего-навсего двумя элементами стратегии управления границей, которая основывалась в первую очередь на дипломатических увертках и манипуляциях, подкрепляемых периодическими развертываниями вооруженных сил. Если судить по источникам конца III и всего IV века, всякий раз, когда военно-политическая обстановка на конкретной границе угрожала выйти из-под контроля, предпринимался крупный поход, которым часто командовал лично правящий император. Императоры-тетрархи конца III и начала IV столетий совершили целый ряд таких походов через все три основные европейские границы Рима: Рейн, среднее течение Дуная (к западу от Железных Ворот) и Нижний Дунай (к востоку). Константин I воевал на Рейне в 310-х гг., а на Дунае – в 330-х. Его сын Констанций II (вместе со своим двоюродным братом и цезарем Юлианом) водил армии к востоку от Рейна и к северу от Среднего Дуная в 350-х, а в следующем десятилетии Валентиниан и Валент вновь вывели многочисленное войско как на Рейн, так и к Нижнему Дунаю[398].
Как рассказывается в сохранившихся литературных источниках, эти кампании обыкновенно следовали «типовому» сценарию. Любых слишком уж осмелевших варваров сначала громили в битве, а затем, в течение определенного срока, римские войска сжигали каждое варварское поселение, которое им попадалось[399]. Истинной целью подобного рода действий было не разрушение само по себе, хотя кампании, конечно, предпринимались именно как карательные и отлично поддерживали боевой дух армии, так как солдатам разрешалось грабить вволю. Последствия регулярного разграбления римлянами приграничных территорий в ряде случаев засвидетельствованы археологически[400]. Тем не менее эти походы по сути являлись попытками заставить всех верховных и среднего ранга варварских вождей в регионе официально признать власть императора. Когда становилось ясно, что потребуется наглядная демонстрация силы, император, как правило, разбивал в приграничье лагерь, и региональные варварские вожди по одному приходили туда, чтобы повиниться и покориться. Эта процедура подробно описана в ряде поздних римских источников – так было при императоре-тетрархе Максимиане в 290-х, при Констанции II и Юлиане в 350-х и позже[401]. Насколько далеко на территорию варваров за границей углублялись римляне в ходе этих кампаний, установить нелегко. Кампании растягивались обычно на несколько недель, и можно предположить, что, по крайней мере, дипломатический эффект – присоединение земель покоренных местных царьков и князьков – ощущался на расстоянии около 100 км от рубежей империи[402].
Император и его советники затем превращали краткосрочную военную оккупацию в долгосрочное обеспечение безопасности, как показывают, например, действия Констанция II на Среднем Дунае в 350-х гг. Прежде всего изучался текущий политический расклад в покоренной области. Если выяснялось, что варварских племен слишком много и они по-прежнему представляют серьезную угрозу для безопасности границ, любые варварские союзы дробились; мелким вождям возвращали независимость от чересчур могущественного верховного вождя, которому они когда-то поклялись в верности. На Среднем Дунае в 350-х Констанция явно тревожил некий Арахарий, а потому император даровал «вольную» части его сарматских вассалов во главе с Усафером. Он также возвысил другого вождя сарматов, Зизия, наделил его царским титулом и вернул политическую независимость его подданным. Эта независимость была подкреплена римской военной поддержкой – и ежегодными «дипломатическими субсидиями» для укрепления позиций проримских лидеров. Порой утверждают, что эти субсидии являлись «данью» и показывали слабость имперской власти.
Однако в качестве инструмента дипломатии их постоянно пользовали с I–II вв., когда римское господство было абсолютным, а в IV в. вручали даже тем варварским вождям, которые покорились Риму. Потому совершенно очевидно, что, в современных терминах, это была адресная помощь, предназначенная для укрепления сил избранных дипломатических партнеров Рима[403].
Пока все эти дипломатические маневры разворачивались полным ходом, любых римских пленников, захваченных варварами ранее, незамедлительно освобождали, а в поселениях проводился принудительный набор местных рекрутов в римскую армию[404]. Одновременно эти периодические возглавлявшиеся императорами кампании, как правило, затевались в ответ на какие-либо достаточно серьезные приграничные проблемы. А поскольку кампании такого масштаба были дорогостоящими, требовалась целая вереница конфликтов, чтобы войско выступило в поход. И потому для возобновляемых соглашений было характерно наличие «карательных» статей, обрекавших виновных в нарушениях на различные наказания. В отдельных случаях это могла быть и казнь варварского вождя. В 309 г., например, Константин I казнил двух вождей франков в Трирском амфитеатре[405]. Чаще, однако, жажду мести утоляли различными финансовыми карами, обычно в форме принудительного труда и поставки стройматериалов, а также, разумеется, конфискации запасов продовольствия[406].
Время от времени императоры использовали военное превосходство Рима для более радикальных мер. Помимо уничтожения опасных политических структур варваров, они также следили за тем, чтобы приграничные области не становились перенаселенными. Ведь подобная ситуация могла привести – и приводила – к острой конкуренции варварских вождей между собой, причем эта конкуренция могла отозваться и на римских территориях. Один способ заключался в насильственном – огнем и мечом, если требовалось – изгнании части непосредственных соседей империи за пределы приграничной зоны. На Среднем Дунае в 350-х гг., например, Констанций II решил, что конкретная группа сарматов, лимиганты, должна быть изгнана, и не раздумывая применил силу, чтобы вынудить их уйти. Другой способ состоял в переселении отдельных групп варваров в римские владения, на строго оговоренных условиях. В частности, этим способом охотно пользовались императоры-тетрархи, создав варварские поселения на всех основных европейских границах империи за два десятилетия после 290 г.; этот способ применялся и раньше и продолжал использоваться впоследствии[407].
Это не означает, что репертуар римских манипулятивных дипломатических методов всегда применялся в рамках полностью рациональной политики обороны границ, этакой «большой стратегии» с акцентом на «большой». Мы уже видели, что внутренние политические проблемы порой заставляли императоров выбирать сражения, в которых не было никакой необходимости; тем самым они доказывали свою полезность налогоплательщикам. На самом деле все крупные приграничные кампании конца имперского периода, как правило, были ответными, начинались после серьезного нарушения установленного порядка в конкретном регионе, а не потому, что возникали угрозы политической и военной стабильности. При оценке общей эффективности римской пограничной обороны поэтому следует учитывать, что значительные экономические потери из-за набегов являлись частью уравнения, так как именно изрядное количество набегов провоцировало реакцию Рима. Насколько изрядным должно было быть число набегов, явствует из археологических находок в ходе дноуглубительных работ на Рейне, близ старого пограничного римского города Шпейер. В конце III в. налетчики-алеманны пытались переправить через Рейн свою добычу, и тут их лодки попали в засаду и были потоплены римским речным патрулем. Добыча представляла собой невероятные 700 кг груза на трех или четырех повозках, возможно, награбленное добро с одной римской виллы; отметим, что налетчики обычно тащили домой каждый кусок металла, который им попадался. В грузе отсутствовали только богатая серебряная утварь и дорогие личные украшения. Либо хозяева покинули виллу еще до нападения, либо дорогостоящую добычу перевозили отдельно. Однако на повозках нашлась груда серебряной посуды, кухонная утварь (пятьдесят один котел, двадцать пять мисок и чаш и двадцать железных ковшей), сельскохозяйственные инструменты, которых хватило бы на целую ферму, подношения богам из святилища на вилле и тридцать девять серебряных монет хорошей чеканки[408]. Если все это было награблено в ходе единственного налета, не следует недооценивать масштабы проникновения, которые оборачивались имперскими кампаниями. Тем не менее общая картина свидетельств не вызывает сомнений. Поздние римские императоры не вынуждали своих солдат пассивно дожидаться неприятностей. Периодически армии выдвигались через границу, дабы продемонстрировать варварам подавляющее военное превосходство, а затем в дело вступали дипломаты, приступавшие к урегулированию ситуации в регионе на благо империи и извлечения максимальной прибыли от похода.
Вдобавок существовал целый ряд дополнительных методов, которыми подкреплялось каждое дипломатическое урегулирование и обеспечивалась продолжительность его соблюдения. Адресные ежегодные субсидии, предназначенные для сохранения власти проримских вождей, были обычным явлением. Особо значимые группы также получали торговые привилегии. Как правило, торговля разрешалась только в нескольких пунктах пограничной зоны, но порой империя открывала границу, чтобы «подсластить» сделку. После поражения от готов-тервингов на Нижнем Дунае в начале 330-х гг. император Константин I, например, открыл для торговли всю границу с ними на Нижнем Дунае. Это было сделано для того, чтобы эти готы и их вожди обогащались на пошлинах и получили реальный повод сохранять мир[409]. Кроме того, было принято брать заложников высокого ранга, скажем, сыновей царьков и князьков, дабы обеспечить соблюдение условий мирного соглашения. Если что-то начинало идти не так, заложников могли казнить, что и случилось однажды в IV в. В целом в заложники брали обычно молодых и воспитывали их при императорском дворе, чтобы продемонстрировать потенциальным правителям римского пограничья могущество и престиж империи; считалось, что это способно удержать нынешних заложников от неразумного поведения в будущем, когда они станут вождями[410].
Применялись и менее «позитивные» меры. Если амбиции конкретного варварского вождя грозили стабильности и миру, имперские командиры не чурались похищений и убийств. Всего за двадцать четыре года, описанных в истории заката империи римского хрониста Аммиана Марцеллина (354–378), эти способы использовались не менее чем в пяти отдельных случаях[411]. Все ли способы составляли «большую стратегию» – вопрос открытый, но их применение показывает, что поздняя империя отнюдь не ограничивалась сугубой пассивной обороной. Скорее, постепенно становится очевидным, что поздняя империя превращала ближайших соседей в младших клиентов Pax Romana, используя военную силу для обеспечения соблюдения своих интересов. Источники дают понять, что каждый крупный поход заканчивался дипломатическим соглашением средней продолжительностью около двадцати-двадцати пяти лет – то есть до прихода, по сути, следующего поколения политиков. На Рейне, например, императоры-тетрархи предприняли крупное вмешательство в 290-х гг., Константин совершил поход в 310-х, и похоже, что определенная стабильность сохранялась до 350-х гг. На Среднем Дунае тетрархи воевали после 300 г., Константин затеял поход в начале 330-х, и мир сохранялся вплоть до второй половины 350-х гг. На Нижнем Дунае складывалась аналогичная ситуация: кампании тетрархов и Константина в 300-х и начале 330-х гг. соответственно, но на сей раз соглашение о мире – возможно, благодаря тем самым особым торговым привилегиям для тервингов – действовало вплоть до середины 360-х гг.[412] Разумеется, отсюда не следует, что на границе все оставалось абсолютно спокойно, но, особенно для раннего государства, с его медленными скоростями и огромными расстояниями, двадцать-двадцать пять лет мира после каждого крупного столкновения выглядят достойным результатом военных инвестиций (а вовсе не печальным итогом тщетных усилий по обеспечению безопасности границ).
Чтобы понять отношения римлян с варварами и уловить связь между римской пограничной политикой и постепенным процессом упадка империи, необходимо изучить еще один аспект имперских методик управления клиентами и обеспечения безопасности границ. В краткосрочной перспективе всякий поход с последующей дипломатической активностью ориентировался на установление сколь возможно долгой стабильности на конкретном участке границы. Если же обратиться к долгосрочной перспективе – а к IV в. эти римские методы управления границами использовались на пространстве от Рейна до Дуная уже без малого 400 лет, – указанные методы оказывали сильное трансформирующее влияние на ближайших соседей империи. Адресные субсидии и торговые преференции, подкрепленные дипломатическим вмешательством, например политической и военной поддержкой ряда варварских вождей, вели к тому, что деньги и власть сосредоточивались в руках конкретных правителей. И долгосрочный эффект подобного подхода состоял в том, что у власти среди варваров оказывались правители совершенно нового типа. Германский мир I в. представлял собой многообразие мелких социально-политических единиц. Минимум пять десятков их перечисляет Тацит в «Германии», и обитали они в Центральной Европе, по большей части между Рейном и Вислой. К IV в. это многообразие мелких единиц уступило место куда меньшему числу крупных союзов – пожалуй, их насчитывалось не более десятка. Это были, конечно, конфедеративные союзы, так что оценка степени их политической революционности должна оставаться в разумных пределах. В среднеримский период крупные конфедерации исчезали после поражений их вождей, а вот союзы IV в. могли выживать даже после разгромов. Правителями алеманнов на Верхнем Рейне были сменявшие друг друга царьки и князьки. Периодически они объединялись, избирали верховного вождя и шли воевать, особенно когда возникала перспектива расширить владения (за счет Рима или соседей). Даже после сокрушительного военного поражения, как, например, при Страсбурге в 357 г., когда был повержен верховный вождь Хнодомарий, алеманны сохраняли единство и быстро восстанавливали силы под руководством нового верховного вождя, с которым Риму приходилось в и тоге разбираться снова. Прочность крупных политических структур варваров в IV в. отличает их от предшественников[413].
Не менее важно и то, что сам характер политической власти изменился до неузнаваемости. В политику проник и закрепился в ней наследственный элемент. Среди алеманнов пост верховного вождя не являлся наследственными, не в последнюю очередь потому, что римляне охотились за носителями этого титула. Но в племенах титул, по всей вероятности, наследовался, в отличие от королевского, который у ранних германцев (не все из которых признавали королей) оставался личным и не мог передаваться потомкам. У готов-тервингов, дальше на восток, даже пост лидера союза, кажется, был наследственным, передавался в пределах одной семьи три поколения подряд[414]. И одновременно с этим развивалась новая идеология королевской власти в германском мире. К IV в. все слова, обозначавшие рекса, или «короля», так или иначе подразумевали военное командование. А вот в начале римского периода, напротив, военное руководство часто отделялось от управления племенем[415].
Именно усиление значимости военного командования лежало в основе новой, наследственной королевской власти; об этом свидетельствуют источники, подчеркивающие важность военных дружин в конце римского периода. К IV в. короли обладали личной военной поддержкой, причем на профессиональной основе. Аммиан Марцеллин отмечал, что Хнодомарий имел при себе отряд из 200 человек, и археологические раскопки кургана Эйсбюль обнаружили останки около 200 мужчин, захороненных с оружием. Подобные профессиональные вооруженные силы были новинкой для германского мира, и рексы использовали их не только для войны, но и чтобы принуждать к чему-либо своих подданных[416].
Не приходится сомневаться, что эта коренная трансформация политической власти отчасти отражала давнее и глубокое проникновение имперских денег, поступавших из Рима некоторым местным царькам и рексам ближайших соседей на протяжении столетий. Мало того, что это новое богатство развращало германской мир; чтобы получить эти средства, нужно было постараться. Отсюда непрерывная борьба за власть внутри германской политической элиты, последствия которой проявились, в том числе, в обилии свидетельств о распрях в германском мире III в. и позднее. В эту эпоху ритуальные захоронения с оружием, как в Эйсбюле, вдруг сделались достаточно распространенным явлением, а дальние германские племена двинулись к римской границе, притязая на богатства Рима[417].
Другие преобразования, конечно, также играли существенную роль в этой «революции». Ранние века нашей эры ознаменовались внедрением новых способов сельского хозяйства в германской Центральной Европе, что вызвало значительное увеличение производства продуктов питания и, следовательно, рост населения. В целом могущество германского мира, по крайней мере с демографической точки зрения, явно увеличилось по сравнению с ее имперским соседом; новые рексы предположительно использовали часть этих излишков провизии на поддержку своих дружин. Опять-таки, римские экономические потребности и распространение римских технологий, как представляется, были немаловажными для этой сельскохозяйственной революции и для последующего расширения экономики в некоторых областях производства и торговли[418]. Вполне вероятно, что и в целом агрессивное, чтобы не сказать унижающее, римское отношение даже к наиболее проримским клиентам – среди них, по «моде», заведенной сарматским вождем Зизием при дворе Констанция II, было принято пресмыкаться и даже горестно стонать, вымаливая новые и новые привилегии[419], – также подстегивало стремление нового класса наследственных правителей усиливать контроль над владениями. Если данный сценарий покажется надуманным, вспомните, что частично римская пограничная политика заключалась в сжигании местных деревень раз в поколение и что некоторые царьки-заложники возвращались из Рима не слишком очарованными римским образом жизни[420]. Для мелких вождей плюсы от уплаты «налога» на содержание военной дружины нового рекса, несомненно, состояли в том, что тем самым они вступали в мощную конфедерацию нового типа, способную противостоять прежде непобедимым римлянам. Если коротко, различные виды отношений – позитивные и негативные, политические и экономические, дипломатические и военные, естественно возникавшие между империей и ее изначально гораздо менее развитыми соседями, – ускоряли трансформационные процессы, что обратили множество мелких социополитических единиц на имперской периферии в I в. в гораздо меньшее число крупных образований IV в. А преобразующую силу этим отношениям придало то обстоятельство, что все они порождали различные отклики среди германцев. Дело не просто в том, что имперский Рим трансформировал германское общество – хотя это, безусловно, верно, – но и в том, что отдельные элементы германского общества в полной мере воспользовались возможностями, которые проистекали из новых взаимоотношений с империей, для создания новых и динамичных политических структур. К середине IV в. общие масштабы этих преобразований еще не достигли, очевидно, опасного предела. Ни одна из новых единиц не представляла собой угрозу целостности империи. В лучшем случае даже наиболее амбициозные варварские рексы IV в. могли рассчитывать лишь на весьма ограниченные территориальные уступки или, чаще, на ограничение римского вмешательства и на ослабление экономического и дипломатического гнета. Хнодомарий в 350-х гг. претендовал на полосу римской территории вдоль Рейна протяженностью около 50 километров, а верховные правители тервингов пытались снизить число рекрутов в имперскую армию и не допустить в свои земли миссионеров из обратившейся в христианство империи. Ни одна из этих угроз не могла рассматриваться как значимая для выживания империи[421]. В самом деле, меньшее число дипломатических партнеров, возможно, упрощало применение римских методов управления границами, поскольку сократилось количество конкурирующих политических единиц, которых требовалось ублажать. Но там, где новый порядок, который сам Рим создавал на своих европейских границах, превращался в проблему, следовало искать внешнюю силу, вынужденно вступившую в союз с той или иной новой крупной германской социально-политической единицей.
В конце IV и в начале V вв. гунны, племена евразийских кочевников, привлеченные, вероятно, слухами о богатствах клиентов Рима вдоль границы империи, радикально изменили общую стратегическую ситуацию у европейских рубежей Рима. Двумя волнами, разделенными целым поколением, они сперва установили свое господство к северу от Черного моря в 370-х гг., а затем ворвались на Великую Венгерскую равнину в сердце Европы около 410 г. Первым следствием каждой из этих волн крупномасштабной миграции было бегство германских племенных союзов, обитавших в приграничье, на имперскую территорию. Подобное переселение подробно описано в истории вторжения гуннов в Северное Причерноморье, которое заставило два крупных племенных союза готов, тервингов и грейтунгов, а также ряд мелких племен пересечь нижнее течение Дуная. Второй волне гуннов, вторжению на Великую Венгерскую равнину, предшествовал еще один исход римских клиентов из этого региона: речь снова о готах, которые, во главе с неким Радагасием, двинулись в Италию; большая коалиция из двух отдельных групп вандалов вместе с аланами и свевами пересекла Рейн, а следом за ними перешли реку и имперскую границу бургунды. Источники не утверждают, что именно гунны вызвали этот исход. Однако гунны заняли освободившиеся территории, стоило мигрантам уйти, и наиболее вероятным объяснением этого беспрецедентного демографического катаклизма является повторение сценария 370-х гг., но на сей раз на Нижнем Дунае и на Верхнем Рейне, ибо гунны двигались на запад[422]. В итоге, гунны невольно сплотили десятки тысяч варваров, что вряд ли произошло бы когда-нибудь по доброй воле. И одновременный переход границы политически самостоятельными варварскими группировками помешал Риму их уничтожить; в противном случае, появляйся варвары по отдельности, их бы наверняка разгромили[423].
Масштабы стратегической катастрофы усугублялись, с римской точки зрения, тем фактом, что попытки империи отразить нашествие оборачивались укреплением сплоченности мигрантов. Как результат, из полудюжины отдельных союзов, вступивших в пределы империи в 376–380 и 405–408 гг., возникли два более крупных. Вестготы, со временем осевшие в южной Галлии в 418 г., объединяли тервингов и грейтунгов, принявших к себе и готов, что бежали от нашествия Радагасия на Италию. Силы вандалов, в конце концов захватившие экономически важные земли Северной Африки, житницы Западной империи, в 430-х гг. (после длительной «интерлюдии» в Испании) также сложились из обеих «исконных» групп вандалов и аланов, первоначально превосходивших их числом[424]. Важно, что эти дальнейшие политические конфигурации создавали союзы, достаточно крупные, чтобы противостоять даже регулярной римской армии. И потому эти новые группы смогли закрепиться на римских территориях, не в последнюю очередь благодаря гуннам: те подчинили себе оставшиеся германские племенные союзы на границе и начали тревожить Рим, а это означало, что империя не могла бросить крупные силы против недавних – уже обустроившихся – врагов[425]. Пусть гуннское владычество оказалось мимолетным, его коллапс лишь усилил озабоченность имперских властей, так как он привел на римские земли новые германские союзы, не уступавшие численностью вестготам и вандалам; прежде всего это бургунды и остготы.
Общая угроза выживанию империи со стороны этих непокорных иммигрантов была очевидной. Римское государство финансировало свою армию и иные виды государственной деятельности преимущественно за счет земельного налога на сельскохозяйственное производство. Когда варварские коалиции осели на римских территориях и их не удалось изгнать, налоговая база существенно сократилась, поскольку варвары подчинили себе целые провинции. Вестготы, например, первоначально расселились в южной Галлии (как и бургунды), причем с согласия империи, а вандалы захватили богатейшие провинции Северной Африки силой. Захваченные области, разумеется, перестали платить подати в имперскую казну. В то же время имперское согласие на основание новых поселений всегда истребовалось мечом, а это означало, что земли, остававшиеся во владении империи, страдали от набегов и разорения, следовательно, и поток доходов от них значительно снижался. Императоры обычно даровали разоренным территориям налоговые льготы. В общем, варвары-захватчики очень быстро спровоцировали упадок власти в Западной империи. Утрата земель и доходов подрывала способность государства поддерживать вооруженные силы и, как следствие, способность сопротивляться новым нашествиям варваров, будь то осевших на римской почве или приходящих извне. Даже вестготы, бывшие союзники империи, поспешили воспользоваться возможностью и расширить свои владения, в частности при вожде Эйрихе, который начал завоевательные войны после 468 г.; в итоге большая часть Испании и Галлии оказалась под властью готов. По мере усугубления ситуации римляне и варвары постепенно осознавали, что империя перестала быть основным игроком в политике Западной Европы; и не случайно, что финальный акт распада империи, низложение последнего западного императора Ромула Августула, случился, когда не осталось средств на выплату жалования армии в Италии[426].
Актуальность этой истории для современного мира связана прежде всего с крушением империй. Развитой западный мир имеет выраженную склонность воспринимать стратегические проблемы с позиции собственной политики – что было или не было сделано, что можно сделать в будущем, – как если бы иные стороны никак не задействованы в развитии событий. Подобного рода восприятие было свойственно и традиционной римской картине мира, которая в значительной степени сосредоточивалась на обсуждении, достаточно ли мудра пограничная стратегия, чтобы отразить любую внешнюю угрозу. Однако развитие форм политической, социальной и экономической организации в Центральной Европе римского периода подчеркивает, что не менее важно обращать внимание на действия так называемых варваров. Очень часто историки, обычно следуя римским источникам, рассуждают об имперских рубежах с точки зрения того, что Рим, в какой-то момент, лишился магии стратегических расчетов; тогда как в действительности, с учетом сложившихся условий, судьба империи зависела от того, что происходило по другую сторону границ. Рим находился в центре средиземноморской империи, которая использовала местные ресурсы для господства над значительной частью северной Европы. Главная причина падения империи и того обстоятельства, что средиземноморское государство больше никогда не доминировало в истории западного мира, заключается в следующем: I тысячелетие ознаменовало собой ключевую веху в развитии Европы в целом. Новые методы сельского хозяйства вызвали рост населения, что в свою очередь привело к появлению более сложных политических структур. Итогом же стал фундаментальный сдвиг в стратегическом балансе сил, означавший, что средиземноморские ресурсы больше не обеспечивают европейского господства. Гуннское вторжение, возможно, определило точные способ и дату гибели империи, но о именно развитие варварской Европы предрекло империи неизбежный и окончательный крах.
Пожалуй, еще более важно, что эта история говорит о динамичном развитии, когда изначально менее развитая экономика и политическая структура вступают в контакт на целом ряде уровней с крупной и передовой империей. Большую часть преобразований, породивших крупные и мощные социально-экономические и политические структуры на периферии римского мира в первой половине I тысячелетия нашей эры, можно охарактеризовать как прямое следствие беспрецедентных контактов между варварами и имперской Европой: контактов военных, экономических, политических и культурных. Опять-таки, речь не о том, как империя «просвещала», но о том, как варвары реагировали, сколь решительно они использовали возможности, которые открывала имперская политика. В самом деле, развитие германского мира является всего одним примером более общего явления. В ответ как на позитивные возможности, предоставляемые подобными контактами, так и на негативный фактор агрессивной эксплуатации со стороны империи по отношению к изначально более слабым соседям, такие сообщества часто демонстрируют стремление усваивать новое и реорганизовать себя, чтобы устранить исходное неравенство в балансе сил. Почти аналогичные закономерности развития, например, обнаруживаются среди славянских обществ на окраинах франкской имперской Европы во второй половине тысячелетия[427]. И эта картина будет схожей для более современных контекстов, когда экономическое, политическое и даже военное господство развитых стран Запада, очевидное всему миру в XX веке, стремительно исчезает под натиском внешних политических структур, современных варваров, если угодно; раньше Запад их эксплуатировал, но они в полной мере воспользовались возможностями реорганизоваться.
Все эти примеры подсказывают, что существует своего рода третий закон Ньютона для империй. Степень имперского политического господства и экономической эксплуатации в долгосрочной перспективе стимулирует череду реакций, которые превращают изначально более слабых соседей в общества, гораздо лучше приспособленных к противостоянию или даже к уничтожению агрессивного империализма, который сам порождает эти реакции.
Дополнительная литература
Самой важной работой по римской обороне границ остается труд Эдварда Н. Луттвака «Большая стратегия Римской империи с первого по третий век нашей эры» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976). Луттвак не историк античности, а стратег-аналитик, который распространяет свой опыт на археологические свидетельства о римских пограничных фортификациях и перемещениях войск. Его убедительный анализ показывает, что империя сознательно перешла от нападения к эшелонированной обороне в конце II в., и задает перспективу для всех последующих работ, даже если его выводы ныне не кажутся бесспорными. Также отметим следующие три работы: Дж. Манн «Власть, сила и границы империи» // Journal of Roman Studies, 69, 1979; Ч. Р. Уиттакер «Границы Римской империи: социально-экономическое исследование» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994); Б. Айзек «Границы империи: римская армия на Востоке» (Oxford: Oxford University Press, 1993). Все они предполагают, что внутренние политические проблемы зачастую мешают проведению действительно рациональной внешней политики и что различные ограничения императорской власти делали крайне маловероятной ту стратегическую панораму, которую защищал Луттвак.
См. также: Л. Хедигер «Эволюция германского общества, 1-400 гг. н. э.» // «Документы первого тысячелетия: Западная Европа в I тысячелетии», B. A. R. International Series, 401; и Морин Кэрролл «Римляне, кельты и германцы: германские провинции Рима» (Stroud, UK, 2001). Эти работы показывают, в какой степени мир за пределами Рима был преобразован под влиянием устойчивого экономического взаимодействия с империей. Мои собственные исследования, в частности «Позднеримское искусство управления клиентами и споры о Большой стратегии» («Границы от поздней античности до Каролингов: Материалы второй пленарной конференции Европейского научного фонда», 15–68, Leiden: Brill, 2000), опираются на исторические факты (мало изученные Луттваком) и демонстрируют, что Рим на самом деле не переходил к оборонительной стратегии, но римская военная и дипломатическая активность, плюс экономические контакты, сыграла важную роль в создании более крупных и «продвинутых» политических структур в варварских сообществах. О невозможности доминирования средиземноморского государства см. мою книгу «Империи и варвары: миграция, развитие и создание Европы» (London: Macmillan, 2009).
Благодарности
Хочу поблагодарить моих коллег за их профессионализм и мастерство в подготовке этой книги, а также за общее стремление сделать древний мир более близким и понятным нашим современникам. Роберт Темпио, редактор Princeton University Press, первым предложил мне подготовить «предысторию» «Творцов современной стратегии» и в значительной степени причастен к разработке концепции книги. Дебора Тегарден выполнила изумительную редактуру. Моя помощница Дженнифер Хайне участвовала в редактировании и финальной вычитке текста.
Наконец хочу выразить признательность Биллу и Нэнси Майерс и их детям, Мэри Майерс Кауппила и Джорджу Майерс, за финансовую поддержку при подготовке этой книги. Они спонсируют гуманитарный Институт Гувера при Стэнфордском университете и всегда тяготели к исследованию античности, особенно применительно к современной истории.
Виктор Дэвис Хэнсон
Институт Гувера
Стэнфорд, Калифорния Ноябрь 2009 г.
Об авторах
Виктор Д. Хэнсон
Старший преподаватель классической и военной истории в Институте Гувера при Стэнфордском университете, почетный профессор классической истории в Калифорнийском государственном университете (Фресно), почетный профессор истории в колледже Хиллсдейл, где ведет семинары по военной истории и классической культуре, автор свыше 30 работ по классической истории.
Дэвид Л. Берки
Младший профессор факультета истории Калифорнийского государственного университета (Фресно), защитил докторскую диссертацию по древней истории в Йельском университете (2001).
Адриан Голдсуорти
Выпускник колледжа Св. Иоанна (Оксфорд), приглашенный профессор в университете Ньюкасла, защитил докторскую диссертацию по истории римской армии, работал в Кардифском университете и университете Нотр-Дам (Лондон), профессиональный писатель.
Дональд Каган
Профессор классической филологии и истории в Йельском университете, преподавал в Корнеллском университете, лауреат Национальной гуманитарной премии 2002 года, автор 4-томной истории Пелопоннесской войны.
Джон У. Ли
Приглашенный профессор истории в Калифорнийском университете (Санта-Барбара), защитил диссертацию по истории в Корнеллском университете, автор ряда исследований по древнегреческому военному искусству.
Сьюзен Маттерн
Профессор истории в университете Джорджии, автор ряда книг по истории Древнего Рима, в том числе биографии Клавдия Галена.
Барри Стросс
Профессор классической филологии и истории, декан исторического факультета Корнеллского университета, директор программы «Свобода и свободное общество», автор ряда исследований по античным войнам, лауреат нескольких профессиональных призов.
Ян Уортингтон
Профессор истории в Университете Миссури, десять лет преподавал историю в университете Новой Англии и университете Тасмании (Австралия), автор ряда исследований по истории древней Македонии.
Питер Дж. Хизер
Профессор средневековой европейской истории в Королевском колледже (Лондон), выпускник Нью-Колледжа (Оксфорд), окончил докторантуру Оксфордского университета, преподавал в Йельском университете и в колледже Вустер (Оксфорд).
Том Холланд
Автор популярных исторических исследований «Рубикон: триумф и трагедия Римской республики», «Персидский огонь: первая мировая империя и битва за Запад» и «Наковальня христианства: конец света и эпическое возвышение Европы». Адаптировал для Би-би-си тексты Гомера, Геродота, Фукидида и Вергилия, лауреат премии Классической ассоциации (2007) «за заслуги в популяризации языка, литературы и цивилизации древнего мира».
Античные источники в русских переводах
Перечисляются только источники, которые цитируются или упоминаются в сборнике.
Scriptores Historiae Augustae. Властелины Рима: Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. / Пер. С. Н. Кондратьева под ред. А. И. Доватура [1957–1960], Д. Е. Афиногенова [1992]. Комм. О. Д. Никитинского, А. И. Любжина. М.: Наука. 1992.
Авл Геллий. Аттические ночи. / Под общ. ред. А. Я. Тыжова, А. П. Бехтер. (Серия «Bibliotheca classica»). СПб.: Гуманитарная Академия, 2007–2008.
Аммиан Марцеллин. Римская история. / Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни под ред. Л. Ю. Лукомского. (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). СПб.: Алетейя. 1994.
Анакреон. Первое полное собрание его сочинений в переводах русских писателей. СПб, 1896.
Андокид. Речи, или История святотатцев. (С приложением параллельных свидетельств о процессе разрушителей герм в Афинах в 415 г. до н. э.) / Пер. Э. Д. Фролова. (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). СПб.: Алетейя, 1996.
Аноним Валезия. Извлечения / пер. В. М. Тюленева // Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты). Сборник научных трудов памяти Клавдии Дмитриевны Авдеевой. Иваново: Ивановский государственный университет, 2000.
Аппиан. Римская история. / Пер. С. П. Кондратьева (кн. 1-12 [1939–1950]), С. А. Жебелева (кн. 13), С. И. Ковалева (кн. 14, гл. 1-48), М. С. Альтмана (кн. 14, гл. 49-139), О. О. Крюгера (кн. 14, гл. 140 – кн. 15, гл. 78), Е. Г. Кагарова (кн. 15, гл. 79 – кн. 16, гл. 90), Т. Н. Книпович (кн. 16, гл. 91 – кн. 17, гл. 52), А. И. Тюменева (кн. 17, гл. 53-145), под ред. (кн. 13–17 [1935]) С. А. Жебелева и О. О. Крюгера, сверенный [в 1998 г.] Е. С. Голубцовой и Л. Л. Кофановым. Статья И. Л. Маяк. Комм. Е. М. Штаерман, Т.Д. Златковской, А. С. Балахванцева. (Серия «Памятники исторической мысли»). М.: Наука. 1998.
Аристотель. Политика. Афинская полития. / Перевод С. И. Радцига. (Серия «Из классического наследия»). М.: Мысль, 1997.
Арриан Луций Флавий. Поход Александра. / Пер. М. Е. Сергеенко. Вступ. ст.о. О. Крюгера. М. – Л.: Изд-во АН, 1962.
Арриан Луций Флавий. Тактическое искусство. / Пер., комм., вступ. ст. А. К. Нефедкина. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2010
Афиней. Пир мудрецов: В 15 кн. / Перевод Н. Т. Голинкевича. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 2003–2010.
Библия. Ветхий и Новый Завет. Синодальный перевод. // /.
Бехистунская надпись. / Перевод М. А. Дандамаева. // Рак И. В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб., Москва: Журнал «Нева» – Летний Сад, 1998.
Геродот. История. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Статья В. Г. Боруховича. (Серия «Памятники исторической мысли»). Л.: Наука, 1972.
Демосфен. Речи. В 3 т. / Отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. (Серия «Памятники исторической мысли»). М.: Наука, 1994–1996.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1979.
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Ч. 1–6. / Перевод И. А. Алексеева. СПб, 1774–1775.
Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV–LXXX / Перевод с древнегреч. А В. Махлаюка, К. В. Маркова, Н. Ю. Сивкиной, С. К. Сизова, В. М. Строгецкого под ред. А. В. Махлаюка; комм. А. В. Махлаюка. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 2011.
Кассий Дион Коккейан. Дион Кассий о германцах. // Древние германцы: Сборник документов. М., 1937.
Исократ. Речи. Письма. / Пер. Ю. В. Андреева, В. Г. Боруховича, М. Н. Ботвинника, Л. М. Глускиной, А. И. Зайцева, Н. Н. Залесского, К. М. Колобовой, Е. А. Миллиор, Т. В. Прушакевич, Э. Д. Фролова, И. А. Шишовой. // Вестник древней истории. 1965, № 3-1969, № 2.
Катулл Гай Валерий Веронский. Книга стихотворений. / Пер. С. В. Шервинского, статья и примеч. М. Л. Гаспарова. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1986.
Клавдиан Клавдий. Полное собрание латинских сочинений / Пер., вступ. ст., коммент. и указ. Р. Л. Шмаракова. СПб.: Издательство СПбГУ, 2008.
Ксенофонт. Анабасис. / Пер., ст. и примеч. М. И. Максимовой. Под ред. акад. И. И. Толстого. (Серия «Литературные памятники»). М. – Л.: Издательство АН, 1951
Ксенофонт. Греческая история. / Пер., вступ. ст. и комм. С. Я. Лурье. Л.: Соцэкгиз, 1935.
Ксенофонт. Киропедия (включая «Агесилай»). / Пер., ст. и прим. В. Г. Боруховича и Э. Д. Фролова. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука. 1976.
Ликург. Речь против Леократа. Фрагменты. / Пер. Т. В. Прушакевич. // Вестник древней истории. 1962, № 2.
Лисий. Речи. / Пер., ст. и комм. С. И. Соболевского. М. – Л.: Academia, 1933.
Оксиринхская греческая история // Зельин К. К. Из области греческой историографии IV в. до н. э.// Вестник древней истории. 1960. № 1.
Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. / Пер. С. П. Кондратьева. М.: Искусство. 1938–1940.
Платон. Законы. / Перевод А. Н. Егунова. М.: Мысль, 1999.
Платон. Горгий. / Перевод С. П. Маркиша. // Платон. Сочинения в 4-х томах. М.: Мысль, 1990. Т. 1.
Плиний Младший. Письма Плиния Младшего: Книги I–X. Издание подготовили М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. Отв. ред. А. И. Доватур. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1982.
Плиний Старший. Плиний Старший о германцах. // Древние германцы: Сборник текстов. М., 1937.
Плиний Старший. Естественная история. Книга IV. О странах Европы. / Пер. и комм. Б. А. Старостина. // Вопросы истории естествознания и техники. М., 2007. № 3
Плутарх. Застольные беседы. / Пер. и прим. Я. М. Боровского, М. Н. Ботвинника, Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, прим. И. И. Ковалевой, О. Л. Левинской. Ст. Я. М. Боровского. Отв. ред. Я. М. Боровский, М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятники»). Л.: Наука. 1990.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. / Изд. подг. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, С. П. Маркиш. Отв. ред. С. С. Аверинцев. (Серия «Литературные памятники»). М. – Л.: Издательство АН СССР, 1961–1964.
Полибий. Всеобщая история. / Пер., вступ. ст. и прим. Ф. Г. Мищенко. СПб., 1890–1899.
Полиэн. Стратегемы. / Пер. О. Ю. Владимирской (кн. I), группы под ред. А. Б. Егорова (кн. II), Л. Д. Бондарь (кн. III), М. М. Холода и Т. В. Антонова (кн. IV), И. В. Косинцевой (кн. V и VII), А. Б. Егорова (кн. VI и VIII). Под общ. ред. А. К. Нефедкина. СПб.: Евразия, 2002.
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития. / Пер. С. И. Радцига. // Античная демократия в свидетельствах современников. М.: Флинта, 1996
Руф Квинт Курций. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. / Отв. ред. А. А. Вигасин, сверка перевода О. В. Смыки, комм. А. В. Стрелкова, С В. Новикова, А. А. Вигасина. М.: Издательство МГУ, 1993.
Саллюстий Гай Крисп. Сочинения. / Пер., ст. и комм. В. О. Горенштейна. Отв. ред. Е. М. Штаерман. (Серия «Памятники исторической мысли»). М.: Наука. 1981.
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. О знаменитых людях (фрагменты). / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова, статья Е. М. Штаерман. Отв. ред. С. Л. Утченко. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1964.
Страбон. География / пер. с др. – греч. Г. А. Стратановского под ред. О. О. Крюгера, общ. ред. С. Л. Утченко. М.: Ладомир 1994.
Тацит Корнелий Публий. Сочинения. В 2 т. (Серия «Литературные памятники»). Л.: Наука. 1969.
Тиртей. Фрагменты. // Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. М., Ладомир, 1999.
Флавий Иосиф. Иудейская война. / Перевод Я. Л. Чертка. СПб., 1900.
Фокилид. Фрагменты. // Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. М., Ладомир, 1999.
Фукидид. История. / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского. Отв. ред. Я. М. Боровский. (Серия «Литературные памятники»). Л.: Наука, 1981.
Цезарь Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер. М. М. Покровского. (Серия «Литературные памятники»). М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
Цицерон Марк Туллий. Письма Марка Туллия Цицерона. / Пер. В. О. Горенштейна. В 3 т. (Серия «Литературные памятники»). М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
Цицерон Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Пер. В. О. Горенштейна. Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. (Серия «Литературные памятники»). М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1962.
Цицерон Марк Туллий. Тускуланские беседы. / Пер. М. Л. Гаспарова. // Избранные сочинения. / Сост. и ред. М. Л. Гаспарова, С. А. Ошерова, В. М. Смирина. Вступ. ст. Г. С. Кнабе. (Серия «Библиотека античной литературы. Рим»). М.: Худож. лит., 1975.
Эней Тактик. О перенесении осад. / Пер., ст. и прим. В. Ф. Беляева. // Вестник древней истории. 1965. № 1–2.
Эсхил. Трагедии. / Пер. А. И. Пиотровского. М. – Л.: Academia, 1937.
Юстин Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiarum Philippicarum». / Пер. А. А. Деконского и М. И. Рижского. Статья К. К. Зельина. // Вестник древней истории. 1954, № 2–4, 1955, № 1.
Примечания
1
Хроника Набонида, кол. II, 15. Сам Кир вошел в Вавилон две с половиной недели спустя.
(обратно)2
Иер. 28:14.
(обратно)3
Иез. 32:23.
(обратно)4
Манифест Кира, 20. Титулы персидских царей нельзя назвать оригинальными, они были позаимствованы из титулатуры других ближневосточных царств, включая Вавилон.
(обратно)5
Эсхил, «Персы», 104-5.
(обратно)6
Манифест Кира, 16.
(обратно)7
Геродот, 1-214.
(обратно)8
Ис. 45:1–3.
(обратно)9
Гераклит, которого цитирует Диоген Лаэртский в «Жизни и учениях знаменитых философов», 1.21.
(обратно)10
Краткое введение в источники, на основании которых реконструированы события 522 г., а также сами тексты см. в главе «От Камбиза до Дария» в сборнике Амели Курт.
(обратно)11
Бехистунская надпись, 63.
(обратно)12
Предполагаемая дата.
(обратно)13
Фокилид, фраг. 4. Несмотря на ассирийский «град Нина», стихотворение почти наверняка подразумевает расширение пределов персидской власти.
(обратно)14
Тиртей, 7:31–32.
(обратно)15
См. Тим Бланнинг «В поисках славы: Европа в 1648–1815 гг.» (New York: Viking, 2007).
(обратно)16
Геродот, 6,116.
(обратно)17
Геродот, 8.24.
(обратно)18
Геродот, 9,62.
(обратно)19
Ликург. «Против Леократа», 81.
(обратно)20
Фукидид 1, 97.
(обратно)21
Фукидид 3, 10.
(обратно)22
Фукидид 1, 99.
(обратно)23
Цит. по: Строгецкий В. М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н. э. (478–431 гг.) СПб.: Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2008.
(обратно)24
Фукидид 5, 105.
(обратно)25
Фокилид, фраг. 5.
(обратно)26
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития, 2, 7–8. Эта работа ложно приписывалась историку Ксенофонту, настоящий автор неизвестен. Его обычно называют «Старым олигархом», подчеркивая антидемократический тон сочинения, но мы не знаем ни даты, ни цели этой книги. Сегодня по стилистическим характеристикам текста сочинение датируется приблизительно 420-ми гг. до н. э.
(обратно)27
Цит. по: Афиней. Пир мудрецов, 1, 27e-28а. Перевод Н. Т. Голинкевич.
(обратно)28
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития, 1, 18.
(обратно)29
Диодор Сицилийский. История, 12, 4–6. Перевод В. С. Соколова.
(обратно)30
Рафаэль Сили. «Перикл вступает в историю». Гермес, 84, 1956: 247.
(обратно)31
Эдуард Мейер. Forschungen Zur Alten Geschichte, вып. 2 (Halle: Max Niemeyer, 1899), 19–20.
(обратно)32
Плутарх. Перикл, 17, 1.
(обратно)33
Некоторые ученые сомневаются в подлинности постановления собрания. Обсуждение проблемы см. у Рассела Мейггса. Плутарх не приводит дату указа, но последовательность действий, изложенная здесь, соответствует таковой в истории.
(обратно)34
Плутарх. Перикл, 12, 2.
(обратно)35
Плутарх. Перикл, 12, 3–4.
(обратно)36
Фукидид, 1, 72.
(обратно)37
Фукидид, 1, 75.
(обратно)38
Фукидид, 1, 76.
(обратно)39
Фукидид, 2, 63.
(обратно)40
Фукидид, 2, 38.
(обратно)41
Фукидид, 2, 43.
(обратно)42
Фукидид, 2, 64.
(обратно)43
Псевдо-Ксенофонт, 1, 2–3.
(обратно)44
Псевдо-Ксенофонт, 2, 4–6, 11–13.
(обратно)45
Фукидид, 1, 4-19.
(обратно)46
Фукидид, 1, 143.
(обратно)47
Фукидид, 2, 62.
(обратно)48
Фукидид, 1, 143.
(обратно)49
Фукидид, 1, 143.
(обратно)50
Фукидид, 6, 18.
(обратно)51
Фукидид, 6, 18.
(обратно)52
Фукидид, 1, 70.
(обратно)53
Р. Э. Уичерли в «Камнях Афин» пишет:
«История афинских стен есть история расширения и сжимания города в последовательных фазах роста и спада, в победах, стихийных бедствиях и реконструкциях. Они являлись доминантой города в дни его славы, требовали колоссальных усилий и ресурсов афинского демоса, служили символом могущества Афин и ярким примером греческой военной архитектуры; ремонты и реконструкции, конечно, проводились снова и снова на протяжении шестнадцати столетий, с переменным успехом, и стены восставали вновь после периодов разрушения и небрежения».
Вне афинского контекста – возможно, это события, о которых упоминает Геродот (1,168) – Анакреон отмечал: «Города стены – венец его; ныне они погибли». Схолиаст к Пиндару (Олимпийские оды 8, 42c) цитирует эту строку Анакреона, прибавляя, что «стены города, как венец». Герман Хансен в работе «Полис: введение в древнегреческий город-государство» (Oxford: Oxford University Press, 2006) описывает общее назначение стен греческого полиса:
«В отличие от Средних веков, в древнегреческом полисе городские стены служили только военным целям, пошлины за пропуск в город через ворота не взимались. Во время войны, конечно, стены и ворота охранялись, а в мирное время можно было спокойно пройти через ворота при свете дня. Ворота закрывались, вероятно, на ночь, но не охранялись, и люди могли въезжать и выезжать из города. Стены воспринимались не как барьер между городом и деревней, а как памятник, которым гордились граждане».
(обратно)54
До вторжения персов афинский Акрополь охраняли пеласгийские стены. В дополнение к ним, по предположениям некоторых ученых, город был обнесен наружной стеной. Уичерли в «Камнях Афин» обращает внимание на спор о существовании доперсидской стены. Древние свидетельства относительно этой стены неоднозначны, археологические свидетельства отсутствуют. Тем не менее Э. Вандерпул в статье «Датировка доперсидского города: стены Афин» (Сборник в честь Бенджамина Д. Меритта, под ред. Д. У. Брэдина и М. Ф. Макгрегора, Locust Valley, NY: J. J. Augustine, 1974) делает вывод о наличии в Афинах доперсидской городской стены приблизительно после 566 г. до н. э.
(обратно)55
Надпись с этим указом имеет более позднюю датировку и тем самым ставит его подлинность под сомнение. См. также Геродот 8, 41 и Демосфен 19, 303.
(обратно)56
Геродот 8. 50.
(обратно)57
Геродот 8, 51.
(обратно)58
См. Геродот 7, 141.
(обратно)59
Обсуждение подготовки Фемистокла к персидскому вторжению и последующей эвакуации Аттики см. у Барри Стросса «Битва при Саламине: морское сражение, которое спасло Грецию и западную цивилизацию» (NY: Simon & Schuster, 2004).
(обратно)60
Геродот 8, 53.
(обратно)61
Геродот 9, 9. Цитата из 9, 13.
(обратно)62
Джон M. Кэмп «Археология Афин».
(обратно)63
Фукидид 1, 89.
(обратно)64
В этой связи любопытно сравнить строительство стены в Афинах со строительством Башни Свободы в Нью-Йорке. Ср. комментарии Н. Урусоффа, архитектурного критика «Нью-Йорк таймс»: «Башня внушает тревогу, а не тешит амбиции» (19 февраля 2007 г.) и «Средневековая современность: оборонительный дизайн» (4 марта 2007 г.):
«Через четыре года после американского вторжения в Ирак это осадное положение начинает выглядеть все более и более перманентным, выраженным в архитектурном стиле, который мы могли бы назвать средневековьем XXI века. Как и их коллег XIII–XV вв., современных архитекторов в настоящее время привлекают к созданию не только основных городских сооружений, но и к разработке линий гражданской обороны, причем требуют соблюдения эстетических условностей, например элегантных скульптурных барьеров вокруг общественной площади или декоративной облицовки для громоздких защитных бетонных стен… Самый пугающий пример нового средневековья – Башня Свободы в Нью-Йорке, некогда превозносимая как символ просвещения. Проект Дэвида Чайлдса из „Скидмор, Оуингс и Меррилл“, он опирается на 20-этажное бетонное основание без окон, оформленное призматическими стеклянными панелями в гротескной попытке замаскировать паранойю архитектора. И мрачная, обелископодобная башня над ним, скорее, олицетворяет американское высокомерие, чем свободу».
(обратно)65
Диодор 11, 29.
(обратно)66
См.: Рунг Э. В. Греция и Ахеменидская держава: история дипломатических отношений в VI–IV вв. до н. э. СПб.: Нестор-История, 2008. Перевод Э. В. Рунга. См. также фрагмент «Греческой истории» Феопомпа, 115 F153. Рассел Мейггс в «Афинской империи» (Oxford: Oxford University Press, 1972) признает клятву подлинной, тогда как П. Дж. Роудс сомневается относительно подлинности фразы насчет храмов.
(обратно)67
Дж. М. Хурвит «Афинский Акрополь: история, мифология и археология от эпохи неолита до наших дней» (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
Археологические свидетельства персидского разграбления Афин и агоры в частности представлены в работе в Т. Лесли Шира «Персидское разрушение Афин» (Hesperia, 62, 1993). См. также статью Гомера Э. Томпсона «Афины встречают беду» (Hesperia, 50, 1981). Он пишет: «Подводя итоги: победа в персидских войнах безусловно сподвигла афинян на некоторые из их величайших достижений в искусстве, литературе и международных делах. Но данные раскопок напоминают, что разграбление 480/79 гг. до н. э. привело к длительному нарушению повседневной, гражданской и религиозной жизни города».
(обратно)68
С. Хорнблауэр в своих комментариях к Фукидиду (Oxford: Clarendon Press, 1992) цитирует статью Р. Э. Макнила «Исторический метод и Фукидид», в частности, рассуждение о значимости крепостных стен для Фукидида. Макнил пишет: «В комплексной теории власти Фукидида флот обеспечивает торговлю, торговля приносит доходы, доходы пополняют казну, казна означает стабильность и наличие стен, а стены сулят политическое господство над слабыми государствами. Для Фукидида стены суть высший символ власти».
Автор «Афинской политии» признает заслуги Фемистокла и Аристида в возведении афинских стен: «Простатами народа в эту пору были Аристид, сын Лисимаха, и Фемистокл, сын Неокла. Последний считался искусным в военных делах, первый – в гражданских; притом Аристид, по общему мнению, отличался еще между своими современниками справедливостью. Поэтому и обращались к одному как к полководцу, к другому – как к советнику. Возведением стен они распоряжались совместно, хотя и не ладили между собой; что же касается отпадения ионян от союза с лакедемонянами, то их побудил к этому Аристид, улучив момент, когда лаконцы навлекли на себя ненависть из-за Павсания. Поэтому именно он установил для государств размер первоначальных взносов на третий год после морского сражения при Саламине, при архонте Тимосфене, и принес присягу ионянам в том, что у них должны быть общими враги и друзья, и в знак этого бросил в море куски металла».
Обсуждение этого отрывка см. у П. Дж. Роудса в «Комментарии к аристотелевской политии» (Oxford: Oxford University Press, 1981). Плутарх также подчеркивал, сколь хитроумно афиняне приступили к созданию империи (Фемистокл 19):
«После этого Фемистокл стал устраивать Пирей, заметив удобное положение его пристаней. Он старался и весь город приспособить к морю; он держался политики, некоторым образом противоположной политике древних афинских царей. Последние, как говорят, старались отвлечь жителей от моря и приучить их к жизни земледельцев, а не мореплавателей… Фемистокл, опасаясь, что они, удалив из собрания фессалийцев и аргосцев, а также фиванцев, станут полными господами голосования и все будет делаться по их решению, высказался в пользу этих городов и склонил пилагоров переменить мнение: он указал, что только тридцать один город принимал участие в войне, да и из них большая часть – города мелкие. Таким образом, произойдет возмутительный факт, что вся Эллада будет исключена из союза, и собрание очутится во власти двух или трех самых крупных городов. Главным образом этим Фемистокл навлек на себя вражду спартанцев».
(обратно)69
Фукидид 1, 90.
(обратно)70
Фукидид 1, 93.
(обратно)71
Джон M. Кэмп «Археология Афин».
(обратно)72
Описание этих стен см. в «Камнях Афин» Уичерли. Афиняне клали необожженный кирпич поверх каменного цоколя, который «состоял из нескольких слоев массивных кирпичей с каждой стороны грубого камня. Материалом служил более твердый известняк, а позднее все чаще использовали смеси».
(обратно)73
Хансен пишет:
«Уже в архаический период стены являлись важным элементом греческого восприятия того, что входит в полис; обзор сохранившихся стен подтверждает эту точку зрения… Письменные источники говорят о 222 полисах со стенами в архаический и классический периоды, и только в девятнадцати случаях прямо сказано, что город не укреплен. Лишь о четырех полисах мы знаем наверняка, что они не имели стен к концу классического периода, это Дельфы, Делос, Гортин и Спарта».
(обратно)74
Платон Законы 778d-779b:
«Что касается городских стен, Мегилл, то я бы сослался на Спарту, а именно: пусть стены покоятся в земле и пусть их не восстанавливают. И вот по какой причине: прекрасно сказано о них в слове поэта, что стены скорее должны быть медными и железными, нежели земляными; однако что до нас, то мы справедливо вызвали бы великий смех после того, как ежегодно посылали бы молодых людей для устройства там и сям то рвов, то окопов, в иных же местах – и каких-то сооружений для ограждения от врагов, чтобы не допустить неприятеля преступить границу нашей страны, и вдруг возвели бы вокруг города стену. Прежде всего это совсем не полезно для государств, так как обычно приводит души 779 жителей в расслабленное состояние, ведь стены приглашают граждан укрываться за ними и не давать отпора врагам. Поэтому граждане не спасаются тем, что постоянно, день и ночь, некоторые из них стоят на страже, но, наоборот, почивают, считая себя огражденными стеной и вратами, словно они и на самом деле обрели в этом средство спасения и словно они родились не для трудов: им невдомек, что на самом деле облегчение явилось результатом трудов. Из постыдных же поблажек и малодушия, думаю я, обычно снова возникают труды».
(обратно)75
Виктор Дэвис Хэнсон «Душа битвы: с древнейших времен до наших дней. Как три великих освободителя побеждали тиранию» (New York: Free Press, 1999):
«Опять же, современные исследователи греческой истории, чтобы получить полное представление о реальных условиях спартанской культуры, должны своими глазами увидеть развалины Мессены, Мегалополя и Мантинеи. Тот факт, что столь колоссальные сооружения возвели столь быстро после поражения спартанцев при Левктрах и последующего вторжения в Лаконию, показывает, что именно соседи Спарты думали о спартанском обществе. Стены – Берлинская стена и нынешние заграждения на американо-мексиканской границе, например – часто оказываются более честными свидетелями, нежели литературные источники и государственные воззвания, относительно соответствующих опасений, страхов и идеологий по обе стороны. Как политические сотрясения в Советском Союзе привели к падению стены в Германии, так „тест на Спарту“, предложенный Эпаминондом, немедленно побудил тысячи людей Пелопоннесса выйти в поля за камнями, пока еще был шанс спастись».
(обратно)76
Аристотель Политика 2, 8 (1267b).
(обратно)77
Фукидид 1, 93.
(обратно)78
См. также комментарии Плутарха о последствиях такой политики для афинян (Фемистокл 19):
«После этого Фемистокл стал устраивать Пирей, заметив удобное положение его пристаней. Он старался и весь город приспособить к морю; он держался политики, некоторым образом противоположной политике древних афинских царей. Последние, как говорят, старались отвлечь жителей от моря и приучить их к жизни земледельцев, а не мореплавателей. Поэтому они распустили басню, будто бы Афина, споря с Посейдоном из-за этой страны, показала судьям маслину и победила. Фемистокл не то чтобы „приклеил Пирей“ к городу, как выражается комик Аристофан, а город привязал к Пирею и землю к морю. Этим он усилил демос против аристократии и придал ему смелости, так как сила перешла в руки гребцов, келевстов и рулевых. По этой причине и трибуну на Пниксе, устроенную так, что она была обращена к морю, тридцать тираннов впоследствии повернули лицом к земле: они думали, что господство на море рождает демократию, а олигархией меньше тяготятся земледельцы».
(обратно)79
См. работу Дэвида Х. Конуэлла. После описания физического состояния стен, их особенностей и рельефа местности Конуэлл дает хронологическую перспективу: «Строительство велось в четыре этапа». Завершается работа стратегическим анализом роли Длинных стен в афинской истории.
(обратно)80
Фукидид 1, 107, 108. Конуэлл, ссылаясь на Плутарха, утверждает, что Кимон участвовал в проекте (Кимон 13, 5–7), но это противоречит хронологии Фукидида, предположительно неточной; он также дает более раннюю дату начала строительства, причем отрицая важную роль демоса. Рвение афинян в строительстве, между тем, отражало усиление опоры на массы, которые обслуживали флот. Кимон вряд ли мог одобрительно относиться к этой части афинских граждан, поскольку их убеждения были несовместимы с его политическими взглядами. Плюс Кимон, недавно обвиненный в сочувствии спартанцам, находился не в той позиции, чтобы предлагать горожанам проект, требующий стольких ресурсов. Его участие в строительстве стены, скорее всего, ограничивалось сбросом «большого количества щебня и тяжелых камней в болота», и это, как пишет сам Конуэлл, не более чем отчаянная попытка политика избежать политической катастрофы. Кимона изгнали из Афин в 461 г. до н. э.
(обратно)81
Платон Горгий 455d-е. Письменные источники позволяют датировать эту стену 452–431 гг. до н. э. Конуэлл считает, что строительство завершилось около 443–442 гг.
(обратно)82
Конуэлл пишет:
«Учитывая эти цели, Длинные стены были одновременно традиционными и радикально новыми. С одной стороны, несмотря на свои гигантские размеры, они просто зафиксировали морскую ориентацию города, характерную для полисов классической Греции. С другой стороны, в пору, когда многие укрепления были всего лишь пассивными барьерами, защищавшими города от вторжений, Длинные стены играли более важную роль. Построенные, чтобы защищать связь между Афинами и их кораблями, они представляли собой сухопутные сооружения явно морского назначения».
(обратно)83
Дональд Каган «Пелопоннесская война» (NY: Viking, 2003). См. главу 2, в которой обрисованы цели афинской внешней политики. Стены Афин способствовали реализации военно-морской стратегии, направленной на достижение этих целей.
(обратно)84
Каган «Пелопоннесская война»:
«Этот план гораздо лучше подходил Афинам, чем традиционные столкновения фаланг пехоты, но он имел серьезные изъяны, а приверженность ему способствовала краху дипломатической стратегии Перикла… Афиняне, к примеру, были вынуждены терпеть оскорбления и обвинения в трусости, которыми враг осыпал их из-под стен. Это являлось прямым нарушением греческого культурного кодекса, той героической традиции, которая ставила храбрость в бою превыше иных добродетелей. Большинство афинян, кроме того, жили в сельской местности, а значит, им пришлось пассивно наблюдать под защитой городских стен, как враг разрушает их дома, срубает деревья и виноградники, грабит и сжигает дома. Ни один грек, сохранивший решимость сражаться, не был готов к подобному, и чуть более десяти лет назад афиняне уже вышли на бой вместо того, чтобы допустить этакое опустошение».
(обратно)85
Длинные стены также были построены до войны, прежде всего в Мегарах и в олигархическом Коринфе.
(обратно)86
Фукидид 5, 82.
(обратно)87
См. Ксенофонт 2, 1; Диодор 13, 104–106. В битве при Эгоспотамах победители-спартанцы под командованием Лисандра и Этеоника уничтожили или захватили 170 из180 афинских триер и казнили, возможно, более 3500 афинян.
См. Барри С. Стросс «Эгоспотамы: новый взгляд» (AJP, 104, 1983). Дональд Каган описывает бедственное положение Афин («Падение Афинской империи», Ithaca: Cornell University Press, 1987, 393): «Исчерпав свои ресурсы, афиняне не могли построить новый флот, на замену потерянному при Эгоспотамах. Афины проиграли войну; оставался только вопрос, как долго они продержатся, прежде чем сдаться, и какими будут условия мира».
(обратно)88
Ксенофонт 2, 2.
(обратно)89
Ксенофонт 2, 2.
(обратно)90
Ксенофонт (2, 2) отмечает, что раннее спартанское предложение, происхождение и дата которого неясны, привез афинский посол Архестрат; это предложение требовало разрушить Длинные стены и было с гневом отвергнуто народным собранием. Архестрата посадили в тюрьму, а собрание приняло закон, запрещавший даже упоминание о подобном условии.
(обратно)91
Ксенофонт 2, 2. См. также Диодор, 14, 3; Плутарх Лисандр 14, 4; Лисий 13, 14. Ксенофонту возражал автор «Афинской политии»:
«Мир был заключен у афинян на том условии, чтобы они управлялись по заветам отцов. И вот демократы старались сохранить демократию, а из знатных одна часть – люди, принадлежавшие к гетериям, и некоторые из изгнанников, вернувшиеся на родину после заключения мира, – желала олигархии… Когда же Лисандр принял сторону приверженцев олигархии, народ в страхе был вынужден голосовать за олигархию. В письменном виде внес проект постановления Драконтид из Афидны».
Если следовать «Политии», афиняне оспаривали термин «заветы отцов», и большинство толкований было в пользу тех, кто выступал за демократию и против олигархии. Лисандр, которого спартанцы отозвали из восточной части Эгейского моря, приложил немало усилий для урегулировании спора на время, назначив Ферамена и Тридцать тиранов. Отличный обзор политики Лисандра дает Чарльз Д. Гамильтон в работе «Спартанская политика и политики, 405–401 гг. до н. э.» (AJP, 91, 1970).
(обратно)92
Ксенофонт 2, 2.
(обратно)93
Дж. К. Дэвис в работе «Демократия и классическая Греция» (Cambridge, Harvard University Press, 1993) отрицает важность конца Пелопоннесской войны как поворотного момента греческих межполисных отношений: «Первые два этапа (431–421 и 421–413 гг.) связаны друг с другом, но налицо перерыв в 413–411 гг., когда афинское превосходство пошатнулось, Персия вступила в войну, а Спарта стала морской державой. После этого новая конфигурация международной политики оставалась стабильной на протяжении жизни целого поколения, до 370-х, то есть формальное прекращение войны в 404 и 386 гг. не имело особого значения». На мой взгляд, интерпретация Дэвиса игнорирует тот факт, что период от конца Пелопоннесской войны до «царского мира» (и договоров, подытоживших эти конфликты) представлял собой переход межполисной системы от биполярности к многополярности. Кроме того, я не вижу оснований отрицать значение договора, положившего конец войне в 404 г. и оборвавшего существование Афинской империи, или договора 387–386 гг., который обеспечил спартанскую гегемонию. Каган в «Падении Афинской империи» пишет:
«Несмотря на очевидный результат, война не создала стабильного баланса сил на смену тому, что сложился после окончания войны с персами. Пелопоннесская война не была войной того типа, который, несмотря на все издержки, создает новый порядок, устанавливает всеобщий мир для целого поколения или даже дольше. Мирный договор 404 г. отразил временное усиление спартанского влияния далеко за его привычные пределы».
(обратно)94
Остатки укреплений вдоль границ Аттики относятся в основном к первой половине IV века до н. э., однако вполне вероятно, что некоторые оборонительные сооружения были построены в начале предыдущего века.
(обратно)95
Традиционно признается, что Афины были совершенно опустошены после войны. Недавние исследования показали, что экономическое и политическое восстановление Афин шло быстрее, чем считалось ранее. Работа Барри С. Стросса «Афины после Пелопоннесской войны: классы, фракции и политики, 404–386 гг. до н. э.» (London: Croon Helm, 1986) содержит подробный анализ социально-экономических условий после Пелопоннесской войны. В 395 г., однако, Афины находились в гораздо более трудном положении, чем в имперский период V века.
(обратно)96
Во второй половине IV века афиняне воспринимали военные победы Конона против Спарты как победы на благо Греции, хотя он был греком на персидской службе. См., например, Динарх, 1, 14:
«Афиняне, вы будто не ведаете о Тимофее, что обплыл вокруг Пелопоннеса и победил спартанцев в морской битве при Коркире. Он был сыном Конона, который освободил греков, и он взял Самос, Метон, Пидну, Потидею и двадцать других городов. Вы забыли о том на его суде и ради клятв, что подтверждают ваши голоса, и обвинили его, потому что Аристофон сказал, что он брал деньги у Хиоса и Родоса».
(обратно)97
Ксенофонт 4, 8; Диодор 14, 84.4f.
(обратно)98
Ксенофонт 4, 8.
(обратно)99
Исократ 4, 154; Демосфен 20, 68; Динарх 75, 3; Диодор 14, 39. Отличный анализ афинского империализма в Коринфской войне дан Робином Сигером в статье «Фрасибул, Конон и афинский империализм, 396–386 гг. до н. э.» (JHS, 87, 1967). Подводя итоги своих исследований, Сигер пишет:
«Таким образом, создается впечатление, что постоянным фактором, определявшим политику Афин между восстановлением демократии и Анталкидовым миром, было нежелание большинства афинян принять факт потери империи и стремление ее возродить, когда наступит время – или даже раньше… Именно тоска по империи со стороны людей, которые руководили действиями Афин на протяжении всего периода, а не различные мнения отдельных политиков или политических групп, которые пытались разве что сдерживать или поощрять массы, руководствуясь патриотизмом или личной выгодой».
Сигер правильно минимизирует влияние афинских политиков на внешнюю политику города. Вопрос империи, интересовавший всех афинян, и возможность восстановления могущества Афин в значительной степени зависели от иноземных участников межполисных отношений.
(обратно)100
Афиняне, однако, опасались войны со Спартой. «Оксиринхская греческая история» отмечает, что страх перед Спартой объединял все слои афинского общества.
(обратно)101
Конуэлл полагает, что строительство велось в 395–390 гг.
(обратно)102
Объяснение концепции «мягкой власти» см. у Джозефа С. Ная «Парадокс американского могущества: почему единственная сверхдержава мира не может преуспеть в одиночку» (Oxford: Oxford University Press, 2002).
(обратно)103
Андокид 3, 37: «Действительно, было когда-то время, афиняне, когда мы не имели ни стен, ни кораблей. Заимев же их, мы положили начало нашему благополучию. Если вы и теперь стремитесь к нему, обзаведитесь вновь и стенами, и кораблями. Опираясь на это, наши отцы добились для государства такого могущества, какого не имел еще ни один другой город» (перевод Э. Д. Фролова). См. также Р. Сигер «Фрасибул, Конон и афинский империализм».
(обратно)104
До ратификации «царского мира» Афины отблагодарили Клазомены за доброе отношение к ним.
(обратно)105
Р. Сигер и Ч. Дж. Таплин в статье «Свобода греков в Азии: к вопросу о начале борьбы» (JHS, 100, 1980) утверждают, что это положение «царского мира» было жизненно важным для появления представления о греках Малой Азии как об едином сообществе и для последующего возникновения пропагандистских лозунгов.
(обратно)106
А. Морено «Накормить демократию: поставки зерна в Афины в V и IV веках до нашей эры» (Oxford: Oxford University Press, 2007).
(обратно)107
С. Хорнблауэр о термине «автономия»: «Во внутренних делах это означает такое положение, когда сообщество ответственно за собственные законы, и в этом смысле оно противоположно тирании и означает самоопределение, в то время как свобода (элевтерия) означает отсутствие внешних ограничений. Но термин „автономия“ также регулярно используется в контексте межгосударственных отношений, где он означает ограниченную независимость, допускаемую сильным для слабого».
(обратно)108
Точные условия «царского мира» неизвестны. Роберт К. Синклер в статье «Царский мир и численность сухопутных и морских сил» (Chiron, 8, 1978) пишет:
«Текст „царского мира“ можно критиковать за расплывчатость и двусмысленность формулировок, отчасти, вероятно, объясняющихся новизной койне эйрен, но анализировать его следует с учетом целей персов и спартанцев, которые опирались именно на эффективное урегулирование в не слишком точно определенных терминах. Другие греческие полисы смирились с реальным положением дел, в частности, с доминирующим положением Спарты, и их поведение последующее десятилетие можно объяснить этим фактом, оставляя без внимания конкретные положения мирного договора 387/6 гг.».
(обратно)109
Ксенофонт 5, 1.
(обратно)110
Р. Сигер в статье «Царский мир и баланс сил в Греции, 386–362 гг. до н. э.» (Atheneum, 52, 1974):
«Царь не стал передавать Спарте или любому другому городу роль хранителя мира, простата. Он сам выступал единственным гарантом мира и самопровозглашенным лидером тех, кто сражался за перемирие… Тем не менее Персия выказывала готовность и желание признать за Спартой право на простасию, прежде всего в отношении тех условий, каковые требовали постоянного контроля и были необходимы для обеспечения интересов Спарты, однако впрямую не касались царя, так что последний не видел поводов вмешиваться лично… Спарта сумела едва ли не сполна воспользоваться условиями мира, еще до подписания договора. Причем цели, которые она преследовала, были, так сказать, обратного свойства. Она стремилась не допустить возрождения афинского империализма, лишить Фивы власти над Беотией и отобрать у Аргоса Коринф – то есть совершить все то, чего не удалось достичь в ходе Коринфской войны. В этом смысле, конечно, прав Ксенофонт: Спарта свела войну вничью и выиграла мир».
(обратно)111
Райдер «Койне эйрен: общий мир и местная независимость в Древней Греции» (Oxford: Oxford University Press, 1965).
(обратно)112
Большинство претензий к «царскому миру» касались условий автономии. См. рецензию Дж. Ларсена на книгу Райдера (Gnomon, 38, 1966):
«Райдер ссылается на судьбу греческих городов в Азии, а также на участь Лемноса, Имброса и Скироса, и тем не менее утверждает, что впервые автономия всех полисов… была признана договором, который одобрили ведущие государства Греции и персидский царь. Точнее сказать, всех полисов за исключением тех, кого более сильные желали иметь в подчинении… Следует предостеречь всякого, кто стремится идеализировать движение „автономов“, что в договоры порой включали пункт, который ограничивал применение свобод, провозглашенных договором. Это относится и к „царскому миру“, где, судя по всему, сначала перечислялись исключения, а уже затем говорилось об автономии».
(обратно)113
См. критику Райдера в рецензии Р. Дж. Форреста (CR, 19/ 83, 1969):
«Что более важно, не получилось убедить народ (именно народ, а не политиков), что мир 387 г. позволял Спарте контролировать всю Элладу. Агесилай „человеку, который сказал, что лакедемоняне стали приверженцами персов… ответил: „А по-моему, скорее персы – лакедемонян“ (Плутарх), и с учетом спартанского поведения в последующие годы, „автономию“ и прочие громкие слова следует рассматривать как пустые лозунги; это же относится и койне эйрен“.»
(обратно)114
Основные работы, посвященные Второму афинскому союзу: Ф. У. Маршалл «Второй афинский союз» (Cambridge: Cambridge University Press, 1905);) Д. Каргилл «Второй афинский союз: империя или свободный альянс?» (Gerkeley & LA: University of California Press, 1981). Относительная хронология Второго афинского союза и набега Сфродия является весьма спорной. Чаще всего считают – и настоящая работа придерживается этого мнения, – что Афины отреагировали на набег Сфродия образованием Второго афинского союза. В частности, так полагают Райдер, Р. К. Синклер, Р. Сили и Д. Каргилл.
(обратно)115
Диодор 15, 28; см. Плутарх Пелопид 14, 1.
(обратно)116
Каллистрат из Афидн предложил заменить термин «взносы» (syntaxeis) на «дань» (phoroi), если следовать Феопомпу (F Gr Hist 115 F98).
(обратно)117
Для Фив это означало вступление в альянс, чьи стратегические интересы шли вразрез с их собственными. Баклер утверждает, что необходимость укрепляться ввиду спартанской агрессии перевешивала все прочие соображения фиванцев. Афинам и Фивам было достаточно общего врага. См. Дж. Баклер «Фиванская гегемония, 371–362 гг. до н. э.» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980). Он пишет: «Тем не менее военная поддержка Афин была столь важна для Фив, что вступление в федерацию виделось невысокой ценой… А вот после обеспечения безопасности разные цели и интересы двух полисов наверняка отдалят их друг от друга».
(обратно)118
Подробное обсуждение пограничных укреплений Аттики см. в исследованиях Дж. Р. Маккреди, Дж. Обера и Марка Г. Манна. Инвестиции афинян в укрепления, вероятно, основывались на простом экономическом расчете. Виктор Хэнсон в рецензии на книгу Й. Брауэра и Г. Ван Тьюлла «Крепости, сражения и бомбы: военная история с позиций экономики» (Chicago: University of Chicago Press, 2008) пишет:
«Разве афиняне инвестировали в аттические крепости в IV веке до нашей эры потому, что это был наиболее экономичный способ защитить афинские территории, способ, менее затратный, чем содержание армии гоплитов, конницы, легко вооруженных стрелков или флота? Или, проиграв двадцатисемилетнюю Пелопоннесскую войну, они настолько пострадали от сухопутных вторжений, что строительство укреплений виделось им наилучшей тактикой против новых нашествий из Беотии и с Пелопоннеса?»
(обратно)119
Относительно датировки стен см., например, подробное исследование Р. Л. Скрэнтона.
(обратно)120
Попытка Манна датировать стену весной 378 г. до н. э. и связать ее с именем афинского полководца Хабрия представляет собой исключение.
(обратно)121
Дж. Обер: «Провал Перикловой оборонной стратегии, страх перед вторжением, решимость защитить Аттику и нежелание направлять ополчение граждан на отдаленные театры войны – вот основные элементы оборонительного менталитета, который сформировался в Афинах IV века. Именно этот менталитет определял действия Афин в период между Пелопоннесской и Ламийской войнами». Манн не согласен с Обером: «С учетом неправдоподобности этой гипотетической системы, а также принимая во внимание молчание по этому поводу греческих ораторов, Ксенофонта, Платона и остальных источников, мы должны заключить, что Обер и его предшественники создали сугубо умозрительную структуру. Оберовская предупредительная система обороны никогда не существовала, это современные домыслы». В. Д. Хэнсон отмечает, что «Аттические крепости» Обера «являются превосходным каталогом системы крепостей и башен, построенных на границе Аттики в IV веке вследствие реализации более гибкой политики, что пришла на смену политике опоры на гоплитов. Манн оспаривает некоторые гипотезы Обера в отношении этих крепостей, но его исследование в целом нельзя назвать ревизионистским; также он подчеркивает внимание греков к обороне границ в IV веке до нашей эры, часто в ущерб полевым сражениям гоплитов».
(обратно)122
И. Гарлан указывает на увеличение числа наемников, а также на рост военного профессионализма:
«Хотя окончательный результат по-прежнему нередко определялся сражением на открытой местности, в дальнейшем такие схватки выступали лишь как один из элементов стратегии, более комплексной, нежели в прошлом, одновременно отличной и более прогрессивной, нацеленной на установление контроля не только над вражескими территориями, но и над обнесенными стенами городами и над укрепленными границами. Таким образом, развивалась и усложнялась тактика, требующая совместного использования специальных сил (по „модели“ человеческого тела) и на основе профессиональной концепции военного руководства и доблести».
(обратно)123
Аристотель, Политика, 1330b, 1331.
(обратно)124
Э. Вонг, Дэвид С. Клауд «США возводят Багдадскую стену, чтобы разделить секты», «Нью-Йорк таймс», 21 апреля 2007 г.
(обратно)125
А. Дж. Рубин, С. Фаррел и Э. Гуд «Страх уходит, Багдадская стена рушится», «Нью-Йорк таймс», 9 октября 2008 г.
(обратно)126
В ходе первой войны в Персидском заливе Саддам Хусейн для защиты своих войск строил огромные песчаные бункеры, а во второй иракской войне (2003) поджигал нефтяные каналы, чтобы Багдад затянуло дымом. В войне Судного дня (1973) египетские коммандос применяли водометы, чтобы разрушить песчаные укрепления израильтян, возведенные для блокировки атак со стороны Суэцкого канала. А недавняя русская операция против Грузии ознаменовалась возведением стен в Южной Осетии.
(обратно)127
См. А. Бонадео «Монтень о войне» (Журнал истории идей, вып. 46, № 3, июль-сентябрь 1985); Цицерон «Тускуланские беседы», 1, 2; Диодор 15, 88. Следует отметить, что студентом генерал Джордж Паттон восхищался Эпаминондом и видел в нем образец воинского и этического совершенства: «Эпаминонд был без сомнения лучшим и величайшим среди всех греков, которые когда-либо жили, лишенный амбиций гений, человек, радевший за общее благо, большой патриот; для своей эпохи практически идеал». Цит. по: В. Хэнсон «Душа битвы».
(обратно)128
До сих пор нет биографии Эпаминонда на английском языке, и это понятно, учитывая, что до нас не дошло Плутархово жизнеописание Эпаминонда, относительное пренебрежение к Беотии в сохранившихся источниках и принятие в качестве основных трудов по IV веку «Греческой истории» и «Агесилая» Ксенофонта, который часто попросту забывал об Эпаминонде.
(обратно)129
О природе аграрного эгалитаризма в сельской классической Беотии, предшествовавшего возникновению в IV столетии радикальной демократии Эпаминонда и Пелопида см.: В. Хэнсон «Другие греки» (Berkeley & LA: University of California Press, 1998).
(обратно)130
О возвышении Фив и разрыве со Спартой после успешного альянса против Афин в Пелопоннесской войне см. работу Дж. Баклера «Фиванская гегемония», а также 4-й выпуск «Кембриджской древней истории: IV век до н. э.» (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). Следует помнить, что Фивы посредничали в ходе персидских войн и сражались против греков в битве при Платеях. В афинской драматургии фиванцам обычно приписывали всевозможные прегрешения – инцест, членовредительство, братоубийство, самоубийства и святотатства; можно вспомнить, кстати, миф об Эдипе.
(обратно)131
О событиях того времени см. работу Дж. Хукера «Древние спартанцы» (London: Dent, 1980). Фивы потребовали у Спарты автономии для бывших пелопоннесских союзников, но отказались признать аналогичные спартанские требования предоставить городам Беотии независимость от Фив на том шатком основании, что эти города демократические и, следовательно, уже свободные, а вдобавок беотийцы должны проявлять солидарность в противостоянии олигархиям и внешним вызовам.
(обратно)132
О спартанских вторжениях в Беотии и различной реакции на эти вторжения см. работу М. Манна «Оборона Аттики» (Berkeley & LA: University of California Press, 1993) и особенно книгу П. Картледжа «Агесилай и кризис Спарты».
(обратно)133
О битве при Левктрах и ее стратегических последствиях см. работу Дж. К. Андерсона «Военная теория и практика в эпоху Ксенофонта» и книгу К. Гамильтона «Агесилай и падение спартанской гегемонии».
Д. Баклер в «Эгейской Греции» отвечает на мою критику его ранней и, как я полагаю, ошибочной реконструкции сражения при Левктрах (В. Хэнсон «Эпаминонд, битва при Левктрах и революция в греческой тактике», Classical Antiquity, 7, 1988). Баклер упускает из вида, что ни одна из тактик Эпаминонда при Левктрах сама по себе (совместное использование конницы и пехоты, резерв гоплитов, косой строй с лучшими воинами слева и использование многорядной фаланги) не нова, но это не значит, что нужно отрицать военный гений Эпаминонда, объединившего при Левктрах ранее известные ратные инновации.
(обратно)134
Более подробно о вторжении см. в работе Д. Баклера «Фиванская гегемония», в моей книге «Душа битвы» и в работе Д. Р. Шипли «Плутархово жизнеописание Агесилая: обращение к истокам в символической репрезентации» (Oxford: Clarendon Press, 1997).
(обратно)135
Численность фиванского войска и длительность вторжения до сих пор составляют предмет дискуссий; см. обсуждение в работе Г. Свободы. Древние оценки – от 50 000 до 70 000 пеших, тяжелой и легкой пехоты, а также вспомогательных сил, то есть одна из крупнейших армий в истории греческих городов-государств. О мессенских илотах см. статью Т. Фигейры «Демография спартанских илотов», в сборнике «Илоты и их хозяева в Лаконике и Мессении: история, идеология, структура» под ред. Н. Лураджи и С. Олкок (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003) и также другую статью того же сборника: В. Шейдель «Количество илотов: упрощенная модель». Проблема усугубляется наличием илотов как в Мессении, так и в Лаконике, скудостью исторических сведений и спорами относительно моделей сельскохозяйственного производства. Прежняя оценка в 250 000 мессенских илотов, вероятно, завышена.
(обратно)136
Для Б. Г. Лиддел Гарта («Стратегия непрямых действий») вторжение Эпаминонда в Мессению было одним из первых примеров непрямых действий в истории. По его мнению, лучший способ осуществления большой стратегии состоит в избежании потерь в регулярных сражениях через фланговые обходы и рейды в глубоком тылу противника.
(обратно)137
Недавняя работа по освобождению илотов и основание новой цитадели в Мессене «Древние мессенцы: реконструкция этноса и памяти» Н. Лураджи (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 209-52. Автор полагает, что мессенцы, возможно, не слишком отличались от спартиатов этнически и лингвистически; скорее всего, они обрели представление о собственной идентичности незадолго до и сразу после прихода Эпаминонда.
(обратно)138
Подробнее о военном планировании, стоявшем за решением Эпаминонда двинуться на Мессену после неудачной попытки форсировать Эврот и штурмовать спартанский акрополь см. в «Истории военного искусства» Г. Дельбрюка и в моей работе «Душа битвы».
(обратно)139
О двойственном отношении Ксенофонта к его современнику Эпаминонду см. в работе Г. Д. Уэстлейка «Люди в истории Ксенофонта» (сборник «Очерки о греческих историках и греческой истории», Manchester, UK: Manchester University Press, 1969).
(обратно)140
Фукидид 6, 18. Отметим, что лидер демократических Сиракуз Афинагор, испугавшись слухов о грядущем афинском вторжении на Сицилию, тщетно пытался сплотить сиракузян: «Вражеские замыслы следует пресекать еще до их претворения в действие: кто не принял заранее мер предосторожности, тот пострадает сам».
(обратно)141
Превентивный удар наносится одной из сторон в связи с предполагаемой неминуемой угрозой нападения другой стороны. Зачинщик видит преимущество в нападении первым – или считает, что, по крайней мере, ударить первым предпочтительнее, чем отдавать инициативу врагу. См.: Д. Рейтер «Взрывая миф о пороховой бочке: превентивные войны почти никогда не происходят» (Международная безопасность, 20, вып. 2, осень 1995); Дж. Леви «Закат могущества и мотивы превентивной войны» (Мировая политика, 40, № 1, октябрь 1987); П. Швеллер «Внутренние структуры и превентивная война: правда ли, что демократия миролюбивее?» (Мировая политика, 44, № 2, январь 1992); и Дж. Г. Куэстер «200 лет превентивной войны» (Naval War College Review, 60, № 4, осень 2007). Хороший исторический обзор стратегии приводит С. ван Эвера в статье «Нападение, оборона и причины войн» (Международная безопасность, 22, № 4, весна 1998).
(обратно)142
Фукидид 1, 118; 4, 92. Снова: упреждающие войны начинаются из опасений перед неминуемым нападением; войны «профилактические» провоцируются ожиданиями относительного упадка могущества данного государства. Помимо вопроса о темпах операции, превентивная угроза учитывает текущие возможности противника; «профилактическая» угроза опирается на потенциальные ресурсы противника. Тот, кто упреждает, обычно нападает на слабейшего, а тот, кто предотвращает, – на сильнейшего.
(обратно)143
Фукидид 2, 2 (нападение фиванцев на Платеи), 4, 92 (речь Пагонда). О трагической истории Феспий см. мою статью «Уничтожение гоплитов: случай города Феспии» в сборнике «Война в древнем мире: археологические перспективы» под ред. Д. Кармена и Э. Хардинга (London: Stroud, 1999).
(обратно)144
О споре, стоит ли нападать, и о финансовых стимулах пелопоннесцев см. «Фиванскую гегемонию» Д. Баклера и статью Дж. Роя «Аркадия и Беотия в делах Пелопоннеса, 370–362 гг. до н. э.» (Historia, 20, 1971).
(обратно)145
Мы не знаем, в какой именно момент зимы 369 г. в Мантинее решение Эпаминонда помочь аркадянам превратилось в намерение двинуться на юг и напасть на саму Спарту, а затем, после неудачи со штурмом спартанского акрополя, – пойти в Мессению освобождать илотов. Источники дают понять, что это было спонтанное решение на встрече союзников в Мантинее (Ксенофонт 6, 5; Диодор 15, 62; Плутарх Агесилай 31), где фиванцы отказались от былых опасений по поводу естественных преград, которыми изобилует ландшафт Лаконики; но вполне вероятно, что фиванцы еще до вступления в пределы Пелопоннеса предполагали – их пребывание там затянется и не ограничится первоначальной целью обеспечить безопасность новой крепости в Мантинее.
(обратно)146
Античные источники мало что сообщают о маршруте, самом походе и количестве союзников, которые двинулись к Мессене. Об основании города в 369 г. до н. э. см. «Историю Мессении с 369 по 146 г. до н. э.» К. А. Робака (Chicago: University of Chicago Press, 1941) и работу К. Хабихта «Павсаниево описание Древней Греции» (Berkeley & LA: University of California Press, 1985).
(обратно)147
О либеральном отношении Эпаминонда, который позволил некоторым союзным государствам Пелопоннеса сохранить олигархии, и его нежелании ставить гарнизоны и заключать формальные союзы с профиванскими демократиями см. работу Д. Баклера и Г. Бека «Центральная Греция и политика власти в IV веке до н. э.».
(обратно)148
О «бесслезной битве»: Плутарх Агесилай 33. Об упадке Спарты после освобождения месенских илотов и дезертирства периэков и илотов см. работу П. Картледжа «Агесилай».
(обратно)149
Ксенофонт 7, 5; Диодор 15, 88.
(обратно)150
Разрушение спартанского акрополя или разгром спартанской армии были выгодны Фивам, однако они лишь ускорили бы процесс, который уже начался после битвы при Левктрах, вторжения в Лаконику и Мантинею и увенчался поражением спартанцев при Мантинее.
(обратно)151
Налицо серьезная дискуссия по поводу степени участия фиванцев в основании Мантинеи и Мегалополя (относительно Мессены споров нет), причем стороны апеллируют к античным источникам и археологическим данным. См. В. Хэнсон «Душа битвы» и особенно Дж. Рой «Аркадия и Беотия в делах Пелопоннеса».
(обратно)152
О современном сопоставлении Ирака с Сицилией и Фукидиде см. В. Хэнсон «Непохожая война: как афиняне и спартанцы сражались в Пелопоннесской войне» (New York: Random House, 2005).
(обратно)153
Фукидид о вине за катастрофу на Сицилии: «Афиняне узнали правду и тогда яростно набросились на тех ораторов, которые рьяно поддерживали план морской экспедиции, словно бы не они сами вынесли решение о походе. Они были раздражены также против прорицателей, толкователей знамений и вообще всех, кто, ссылаясь на внушение божества, вселял в них перед отплытием надежду овладеть Сицилией. Вся обстановка складывалась удручающим образом для афинян, и под влиянием страшного несчастья ими овладели страх и растерянность. Ведь не только каждый гражданин глубоко скорбел, переживая гибель близких и друзей, но и весь город был удручен невосполнимой потерей гоплитов, всадников и молодежи. Кроме того, афиняне видели, что кораблей на верфях недостаточно, государственная казна пуста и гребцов для кораблей не хватает» (8, 1); упрек Перикла афинянам: «Когда вас еще не постигло бедствие, вы последовали моему совету, но вот пришла беда, вы раскаялись, и мой совет при вашей недальновидности теперь представляется вам неверным» (2, 61).
(обратно)154
О влиянии пифагорейцев на Фивы и Эпаминонда в частности читаем у Непота 15, 2; 15, 39; у Диодора и у Плутарха в «Пелопиде» (5, 3). См. работу Н. Х. Деманд «Фивы в пятом веке: Геракл восстающий» (London: Routledge, 1982). Историк Эфор говорит, что гегемония Фив во многом связана с личностями Эпаминонда и Пелопида (15, 79; Диодор 15, 88) и закончилась с их смертью. О предполагаемой связи «неоконов» и президента Буша см. книгу Дж. Хейлбрунна «Они знали, они были правы: восстание неоконсерваторов» (New York: Doubleday, 2008).
(обратно)155
Следует вспомнить надпись на статуе Эпаминонда в Фивах, которая заканчивалась такими словами: «И вся Греция стала независимой и свободной» (Павсаний, 9, 15). Целый свод древних фрагментов свидетельствует о моральных и военных достижениях Эпаминонда: см., например, Элиан 12, 3; Непот 15, 10; Плутарх Моралии, 194C; Страбон 9, 2. О результатах вторжения на Пелопоннесе см. мою «Душу битвы». По сей день идет спор о конечных целях Эпаминонда, – возможно, он мечтал об единой Греции, а не просто о главенстве фиванских интересов. См. Д. Л. Коуквелл «Эпаминонд и Фивы» (Classical Quarterly, 22, № 2, ноябрь 1972).
(обратно)156
См. оценку Баклером («Фиванская гегемония») кампании Эпаминонда: «Даже после Мантинеи Эпаминонд и Пелопид оставили Фивы на ведущих ролях в Греции, подняли свою родину на высоту, которой она никогда раньше не достигала и никогда более не достигла; история фиванской гегемонии есть в немалой степени история Эпаминонда и Пелопида».
(обратно)157
Диодор 17, 17; Юстин 11, 5.
(обратно)158
О реформе армии Филиппа см. Я. Уортингтон «Филипп II Македонский» (New Haven, CT: Yale University Press, 2008); об армии Александра см. А. Б. Босуорт «Завоевание и империя: правление Александра Великого».
(обратно)159
Аристобул, FGrH 139 F7 (Арриан 2, 3); Плутарх Александр 18, 4.
(обратно)160
Ср. Плутарх Александр 27, 3–6.
(обратно)161
Диодор 17, 70.
(обратно)162
Плутарх Александр 38, 6–7.
(обратно)163
Квинт Курций Руф 6, 2.
(обратно)164
Арриан (3, 3) полагает, что Александр проделал долгий и трудный путь в Сиву в подражание своим предкам Персею и Гераклу.
(обратно)165
Диодор 17, 77; Квинт Курций Руф 6, 6.
(обратно)166
О личности Дария см. Эрнст Бадиан «Дарий III» (HSCP, 100, 2000).
(обратно)167
См. Эрнст Бадиан «Управление империей» (G &R2, 12, 1965) и У. Ф. Хиггинс «Аспекты имперской политики Александра: некоторые современные оценки» (Atheneum, 58, 1980).
(обратно)168
О назначениях сатрапов подробнее см. у Босуорта и Бадиана.
(обратно)169
Арриан 1, 23.
(обратно)170
Арриан 6, 30.
(обратно)171
О финансовой администрации Александра подробнее см. у Босуорта.
(обратно)172
Арриан 4, 22.
(обратно)173
Диодор 18, 4.
(обратно)174
Ср. Диодор 17, 111.
(обратно)175
О городах Александра см. Р. М. Фрейзер «Города Александра Великого» (Oxford: Oxford University Press, 1996). Автор утверждает, что помимо Александрии в Египте Александр основал всего восемь городов.
(обратно)176
См. А. Б. Босуорт «Филипп II и Верхняя Македония» (CQ2, 21, 1971).
(обратно)177
Юстин (12, 5) говорит, что Александр основал двенадцать городов в Бактрии и Согдиане, но не называет их.
(обратно)178
См. Арриан (4, 1) об Александрии-на-Яксарте (современный Ленинабад) как оплоте против нападений скифов.
(обратно)179
На эту тему написано очень много работ. Отличные аргументы «против» см. в: Эрнст Бадиан «Александр Великий и единство человечества» (Historia, 7, 1958); А. Б. Босуорт «Александр и иранцы» (JHS, 100, 1980).
(обратно)180
Подробнее см. у Босуорта.
(обратно)181
Плутарх О судьбе и доблести Александра, 338d.
(обратно)182
Эпитома, 70.
(обратно)183
Плутарх О судьбе и доблести Александра, 329b. О сути эллинизма и греческом языке см. Геродот 8, 1442 и Фукидид 2, 68.
(обратно)184
См. Эрнст Бадиан «Александр Великий и научное исследование восточной части империи» (AS, 22, 1991).
(обратно)185
Плутарх О судьбе и доблести Александра, 328b.
(обратно)186
См., например, Геродот 3, 32: Камбиз женился на своей сестре; Страбон 15, 3: сыновья женятся на матерях. См. также М. Шварц «Древнее восточноиранское мировоззрение согласно Авесте» // «Кембриджская история Ирана», вып. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
(обратно)187
Жертвоприношение престарелых родителей: Геродот, 1, 126; использование трупов: Геродот 4, 64.
(обратно)188
Страбон 11, 11.
(обратно)189
См. Ч. Б. Уэллс «Исторические достижения Александра» (G &R2, 12, 1965).
(обратно)190
Ср. Арриан 7, 19.
(обратно)191
Ср. А. Б. Босуорт «Александр и иранцы».
(обратно)192
История Платей рассказана у Фукидида (2, 1–5).
(обратно)193
Обзор исследований греческих войн см. в «Кембриджской истории греческих и римских войн».
(обратно)194
Геродот 5, 100–101.
(обратно)195
Ксенофонт Анабасис 5, 2.
(обратно)196
Диодор Сицилийский 11, 67; 11, 73; 11, 76.
(обратно)197
Обзор истории городской войны см. у Эшворта.
(обратно)198
Об урбанизации и будущем городских боев см. работу Дэша.
(обратно)199
О внезапных нападениях см. работу Раша.
(обратно)200
Военная археология Олинфа описана в моей статье «Городские бои в Олинфе».
(обратно)201
О стасисе см. книгу Линтотта и работу Герке.
(обратно)202
Фукидид 3, 70; 4, 46–48.
(обратно)203
Диодор Сицилийский 13, 104; 15, 57.
(обратно)204
Арриан 1, 7.
(обратно)205
Фукидид 3, 72–76.
(обратно)206
Фукидид 3, 34.
(обратно)207
Диодор Сицилийский 11, 73–76.
(обратно)208
Плутарх Агесилай 32.
(обратно)209
См. Описание архаических и классических полисов.
(обратно)210
Фукидид 4, 69; Ксенофонт Греческая история 5, 3.
(обратно)211
См. Описание архаических и классических полисов.
(обратно)212
О греческих стенах см. работу Кэмпа.
(обратно)213
Фукидид 2, 4.
(обратно)214
Ксенофонт Греческая история 6, 5.
(обратно)215
О Мунихии см.: Аристотель Афинская полития 19, 2; о Мусейоне см. работу Кэмпа «Археология Афин». Также о городах с несколькими опорными пунктами: Аристотель Политика 1330b5.
(обратно)216
Плутарх Дион 41.
(обратно)217
Геродот 5, 72.
(обратно)218
Геродот 5, 101.
(обратно)219
Арриан 1, 7.
(обратно)220
О поперечных стенах (diateichismata) см. работу Лоуренса и статью Соколичека.
(обратно)221
Диодор Сицилийский 16, 11.
(обратно)222
Об агоре как ключе к городу см. Эней Тактик 2, 1; 3, 5; 22, 2; Арриан 1, 8; Полиэн. 5, 5.
(обратно)223
Геродот 5, 100–101.
(обратно)224
Арриан 1, 8.
(обратно)225
Диодор Сицилийский 13, 104.
(обратно)226
Ксенофонт Греческая история 3, 2.
(обратно)227
Эней Тактик 30, 1–2.
(обратно)228
Ксенофонт Греческая история 3, 3.
(обратно)229
Эней Тактик 29, 6.
(обратно)230
Фукидид 3, 27.
(обратно)231
Эней Тактик 3, 5.
(обратно)232
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)233
Ксенофонт Греческая история 5, 4.
(обратно)234
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)235
Фукидид 4, 48.
(обратно)236
Ксенофонт Греческая история 6, 5.
(обратно)237
Диодор Сицилийский 16, 19.
(обратно)238
О греческом городском планировании см. работу Мартена.
(обратно)239
См. работы Хепфнера, Кэхилла и Гилла.
(обратно)240
Аристотель Политика 1330b6.
(обратно)241
Аристотель Политика 1330b7. Более подробно о Гипподаме и рекомендациях Аристотеля см. в работе Кэхилла.
(обратно)242
Фукидид 2. 3; Эней Тактик 2, 1–6.
(обратно)243
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)244
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)245
См. работу Кэхилла.
(обратно)246
Обзор греческой бытовой архитектуры см. в работе Хепфнера.
(обратно)247
Статья Барри (см.) подробное описывает методы использования глиняных плиток в городском бою.
(обратно)248
Ксенофонт Греческая история 7, 1.
(обратно)249
Ксенофонт Анабасис 6, 5.
(обратно)250
Ксенофонт Греческая история 4, 4.
(обратно)251
См. мою статью о городских боях в Олинфе.
(обратно)252
Арриан 1, 8; Диодор Сицилийский 17, 13.
(обратно)253
Диодор Сицилийский 16, 20.
(обратно)254
См. работу Иссерлена о Мотии.
(обратно)255
Диодор Сицилийский 16, 76.
(обратно)256
Платон Законы 779B.
(обратно)257
См. работу Кэхилла.
(обратно)258
О топографии Спарты см. статьи Рафтопулу, Шипли и Вэйвелла. О нападении на Спарту: Ксенофонт Греческая история 6, 5. Об атаке на центр города см. Эней Тактик 2, 2. Плутарх (Агесилай 31) ошибочно указывает, что Спарта имела городские стены в IV в. до н. э.
(обратно)259
Об этих спартанских зданиях см. Павсаний 3, 14, 16, 20.
(обратно)260
Эней Тактик 2, 2.
(обратно)261
Ксенофонт Греческая история 7, 5.
(обратно)262
О дисциплине см. работу Ван Вееса. О действиях гоплитов в городах см. также статью Обера.
(обратно)263
Плутарх Клеомен 21.
(обратно)264
См. мою статью об Олинфе.
(обратно)265
Ксенофонт Греческая история 2, 4; Диодор Сицилийский 14, 33.1–4. См. также работу Кренца «Тридцать тиранов в Афинах».
(обратно)266
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)267
Арриан 1, 8.
(обратно)268
О действия афинской конницы: Павсаний 1, 15; см. также работу Хабихта.
(обратно)269
Плутарх Пирр 32.
(обратно)270
См. статью Кэмпа «Стены и полис».
(обратно)271
Платон Законы 779b. Аристотель (Политика 1330b) писал о стенах: «Отрицающие их надобность для тех городов, которые хвалятся доблестью жителей, судят слишком уж по-старинному, несмотря на то что видят, как такого рода хвастливые притязания городов опровергаются действительностью».
(обратно)272
См. статью Кренца о стратегической культуре.
(обратно)273
См. статью Кренца о стратегической культуре и работу Раша.
(обратно)274
Плутарх Агесилай 31.
(обратно)275
Полиэн 4, 2.
(обратно)276
См. работу Герке; Полиэн 8, 68–70.
(обратно)277
Фукидид 3, 74.
(обратно)278
О мести см. работу Тритла.
(обратно)279
Ксенофонт Греческая история 2, 4.
(обратно)280
Ксенофонт Греческая история 7, 5.
(обратно)281
Плутарх Дион 45.
(обратно)282
О более широкой исторической перспективе руководства Энея см. работу Дюфура.
(обратно)283
См. работу Уайтхеда с комментариями к Энею.
(обратно)284
Эней Тактик 19, 1; 22, 15.
(обратно)285
Эней Тактик 1, 9; 2, 1; 3, 5; 22, 2–4.
(обратно)286
Эней Тактик 39, 1–2.
(обратно)287
О Могадишо см. работу Боудена.
(обратно)288
См. работу Линтотта.
(обратно)289
Фукидид 1, 22.
(обратно)290
О населении см. Вальтер Шайдель «Демография» // «Кембриджская экономическая история греко-римского мира» (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). О численности армии см. Сьюзен П. Маттерн «Рим и враги: имперская стратегия в эпоху принципата» (Berkeley & LA: University of California Press, 1999). О налогах и доле от ВВП см. Элио Ло Касио «Ранняя Римская империя: государство и экономика» // «Кембриджская экономическая история греко-римского мира». О прожиточном минимуме и доходах на душу населения: Йонгман утверждает, что общий доход на душу населения был относительно высок для древности, хотя и очень низок по современным меркам; см. Виллем М. Йонгман «Ранняя Римская империя: потребление» // «Кембриджская экономическая история греко-римского мира»; но жалование неквалифицированных работников едва позволяло прокормиться, даже при условии, что трудились женщины и дети – см. исследование В. Шайделя «Реальная заработная плата в ранней экономике: свидетельства об уровне жизни с 2000 г. до н. э. по 1300 г. н. э.» (Princeton/Stanford Working Papers in Classics, March 2008).
(обратно)291
См. классическое исследование Рамсея Макмаллена «Солдаты и гражданские в поздней Римской империи» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963). См. также работу Б. Айзека «Границы империи» и работу Ричарда Олстона «Армия и общество в римском Египте: социальная история» (London: Routledge, 1995).
(обратно)292
О романизации см. работу Г. Вулфа «Стать римлянами», а также: Рамсей Макмаллен «Романизация во времена Августа» (New Haven, CT: Yale University Press, 2000) и Олстон «Армия и общество в римском Египте».
(обратно)293
О численности римского правительства см. работу Дж. Э. Лендона «Империя чести».
(обратно)294
См.: Кейт Хопкинс «Налоги и торговля в Римской империи» (200 г. до н. э. – 400 г. н. э.) // Journal of Roman Studies, 70, 1980; Г. Вулф «Стать римлянами»; К. Андо «Имперская идеология и провинциальная лояльность в Римской империи».
(обратно)295
О последнем см. мою работу «Рим и враги».
(обратно)296
См. Thomas Pekory «Seditio. Unruhen und Revolten im Römischen Reich von Augustus bis Commodus» // Ancient Society, 18, 1987.
(обратно)297
Б. Шоу «Бандиты Римской империи».
(обратно)298
О еврейском восстании см. работу М. Гудмена «Правящий класс Иудеи».
(обратно)299
См. мою работу «Рим и враги». Сегодня принято считать, что битва в Тевтобургском лесу произошла у Калькрайзе в Нижней Саксонии. Об этом подробно изученном событии см. работу Адриана Мердока «Крупнейшее поражение Рима: резня в Тевтобургском лесу» (Clucestershire, UK: Sutton, 2006).
(обратно)300
Б. Айзек «Границы империи»; С. Дайсон «Восстания народов Римской империи»; Г. Вулф «Стать римлянами». О представлении Рима см. работу Г. Вулфа «Римский мир» // Война и общество в римском мире (London: Routledge, 1993).
(обратно)301
С. Дайсон «Модели народных восстаний в Римской империи».
(обратно)302
О ложных Неронах см.: Pekory «Seditio». Эдикт Траяна: Письма Плиния Младшего 10, 34 и 10, 117. О христианах: Письма Плиния Младшего 10, 96.
(обратно)303
О геноциде см. мою работу «Рим и враги». О Тиберии и Германике см. там же.
(обратно)304
Об увечьях: Дион Кассий 53, 29 (Испания). О депортации: Дион Кассий 53, 29 (Испания). О восстании Бар-Кохбы: Дион Кассий 69, 14. Речь Калгака: Тацит Агрикола 30. Полибий о разграблении городов: 10, 15–17. Иосиф Флавий о непобедимости римлян: Иудейская война 2, 365–387.
(обратно)305
О размере римской армии и готовности войск см. мою работу «Рим и враги».
(обратно)306
См.: Ричард A. Хорсли «Сикарии: древнееврейские террористы» // Journal of Religion, 59, 1979.
(обратно)307
См.: Хорсли «Сикарии»; Иосиф Флавий Иудейская война 7, 253–255.
(обратно)308
См. работу Б. Шоу «Бандиты Римской империи». На это и другие исследования бандитизма в Римской империи оказала сильное влияние классическая работа Дж. Эрика Хобсбаума «Бандитизм» (4-е изд., New York: New Press, 2000), где впервые использовано понятие «социального бандитизма».
(обратно)309
О бандитизме в Иудее см. работу Б. Айзека «Границы империи» и его же статью «Бандиты в Иудее и Аравии» // Harvard Studies in Classical Philology, 88, 1984. Айзек утверждает, на основе раввинских свидетельств, что иудейский бандитизм в целом носил идеологический или политический характер. О пещерах см. работу Айзека «Границы империи». Кроме того, о бандитизме в Иудее см. статью Б. Шоу «Тираны, бандиты и цари». Об Исаврии см. его статью «Бандитское нагорье и мирная равнина» // Journal of Economic & Social History of the Orient, 33, № 2, 1990 и 33, № 3, 1990. О бандитизме в Египте см. работу Олстона «Армия и общество».
(обратно)310
См., например, Дион Кассий 75, 2.
(обратно)311
См. посвящение Антонину Пию Фронтону (цит. по «Бандитам» Шоу): Юлий Секст, особый друг, славный «воинским рвением в охоте и преследовании разбойников»; Фронтон взял его с собой в Азию. См. также Дигесты 1, 18 (цит. по работе Шоу) – об обязанности наместника охотиться на бандитов.
(обратно)312
Б. Шоу «Бандиты».
(обратно)313
Б. Шоу «Бандиты».
(обратно)314
Светоний: Август 32 и Тиберий 37; Б. Шоу «Бандиты».
(обратно)315
О дорогах: «Границы империи» Айзека, «Армия и общество» Олстона. О системе пограничной обороны: «Бандиты» Шоу. О киликийской внутренней границе: «Бандиты» Шоу.
(обратно)316
См. «Бандитов» Шоу о направлении военных отрядов против бандитов. Походы Цицерона описаны в его письмах; см. также упомянутые работы Шоу и Тацит Анналы 6, 41; 12, 55.
(обратно)317
О наборе в армию: «Тираны, бандиты и цари» и «Бандиты» Шоу.
(обратно)318
О Тарконтидмоте см. «Бандитское нагорье» Шоу. О термине «ритуализированная дружба» и этом явлении как основе ранней дипломатии см.: Г. Герман «Ритуализированная дружба и греческие города» (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Шоу в «Тиранах» показывает, как различные формы ритуальных отношений формировали связи римлян, Ирода, бандитов, мелких династий и других игроков в Иудее в конце I в. до н. э.
(обратно)319
О Мавритании см. статьи Шоу: «Автономия и даньe: горы и равнины Мавритании Тингитана» // Desert et montagne au Maghreb: Hommage a Jean Dresch (Revue де l’Occident musulman et de La Mediterranee, 41–42, 1986; «На краю гниющего моря: двадцать третья лекция памяти Дж. Л. Майерса» (University of Oxford, 2006.).
(обратно)320
О римской армии в качестве оккупационной силы см. «Границы империи» Айзека, «Рим и враги» Маттерн и «Армия и общество» Олстона. Последний утверждает, что армия не слишком хорошо подавляла восстания и в основном осуществляла полицейский надзор. Олстон также убедительно доказывает, что армия в Египте служила стратегическим балансом против многочисленной Сирии и предназначалась для предотвращения восстаний в этой провинции. Видимо, это первый ученый, который предположил, что вероятность восстания в вооруженной до зубов провинции определяется стратегическим расположением армии.
(обратно)321
Об иудейском войске см. «Границы империи» Айзека; о Мавритании см. статьи Шоу.
(обратно)322
О наборе в армию см. «Рим и враги» Маттерн, а также исследование Янн Ле Боэк «Императорская римская армия» (New York: Hyppocrene; London: Batsford, 1994). Олстон в «Армии и обществе» подчеркивает, что гарнизон Египта набирался по всем западным провинциям (хотя после I в. и преобладали новобранцы из Африки) и что египетский опыт противоречит мнению об армии как о закрытой касте, почти не контактирующей с местным населением. О численности вспомогательного войска см.: П. Э. Холдер «Исследования Auxilia римской армии: от Августа до Траяна» (British Archeological Reports, Oxford, 1980); Э. П. Бэрли «Экономический эффект римской пограничной политики» // Римский Запад в III в. (British Archeological Reports, Oxford, 1981).
(обратно)323
См.: Джонатан Росс «Еврейские вооруженные силы на службе Риму». Доклад на ежегодном собрании Общества библейской литературы, Сан-Антонио, штат Техас, 23 ноября 2004 года (. yorku. ca/Pot%20Jewish%20Forces. pdf).
(обратно)324
Г. Вулф «Стать римлянами».
(обратно)325
О греческом Востоке см. прежде всего основополагающее исследование Эрика С. Грюэна в двух томах. Это единственная на сегодняшний день научная работа, которая в полной мере учитывает роль местной политики и местных институтов в римском империализме. Вполне вероятно, что механизмы, описываемые Грюэном, действовали и в других провинциях империи.
(обратно)326
Шоу «Тираны, бандиты и цари».
(обратно)327
Анализ персональной власти и «ритуализированной дружбы», см. в «Тиранах» Шоу.
(обратно)328
Краткую историю римского владычества над евреями после смерти Ирода см. в работе М. Гудмена «Рим и Иерусалим: столкновение древних цивилизаций».
(обратно)329
Обзорная история республиканской Сицилии изложена в работе Р. Дж. Уилсона «Сицилия в Римской империи: археология римской провинции, 36 г. до н. э. – 535 г. н. э.» (Warminster, UK: Aris & Phillips, 1990). О налогообложении в Сицилии: Против Верреса 2, 3. Цицерон обычно именовал местных сборщиков налогов декумариями (например, 2, 3; 66, 75), поскольку они брали десятую часть зерна по «Гиеронову закону»; еще он называл их публиканами (например, 2, 3). Цицерон ссылался на некоего представителя итальянской «компании» откупщиков пастбищ, по имени Карпинаций (2, 2; 2, 3), но не сохранилось иных сведений об «экспорте» итальянского бюрократического аппарата, кроме имени этого человека.
(обратно)330
Марцеллы и Цицерон: Против Верреса 2, 2; 2, 1. О друзьях Рима: 2, 1. О Сегесте и Сципионе: 2, 4. О Сиракузах и Марцеллах: 2, 2. О Мессане и Верресе: 2, 4.
(обратно)331
Об обычае hospitium между римской аристократией и сицилийской элитой: Против Верреса, 2, 2, 3, 4. См. также: Конрад Вербофен «Дружеская экономика: экономические аспекты патроната в поздней республике» // Collection Latomus, 269, 2002. О Гавии из Мессаны: Против Верреса 2, 4. О Стении из Ферм: Против Верреса 2, 2; см. также 2, 2, где Стения оправдывает Помпей, другой бывший «гость»; о Стении как «госте» Цицерона: 2, 2.
(обратно)332
Цицерон называет их венериями: Против Верреса 2, 3 и во многих других речах. О культе см. работу Уилсона «Сицилия». При отсутствии на острове «римской» армии на Сицилии имелся небольшой флот: Против Верреса 1, 13; 2, 3.
(обратно)333
О преследовании аристократами своих врагов см. случаи Сопатера (Против Верреса 2, 2, 68–75) и Стения (2, 2, 83-118).
(обратно)334
Об отправке городами делегаций в сенат см., например, Против Верреса 2, 2.
(обратно)335
Против Верреса 2, 2, 3.
(обратно)336
О кочевых племенах и их отношениях с Римской империей см., в частности, «Границы империи» Айзека, статью Б. Шоу «Страх и ненависть: номадская угроза и римская Северная Африка» (LAfrique Romaine: Les Conferences Vanier, 1980), статью Д. Графа «Рим и сарацины: переоценка кочевой угрозы» (L’Arabie préislamique et son environment historique et culturel, Strasbourg: Universite des Sciences Humaine de Strasbourg, 1989).
(обратно)337
См. недавние публикации: Каллен Мерфи «Мы римляне? Падение империи и судьба Америки» (New York: Houghton Mifin, 2007); Томас Мэдден «Империи доверия: как строился Рим – и как Америка строит Новый Свет» (New York: Dutton, 2008).
(обратно)338
Доклад, представленный на конференции «Вторжение: злоупотребление сравнительной историей» (Мичиганский университет, Энн-Арбор, 21 ноября 2008 г.).
(обратно)339
См. работу И. Гарлан.
(обратно)340
См. работы И. Гарлан и П. Ханта.
(обратно)341
Аристотель Политика 1269a36-b6.
(обратно)342
См. работы П. Картледжа, Н. Лураджи и С. Олкок.
(обратно)343
Фукидид 7, 27.
(обратно)344
Оксиринхская греческая история 17, 4.
(обратно)345
Обзор войн и восстаний со 140 по 70 г. до н. э. см. у Б. Шоу и К. Брэдли.
(обратно)346
Аппиан Гражданские войны 1, 9, 36.
(обратно)347
См. работы Й. Фогта, К. Брэдли и П. Гарнси.
(обратно)348
Диодор Сицилийский 34, 2.
(обратно)349
Аппиан Гражданские войны 1, 116, 539.
(обратно)350
Страбон 14, 1; 34–35.
(обратно)351
Диодор Сицилийский 2, 55–60.
(обратно)352
См. работу Т. Урбанчик.
(обратно)353
О мессианстве см. исследование Н. А. Машкина.
(обратно)354
Афиней Пир мудрецов 6, 266d. См. также работу А. Фукса.
(обратно)355
Диодор Сицилийский 34, 2; 36, 4.
(обратно)356
Саллюстий 3, 90.
(обратно)357
Плутарх Красс 8, 4.
(обратно)358
Плутарх Красс 8, 4.
(обратно)359
Клавдиан Гетская война 155–156.
(обратно)360
Авл Геллий Аттические ночи 5, 6, 20.
(обратно)361
Мы опираемся в основном на византийские пересказы Диодора VIII и IX веков. Диодор, в свою очередь, опирался на философа-стоика Посидония.
(обратно)362
Диодор Сицилийский 34, 2.
(обратно)363
Диодор Сицилийский 36, 6.
(обратно)364
Аппиан Гражданские войны 1, 116, 540.
(обратно)365
Страбон 6, 2; Тацит Анналы 4, 27; Дион Кассий 77, 10.
(обратно)366
Деяния божественного Августа 25.
(обратно)367
Светоний Цезарь 30, 4.
(обратно)368
Плиний Естественная история 7, 92.
(обратно)369
Письма Цицерона к Аттику 7, 11.
(обратно)370
Плутарх Сулла 38.
(обратно)371
О карьере Цезаря см. мою книгу «Цезарь: жизнь колосса» и биографии К. Майера и М. Гельцера.
(обратно)372
Саллюстий Катилина 54, 4.
(обратно)373
См. статью П. Уайзмена «Публикация записок о Галльской войне» // «Юлий Цезарь как искусный репортер: записки Цезаря как политический инструмент».
(обратно)374
О важности рек см. Дэвид Бронд «Речные границы в энвайронментальной психологии римского мира» // «Римская армия на Востоке», JRA Supplementary Series, 18, 1996.
(обратно)375
Цезарь Галльская война 4, 38.
(обратно)376
Плутарх Катон 51; Светоний Цезарь 24, 3; см. также работы Гельцера и Майера.
(обратно)377
О дипломатии Цезаря см. мою биографию Цезаря.
(обратно)378
Например, карьера и последующая казнь вождя Аккона. / Цезарь Галльская война 6, 4.
(обратно)379
Дион Кассий 40, 41.
(обратно)380
Цезарь Галльская война 8, 49.
(обратно)381
О слухах см., например, письмо Целия к Цицерону // Цицерон 8, 1.
(обратно)382
Об армии этого периода см.: Ф. Э. Эдкок «Римское военное искусство при республике» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940); Питер А. Брант «Итальянская рабочая сила, 225 г. до н. э. – 14 г. н. э.» (Oxford: Oxford University Press, 1971); Питер Коннолли «Греция и Рим в состоянии войны» (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981); работы Э. Габбы, Л. Кеппи, Ж. Армана и Р. Э. Смита.
(обратно)383
О дисциплине см.: Светоний Цезарь 65, 67; Плутарх Цезарь 17.
(обратно)384
Ср., например, историю Требатия, клиента Цицерона // Цицерон 7, 5 и др.; см. также Катулл 29.
(обратно)385
Светоний Цезарь 24.
(обратно)386
Награждение центурионов за храбрость – Галльская война 6, 40; Светоний Цезарь 65, 1. О командном стиле и тяжелых потерях см. Галльская война 7, 51; Гражданская война 3, 99. О «конкурсе» в доблести и награде см. Галльская война 5, 44; 7, 47, 50; Гражданская война 3, 91.
(обратно)387
Знаменосец: Галльская война 4, 25; Самбра: Галльская война 2, 25.
(обратно)388
Скева: Светоний Цезарь 68, 3–4; Аппиан Гражданские войны 2, 60; Дион упоминает Скевия, что служил с Цезарем в Испании в 61 г. до н. э. (38, 53). О социальном статусе и уровне образования центурионов см.: Н. Адамс «Поэты: язык, культура и центурионы» // Journal of Roman Studies, 89, 1999.
(обратно)389
Рональд Сайм «Римская революция» (Oxford: Clarendon, 1939). О казни непокорных солдат см.: Дион Кассий 43, 24.
(обратно)390
Светоний Цезарь 77, 86.
(обратно)391
См. работу Э. Луттвака.
(обратно)392
Аммиан Марцеллин 28, 5.
(обратно)393
Аммиан 28, 2; 29, 6. См. также: Д. Ландер «Римские каменные укрепления с первого по четвертый век нашей эры» // B. A. R. International Series, 206.
(обратно)394
Аммиан 26, 5; 27, 1.
(обратно)395
Д. Дринкуотер «Алеманны и Рим: 213–496 гг.» (Oxford: Oxford University Press, 2007). Он утверждал, что все операции в верхнем течении Рейна были обусловлены потребностями императоров в престиже, а не военной необходимостью, но это упрощение. Да, алеманны сами по себе не представляли угрозу существованию империи, но они причастны к набегам на имперские территории, а иногда пытались захватить римские владения.
(обратно)396
См. работы Д. Манна и Б. Айзека.
(обратно)397
Работа Майкла Уитби «Рим в войне, 293–696 гг.» (Oxford: Oxford University Press, 2002) затрагивает вопросы боеготовности и мобильности; о скорости перемещений см. книгу Джона Ф. Мэтьюса «Путешествие Феофана: путешествия, бизнес и повседневная жизнь римского Востока» (New Haven, CT: Yale University Press, 2006).
(обратно)398
Кампании тетрархов реконструируются в основном по сильно фрагментированным источникам и посвятительным надписям; см. работу Тимоти Д. Барнса «Новая империя Диоклетиана и Константина» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982). Основными источниками середины IV в. являются первые части сочинения части Анонима Валезия, а также повествование Аммиана Марцеллина.
(обратно)399
Ср., например, Юлиана на Рейне и Констанция на Среднем Дунае: Аммиан, 6, 10; 18, 2 (Юлиан); 17, 12–13 (Констанций). То же касается Валентиниана на Рейне: 27, 2; 10, 29 и Валента на Нижнем Дунае: 27. 5.
(обратно)400
См. работу М. Кэрролл. Дринкуотер показывает, что алеманны демонстрировали устойчивое экономическое развитие в V в.
(обратно)401
Максимиан: Panegyrici Latini 2 [10], 7-10. Юлиан: Аммиан 17, 1; 17, 10; 18, 2. Констанций: Аммиан 17, 12.
(обратно)402
См. мою статью об управлении клиентами.
(обратно)403
Аммиан 17, 12.9.
(обратно)404
Некоторые примеры принудительного использования рабочей силы: Аммиан 17, 13; 28. 5; 30. 6; 31, 10.
(обратно)405
Panegyrici Latini 7 [6], 10.1–7;. Аммиан 27, 2.
(обратно)406
Например, Аммиан 17, 1; 10, 8–9; 18, 2.
(обратно)407
Аммиан 17, 13; Аноним Валезия 6, 32.
(обратно)408
См. Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz (Meinz: Verlag de Romische – Germanischen Zentralmuseums, 1993).
(обратно)409
См. Э. А. Томпсон «Ранние германцы» (Oxford: Oxford University Press, 1965.
(обратно)410
См. Аммиан 28, 2; 27, 5; 18, 6.
(обратно)411
Аммиан 29, 5; 21, 4; 27, 10; 29, 6; 31, 5.
(обратно)412
Более подробно см. мою статью об управлении клиентами.
(обратно)413
См. мою книгу «Империя и варвары».
(обратно)414
См. Х. Вольфрам «История готов» (Berkeley & LA: University of California Press, 1988).
(обратно)415
См. Д. Г. Грин «Язык и история раннего германского мира» (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
(обратно)416
Аммиан 16, 12. См. также Acta Archaeologica, 34, 1963.
(обратно)417
См. мою книгу «Империя и варвары».
(обратно)418
См. работу Л. Хедигера.
(обратно)419
Аммиан 17, 12; 30, 6.
(обратно)420
См. примечание 20.
(обратно)421
Дринкуотер утверждал, что алеманны не представляли угрозы, но это значит бросаться из одной крайности в другую.
(обратно)422
См. Аммиан 31, 3. См. также мою статью «Почему варвары перешли Рейн?» // Journal of Late Antiquity, 2009.
(обратно)423
Это явствует из поражений в 386 и 405 гг. двух лидеров беглецов-готов Одофея и Радагасия, которые оба пытались прорвать римскую границу самостоятельно. Эти примеры, а также агрессивная имперская реакция на более успешные вторжения показывают, что этот период не демонстрирует фундаментальных изменений римской политики, вопреки утверждению Уолтера Гофарта («Рим, Константинополь и варвары в поздней античности», American Historical Review, 76, 1981).
(обратно)424
См. мои работы «Готы и римляне» и «Падение Римской империи».
(обратно)425
О гуннах см.: Отто Д. Менхен-Хельфен «Мир гуннов» (Berkeley & LA: University of California Press, 1973); Э. А. Томпсон «Гунны» (Oxford: Blackwell, 1995).
(обратно)426
См. мою работу «Падение Римской империи».
(обратно)427
См. мою работу «Империя и варвары».
(обратно)


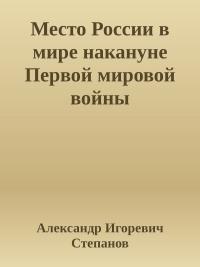
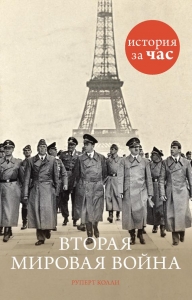



Комментарии к книге «Творцы античной стратегии. От греко-персидских войн до падения Рима», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев