Санников Георгий Большая Охота Разгром украинской повстанческой армии
Внукам Александру и Максиму посвящаю…
От автора
В предлагаемом читателю повествовании автор описывает события, свидетелем которых он был. Не претендуя на особое мнение, я излагаю известные факты так, как я оценивал их в то время и теперь, спустя десятилетия, стараясь оставаться максимально объективным. Все изложенное в книге имело место в жизни.
Это не плод фантазии или вымысел автора, а происходило со мной либо с близкими мне товарищами по работе и окружению. Некоторые события воспроизведены на основании прочитанных документов — немых свидетелей того времени.
Если бы не помощь близких и друзей, вряд ли я справился бы с поставленной перед собой задачей.
Особенно признателен я своей жене — Блатовой Татьяне Игоревне, Будницкой Полине Зиновьевне, генерал-майору Горбачеву Николаю Александровичу, Чрезвычайному и Полномочному Послу Грищенко Анатолию Ивановичу, генерал-майору Диченко Альберту Николаевичу, Чрезвычайному и Полномочному Послу Квицинскому Юлию Александровичу, полковнику Козобродову Валентину Дмитриевичу, Санникову Дмитрию Захаровичу, полковнику Семенихину Евгению Григорьевичу; друзьям военной юности герою Корейской войны летчику-истребителю полковнику Герману Аскольду Андреевичу, командирам воздушных кораблей Королю Игорю Владимировичу, Ломанчуку Василию Никитовичу, о которых всегда буду помнить с благодарностью.
Вместо предисловия
Не судите, да не судимы будете…
Евангелие от Матфея, 7:1В своей книге «Рука Москвы» последний Председатель КГБ Советского Союза генерал Л.В. Шебаршин впервые официально признал, что Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, сняв тем самым запрет вообще говорить на эту тему. Западной общественности давно были известны по материалам процесса западногерманского Федерального суда в Карлсруэ в 1962 году, наверное, все детали этого трагического события.
Факт физического устранения одного из опаснейших и кровавых врагов советской власти сегодня называют убийством. В те годы эти акции органов госбезопасности назывались ликвидацией, но никак не убийством. Эти слова, по моему мнению, несут совершенно разные смысловые нагрузки, хотя результат один — заранее спланированная и подготовленная насильственная смерть конкретного человека. С позиций сегодняшнего дня это, конечно же, можно назвать убийством…
Шла жестокая война с врагами советской власти в Западной Украине, пытавшимися вооруженным путем свергнуть ее. Разве на войне уничтожение врага есть убийство? На войне как на войне — всегда есть жертвы. Разве стреляющий в тебя противник жалеет тебя?
Из всех известных идеологов и лидеров ОУН[1] Степан Бандера является самой заметной фигурой. Спросите сегодня любого, что ему известно о Симоне Петлюре, председателе Украинского правительства в Киеве в 1918 году и застреленного из револьвера в Париже в 1926 году? Или о полковнике Евгене Коновальце, засланном с Украины в Голландию от имени легендированной подпольной националистической организации и ликвидированном в 1938 году сотрудником НКВД. Этим сотрудником НКВД был ставший впоследствии легендой генерал КГБ Судоплатов, подсунувший Коновальцу коробочку любимых им конфет с начинкой, которая разорвала полковника на куски. Вряд ли эти лидеры украинского националистического движения известны широкому кругу граждан.
А вот что касается многотысячной Украинской повстанческой армии, действовавшей на территории западных областей Украины с 1942 года до полной ликвидации к середине 50-х годов, бойцов которой иначе, как бандеровцы или бандиты, не называли, то народ и сегодня знает, кто такие бандеровцы. К сожалению, еще и сегодня кое-кто называет жителей Западной Украины вот так, как говорится, за глаза и всех подряд бандеровцами, не разделяя жителей Западной Украины, связанных с националистическим подпольем и поддерживавших его, и теми, кто выступал против, был в советском активе, комсомоле, партии, укреплял советскую власть, за что бандеровцами уничтожались на месте без суда и следствия обычно с помощью веревки-удавки так называемой службой безопасности ОУН 1. Кстати, многие были вынуждены оказывать помощь бандеровцам, опасаясь за свою жизнь. Бандеру не убили, а ликвидировали как опасного матерого врага, идеолога и руководителя вооруженного сопротивления советской власти в западных областях Украины.
Каждая историческая эпоха рождает своих героев. Он, Степан Бандера, был также героем для тех, кто не только разделял его политические взгляды, но и с оружием в руках боролся против советской власти за, «независимую, свободную Украину», как призывал Бандера.
Бандеровское движение возникло на хорошо подготовленной всем предшествовавшим историческим развитием почве.
Вспомним, что представляла собой Украина до Богдана Хмельницкого, заключившего в 1654 году военно-политический союз с Россией (что мы называем воссоединением Украины с Россией). Украину до этого союза раздирали со всех сторон Австро-Венгрия, Польша, Россия, Румыния, Турция. Богдан Хмельницкий спасал нацию — и пошел на союз с Россией, союз с великим русским народом, могучим соседом, с такими же славянами, исповедовавшими одну и ту же православную религию. В западных регионах Украины господствовали то поляки, то австрийцы, то венгры. Украинцы, как и русские, народ свободолюбивый, национальный дух и национальное сознание у них, как и у русских, высокое.
Политика царской России была известна: «какой еще там украинский язык, нет такого языка, не было и не будет». А какая же нация без родного языка? Ну не хотели украинцы говорить на польском, чешском, венгерском, русском языке. У них свой язык, как один из элементов нации, украинский.
Борьба с пришлыми оккупантами сопровождала всю историю Украины. Действительное освобождение пришло в Украину только с установлением там советской власти. Влияние России на Украину в силу исторически сложившихся условий было огромным. И это естественно. Это было, есть и будет. Мы нужны друг другу, и придет время, когда будут найдены какие-то формы действительно прочного и равноправного союза между нашими государствами. Это вопрос времени, условий и братских договоренностей. Но оставим это будущему.
История Украины знала своих Пугачевых, Разиных, Булавиных.
Гонта, Кармелюк, Сагайдачный, Дорошенко, Наливайко, Богун и десятки, сотни других борцов за свободу и независимость своих земель.
Угнетались западные украинцы поляками страшно. Школы и гимназии с преподаванием на украинском языке были редкостью. Шло насильственное ополячивание украинцев. Польскими властями самым жестоким образом подавлялось любое проявление национального самосознания у украинцев, проживших в Польше на тех землях, которые после разгрома Польши фашистской Германией в 1939 году исторически обоснованно воссоединились с Советской Украиной. Это вызывало ответную реакцию у украинского населения. Вот почему семена украинского национализма упали на благодатную почву именно на землях Западной Украины, которая по сей день является трансформатором и носителем националистических идей, источником украинского национального самосознания.
В годы панской Польши, впервые годы советской власти и в начальный послевоенный период большую часть населения западных областей Украины составляли селяне. Это были в основном сельскохозяйственные регионы, находившиеся под сильным влиянием греко-католической, униатской церкви, названной так по Брестской унии[2] 1596 года, когда под воздействием католической Польши и Ватикана часть православной церкви перешла в лоно католической. Язык богослужений оставался украинским, а ритуальная часть стала католической. Именно греко-католическая церковь всегда была оплотом и базой националистического движения, а большинство его руководителей являлись выходцами из церковных кругов.
Степан Бандера был типичным представителем той части сельской интеллигенции, которая знала и понимала простой сельский люд. Он родился в сельской местности, недалеко от районного центра Калуша Станиславской области, в семье униатского священника.
Бандера с детства воспитывался в националистическом духе, рос в обстановке борьбы за свободную, «незалежную» Украину. Это перешло к нему от деда, отца, близких родственников, активно участвовавших в освободительной борьбе против польских властей, в годы гражданской войны против белой армии, и затем советской власти в Украине.
Школьником он вступил в молодежную националистическую организацию, а затем еще молодым человеком возглавлял окружной провод[3] ОУН. Был лично знаком с основателем ОУН полковником Евгеном Коновальцем. Он первым выступил против полковника Мельника, возглавившего ОУН после смерти Коновальца в Роттердаме в 1938 году, когда Мельник внес предложение проводить борьбу против советской власти политическим путем. Именно Бандера в 1940 году отмежевался от Мельника и создал свой так называемый революционный провод ОУН, призывая ее членов к вооруженной борьбе со всеми оккупантами в Западной Украине.
Он пользовался непререкаемым авторитетом у всех, кто был сторонником его идей, кто был в вооруженном подполье в Западной Украине. Составлявшиеся им призывы, распоряжения и листовки несли в себе мощный заряд национализма. Он умел сильно воздействовать на психику вовлекаемых им в борьбу против советской власти людей. Он и сегодня продолжает воздействовать на умы людей. В ряде городов западных областей Украины стоят его бюсты, улицы носят его имя. С этим нельзя не считаться.
Органам госбезопасности Бандера стал известен как руководитель и организатор убийства советского дипломата в Польше Майлова в 1933. Убил его по приказу Бандеры член ОУН Лемик.
На процессе в Варшаве Бандера обвинил во всех бедах украинского народа компартию Западной Украины (КПЗУ), которая якобы действовала под руководством «московских оккупантов». Бандера был в 1935 году все еще в польской тюрьме, когда по его ранее отданному приказу членами ОУН был убит министр внутренних дел Польши Перацкий. Как тогда заявляли оуновцы, они привели приговор в исполнение «за злодеяния и издевательства над украинским народом». Бандера был приговорен к смертной казни, замененной по амнистии на пожизненное тюремное заключение.
В тюрьме он просидел более пяти лет. Освободился после разгрома Польши германским вермахтом и Красной Армией в 1939 году. Бандера сразу же перешел на нелегальное положение и все свои усилия как руководитель ОУН сосредоточил прежде всего на борьбе против советской власти, установленной в Западной Украине сразу после освободительного похода Красной Армии.
Семью Бандера создал в начале 40-х годов, женившись в Германии на украинке, активном члене ОУН, Ярославе. Имел троих детей. Старшая дочь родилась в 1941 году, младшие — сын и дочь в 50-е годы в Германии. Бандера закончил полный курс украинской гимназии, а затем несколько лет учился на агронома в Политехнической высшей школе. Диплом получить не успел из-за ареста.
Бандера был готов сотрудничать хоть с чертом, лишь бы этот черт был его сторонником в борьбе против Москвы, за выход Украины из состава СССР, за создание «самостийного» украинского государства. Он имел тесные контакты с немецкими политическими кругами и, разумеется, с немецкой военной разведкой — абвером[4], возглавлявшейся в те годы небезызвестным адмиралом Канарисом. Незадолго до войны он с помощью абвера создает военные походные группы из числа молодых членов ОУН для использования их в войне против СССР. Налаживает конспиративные связи с оуновским подпольем в Западной Украине, организует там вооруженные группы оуновцев для проведения диверсионно-террористических акций в тылу Красной Армии. Вместе с определенными военными кругами вермахта и под руководством абвера создает Украинский военный легион, печально известный как батальон «Нахтигаль» («Соловей»)[5], где командовал ставший в 50-е годы министром западногерманского правительства Оберлендер и член центрального провода[6] ОУН Роман Шухевич, в будущем командир Украинской повстанческой армии (УПА), известный в оуновском подполье как генерал-хорунжий Тарас Чупринка. В 1950 году недалеко от города Львова во время боя после его обнаружения и попытки прорваться, смертельно ранив при этом офицера госбезопасности, Чупринка был убит.
Перед самой войной Бандера по собственной инициативе, не посоветовавшись с немцами, создает Украинский национальный комитет с целью консолидации политических сил на Украине. Ворвавшись 30 июня 1941 года вместе с германскими войсками в г. Львов, батальон «Нахтигаль» расстреливает еврейскую интеллигенцию, видных ученых и неугодных Бандере лиц из числа украинцев. И сразу же по команде Бандеры комитет провозглашает восстановление Украинского государства. За эту «самостийность» Бандера по указанию Гитлера был арестован как организатор заговора против Германии и до 1944 года находился в концлагере на территории Германии. Освобожден он был по указанию Гитлера же с целью привлечения к сотрудничеству всей ОУН — УПА для вооруженной борьбы у нее в тылу Красной Армии.
Участь Германии к тому времени была предрешена. Бандера вел двойную игру. Ему нужно было сохранить вооруженные формирования ОУН — УПА в Западной Украине, имея в виду все ту же цель — отсоединение Украины от Советского Союза. Он был уверен в слабости Советского Союза после Второй мировой войны, в расколе союзников по антигитлеровской коалиции.
После 1945 года, находясь в американской зоне оккупации Германии, Бандера стал сотрудничать с американской разведкой, с которой был связан самым тесным образом вплоть до своей смерти в 1959 году. Вообще вся деятельность ЗЧ ОУН[7], начиная от подготовки до заброски агентуры, проходила под руководством и контролем американской разведки. Речь Черчилля в Фултоне в 1946 году, положившая начало «холодной войне», резко активизировала действия националистических центров за рубежом, и вооруженное оуновское подполье, до сих пор действовавшее в Западной Украине.
Лично Бандера не принимал участия в террористических операциях. Но именно по его приказам и призывам руководимые им из Мюнхена оуновцы зверски расправлялись с советско-партийным активом в Западной Украине.
За весь послевоенный период, вплоть до середины 50-х годов, в боях против вооруженного подполья погибло более 25 тысяч военнослужащих и сотрудников госбезопасности. Жертвами «бандеровских боевок стало более 30 тысяч мирных жителей из числа советских активистов на селе. Были случаи, когда оуновцы не просто расстреливали или вешали активистов, а для устрашения могли распороть живот беременной, отпилить голову, повесить за ноги, убить другим изощренным способом. Применяя зверские казни, они хотели тем самым запугать селян, заставить их подчиниться своим требованиям. Бандера — весь в крови невинно замученных и убитых людей.
Со своей стороны за этот же период оуновцы потеряли более 60 тысяч убитыми. Это не считая захваченных раненых, которые госпитализировались, лечились и после осуждения направлялись в лагеря или освобождались, в зависимости от степени своей вины. В отдаленные районы Севера, в Казахстан были выселены многие тысячи семей так называемых бандпособников. Практиковалась высылка бандпособников и в другие районы Украины, чтобы лишить повстанцев их родственной и материальной базы.
Шла самая настоящая гражданская война, которая стоит всегда больших жертв с обеих сторон. Бои не прекращались до 1950 года, а отдельные вооруженные столкновения продолжались еще несколько лет.
Оуновские руководители многократно заявляли об уничтожении «московскими оккупантами» по приказу Сталина украинского народа. Могу заверить любого, что не Сталин и руководимое им государство в лице армии и советских карательных органов уничтожали украинцев, а именно Бандера виноват в геноциде украинского народа. Он посылал в бой цвет украинской нации, по его приказу бессмысленно гибли в боях с советскими войсками и спецотрядами госбезопасности лучшие украинские парни, генофонд Украины. Именно Бандера развязал гражданскую войну на территории Западной Украины. Именно он вынудил Советское государство применять строгие меры к бандпособникам, чтобы скорее и с малыми жертвами завершить кровавую эпопею. Нет, Сталин гуманно отнесся к украинскому народу. В тот период он мог просто выселить большую часть населения вообще за пределы республики, как это было сделано в Чечне в 1944 г.
Советское государство многократно обращалось к оц подполью с предложением о выходе с повинной и обещанием амнистией. В последние годы делалось все возможное, чтобы сохранить жизнь рядовым участникам бандформирований, в прошлом простых сельских парней. Уничтожались те, кто, несмотря на все призывы советской власти, продолжали вооруженное сопротивление, терроризировали местное население.
Умный и расчетливый политик, умелый политический игрок с авантюрным уклоном Бандера отлично понимал, что даже самый могучий деревенский бык не остановит паровоз, который все равно раздавит его. Заведомо зная финал его идеологической несостоятельности в вооруженной борьбе за независимую и свободную от советской власти Украину, он постепенно превращался в политический труп и все меньше интересовал наших западных противников. Политическая звезда Бандеры начала закатываться.
Решение о ликвидации Бандеры принималось высшими советскими государственными инстанциями. Органы госбезопасности были только исполнителями приговора Верховного суда.
Решение о ликвидации руководителей ОУН принималось не только в отношении Бандеры. Должен был быть уничтожен и известный идеолог и теоретик украинского национализма Лев Ребет.
Попытки уничтожения Бендеры предпринимались еще в конце 40-х годов. Но сделать это было сложно, так как он был крайне осторожен, являлся опытным конспиратором, усиленно охранялся службой безопасности ОУН, сам был вооружен. В Германии он проживал под другой фамилией, известной самому узкому кругу его сподвижников, поэтому установить местожительство и проследить за ним было крайне трудно. Со временем мы узнали, что Бандера проживал в Мюнхене под фамилией Попель. В 1950 году мы вплотную подвели нашу агентуру к близкому окружению Бандеры. Начало подготовки этой операции относится к 1951 году. Выбор пал на завербованного органами госбезопасности Львовской области Богдана Сташинского. К этому времени он успешно выполнил свое первое задание по розыску убийцы известного писателя-коммуниста Ярослава Галана. Убийца под видом студента вошел в доверие к Галану и убил его пронесенным под плащом в квартиру писателя гуцульским топориком, подкравшись к Галану сзади и нанеся два смертельных удара по голове.
Вскоре Сташинский выполнил еще одно задание, окончательно закрепившее его отношения с госбезопасностью. Он через родную сестру вошел в доверие к ее жениху — руководителю вооруженной группы оуновских повстанцев и ушел к ним в лес, где находился некоторое время в составе этого отряда. Вскоре с его помощью группа была уничтожена. Окружавшая его советская действительность, учеба в одном из вузов Львова, повышение общего благосостояния населения Западной Украины — все это привело к тому, что мировоззрение Сташинского постепенно менялось.
Переломный момент в сознании молодого человека произошел после того, когда он стал свидетелем казни 12-летнего ни в чем не повинного сельского мальчика, задушенного удавкой командиром оуновского отряда только за то, что его родители открыто симпатизировали советской власти.
Впоследствии Сташинский некоторое время находился в Москве, затем по подложным документам проживал в ГДР, совершенствуя немецкий язык и выполняя разовые задания в качестве курьера и связника на территории ФРГ.
Первым, к кому удалось подобраться, был Лев Ребет, так как он не охранялся службой безопасности ОУН, доступ к нему был не затруднен. Оружие, изготовленное в лаборатории КГБ, внешне напоминало трубочку длиной 18–20 сантиметров, диаметром 2 сантиметра, с пружиной для нажатия на одном из концов. Внутри трубочки находилась ампулка с синильной кислотой, которая под воздействием микропорохзового заряда разбивалась и вылетал на расстояние до метра в лицо или грудь человека. Выплеснувшаяся из трубочки синильная кислота превращалась в смертельные для живого существа пары, вдыхание которых приводило к мгновенному сужению коронарных сосудов сердца, что вело к параличу сердца. И все. А через некоторое время сосуды приходили в первоначальное состояние и никакая судмедэкспертиза не могла установить следов насильственной смерти.
Чтобы обезопасить себя от воздействия паров синильной кислоты, исполнитель за несколько часов до акции принимал специальную нейтрализующую таблетку, а после смертельного выстрела вдыхал из раздавленной в носовом платке ампулы пары другого нейтрализующего вещества. Действие этого оружия было продемонстрировано агенту специально прибывшим из Москвы в ГДР инструктором на собаке.
В начале октября 1957 года, Сташинский выстрелил в лицо Ребету, когда тот поднимался по лестнице к себе в квартиру. Судебно-медицинская экспертиза констатировала естественную смерть от остановки сердца.
В начале лета 1959 года Сташинский вновь появился в Мюнхене, имея задачей ликвидировать самого Бандеру, охрана которого к этому времени ослабла и не всегда сопровождала его. На этот раз смертельное оружие было усовершенствовано и состояло из двух трубочек. Столкнувшись с Бандерой-Попелем у его автомашины во дворе, агент растерялся и не смог выстрелить. Выбросив оружие, как и после ликвидации Ребета, в городской ручей, протекавший в парке недалеко от местожительства Бандеры, агент вернулся в Берлин.
Следующая поездка в Мюнхен в середине октября 1959 года была удачной. Агент выследил Бандеру и уже ожидал его в подъезде, дверь которого он открыл специально изготовленным ключом. В тот момент, когда Бандера, войдя в подъезд с улицы, пытался закрыть входную дверь, стоявший у лифта спиной к жертве Сташинский, держа оружие в свернутой газете, нажал одновременно на пружины обеих трубок и выстрелил в лицо жертвы. Раздавил в носовом платке ампулу с нейтрализующим веществом, вдохнул пары и быстро прошел к тому же ручью, в который уже дважды выбрасывал использованное смертельное приспособление…
Я в то время работал в Германии под прикрытием советского посольства в ГДР и хорошо помню описание событий в западной и советской прессе. Существовало две версии. Первая — самоубийство, так как на губах Бандеры судмедэксперты обнаружили мельчайшие осколки тонкого стекла, а в желудке следы синильной кислоты. Медики утверждали, что Бандера мог принять яд. По другой — это была насильственная смерть, наступившая мгновенно от того, что кто-то смог запихнуть в рот жертвы ампулу с ядом. Эта версия имела слабое хождение, так как не было обнаружено следов сопротивления жертвы.
В советской печати и прессе наших друзей из соцлагеря появилось несколько сообщений о смерти Бандеры, которого якобы «убрала» западногерманская Федеральная служба разведки — БНД, возглавлявшаяся генералом Геленом. Присовокупили сюда и федерального министра Оберлендера, заметавшего свою причастность к командованию в 1941 году украинским батальоном «Нахтигаль», о делах которого слишком много знал Бандера.
За выполнение специального задания органов КГБ агент Сташинский был награжден орденом боевого Красного Знамени. Вручал ему орден А. Н. Шелепин, в то время Председатель КГБ. Ряд оперативных работников были награждены орденами Красной Звезды, медалями, знаками «Почетный сотрудник КГБ», повышены досрочно в воинских званиях и в должности.
В 1960 году Сташинский жил в ГДР, где его готовил к работе в условиях Западной Германии. Здесь он познакомился и стал встречаться с гражданкой ГДР некой Ингой Поль, работавшей в Западном Берлине. Кстати, в Западном Берлине до возведения стены в 1961 году работали многие немцы из восточного Берлина, столицы ГДР.
Проверка Инги Поль показала, что она настроена антисоциалистически. Сотрудники, у которых агент находился на связи, пытались отговорить Сташинского от встреч с Поль, но он влюбился в нее и просил разрешения на брак, утверждая, что сумеет оказать на нее нужное влияние и займется идеологическим перевоспитанием.
Разрешение на брак с немкой дал А. Н. Шелепин. Сташинский имел тогда и советские документы на имя Крылова. Вскоре супруги Крыловы выехали в Москву и их постепенно начали готовить к работе на Западе. Но выяснилось, что Поль по-прежнему настроена антисоветски. Более того, она духовно была сильнее мужа, и не он, а она оказывала на него прозападное влияние. Руководство КГБ решило отказаться от использования этой пары в нелегальной разведке.
Беременная Поль уехала рожать ребенка в Берлин весной 1961 года, а в начале августа того же года ребенок умер, и руководство КГБ разрешило выезд Сташинского в ГДР, совершив тем самым роковую ошибку.
Сопровождал Сташинского опытный куратор агента подполковник Юрий Николаевич Александров, ранее работавший в Берлине. Позднее рассказывали товарищи о резолюции на рапорте по вопросу выезда Сташинского в Берлин, наложенной легендарным разведчиком генералом Александром Михайловичем Коротковым, в то время заместителем начальника советской разведки: «Сташинского на Запад выпускать нельзя. Следует создать ему все условия для жизни, построить дачу в любой части Советского Союза по его желанию.»
К сожалению генерал Коротков умер в июне 1961 года. Уверен, что был бы он жив, Сташинский из Союза никогда бы не выехал в ближайшие несколько десятилетий. И это было бы правильно. Есть обстоятельства, и они с точки зрения государственной безопасности оправданны, когда выезд за пределы своего государства должен быть запрещен. Эти обстоятельства известны всем разведкам мира.
Работавший в то время в ГДР разведчик, занимавшийся разработкой украинской эмиграции, некто А. С., фамилию которого и сегодня называть небезопасно, хорошо знавший Сташинского во время его подготовки к ликвидации Ребета и Бандеры и лично участвовавший в этой работе, высказал обоснованное сомнение в искренности и надежности агента, и особенно после женитьбы его на Инге Поль.
А.С. устно доложил свои сомнения одному из руководителей аппарата КГБ в Берлине и просил организовать усиленную охрану супругов, обеспечив надежное негласное наружное наблюдение.
Принимавший доклад генерал сослался на мнение Александрова, который был абсолютно уверен в преданности органам КГБ Сташинского и не допускал мысли о возможной измене. А она случилась.
12 августа 1961 года в день похорон ребенка супруги Сташинские скрытно оставили дом родителей жены недалеко от Берлина и выехали в Западный Берлин, где в полицейском участке заявили о бегстве из ГДР по политическим мотивам. Немецкая полиция сразу же передала супругов американцам.
В те дни только самый узкий круг лиц из высшего руководства ГДР и Москвы знал о предстоящем перекрытии секторальных границ в Берлине, что и произошло в ночь с 12 на 13 августа, то есть с субботы на воскресенье, 1961 года. Находившиеся на похоронах ребенка сотрудники КГБ недоумевали по поводу отсутствия родителей.
В конце дня 13 августа 1961 года стало ясно, что Сташинские ушли на Запад. Все те, кто знал, какие задания выполнял агент в 1957 и 1959 годах в Мюнхене и что может произойти, если Сташинский заговорит, пришли в шоковое состояние.
Как и следовало ожидать, Сташинский заговорил. Его заявление западным властям о том, что он агент КГБ и по заданию советской госбезопасности ликвидировал известных украинских политических эмигрантов Ребета и Бандеру показалось американцам вначале неправдоподобным. Лишь убедившись по предъявленным документам и рассказам Сташинского, что все это правда, они передали агента немцам, чтобы через немецкий Федеральный суд развернуть широкую антисоветскую кампанию.
В Берлин из Москвы тотчас прибыла специальная комиссия для разбора такого крупного ЧП. Подполковник Ю. Н. Александров в сопровождении оперработников был сразу же самолетом отправлен в Москву, где через несколько дней арестован. По команде руководства КГБ следственные материалы должны были быть направлены в военный трибунал, что грозило Александрову минимум 8 годами строгой изоляции. Спасло Александрова от тюрьмы одно обстоятельство. Тогда, в годы хрущевской «оттепели» было разрешено участие адвоката в предварительном расследовании. Александрову дали на выбор любого защитника из утвержденного КГБ списка. На это арестованный Александров заявил, что по рекомендации родственников у него уже имеется адвокат, на что он имеет право как гражданин СССР. Конечно же, он знал, что этот защитник, член Московской коллегии адвокатов, еврей по национальности давно интересует органы КГБ за свои связи с сионистскими кругами и лицами, подозреваемыми КГБ в принадлежности к ЦРУ. Чекисты пытались отговорить Александрова, но тот стоял на своем. Руководство, как всегда, нашло мудрое «соломоново» решение — уволить без пенсии и выходного пособия, чтобы «круги дальше не пошли»…
То же самое произошло с указанным выше А. С. Того отправили в Киев и также уволили из органов без пенсии. Надо отдать должное руководству КГБ Украины, заступившемуся за А. С.: оно добилось его перевода в МВД.
А. С. все надеялся, что за него заступится тот генерал, которому он устно докладывал о своих сомнениях в агенте. Не указал чекист А. С. в своем письменном объяснении комиссии, что устно докладывал о своих сомнениях, надеясь на помощь генерала. Не дождался. Все промолчали.
15 или 16 августа, на третий день после перекрытия границы меня вызвали к руководству аппарата КГБ и как дипломата с диппаспортом направили вместе с А. С. для его прикрытия в Западный Берлин на поиски Сташинского. Дело в том, что А. С. сам попросил выделить для его прикрытия именно меня, так как я, работая в свое время в Киеве, знал Сташинского не только по некоторым оперативным материалам и рассказам готовивших операцию товарищей, но и видел Сташинского, как говорится «вживую». Мне показал его в свое время один из моих товарищей с гордостью за работу по раскрытию убийцы писателя Галана. К счастью, Сташинский не знал и не видел меня.
Мы заняли удобную позицию метрах в 80–100 от главного входа в комплекс зданий, где помещалась военная комендатура США и находились службы ЦРУ на Клейаллее, и вели по очереди все светлое время дня наблюдение с помощью бинокля. Конечно же, это было никому не нужное и заранее обреченное на неудачу мероприятие, годивщееся только для доклада в Москву о принятых мерах. Сташинский, если бы он даже еще оставался в Берлине и по воздушному коридору не был вывезен американцами в Западную Германию или еще куда-нибудь подальше с целью его же безопасности, был надежно укрыт.
Это наблюдение мы вели два дня. А. С. надеялся на чудо. В первый же день, заняв выбранную позицию, А. С. заявил мне: «Георгий, у меня с собой пистолет. Если мы увидим Богдана, уходи, я буду стрелять. Мне терять нечего. Я убью Богдана и себя». Если бы у меня была хоть малейшая надежда на успех дела, я бы все равно не стал докладывать об этом начальству, хотя и подвергал себя риску быть строго наказанным руководством КГБ, узнай оно об этом.
После завершения процесса в Карлсруэ в 1962 году поднялась огромнейшая волна антисоветчины. Вся западная печать буквально захлебывалась от самых грубых выпадов в адрес Москвы, Советского Союза, КПСС, КГБ. Сташинский как-то ушел в тень. «Убийцы в Москве. Это Хрущев, Кремль, КГБ. Сташинский жалкий исполнитель, сознание которого сумели отравить коммунисты-чекисты».
Несколько сдержаннее вели себя некоторые западные крупные официозы, правительства основных западных держав.
К сожалению, мы тогда почему-то не ответили, что по отношению к Бандере был приведен в исполнение приговор Верховного суда по воле и желанию народа за убитых по приказу Бандеры тысячах советских людей. Наши политические потери из-за предательства Сташинского были огромны.
Оценки трагических событий осени 1959 года с позиций сегодняшнего дня выглядят по-другому, да и сама акция не достигла результата. Скорее наоборот — она принесла обратное.
В середине 60-х годов мне рассказывал в Киеве один из руководителей операции полковник А. Д., получивший за нее орден Красной Звезды, что к моменту завершения операции, продолжавшейся восемь лет, ситуация изменилась.
Дело в том, что когда принималось решение о ликвидации Бандеры, основанное на приговоре Верховного суда, вооруженная борьба с бандеровским подпольем была в разгаре. Через несколько лет сопротивление подполья, особенно после 1950 года, резко пошло на убыль. Спустя еще несколько лет Бандера и его ближайшее окружение уже не воспринимались американской разведкой как солидные партнеры по работе против Советского Союза. Авторитет самого Бандеры также стал падать, и не только у американцев, но и среди руководящих членов ОУН, украинской эмиграции.
Бандеру радовала каждая газетная или журнальная статья в советских изданиях о проявлениях украинского национализма. Он буквально бежал к американцам, доказывая, что дело его продолжает жить, что с ним «советы» еще считаются и боятся. Он радовался каждому судебному процессу над украинскими националистами, которые время от времени проходили в Западной Украине. «Вот видите, — обращался он к американцам, — опять они говорят обо мне».
Политический престиж Бандеры падал с каждым днем. Смерть Ребета прошла незаметно — рядовой случай.
Примерно за год до приведения приговора в исполнение украинские чекисты докладывали Москве об изменившейся обстановке вокруг Бандеры, о все усиливающихся разногласиях в руководстве зарубежной ОУН, виновником которых зачастую был Бандера, грызне среди лидеров, о наличии в руководстве разных взглядов на способы и средства ведения борьбы против Советского Союза, о расколе руководства, о падении авторитета Бандеры.
Украинские чекисты в связи с этим ставили вопрос о возможной отмене этой операции, так как смерть Бандеры, по их мнению, может способствовать политической консолидации оуновских зарубежных центров. Москва не соглашалась с мнением Киева. Наверное, определенную роль сыграл и чисто человеческий фактор: кому не хочется получить правительственную награду или повышение по службе? Тем более все было готово для осуществления этой акции.
Полковник А. Д. оказался прав. Похороны Бандеры вылились в мощную демонстрацию единства и сплоченности зарубежных украинских националистов. Смерть Бандеры консолидировала враждебные Советскому Союзу силы в среде украинской эмиграции. Спустя два года еще больший удар советскому престижу был нанесен предательством Сташинского.
Заслуженной карой, актом возмездия, казнью Бандеры мы невольно способствовали реанимации уже начинающего разлагаться политического трупа, воскрешая идеологию «бандеровщины». Украинская эмигрантская пресса писала в те дни: «Бандера умер, но дух его живет». Он превратился с нашей помощью в националистического Иисуса Христа.
Давно ушли в прошлое некоторые, прямо скажем, антигуманные, античеловеческие способы и методы работы разведок и контрразведок. Почти все государства мира осуждают терроризм, индивидуальный террор. Мы должны делать выводы и учиться на ошибках прошлого.
Не могу не сказать в этой связи несколько слов о Ю. В. Андропове, который, насколько мне известно, был первым и, наверное, единственным руководителем органов госбезопасности, который отрицательно относился к индивидуальному террору или подобным актам возмездия.
Сегодняшняя Чечня тоже чем-то отдаленно напоминает Украину 1945–1950 годов, хотя размах проводимых там антитеррористических операций в сотни раз превышает масштабы чекистско-войсковых операций тех лет в Западной Украине.
В годы вооруженного оуновского сопротивления советской власти в Западной Украине, как и сегодня в Чечне, не могла Россия поступать иначе. Каждое государство, располагая такими карательными органами, как армия, спецслужбы, суд, прокуратура, вынуждено прибегать к силе во имя общих государственных и народных интересов. В противном случае наступит невообразимый хаос и будут пролиты реки крови.
К чеченским террористам, как в свое время к «бандеровца» государство неоднократно обращалось с предложением о добровольной сдаче оружия, выходе с повинной и общей амнистии. Не хотите решать вопросы мирным путем — значит, будете уничтожены во имя интересов своего же народа, который боевики, как чеченские, так и украинские в прошлом, пытаются запугать силой оружия и зверств.
В мире еще существует много зла, основанного на национальных чувствах, исключительности и превосходстве над другими нациями. И с этим злом мы должны бороться. Не может быть в мире Богом избранной нации. Все мы под единым Богом. Но нужно различать национализм, проповедующий богоизбранность, и патриотизм. Если человек болеет и борется за интересы своей нации, своего государства — это не национализм, а выражение патриотизма. Ничего нет зазорного в том, что украинцы любят свою Украину, а русские — Россию. Но ни в Украине, и в России, в любом другом государстве не должно быть тех, кто проповедует ультрапатриотизм, национальную исключительность и богоизбранность своего народа.
Мы уже имеем один «богоизбранный» народ в Израиле. Но это другая тема.
Глава первая
В маленькой уютной двухкомнатной квартирке пятиэтажного панельного дома по улице Чудновского в Дарнице, именуемой сегодня Украинской Венецией, и, пожалуй, самым красивым предместьем Киева, в комнатке справа от миниатюрной прихожей в полтора квадратных метра сидели двое. Я, бывший офицер госбезопасности некогда великого и могучего Советского Союза, и полковник УПА[8] Василий Степанович Кук, он же Лемиш, он же Коваль, член центрального провода ОУН, более известный в подполье как Васыль Кук, — последний руководитель вооруженного подполья националистов в Западной Украине. Последний, потому что именно к нему перешло руководство вооруженным подпольем после ликвидации генерала Тараса Чупринки, вследствие чего активность подполья ОУН резко пошла на убыль.
Глядя на сидевшего передо мной Кука, я вспоминал то время, когда многотысячные силы были брошены на ликвидацию руководства УПА, поиски членов центрального провода ОУН Лемиша, Орлана (он же Вьюн, Рак, Зенон), известной и авторитетной в подполье, исключительно дерзкой и смелой Рут и десятков других активных руководителей вооруженного подполья в западных областях Украины. Особенно досаждал Чупринка — легендарная для оуновского подполья личность. Он действовал нагло, активно и изощренно. Это он в течение нескольких лет сумел успешно провести ряд вооруженных акций против войсковых соединений госбезопасности Украины, избежав при этом, несмотря на многократное превосходство в силах советских войск, уничтожения своих отрядов.
Генерал-хорунжий, как поговаривали в подполье, учился в военной академии еще до 1941 года где-то на Западе, о его военных талантах ходили легенды. Он мастерски владел практически всеми видами легкого стрелкового оружия: из любого положения и на приличном расстоянии он попадал в ученический тетрадный лист трижды из трех выстрелов, всаживая пули строго симметрично по углам листка, даже из такого оружия, как наш пистолет ТТ. Это он, Чупринка, переодевшись в форму полковника Советской Армии, свободно разгуливал по Львову, отвечая на приветствия младших по званию, а заболев туберкулезом, вместе со своей секретаршей-любовницей по подложным документам лечился в одном из специализированных санаториев союзного значения в Крыму.
«В общем, — думал я, — досталось и той и другой стороне. А переоценивая эту Вандею, эту крестьянскую войну в Западной Украине, по сути гражданскую войну, можно сегодня с уверенностью сказать, что не с дураками мы воевали. Поэтому с самого начала и охотились за верхушкой, стремясь, руководство ликвидировать». Такие вот мысли проносились у меня в голове в этой маленькой квартирке, где мы молча сидели, глядя друг на друга.
Лемиш — маленького роста, с коротко подстриженной седой головой, с лаконичной грамотной речью, в которой четко улавливалось галичанское произношение, так характерное для жителей Западной Украины, особенно Лемкившины, Галиции и Волыни, уверенным движением открыл бутылку хорошего коньяка украинского производства, налил в рюмки и, указывая на сервированный разными закусками стол, первым нарушил становившееся тягостным молчание:
— Выпьем, Георгий Захарович, за встречу, а между нашей последней и нынешней прошло несколько десятилетий, на которой мы с вами впервые выпиваем, и не важно, как мы выпиваем, — как друзья или как враги, главное, мы снова видим друг друга, нам есть что вспомнить, есть о чем поговорить.
Слушая его, я незаметно осматривал комнату и хозяина. Уютно, чисто, много книг, несколько скромных небольшого формата картин с украинскими пейзажами, портрет Кобзаря[9], обрамленный вышитым украинским рушником, к которому было прикреплено что-то очень красивое в виде золотого креста со скрещенными мечами на голубой ленте.
Хозяин — с хитринкой в глазах, мягкими вкрадчивыми манерами, с вопросами, не лишенными ехидства, мудрости и осторожности. И все же я точно угадал: в глазах у Кука был немой вопрос: «Зачем ты пришел ко мне? С добром или злом? Ведь я никогда вам, большевикам, не верил. Ни тогда и ни сейчас. И никогда вас не боялся. Но я рад видеть тебя, Георгий Захарович, потому что имею несколько вопросов, которые я задам тебе, и ты ответишь на них, ибо пришло время для нас обоих». Выпили.
— А это что за крест? — спросил я, указывая на рушник.
— Это Рыцарский крест с мечами в золоте I степени за мои заслуги в борьбе за свободную и независимую Украину в УПА, — ответил Кук.
«Как странно и как все необычно, — думал я. — Два человека из противоположных идеологических лагерей, Рыцарский крест с мечами в золоте, свободная и независимая Украина. И кто мы сейчас? Недруги из враждовавших в прошлом станов, добрые знакомые? На этот вопрос нет ответа».
Кук долго рассказывал о себе, покойной жене, сыне, о своей жизни. Внимательно слушая и наблюдая Кука, я вспомнил, как после освобождения из ВТ[10] КГБ Украины его с нашей помощью устроили на работу в центральный архив МВД, и он, с санкции КГБ, написал диссертацию по истории Украины на соискание ученой степени кандидата исторических наук, и как потом ВАК (Высшая аттестационная комиссия) единодушно признала эту работу… по уровню докторской, и как КГБ зарубил это решение, рекомендовал присвоить кандидатскую степень, а потом не разрешили и этого.
«Интересно, знает ли об этом Кук?» — подумалось мне.
Несколько лет подряд, обычно на Новый год, я приезжал к родственникам в свой родной город и всегда рассказывал жене о своей жизни в этом городе, молодых годах, учебе, службе в системе госбезопасности Украины, о своей любви к этому городу и к людям, населяющим этот изумительный край. О своих живых и мертвых друзьях-товарищах.
Однажды у одного из своих друзей, который занимал высокий пост в руководстве КГБ Украины, спросил я о Куке, и тот сказал:
— Знаешь, до конца своей жизни он будет в поле нашего зрения, он наш вечный объект разработки. Иногда мы встречаемся с ним, когда возникает необходимость что-то дополнительно спросить, а может быть, и посоветоваться. Но он так и не пошел на сотрудничество с нами, остался на своих позициях убежденного борца за «независимую, свободную» Украину. Мы-то знаем его хорошо — это смелый человек. Он, конечно, очень изменился после смерти Уляны, своей жены. Тяжело переживал ее уход. Любил ее. Мы сейчас контролируем каждый его шаг, проводим по нему весь комплекс агентурно-оперативных и оперативно-технических мероприятий. Слушать-то мы его всегда будем, — закончил мой друг.
Рассказывая все это своей жене, которая всегда внимательно слушала рассказ о людях, окружавших меня по работе на Украине, но и принимала самое активное участие в этих разговорах, я неожиданно услыхал:
— А ты позвони Куку. Встреться с ним. Это же твоя молодость. Вряд ли сейчас украинская госбезопасность «уделяет» ему внимание. И вообще, ты знаешь такие вещи, которые известны немногим. Это же интересно для громадного количества людей, для нашей истории. Ты обязательно должен все это изложить на бумаге. Пиши книгу.
— Мемуаров и рассказов писать я не буду, а вот позвонить Куку, наверное, надо. Просто так, из интереса. А может, он меня и не вспомнит…
Получить номер телефона Кука не представляло труда. И тут все же сказалась старая привычка быть осторожным и осмотрительным, а может быть, и чувство страха, зная свою систему и организацию. «А вдруг все-таки слушают, — думалось мне. — Нет, надо на всякий случай подстраховаться, встретиться с кем-нибудь из моих старых друзей, знавших о моей работе с Куком в прошлом».
Сева Юшко, добрый друг и сослуживец по Киеву в разговоре со мной так и сказал:
— Да что ты, Георгий! — и, усмехнувшись, продолжил: — Сейчас никто и никого не слушает. — Наша служба переживает, наверное, самое тяжелое время в своей истории, ей сейчас не до Кука и ему подобных. Нам бы выжить под давлением «демократов» и сохранить кадры.
А тогда я почти год ежедневно встречался с Куком, и не где-нибудь, а во внутренней тюрьме КГБ Украины. Его идеологический «воспитатель». И хотя из его идеологической «перековки» ничего не получилось, тем не менее у нас было много общего в суждениях и оценках и почти не было теоретических разногласий — именно теоретических — по земельному, крестьянскому вопросу. А уж сколько политических споров, и почти все под техникой! Благо девочки на ушах» были свои и неоднократно убирали с пленки материал из моих бесед с Куком, потому что если бы Председатель КГБ, а докладывалась запись именно ему, услышал кое-что из сказанного, то меня в лучшем случае отстранили бы от работы с Куком.
Часто мне звонила Зина, впоследствии жена моего друга Юрки Калиновского. Зина была старшей группы специального подразделения ОТУ[11] КГБ Украины. Эта группа незамужних девушек — сотрудниц КГБ была специально командирована для постоянной работы в Киеве, для укрепления Оперативно-технического управления.
— Зайди, есть разговор, — говорила обычно Зина по телефону, и я тут же, бросив все, выходил из кабинета и бежал через дорогу в здание ОТУ. У нее был малюсенький кабинетик в 3,5 квадратных метра, где, буквально касаясь ее коленками, я садился напротив у миниатюрного столика с аппаратурой, надевал наушники и слушал пленку в тех местах, на которые мне указывала Зина. Обычно это были либо чересчур откровенные политические суждения (а как без них обойтись в жестких беседах с идеологическим противником), либо какие-то непроизвольно допущенные «ляпы» в моих разговорах с Лемишом или Уляной. Например, Лемиш — мне: «Заберите своего Ленина (имелись в виду работы В.И. Ленина, которые по просьбе Лемиша или по моей рекомендации приносились ему)». А у меня никакой реакции на «своего Ленина». Или: «Принесите, если это возможно, за последние два дня газеты «Правда Украины» и «Вечерний Киев». Я в тот же день приношу газеты. Спрашиваю: «Ну, «Правда Украины» это понятно, в ней была статья об идеологическом и моральном бессилии ОУН, а вот зачем вам понадобился «Вечерний Киев» — непонятно. Знаете, как у нас называют эту газету?» И на недоуменный взгляд Лемиша отвечаю: «Киевская сплетница». Хитро-лукавый взгляд Лемиша в мою сторону: «Ай-яй-яй, Георгий Захарович, а еще коммунист. А что здесь написано? Орган горкома КПУ». Оба смеемся. Я с ужасом слушаю свой смех на пленке.
«Ну задаст перцу начальство. Сгореть на таком дерьме. Думать надо было дураку. Расслабился. Забыл, кто перед тобой? Перед тобой враг, а ты с ним хиханьки-хаханьки разводишь, чекист называется, — мелькало в моей голове. — Спасибо Зинатке (так ласково я называл Зину)». Зинатка как всегда выручала. «Не волнуйся! Сейчас при тебе сотру, только ты укажи точное место». Или такое: я Лемишу при встрече через несколько дней на просьбу забрать «своего Ленина»: «Ну конечно, не «вашего же Ленина», а «нашего», вам до «нашего» вряд ли удастся дойти когда-нибудь». Лемиш хитро так, с издевочкой: «А-а, это вы мне за «Вашу сплетницу»?
Я знал, что Лемиш и Уляна по старой конспиративной привычке всех окружавших их людей наделяли, как правило, кличками. Я проходил у них под кличкой «Юрист». Называли так, потому что на пиджаке я носил университетский ромбик, и они знали, что я окончил юрфак Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. «Железно» и в точку. Кличка эта была только для них. Я об этом не должен был знать…
И вот спустя какое-то время решился и набрал номер телефона Кука. Поприветствовав его на украинском, да еще на галичанском наречии, и не представившись, как будто продолжил разговор, начавшийся в далеком прошлом. Чувствуя напряженность в голосе Кука, я «помог» ему, сказав только, что сейчас я уже седой, а тогда был рыжий. «Юрист», — одним выдохом произнес Кук. Договорились о встрече. Потом их было несколько в течение двух лет. Я и не думал переносить на бумагу все свои переживания и известные мне действительно примечательные истории, происходившие в прошлом, если бы не одно событие…
Это случилось в Киеве в конце 1997 года на площади Независимости, бывшей Площади Калинина. Рассматривая книжные прилавки, расположенные во многих местах площади, я спросил, остановившись у одного из них, имеется ли какая-либо литература, где бы упоминалось об известном в прошлом руководителе ОУН В. Куке. Продавцов было двое: мужчина и женщина. Разговор шел на украинском.
— Этот иуда-предатель Кук, агент КГБ и Кремля, еврейский ставленник, — вскричала женщина, — да я бы его своими руками удавила!
Ей вторил мужчина:
— Знаем мы этого предателя! Петля по нему плачет! Но сейчас у меня о нем ничего нет. Раньше у меня были книги, брошюры, где писалось и о нем. Заходите ко мне в следующее воскресенье, я вам кое-что принесу о Куке.
Они продолжали яростно поносить Кука, пока я не прервал их замечанием, что вряд ли Кук агент КГБ, тем более человек Кремля, так как это был активный враг Советов, ярый антикоммунист, враг России, борец за свободную, независимую, соборную Украину. И уж тем более не еврейский ставленник — это чистопородный украинец и противник так называемого «еврейского засилья» в Украине.
— Что-то я вас не понимаю, Вы вообще говорите по-русски, да еще с чисто русским северным произношением, — сказал я, обращаясь к мужчине.
— Я двадцать лет сидел в русских северных лагерях, прошел весь Север, Колыму, Воркуту, я по милости России потерял свой родной язык, а я был в УПА, — возразил мужчина.
— Тем более, если вы были в УПА, то должны были знать Кука. И откуда у вас такая информация о его работе с КГБ, связях с Кремлем, с евреями? — продолжал я.
— Да так говорят о нем у нас на наших собраниях и встречах некоторые члены ОУН, — ответил мужчина.
Я глядел на этих негодующих людей и думал, как легко возбудить человека неправильной или нечетко сформулированной мыслью, направленной по умыслу, или незнанию, или ложной информации, да и просто так небрежно брошенным словом. Мне захотелось рассказать о Лемише, кто он был в действительности. Уж кто-кто, а я знал о Куке, наверное, больше самого Кука — об этом «объекте» самого пристального внимания КГБ, проходившего многие годы под кличкой «Трехсотый» (номер камеры в тюрьме КГБ Украины, где сидел Лемиш.).
Уже после первых допросов стало понятно, что ни о какой вербовке Лемиша не может быть и речи, даже в будущем, а вот использовать его втемную, как тогда говорили (да и сегодня этот оперативный термин остается в ходу), это даже нужно. Это было тогда, наверное, главным в наших в то время активно ведущихся оперативных радиоиграх с ЗЧ ОУН[12] и ЗП УГВР[13].
Все это я вспомнил на пути от площади Независимости к дому своей сестры у Золотых ворот самого любимого для меня из всех виденных городов мира — Киева. И сидя за украинским борщом, который могут варить так вкусно только в Украине, и варениками вместе с пельменями по-уральски, приготовленными сестрой, я все больше приходил к мысли заявить во всеуслышание, что неправда это, все было совсем не так, и многое и сегодня остается ложью, а уж что касается истории Кука, то о нем, последнем из могикан, действительно достойным уважения противнике, необходимо сказать и правду о его захвате, и о работе с ним (но, упаси, боже, ни о каком сотрудничестве и речи быть не могло), о его идеологической стойкости, о неизменном следовании своим идеалам.
«Конечно, — думал я — придется изменить некоторые фамилии действующих лиц, имена и клички агентуры, потому что и сегодня некоторые детали могут повредить еще живущим людям, нанести ущерб интересам как Украины, так и России. Но правду надо сказать, ибо правда не имеет ни временного, ни какого-либо другого фактора, она должна быть только на одном понятном каждому человеку уровне и иметь одно значение — быть и оставаться правдой.
А кем же были мы, тогда совсем молодые чекисты? Чем мы руководствовались? Что вело нас отдавать все силы работе и заставляло, если надо, жертвовать собой во имя интересов общего дела? Во имя чего умирали чекисты под пытками СБ[14], не открывая секретов: знали, что назови агентуру, и ее сразу же уничтожит та же СБ. Что заставляло практически никогда не сдаваться оуновцев? Что заставляло их гибнуть с песнями «Ще не вмерла Украiна», «Ой ти, Галю»? Какие пружины приходили в действие, когда последней мыслью смертельно раненного, уже умирающего оуновца было решение подорвать себя гранатой, да при этом прижать ее рукой к лицу и выдернуть чеку в оставшиеся секунды еще живущей мысли — так изуродовать лицо, чтобы никто не смог опознать и использовать его в своей работе против подполья? И только захватив живыми применив хорошо подготовленную и проверенную многолетним опытом машину идеологического воздействия, заставить человека, зачастую даже и незаметно для него, перейти на нашу сторону, работать на нас. Что же это за сила такая?
Мысль о книге все чаще приходила мне на ум. «Наверное, надо начать с того, как я пришел к в органы госбезопасности, и почему именно сюда. Как готовил себя к роли борца «за освобождение человечества от ига капитала», за свободу человека и за готовность убить человека, если он не воспринимает твою идеологию, не верит в нее, а верит в свою и тоже борется за нее», — думалось мне за «вкусным» столом у сестры в Киеве.
* * *
— Мы не можем взять тебя в органы госбезопасности — набор в наши школы уже закончен, а оформление на работу к нам займет пару месяцев, да и какая работа? Заниматься канцелярской работой вряд ли тебе захочется — так говорил мне подполковник Изместьев, заместитель начальника отдела кадров Министерства государственной безопасности УССР.
К этому времени закончил в Киеве специальную подготовительную школу Военно-Воздушных Сил, с 15 лет уже носил военную форму, не попал в военное училище по состоянию здоровья.
— Ну, а все же, куда пойдешь? — спросил Изместьев, — на завод, или куда учиться?
— Планирую юридический факультет Киевского университета, если получу отказ у вас, — ответил я.
— Ну и хорошо, иди учиться на юрфак, а придет время, мы о себе напомним, мы тебя, я думаю, не забудем, — закончил Изместьев.
Экзамены в конце августа я сдал успешно, и стал студентом.
Годы учебы в университете пролетели быстро. Время было послевоенное, бурное. И уже с первого курса — в комсомольской работе. Все мелькало как в калейдоскопе: председатель спортбюро, член комсомольского бюро, сектор военно-спортивной работы, один из основателей спортивного движения среди студентов Украины по парашютному и планерному спорту. Первым среди студентов Киева окончил Киевский аэроклуб и на аэродроме «Чайка» совершил свои первые пять прыжков. Сотни студентов университета обучались в этом аэроклубе, были среди них и чемпионы республики, несколько мастеров спорта. Осушение Ирпенской поймы, посадка тысяч деревьев на песчаных отмелях и плесах Дарницы, зеленеющих сегодня густым ивовым лесом… В общем жизнь била ключом…
Замечательные ребята, настоящие молодежные вожаки окружали меня: Жора Тихолаз, Володя Черевченко, Игорь Бем, Володя Легкодух, Жора Карась, Юра Котов, Володя Кальченко и многие другие, так искренне веровавшие в нашу конечную цель — победу коммунизма не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире.
Плохо было с одеждой, питанием. Мне так и не удалось получить диплом пилота-спортсмена, для этого надо было после теоретического курса провести два летних месяца на аэроклубовском аэродроме Чайка, не удалось до того поехать и на Кавказ на спортивную студенческую базу под Эльбрусом, чтобы стать альпинистом. После первого курса я увлекся альпинизмом, прошел недельный курс подготовки в альпинистском лагере в знаменитых карьерах на реке Тетерев у Житомира под руководством самого Михаила Тимофеевича Погребецкого[15] — «Михтея», как его звали альпинисты, — учителя всемирно известного Евгения Абалакова[16].
— Я из тебя, Георгий, второго Абалакова сделаю, — как-то сказал Михтей, приметив, как дюльфером[17] я спускался по тридцатиметровой отвесной стене карьера. — Ты и внешне напоминаешь мне его, он был такой же рыжий, крепкий и цепкий, — говорил «Михтей».
Не удалось мне ни первое, ни второе — не было денег на поездку на Кавказ, даже на самый дешевый билет (все остальное шло за счет государства), а два летних месяца каникул надо было использовать для заработка на свое содержание — родители могли только прокормить худо-бедно, но не одевать — в семье трое детей и один работающий отец, первые послевоенные годы… Мать так и сказала: «Сытым в семье будешь, а на одежду у нас денег нет».
Стипендии не хватало, вот и пришлось мне пожертвовать и любимым авиаспортом, и альпинизмом — работал в летний период в пионерских лагерях то физруком, то вожатым, а однажды даже и завхозом, зарабатывал себе на приличную одежонку.
На четвертом курсе я проходил практику в городской прокуратуре в отделе по борьбе с несовершеннолетними преступниками. Прокурором этого отдела была известная в Киеве Клавдия Васильевна Кодубенко. Приятная такая тетка, рано поседевшая светлая шатенка, лет на 15–20 старше меня, фронтовичка, имевшая за войну два ордена, по внешнему облику отвечающая всем требованиям прокурорского набора — подтянутая, строгая, худощавая, всегда в коричневой прокурорской форме (в те годы форма прокурорских работников была коричневого цвета), с потрепанным темно-коричневого же цвета портфелем. Всегда часа на два раньше начала рабочего дня, где-то в шесть, полседьмого утра уже в кабинете и что-то стучит на машинке.
Но это она с виду такая строгая, а вообще-то в глазах, если внимательно посмотреть сквозь толстые стекла очков в черной простенькой оправе в эти близорукие глаза, — где-то там, в глубине детская беспомощность и какая-то щемящая сердце доброта.
Я вместе с ней вел несколько уголовных дел, в которых были замешаны малолетние или несовершеннолетние преступники, в том числе одно из нашумевших в Киеве дел по изнасилованию. Это была банда так называемых малолеток во главе, конечно, взрослого опытного негодяя — шофера грузовика. Дело было запутанное и сложное. Мы старались уложиться в сроки, тем более что оно контролировалось самим генеральным прокурором Р. И. Руденко, в то время работавшим в Украине. Вся эта группа была арестована и содержалась в Лукьяновской тюрьме, куда мы довольно часто ездили их допрашивать. После долгой езды на трамвае шли пешком к тюрьме и проходили мимо действующей церкви. И каждый раз Клавдия Васильевна говорила: «Георгий! Возьми у меня мелочь и подай убогим и нищим старухам, я сама не могу, я в форме». Я хорошо понимал ее, сам сострадал нищим и убогим, коих в те годы в Киеве было предостаточно, молча брал деньги и раздавал «серебро» и «медь» всем понемножку. Я не видел, чтобы она крестилась, но искоса замечал, как она строго и внимательно смотрит на храм и на мою раздачу мелочи, как бы соучаствуя со мной. Но ничего подозрительного, и ничего плохого не подумаешь о таком человеке.
Практику мы проходили вдвоем с сокурсником Валерием Захаровым. И вот однажды, придя на работу, мы увидели за столом в кабинете К. В. Кодубенко двух незнакомых суровой внешности мужчин, не ответивших на приветствие, при этом один из них был в кепке. Оба внимательно смотрели на вошедших.
— Вы кто? — после приветствия спросил я.
— А вот сейчас узнаете, — вместо ответа сказал один из них и ткнул под нос мне красную сафьяновую книжицу с надписью золотом «МГБ УССР», мгновенно захлопнув ее. Я так и не успел прочитать содержимое книжицы-удостоверения, но на фотографии точно был его предъявитель. Я сразу же «окрестил» их — «типы».
— Вы давно работаете в этом отделе? Покажите-ка ваши временные удостоверения, горе-практиканты.
Какой смысл вложил главный «тип» в эти слова «горе-практиканты», я так и не понял. Смысл этих слов стал мне ясен спустя полтора года.
Мы протянули сотрудникам МГБ выданные в горпрокуратуре отпечатанные на листке бумаги, но с официальной печатью временные удостоверения.
— Точно, они, — сказал один из этих двух, пожилой на вид, с изъеденным крупными оспинами широкоскулым лицом с маленькими сверлящими холодными глазами и большой лысиной, прикрытой как будто наклеенными на нее жидкими волосиками, зачесанными со всех сторон. Это и был главный тип. Второй, помоложе, в кепке, молча кивнул. Если первого я как-то сразу же запомнил по его характерным оспинам, то второго никак не смог бы описать, если бы даже и постарался запомнить его лицо, — ну ничего примечательного, кроме серой и тоже совсем неприметной на вид кепки ничего не бросалось в глаза во внешности этого человека. Если пожилой смотрел прямо в глаза и имел какое-то все-таки определенное выражение лица, как мне казалось, несколько насмешливо-ироническое, то тот, помоложе, смотрелся как серое пятно на такой же серой, стене рабочего кабинета Кодубенко. Средненький росточек, маленькое личико с близко посаженными глазками, смотрящими куда-то в сторону, мимо тебя, ну весь какой-то серый, и все тут.
— Так вот я спрашиваю, вы давно знаете Кодубенко? Когда с ней разговаривали последний раз?
— А что, с ней что-то случилось? С ней все в порядке?
— С ней-то все в порядке, если под порядком понимать ее относительно спокойное, для нас, во всяком случае, состояние. Вы отвечайте на наши вопросы, а не задавайте свои, — как-то не совсем понятно ответил пожилой.
— Последний раз вчера, когда мы с ней ездили рано утром в Лукьяновскую тюрьму, — ответил я.
— А не замечали в ее поведении что-нибудь такое, что нормальный советский человек не допускает? — продолжал свой допрос пожилой. «Причем здесь «нормальный советский человек», — подумалось мне. Вслух, однако, я этого не сказал.
— Она нормальный прокурорский работник, с нее пример можно брать.
— Ну, а все же, замечали что-нибудь особенное в ее поведении? Ну, что-то, может быть, необычное для нормального человека? — настойчиво продолжал пожилой.
— Рано на работу Клавдия Васильевна приходила, очень рано, часа за два до официального начала. Мы всегда видели ее за пишущей машинкой, говорила, что много работы, не успевает печатать. Она тут же уходила, когда мы появлялись к девяти часам, в буфет, а бумаги, над которыми работала, прятала в сейф. Ну, что еще? Да, вот как-то немного чудно, она просила меня несколько раз об одном… — я замялся и замолчал.
— Продолжайте, — строго сказал пожилой.
— Она просила меня несколько раз подать милостыню нищим у Лукьяновской церкви по дороге в тюрьму, куда мы вместе ездили на допросы арестованных, говорила, что в форме прокурорской ей делать это неудобно. Давала много мелочи, как будто специально подготовленной. А что здесь такого? Я сам часто подаю «копеечку», когда она есть.
Оба «типа» переглянулись. Наступила короткая пауза.
— А что еще можете рассказать? Больше ни о чем она вас не просила? — спрашивал пожилой.
— Да нет, вроде бы и все. Кодубенко толковый прокурор, знает свою работу, хорошо к нам относилась, учила, как надо работать прокурору в этом отделе.
— Отработалась ваша Клавдия Васильевна, — завершил беседу-допрос пожилой и встал, махнув рукой, наверное, на правах старшего, в сторону второго «типа», что, очевидно, должно было означать: хватит, пошли.
— А что с ней все-таки случилось? — превозмогая страх и робость, спросил я.
— Когда-нибудь узнаете. И кстати, о нашей встрече и беседе никому не рассказывайте, наш вам совет, — отрубил пожилой, и, ловко прикрыв лысину шляпой, вышел из комнаты. За ним прошмыгнул второй.
Мы не знали, что и подумать. Было неприятно и стыдно за вкравшийся в душу страх.
Через несколько дней по горпрокуратуре поползли слухи об исчезнувшей Кодубенко — арестована как враг советской власти за изготовление и распространение антисоветских листовок. Что и как, толком никто ничего не знал. Говорили также, что она эти листовки печатала на машинке, приходя рано утром, задолго до начала рабочего дня. Вот тут я и догадался, что она каждый раз прятала в сейф, — листовки. Стало жутко и неприятно. Она прошла всю войну, опытный, с многолетним стажем юрист, прокурор отдела городской, столичной, прокуратуры. Милая и добрая женщина, сострадающая нищим и убогим. Но никак все это не укладывалось в моем сознании в образ врага советской власти, а значит, и моего врага…
За несколько месяцев до окончания последнего, пятого курса нескольких студентов, в том числе и меня, вызвали в деканат. Вызывали по одному, как говорили, к представителям ЦК Компартии Украины, определявшим, кого именно направлять на учебу на годичные курсы при ЦК компартии. В дальнейшем окончившие курсы направлялись на преподавательскую работу в вузы республики. Были также представители МГБ, МВД и прокуратуры. Некоторые выпускники сами изъявляли желание встретиться с представителями этих ведомств. Среди них был и Радик Ярошевский, который мечтал о работе в МГБ — МВД, в прокуратуре. Ему довольно грубо отказали, и в последующем распределили в адвокатуру. Он был моим приятелем, мы симпатизировали друг другу. Радик был родом с Полтавщины, где до войны его отец работал секретарем РК компартии и погиб в партизанском отряде там же. Радик владел украинским лучше русского, по-русски говорил грамотно, но как-то очень уж правильно и более четко, как говорят люди, хорошо знающие чужой язык. Он закончил украинскую школу с золотой медалью, был принят без экзаменов в университет, закончил учебу с красным дипломом. Узнав об окончательном решении распределительной комиссии, Радик вышел из деканата, где ему и было объявлено это решение, со слезами на глазах, губы его дрожали.
— Что с тобой? — спросил я Радика и, узнав о решении комиссии, сказал: — Ну и что из этого, поработаешь в адвокатуре, а потом перейдешь в прокуратуру. А почему, собственно, такое решение, ведь ты из семьи погибшего в войну секретаря райкома партии, не могли же тебя «забраковать» по мандатной части.
— Потому, что я еврей, — срывающимся голосом сказал Радик. Он волновался, голос его дрожал, и говорил он на своем родном украинском.
Меня словно ударили по голове. Вот это да! — подумал я.
У нас на факультете было много евреев, некоторые из них в прошлом фронтовики, тот же Сеня Карлицкий, доброволец 1942 года, ушел на фронт из 9-го класса артиллерийской спецшколы, коммунист с 1943 года, за войну имел три боевых ордена. А как с ними решится вопрос?
Я и предположить не мог, что Радик Ярошевский еврей, я был уверен, что уж он-то, такой патриот украинской словесности», — чистопородный украинец, да еще из сердца Украины — Полтавщины, самого украинского региона, пожалуй, единственного на Украине, где сохранились не только самобытные украинские нравы и обычаи, но и язык — именно здесь меньше всего говорили на «суржике»[18]. В Западной Украине тоже традиции и язык украинский сберегали свято, хотя и был свой «суржик» (там в украинский много привнесено польских, чешских, венгерских или румынских слов, в зависимости от исторических условий регионов).
Так вот, позднее, уже работая в КГБ, я узнал, что именно в Полтавской области есть два православных села со своими церквами, где говорят только на украинском. Типичные, чисто украинские села, а живут там только евреи. И когда жителям этих сел в 1953 году, после смерти Сталина, в необходимых случаях выдавали паспорта, то в графе национальность писали: «еврей», чем явно приводили их в великое смущение. А там сложилось все исторически: перед Полтавской битвой прошли проливные дожди, дороги раскисли, обозы отстали, лошади выдохлись. В этих двух селах, тогда просто поселениях, жили евреи-балагулы[19], которые предложили через посланного ими к Петру Первому представителя подвезти на своих лошадях и крепких подводах ядра и порох, Битва была выиграна. Как известно, евреям в России было запрещено заниматься землепашеством. Петр Первый, в благодарность жителям этих поселений, дал землю, и стали они обыкновенными украинскими хлеборобами, превратившись постепенно в типичных украинских селян, а уж потом православие приняли, церкви построили. Но по происхождению, как сочла потом советская власть, остались евреями, их даже «выкрестами»[20] не считали.
А Сеня Карлицкий получил направление на работу юрисконсультом в один из роддомов Киева с зарплатой явно ниже прожиточного минимума для семьи из трех человек.
Спустя несколько лет я, уже офицер КГБ, с друзьями по университету Игорем Бемом и Колей Корниенко (оба члены КПСС, И. Бем был уже кандидатом наук, читал политэкономию в политехническом институте, а Н. Корниенко — заместитель главного редактора республиканского журнала «Перец»[21], во время войны десантник-парашютист) пришел к декану юридического факультета университета. Павел Григорьевич Заворотько с нами учился на одном курсе, коммунист-фронтовик, бессменный профсоюзный университетскому деятель, а затем, после курсов ЦК Компартии Украины, — преподаватель и декан на том же юрфаке. Мы просили за Сеню Карлицкого, чтобы взял его к себе декан на работу на освободившуюся должность лаборанта, где зарплата была выше юрисконсультской.
Паша Заворотько — член парткома университета, «подобревший» за это время килограммов на двадцать, встретил нас, бывших сокурсников по-доброму, по-товарищески. Игорь начал:
— Мы к тебе, Паша, с просьбой.
Заворотько говорил только на украинском, на который перешли и «просители».
— Яке в вас прохання, хлопцi, слухаю, зможу — допоможу.
— Це не наше прохання, Паша, то Сеня Карлицький просить. Казав, що йому самому соромно, а в тебе э мiсце лаборанта. Так можливо вiзьмеш його до себе, тобi вiдомо його становище з грiшми. Вiн член партии, мае фронтовi нагороди.
— Ви що, хлопцi, з глузду з’iхали? Вам що, не вiдома остання постанова ЦК партиi? Особливо це тебе, стосуеться. Як ти смiеш, офiцер КДБ, звертатися з таким проханням за якогось жида? Нi, хлопцi, не вiзьму Карлицького, не можу. А ви, здаеться менi, не розумiете нацiональноi полiтики партиi. — И тут же перешел на другую тему.
Прошло еще несколько лет после этого случая…
Приехав в очередной отпуск в Киев, я от товарищей своих по учебе в университете узнал, что Заворотько арестован КГБ, лишен всех званий, наград, уволен с работы. Его при аресте разбил паралич, и он лежит в больнице. Якобы во время войны был он во власовской армии и скрыл это.
Я не поверил ушам своим! Проректор Университета, награжденный уже после войны несколькими орденами (у старшины Заворотько была только одна медаль — «За Победу над фашистской Германией»), разоблачен.
Заворотько был личностью примечательной. Крупный общественный деятель, член президиумов различных общественных организаций, доктор юридических наук, профессор, без пяти минут член-корреспондент Академии наук Украины, дважды выезжал в США, с делегацией Украины, для участия в работе очередной сессии ООН. Имел друзей в самых высших эшелонах власти, как в партийной, так и в совминовской верхушке. Погубил же он себя по собственной глупости, вернее жадности. Получилось как бы им самим спровоцированное разоблачение. Совершенно неожиданно в адрес Председателя КГБ Украины поступило письменное заявление его родной сестры, одинокой пенсионерки-колхозницы. На колхозную пенсию в 12–14 рублей было трудно прожить, если огорода и живности нет. Заворотько много лет посылал ей деньги, даже когда еще был студентом. Ну а уж когда он стал преподавателем, а затем деканом, кандидатом, доктором наук, проректором, денег у него, наверное, было вполне достаточно. Но вот однажды между ним и его сестрой что-то произошло. В общем, поссорились. Ну и взыграла желчь у бедной пенсионерки, взяла и написала заявление в КГБ, и вот о чем. Оказывается, Заворотько Павел Григорьевич вовсе не тот Заворотько, и хотя у них в селе почти все Заворотьки, но старшина Заворотько П. Г. ушел добровольцем на фронт в 19»1 году, в конце войны в Пруссии попал в плен, бежал что и явилось основанием для его направления в фильтрационный лагерь[22]. И надо же такому случиться, что этот лагерь был как-то перемешан с бывшим немецким концентрационным лагерем, куда уже с немецкой стороны в свое время был помещен старший лейтенант РОА[23] Заворотько Петр Григорьевич, дальний родственник «нашего» Заворотько, только Павла Григорьевича. Заворотько Павел имел тяжелую форму туберкулеза легких, процесс стремительно развивался, и он там же, в этом фильтрационном лагере умирает на руках дальнего родственника Петра Заворотько, старшего лейтенанта РОА, бывшего лейтенанта Красной Армии, сдавшегося немцам в плен осенью 1941 года под Одессой. Затем был немецкий лагерь, изъявление желания служить у генерала Власова, служба в оккупированном немцами Крыму в качестве командира охранной роты, отступление с немцами, разоружение немцами власовцев, немецкий концлагерь, где земляки и однофамильцы и встретились. Присвоив себе имя умершего Павла Заворотько, Петр Заворотько превратился в старшину Красной Армии, который уже в первых боях получил немецкую пулю в грудь навылет, больше года провалялся в госпиталях, был списан как «негодный к строевой» под чистую, работал в тылу и вновь ушел добровольцем на фронт в конце 1944, а вот не повезло. Надо же такому случиться — плен, побег, несколько дней один в лесу, вокруг немцы, ну, а когда вышел к своим, хотя ине 41-й, и не 42-ой, и вот-вот война закончится, порядок есть порядок, — проверка людей, бывших в окружении или в плену, проводилась по приказу Сталина.
Вышел после фильтрации из лагеря Павел-Петр, и направлен был старшина Заворотько в другую часть, а там и конец войне, еще год с лишним и демобилизация. Документы «чистые», надежные, год работы и учебы в школе рабочей молодежи, и вот старшина Заворотько — студент юридического факультета Киевского государственного университета и сразу же — староста курса, член месткома университета, а затем к последнему курсу и его председатель. А это ой как много и прибыльно в первые послевоенные годы. После окончания университета коммунист Заворотько, конечно же, и член парткома, направляется на годичные курсы при ЦК Компартии Украины, затем кандидатская, докторская, декан, проректор — и очень много славы, чести, наград…
В круговерти войны, в этой чудовищной мясорубке и хаосе так смешивались и переплетались судьбы людей, что исчезновение одного и появление другого в ином образе прошло незамеченным. У настоящего, умершего Павла Заворотько не было прямых родственников, он был сиротой и воспитывался у дальних родственников, которые после войны частью с нее не вернулись, частью умерли и разъехались. Ну а Петр Заворотько для всех пропал в годы войны без вести.
Прошло несколько лет, и потянуло Петра-Павла в родные края поклониться могилам близких и встретиться с сестрой. Был он к тому времени председателем месткома университета. В родное село приехал тайно, ночью. Сестра приняла хорошо, узнала сразу. Поплакали друг у друга на плече, и сказал ей Павел-Петр, что покаяться перед властью хочет, не может он такой груз на себе всю жизнь тащить. Будь что будет. Вот так он настроен. Сестра же на правах старшей предложила свой план — покаяться в своих грехах перед властью — значит подписать себе смертный приговор. В тюрьму это уж точно посадят. Надо и дальше жить как его покойный третьего колена брат доброволец-фронтовик Павел Заворотько, под личиной которого вон кем уже стал — пока хоть и маленький, а начальник. А какие хорошие подарки привез — и сладостей, которых и сроду-то не видела сестра, и туалетное мыло, отрез на платье, туфли. Женщина она одинокая, ребенок-школьник, муж погиб на фронте, как жить одной на колхозный трудодень? Не думала сестра, что высоко поднимется брат ее Петр-Павел, что, выполняя их уговор, будет ей материально так помогать, что нужды никакой для жизни в селе она испытывать не будет.
Шли годы, старела сестра, а Петр-Павел шел все выше по служебной лестнице, и вот уже фамилию его в газете встретила, по телевизору увидела. Они редко встречались. Жене своей, бывшей студентке юрфака намного младше его говорил, что это его дальняя родственница. Поматерел Петр-Павел в руководителях. Друзья его все из высшего руководства республики — тот завотделом ЦК, тот министр или замминистра. Дружба с секретарем ЦК по идеологии настолько убедила его в своей силе и дала ему такую уверенность в себе, а тут еще поездка в далекую Америку и выступление на сессии ООН от имени всей Украины, что даже забывать он стал страшные военные годы, считал себя и вправду Павлом. На просьбу сестры увеличить денежную помощь — сын женится, свадьбу надо хорошую сыграть — только рассмеялся Петр-Павел. «Ну что ж, — сказал он сестре, — тебе мало, а у меня сейчас нет». А дальше — больше. Как бы наказывая ее, вообще перестал посылать деньги.
О грехах своих не только забыл, но если и вспоминались они ему изредка, то как тяжелый неправдоподобный, кошмарный сон. Разве мало отдал он своей родной Украине сил и энергии, разве мало сделал для нее, совершенствуя не только систему университетского образования, но и активно участвуя в разработке новых теорий государства и права, укрепляя позиции родного государства, и, прежде всего, своей Украины, защищая ее интересы на международной арене.
«Конечно, международные интересы Украины — понятие относительное, — думалось ему. — В МИДе Украины всего-то 28 дипломатов, весь штат. Внешняя политика — прерогатива Советского Союза. Но ведь именно я выступал на Чрезвычайной сессии ООН, мой голос звучал на весь мир с этой самой высокой трибуны мира».
Вспоминалось Паше, как вернулся из Америки, какими глазами смотрели на него сослуживцы, студенты, все знавшие и окружавшие его люди. Вспомнилось ему, как он, стоя в самой высокой точке Нью-Йорка[24] рядом с ответственным работником ЦК КПСС сказал вслух, громко, издевательско-иронически, так, чтобы все — а было их 5–6 человек, — слышали: Подумаешь, море огней, небоскребы, дома высотные, красивые, сытые капиталистические рожи! Да сюда парочку наших атомных бомб — и нет этого города». И как одобрительно кивнул и засмеялся ответственный сотрудник, и заулыбались сопровождающие, как бы подтверждая: Ловко сказано! И только один его земляк-киевлянин, стоявший рядом, работавший в то время комендантом здания представительства Украины в ООН, бросил реплику: «Так ведь и ответить могут, Павел Григорьевич, у них тоже, к сожалению, кое-что имеется». Ответ ответственного сотрудника последовал незамедлительно: «Врагов не бояться надо, а уничтожать, не дав им опомниться, молодой человек!» Вспоминал все это Паша, и распирало его чувство большой гордости за себя. А о сестре как-то забывал. «Надо бы денег послать, не обиделась бы», — думалось ему. И вновь забывал. Время шло.
Письмо-заявление сестры Заворотько принял дежурный офицер приемной комитета и сразу — к помощнику председателя. Чем дальше читал неразборчиво и бестолково написанное заявление помощник, тем озабоченнее ис троже становилось его лицо.
Знал он П. Г. Заворотько лично. Его многие чекисты знали и относились к нему с большим уважением, ибо именно он безропотно ставил положительные оценки всем заочникам по своим дисциплинам, и всегда просил за заочников-чекистов других преподавателей, всегда выручал с любыми неприятностями по учебе. Был он человеком для чекистов безотказным.
Доложили председателю. Были сразу же вызваны руководители соответствующих подразделений, и тут же получена команда незамедлительно, с соблюдением максимальной конспирации провести тщательнейшее расследование. Проверить, по возможности, все действия Петра-Павла Заворотько во время войны. Была подключена многочисленная агентура, выявлено несколько бывших власовцев, отбывавших наказание в лагерях, которые служили в частях власовской армии, дислоцировавшихся в Крыму. На удачу, там был всего лишь один охранный батальон, 500 солдат, несколько десятков офицеров. Было проведено около десяти опознаний. Петра-Павла по фотографиям опознали сразу же. Сомнений не было — проректор Киевского университета профессор Павел Заворотько — бывший лейтенант Красной Армии, а затем старший лейтенант РОА, командир роты Петр Заворотько, пропавший без вести во время войны. Проведенным дальнейшим тщательным расследованием было установлено, что воинская часть РОА, в которой служил Петр, не участвовала ни в одной карательной операции, не принимала участия в боях с крымскими партизанами, даже не привлекалась немцами к поимке советских разведчиков-парашютистов. Правда, парашютистов для организации диверсий и последующего соединения с партизанами практически перестали забрасывать в Крым через год после ухода Красной Армии, и десантировали при необходимости только в четко определенное место, где их могли ожидать и прикрыть партизаны, так как любой одиночный или групповой выброс в оккупированный немцами Крым без прикрытия партизан означал немедленный провал, а значит последний бой и гибель. Местное население — крымские татары — тут же оповещали свою полицию или немецкие комендатуры о парашютистах и указывали их местонахождение. Тот, кто десантировался в Крым и остался жить, и сами бывшие крымские партизаны хорошо помнят это. Они погибали в основном не в боях, а от голода и холода в горах, поддерживаясь только тем, что сбрасывало им на парашютах командование Красной Армии с Большой земли — немцы перекрыли все выходы к деревням, особенно к тем, где хоть и немного, но было русское население. Партизан загнали в горы, где они и гибли.
Батальон, где служил Петр Заворотько, нес службу по охране складов вермахта на морском побережье. Не соприкасались они ни с русским, ни с татарским населением и были эвакуированы морем вместе с частями вермахта. Попав в Германию, батальон был разоружен и расформирован и почти весь попал в немецкий концлагерь, где они и находились до освобождения этого лагеря Красной Армией. Тут-то и произошло смешение двух частей этого лагеря. Как все это получилось, по прошествии многих лет никто уже не помнил, документально подтвердить не представлялось возможным. Ну а поскольку активной и прямой антисоветской деятельности, тем более участия в боях или других военных акциях против Красной Армии выявлено не было, решили по указанию ЦК Компартии Украины после ареста Петра-Павла Заворотько провести определенные следственные действия, задокументировать полученные оперативным путем в ходе проверки данные и с учетом давности не привлекать его к уголовной ответственности, а лишить всех званий, должностей и орденов, но оставить на свободе. Однако дальнейшие события внесли свои коррективы…
Кроме руководства КГБ Украины и тех оперативных работников, которые вели это дело, а также генпрокурора республики, был проинформирован, как это и полагалось Первый секретарь ЦК и секретарь по идеологии — друг Павла Заворотько. Было решено провести арест прямо в его кабинете. Два сотрудника КГБ должны были произвести арест, надеть на Петра-Павла наручники и провести его к машине.
Секретарь ЦК, который до этого под разными предлогами уклонялся от встреч с Заворотько, в обусловленное с КГБ время позвонил ему и пригласил приехать для решения важного вопроса. Он приехал в ЦК через полчаса после звонка и решительным толчком после слов помощника «Вас ждут, Павел Григорьевич» открыл дверь и вошел в кабинет. Вошел как всегда, вальяжно-солидно, медленной степенной поступью, и, приблизившись к столу секретаря, который почему-то не встал как обычно навстречу, не обнял его (если долго не виделись, то и обнимались и целовались), а остался сидеть на своем месте, разговаривая по телефону, и только коротким движением руки указал на кресло и, не поднимая глаз, продолжая свой разговор с кем-то по телефону. Павел Григорьевич и внимания не обратил на сидевших в стороне у стены на стульях двух мужчин.
Секретарь наконец-то положил телефонную трубку на рычаг и, опять же почему-то не глядя, как обычно, в глаза Павла Григорьевича, произнес совершенно чужим, незнакомым для Заворотько голосом:
— Расскажите мне правду о себе, Павел Григорьевич. Мне бы хотелось, чтобы вы были со мной в этом здании партийной совести предельно откровенным. Я слушаю вас.
Побледневшие от волнения губы секретаря, как, видимо, показалось Заворотько, шепотом произнесли:
— Расскажите же правду о себе, Петр-Павел Григорьевич Заворотько, бывший лейтенант Красной Армии и старший лейтенант армии Власова.
На глазах у изумленного секретаря и уже вставших за спиной Заворотько двух находившихся в кабинете мужчин Павел Григорьевич стал медленно сникать, как будто из него начал выходить воздух. Голова его наклонилась вбок и слегка вниз, рот полуоткрылся, из него начал вываливаться язык и потекла слюна. Веки полузакрытых глаз дергались. Руки, лежавшие на приставном столе, стали безжизненными. Он захрипел и тяжело навалился на подлокотник кресла. Кабинет стал наполняться омерзительным запахом преждевременно опорожнившегося кишечника. Павла Григорьевича разбил мгновенный паралич.
…Прибыла машина «Скорой помощи». Заворотько вынесли на носилках, погрузили в машину и отвезли в отдельную палату городской больницы, где он и скончался. Так никто и не узнал и не услышал от самого Заворотько его одиссею, его страшную, как кошмарный сон, жизнь. Но кошмаром жизнь была, наверное, только в молодости, а потом он так вошел в роль мертвого родственника, что полностью растворился в нем, считал себя в действительности не Петром, а Павлом. Человек благородной внешности, с породистым орлиным носом, строгими и внимательными глазами, с часто падающим на глаза при энергичном движении головой зачесом прямых, но всегда красиво лежавших на голове длинных волос, которые он отводил назад рукой, — таким он и запомнился всем, кто с ним работал и знал его.
…Пришло время и для меня войти в деканат, где и прошла первая беседа с представителем отдела кадров МГБ УССР, решившая всю мою дальнейшую судьбу.
Дома отец мой Захар Иванович, старый коммунист, в прошлом короткое время работавший в ЧК, почему-то не одобрил мой выбор.
— Напрасно ты, сынок, дал согласие работать в госбезопасности. Поработав в этой системе, ты уже никогда не расстанешься с ней, ты всегда будешь чувствовать себя частью ее. Решай сам, я тебе не советую.
Отец удивил меня своим отношением к этой службе, тем более что именно он, доброволец Красной Армии 1918 года, воевал в дивизии легендарного Азина, в его 28-й дивизии на Урале против Колчака. Он был примером честного служения своему Отечеству.
Последние месяцы учебы шли быстро, вот уже и защита диплома… На заполнение полученной в МГБ многостраничной анкеты ушло несколько дней. Я уже видел себя в красивой офицерской форме, в фуражке с голубым верхом, олицетворяющем, естественно, высокую моральную чистоту ее владельца. Я знал из литературы, что голубые жандармские мундиры, в частности известного III охранного Отделения, еще в дореволюционный период являли собой символ чистоты и честности, но это было в «проклятое» прошлое время, однако символ чистоты, наверное, так думалось мне, как символ остался и в наше советское время. Но кого бы я в последующем из сослуживцев по поводу голубого цвета фуражки и петлиц, а также голубой, по сути авиационной, полоски на погонах ни расспрашивал — никто не знал, и ответа я так и не получил…
Вот и пришел тот долгожданный день, когда я вместе с товарищами по учебе, также отобранными для работы в МГБ Украины, всего из университета было двенадцать человек, коммунистов — двое, из юристов — один я, получил официальное уведомление явиться для заключительного собеседования и окончательного решения вопроса.
Я оставался последним в списке на решающее собеседование. О том, как преодолевался этот последний рубеж, целая история, заслуживающая ее подробного описания.
Я был в приемной начальника отдела кадров один. Чувствовал — что-то не то, но что именно? Ловил на себе несколько раз, как мне казалось, — а может быть, и действительно только казалось, — любопытные, на какую-то долю секунды зафиксированные мной взгляды сотрудников, входивших и выходивших из кабинета. Физически здоров, медкомиссию прошел без ограничений. Моральный облик? Не подкопаешься — здесь тем более все хорошо. Женщин я еще не знал. Девушку безответно люблю одну-единственную. Пью спиртное изредка и в меру. Да и кто об этом знает? Как, где и с кем выпиваю? Тем более все те, с кем я это делал, уже приняты. Ю. Топчий, В. Бегма, В. Захаров.
— Георгий Захарович, — раздался голос, и из приоткрывшейся двери кабинета начальника отдела кадров выглянуло смуглое слегка продолговатое лицо, — входите, пожалуйста.
Человек был во френче цвета хаки, такого же цвета галифе, офицерских хромовых сапогах, как в те годы носили многие. Пропуская меня мимо себя, слегка улыбнулся, как бы подбадривая, обнажив сверкнувшие белым металлом передние зубы.
В просторном кабинете было довольно много народа, человек шесть. За столом, как позже выяснилось, восседал сам начальник, сбоку за приставным столиком сидело еще двое и трое разместились на широком и большом кожаном с высокой спинкой диване. Все они с любопытством, так во всяком случае показалось, смотрели на меня.
Войдя в кабинет, я остановился и посмотрел на сидевшего за столом мужчину средних лет в цивильном костюме и больших роговых очках. Мужчина о чем-то тихо разговаривал с сидевшим за приставным столом справа человеком в красивом спортивного кроя из серой легкой ткани летнем пиджаке. Прошло, наверное, не больше двадцати секунд, показавшихся мне вечностью, пока оба не закончили свой оживленный тихий разговор. Хозяин кабинета вскинул на меня взгляд и приятным баритоном произнес:
— Садитесь, пожалуйста, — указав на стоявший чуть поодаль от приставного столика и чуть в стороне, но так, чтобы все присутствующие в кабинете могли видеть, стул. Я сел и, обведя взглядом всех сидевших в кабинете, посмотрел в лицо начальника. Несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. Лицо человека в больших очках было беспристрастным, не выражало никаких эмоций. Наконец, он сказал:
— Вот что, мы внимательно изучили вашу биографию, весь ваш пока не очень длинный жизненный путь и пришли к следующему выводу. Мы не можем принять вас на работу в систему госбезопасности. И это не только потому, что вы не все честно и откровенно указали в заполненной вами анкете, но и потому, что те молодые люди, которые выпивают, а может быть, и просто пьют водочку, да еще при этом и дебоширят, не умеют себя держать в руках, в пьяном состоянии попадают в милицию, имеют привод, сидят в тюрьме, не могут быть приняты на работу в органы государственной безопасности. Сами понимаете, это политический орган, выполняющий задания партии, правительства. А тут такое дело, — закончил свою длинную тираду начальник и внимательно посмотрел на меня. У меня гулко забилось сердце, а кровь прилила к лицу. Что я мог заявить этим людям? Все сказанное кадровиком было правдой. И надо же такому случиться, ведь меня тогда, после выхода из тюрьмы заверили, что сам факт содеянного, привод в милицию, нахождение в КПЗ[25], «игра на пианино»[26], Лукьяновская тюрьма, в которой я просидел почти полтора месяца, т. е. все зафиксированное было изъято и уничтожено, ибо освобождали меня на совершенно законных основаниях в соответствии со статьей «УПК[27] УССР — за отсутствием состава преступления. И хотя все это и не несло в себе ничего грязного и позорного, но в те времена могло стоить карьеры, тем более будущему юристу. Это, наверное, хорошо понимал тот, кто и вытащил меня из той страшной по своим последствиям ямы — заместитель военного прокурора округа полковник Иосиф Евсеевич, Ленов в семье которого я был на правах родственника. Мы были большие друзья — я и его приемный сын от первого брака жены. — Стасик Карюк, оставшийся самым близким моим другом на всю жизнь. Эта семья — полковник Ленов, его жена Бронислава Донатовна, их дочь милка, бабушка Элеонора Ивановна Чапп, как мы все тогда ее ласково называли — «Бунечке», — оставили у меня самые светлые воспоминания. Станислав Иванович Карюк, так и не ставший, как и я, военным летчиком, впоследствии работал помощником председателя Верховного суда Украины, закончил ВЮЗИ[28], затем инструктор и заведующий отделом Киевского обкома КПУ, председатель Киевского областного суда. «Бунечка» давно похоронена под Киевом на станции Буча рядом с умершим еще во время войны ее мужем — машинистом паровоза Донатом Чаппом. Ушли из жизни и полковник И. Е. Ленов, и мать Стасика, и сам Станислав Карюк. Живет в Киеве Милка — Людмила Иосифовна Ленова — ученый микробиолог…
Много позже один из присутствовавших в то время в кабинете рассказывал мне, что он смотрел на меня, когда со мной беседовал начальник отдела кадров, и не заметил никаких признаков волнения на лице. «Хорошая у тебя была выдержка», — говорил он…
— Я бы хотел все объяснить, как это тогда получилось, — начал я после длинной повисшей в воздухе паузы. — Этот военный, капитан, случайный человек, сам подсел к нам за столик в ресторане, уже пьяный. Мы выпили-то немного, а он угощать стал, ну и выпили все вместе. Впрочем, я и тогда все помнил и давал себе полный отчет в своих действиях. Капитану стало плохо. Вышли на улицу, он попросил отвести его в гостиницу для военных, а это недалеко от ресторана. Решили мы снять по его же просьбе портупею и погоны, чтобы патруль не забрал, а он возьми да и выхвати пистолет, на нас направил. Конечно же, мы его разоружили, и в этот момент сзади навалилось на нас несколько человек гражданских и с ними дворники в белых фартуках — блюстители порядка. Стали отбиваться. Отбились. Видим, милиция бежит. Ну, мы и рванули, а милиция стрелять. Убить же могли. Я — за дерево, пистолет капитана в руке, в воздух выпустил всю обойму. Они всей толпой на землю. Вижу, Сережки нет, убежал. Я — в подворотню, перемахнул через пару заборов и спрятался в узкую щель полуподвального нежилого окна. Долго шумели во дворе голоса, искали. Собаки у них не было. Не нашли. Пистолет с портупеей закопал в песок там же, в этой щели и ушел через час дворами. Милиция пришла за мной во время занятий по «военке». Симпатичные два парня. Показал я им место, где укрывался. Взяли они там пистолет и портупею. Привели в КПЗ. Оказывается, это Сережка навел на меня, его им удалось поймать. Такая вот история, — закончил я.
— Что это вы такой лихой и разбойный, — начал кадровик. — И зачем надо было стрелять?
— Так убили бы ведь, — отвечал я. — А так они сами испугались. Нас-то приняли за бандитов. Помните, тогда «Черная кошка» была?
— Чего ж не помнить, помним, — как-то загадочно произнес кадровик.
— Я бы об этом указал в анкете, но меня заверили, что все изъято, ничего нет и указывать ничего не надо, — продолжал я.
— Это вам так сказали, а мы всегда и все знаем. Думаю, мы останемся при своем мнении — на работу к нам вас не примем.
Не знал я тогда, — намного позже узнал от кадровиков, — что после выявления этого случая встретились кадровики КГБ с полковником Леновым, детально с ним побеседовали, и Ленов дал письменное поручительство за меня, договорились: все будет зависеть от того, как я поведу себя. Если покажу слабину, замкнусь в себе, буду отрицать или еще что-то подобное, — откажут.
У меня в голове колотилась только одна мысль: почему тогда вызвали, почему душу выворачивают, взяли бы да и просто отказали. Что-то все здесь не так. Что-то происходит непонятное. Вины я своей не чувствовал. Мне не просто хотелось работать в системе госбезопасности. Я уже любил эту работу.
— Нет, не можем, — в третий раз повторил кадровик.
Взгляды наши встретились. За толстыми стеклами больших черных роговых очков я не увидел ни холода, ни жесткости. Глаза были просто предельно внимательными и как бы что-то фиксировали во мне. И тут я боковым зрением уловил брошенный в мою сторону взгляд сидевшего за приставным столиком мужчины с металлическими зубами.
«Он же подбадривает меня», — подумал я, прочитав в какую-то долю секунды в глазах этого человека тепло и поддержку.
Я встал со стула, напрягся как струна, голос зазвучал так же громко и звонко, как на партийном собрании факультета при приеме в партию.
— Тогда кого же вы принимаете в эту боевую военную организацию? Маменькиных сынков, пай-мальчиков? Я хорошо знаю войну, я пережил ее в Сталинграде. Я знаю, что такое страх на войне, я знаю, что такое голод. Я всю свою сознательную жизнь готовил себя для подвига. У меня пять прыжков с парашютом, я вожу автомашину, планер, танк. У меня рекомендации в партию двух самых заслуженных коммунистов юрфака — Георгия Тихолаза[29] и Дмитрия Стаднюка[30]. Что я скажу своим поручителям? Что я, практически не пьющий человек, в 18 лет попал случайно в пьяную драку и из-за этого не был принят в органы? Да они мне никогда не поверят. Они уж точно подумают, что я контра, что у меня в биографии есть что-то меня компрометирующее. Вы приняли на работу одиннадцать человек моих товарищей по учебе в университете. Из поступивших к вам юристов только один я коммунист. Что я, дебошир, бандит, уголовник, хулиган? У меня за спиной Ирпенская пойма[31], я в комсомоле с 14 лет. Я был военным с 15 лет. И наконец, физически готовил себя быть активным бойцом партии.
Закончив свою полную чистой искренности речь, я снял пиджак, бросил его на стул и, сделав шаг к приставному столику, выбил на руках стойку под потолок. Постоял, покачиваясь на прямых руках, профессионально сделал переход на 180° и, мягко задержав угол, спрыгнул на пол. Молча подошел к стулу, надел пиджак и повернулся к кадровику, опустив голову. В кабинете, когда я выбивал стойку, раскачивался на руках и надевал пиджак, уже повернувшись к начальнику лицом, воцарилась тишина. Спокойный и тихий голос руководителя произнес:
— Выйдете и подождите в приемной.
Минут через двадцать меня вызвали снова. Человек в больших роговых очках молча показал на тот же стул. Лица всех сидевших были такими же бесстрастными. Только оформлявший меня кадровик по-прежнему смотрел в окно, и было заметно, что он взволнован.
— Мы принимаем вас на работу в органы государственной безопасности Украины, — совершенно не торжественным, а каким-то уж слишком ровным и спокойным голосом произнес начальник. — У нас сейчас обеденный перерыв, идите пообедайте, а к 22.00[32] приходите, вас отведут уже в ваше, куда мы вас определили, подразделение. — Сказал это и впервые широко и доверительно улыбнулся мне. И я улыбнулся, от души и с сердечной благодарностью. Я был и до этого уверен в своей правоте, не представляя с какой системой собирался тягаться. Спустя много лет, вспоминая все мною пережитое тогда, я все больше проникался благодарностью к этим людям, решившим мою судьбу. Я об этом случае уже на пенсии рассказывал самым близким своим друзьям, и никто из них в это не поверил, единодушно заявив, что такое в системе невозможно, система просто бы отказала. Но тем не менее все было так, как сказано выше…
Когда в назначенное время я пришел в комендатуру, кадровик, уже ждал меня, он сказал, что я определен на работу в так называемый церковный отдел, тогда отдел «О» (позже 6) Четвертого управления МГБ Украины, которое именовалось секретно-политическим, или коротко СПУ. Отдел ведет разработку и наблюдение за всеми видами религиозных течений, а их на Украине великое множество. Обо всем в деталях я узнаю позже.
Сердце мое сжалось. «Где же боевая работа, при чем здесь церковь, какие церковники, неужели все это так серьезно?» — подумал я. Вслух, однако, ничего не сказал и молча смотрел на кадровика, который вдруг неожиданно произнес:
— Вас что-то смущает, может быть, вам кажется, что эта работа менее серьезна, чем в других подразделениях? Это не так. В этот отдел берут хорошо подготовленных людей, с хорошим и фундаментальным образованием. Вот увидите, все будет хорошо. Начальник этого отдела известный во всей системе госбезопасности человек. Именно в этом отделе вы сможете получить настоящую чекистскую подготовку. Пошли, не будем терять время, — закончил свою тираду кадровик, видимо, уловив что-то не то в моем лице, когда объявил мне вот здесь, на улице, о характере будущей работы, и указал рукой направление к зданию серого окраса, находившемуся на противоположной стороне улицы, знаменитый дом на Владимирской, сегодня Короленко, 33, на фасаде которого красовалась в те годы надпись «Палац працi»[33].
Так я попал под начало Виктора Павловича Сухонина, а это был именно он, полковник Сухонин, один из известнейших в системе госбезопасности руководителей и организаторов подразделений по борьбе с нелегальными в то время сектантами «пятидесятниками-трясунами», многочисленными сектами «молчальников», «дырников», изуверских «скопцов», «мурашковцев» и десятками других сектантских групп, существовавших нелегально, проводивших свою работу по вовлечению в эти секты молодежь. Особенно опасна была поддерживаемая Западом секта «Свидетелей Иеговы», деятельность которой на территории Советского Союза, в частности в Западной Украине, по своей организованности и умению собирать, концентрировать и направлять за рубеж по глубоко законспирированным и успешно действовавшим каналам информацию об обстановке в нашей стране очень напоминала работу далеко не церковного характера. Информация, собираемая «братьями и сестрами» секты «Свидетели Иеговы», в конечном итоге попадала в центр этого опасного для советской власти движения в Бруклин, Нью-Йорк, США.
Главное, на что было направлено самое острое внимание отдела — окончательная ликвидация нелегальной униатской церкви, являвшейся оплотом, фундаментом и базой все еще действовавшего в западных областях Украины, как мы тогда называли, остатков вооруженного банд-оуновского подполья. Обо всем этом образно и кратко рассказывал мне и сидевшему рядом кадровику полковник, изредка задавая по ходу своего рассказа вопросы типа — а знаешь ли ты об этом? или читал ли ты это? что тебе известно по этому вопросу? Не преминул он поговорить со мной и на латыни. Ответы явно не устроили Виктора Павловича, это я заметил. Я плохо был информирован о деятельности церкви в Советском Союзе, особенно по различным сектантским ответвлениям. По латыни отвечал довольно бойко, не уступая полковнику. Этим он вроде бы остался доволен.
— Ну а церковнославянский, то бишь старославянский понимаешь? — поинтересовался Сухонин.
Я ответил, что кроме первой главы «Слова о полку Игореве», часть которой помню наизусть, больше ничего не знаю и церковного языка не понимаю. Виктор Павлович послушал мой старославянский и остался доволен. Тут же выяснилось, что я не знаю ни одной молитвы, что его удивило.
— Впрочем, — заметил он, — твое поколение комсомольское и не должно знать этого, ну ничего, у нас научишься.
Когда же полковник услыхал рассказ о моей фанатично верующей и даже имевшей свою домашнюю церковь бабушке — матери отца, это ему понравилось и он уверенно заявил, что я наверняка был тайно от отца-коммуниста крещен бабушкой. Я рассказал Сухонину, что отец многие годы не поддерживал никакой связи с матерью, только перед самой войной, когда бабушка выехала из Ижевска и несколько лет жила в другом городе, отец несколько раз встречался с ней. Я чувствовал по отцу, какая это была тяжелейшая травма для него, но партийная дисциплина была превыше всего. Рассказ этот Сухонину тоже понравился.
Поговорили и о еврейских клерикалах, о деятельности «Джойнта», о его враждебной направленности, о происках сионистов. Тут я проявил себя знающим человеком в плане общей информированности. Еще в университете я прочел почти всего в те годы полузапрещенного Бабеля, знал, что такое Протоколы Сионских мудрецов, уже не говоря о том, что прочитал всего Шолом Алейхема, многих современных писателей — евреев, знал, конечно же, о деятельности во время войны Еврейского антифашистского комитета, возглавлявшегося С. Михоэлсом, и т. д. и т. п. А в конце возьми да и скажи Виктору Павловичу, что симпатизирую этой нации, как исторически вечно гонимой и преследуемой, имею друзей-евреев и вообще не вижу никакой разницы в людях разной национальности, и как коммунист считаю себя жестким противником антисемитизма в любых его проявлениях, что для меня существуют лишь идеологические различия, все остальное не имеет значения.
Сухонин возразил мне:
— Этот вопрос надо рассматривать не только с точки зрения общей идеологии или каких-либо человеческих достоинств или качеств. Существует и другой подход к оценкам человека. И в каждом конкретном случае — свой, индивидуальный. Начнем с того, что установленный, выявленный, скажем, известными органам госбезопасности методами конкретный человек маскируется общей и близкой тебе идеологией, на словах настоящий партиец, коммунист-ленинец. Ну просто замечательный человек. А на деле — враг нашего общества, шпион, желающий гибели социалистического Отечества, сотрудничает с вражескими разведками, или с организациями, которые активно используются разведками капиталистических стран в качестве прикрытия своей враждебной деятельности. Вот мы недавно арестовали связную иеговистского центра Кукелку. Она в течение нескольких лет передавала собранные ее «братьями и сестрами» сведения о советских воинских частях, военных аэродромах и тому подобную развединформацию через каналы в Польше и далее в Америку. Причем все это зашифровывалось при помощи шифроблокнотов. У нас не было никаких сомнений, что мы имеем дело с настоящей шпионкой. Почитаешь потом материалы на нее — сам узнаешь. Нами точно установлена связь американской разведки с Бруклинским иеговистским центром, его враждебная деятельность через подполье иеговистов в западных областях Украины, связь с которым осуществлялась да и наверняка все еще продолжает проводиться через своих эмиссаров и связников, типа этой Кукелки. И подобных примеров у нас предостаточно. Для начала почитай материалы некоторых действующих и завершенных разработок, познакомься с товарищами по работе.
Вместе с кадровиком мы прошли к старшему оперуполномоченному Петру Кузнецову. Он оставил меня, а сам ушел к кому-то из отдела. Петр Степанович Кузнецов — вальяжный мужчина лет 45, крепкого телосложения, часто и тихо покашливая «кашлем курильщика», протянул мне мягкую полную руку. В кабинете, где стояло пять рабочих столов, кроме Кузнецова был еще один маленький человечек, которого я узнал сразу же, — это был тот самый «серенький», невзрачный человек, проводивший допрос во время моего прохождения производственной практики в городской прокуратуре в отделе по делам несовершеннолетних, в связи с нашумевшим арестом Кодубенко. Мне стало не по себе. Человечек улыбнулся, встал из-за стола, подошел ко мне и как-то очень скромно, так же как и тогда глядя куда-то в сторону, представился:
— Лаптев, — крепко пожал руку, впервые посмотрев прямо в глаза своими маленькими глубоко посаженными серыми глазами.
Кузнецов удивленно смотрел на нас, а затем произнес:
— Вы что, знакомы, где-то встречались?
— Да нет, не очень-то знакомы, но встречались, — ответил Лаптев и еще раз улыбнулся мне мягко и застенчиво.
— Помнишь, Петя, в прошлом году арестовали руководителя Киевского центра ИПЦ[34] — прокурора Кодубенко? Так это тот самый студент, которого мы опрашивали в прокуратуре в связи с этим арестом.
— Вот так дела, — изумленно произнес Петр Кузнецов, — надо же где встретились. Ладно, потом почитаешь это дело, если тебе разрешат, материалы в другом отделении. Времени у нас сейчас мало, есть команда Виктора Павловича коротко ознакомить тебя с работой нашего отделения.
Протянув руку к сейфу, стоявшему за его спиной, Кузнецов открыл тяжелую массивную дверцу и извлек оттуда дело, на зеленоватой корке которого с лицевой стороны стояли крупные черные печатные буквы «ДАР». Разговаривал Кузнецов начальственным тоном и очень солидно, медленно цедил слова, тщательно их подбирая. Я определил в нем человека мало интеллигентного, но служаку хорошего, упорного, что и подтвердилось в последующем. Все закурили. Кузнецов курил самодельные набивные папиросы. Лаптев — сигареты, а я — «Беломор», который в скором будущем сменил на львовские сигареты «Высокий замок». В те годы в здании на улице Короленко, 33 не было специально отведенных мест для курения, курили все в кабинетах. Дым висел плотными устойчивыми пластами, некурящему в такой атмосфере вообще не дышалось, но все терпели безропотно…
— Вот такое дело называется ДАР — дело агентурной разработки, а ежели в процессе этой работы выявляются какие-то определенные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости более глубокой, обоснованной полученными дополнительными данными и фактами разработки, тогда заводится дело — формуляр. У нас его в обиходе называют «дядей Федей». Такие дела — формуляры — иногда ведутся годами и завершаются либо арестом, иногда вербовкой «фигуранта» — так называют самого объекта разработки —, либо сдачей дела в архив. Это в том случае, если «фигурант» умер, что также иногда случается. — Уловив мой настороженно-вопросительный взгляд, усмехнувшись, Кузнецов пояснил: — Нет, нет, своей, именно своей смертью. Ну а если ничего не было доказано в ходе всей разработки по делу-формуляру с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств, то дело тоже может быть сдано в архив, но это в общем-то как бы брак в работе. На оперативном учете все проходившие по делу-формуляру лица и сам фигурант, или фигуранты остаются вечно. Ну а делу агентурной разработки, т. е. ДАРу предшествует, — Кузнецов снова потянулся к сейфу и положил передо мной тонкую папочку с надписью такими же черными печатными буквами как и ДАР, но стояла уже другая аббревиатура — ДОП, — дело оперативной проверки. Это как бы первый оперативный шаг, первое оперативное действие, возникающее на базе каких-то заслуживающих оперативного внимания данных. Вот такие три ступеньки, обязательные в агентурно-оперативной работе…
Вернулся кадровик вместе с высоким статным мужчиной со шрамом на лбу, в военной форме: гимнастерка с портупеей, на боку пистолет, на погонах четыре звездочки — капитан. Я позже обратил внимание — многие сотрудники были в форме и с оружием, так было тогда принято, а если выходили из здания и нужно было не показываться в форме, то надевали плащ или пальто, в зависимости от времени года и погоды. Как правило, в сапогах, и это не бросалось в глаза — так тогда ходили многие: война закончилась всего семь лет назад.
— Курицын Евгений Семенович, — представился капитан, улыбнувшись. — Я сейчас исполняю обязанности начальника отделения, — как бы подчеркивая свою значимость, сказал капитан, — и имею указание Виктора Павловича побеседовать с вами о нашей работе, об отделе. Но сегодня вряд ли удастся — половина второго. Пора по домам.
— Это уж точно, — поддержал кадровик, — завтра ему снова в кадры…
Заканчивался июль. Жара в Киеве в это время звала всех свободных от работы людей на знаменитые киевские пляжи. Солнце палило нещадно, но у меня и мысли не было об отдыхе. Все время казалось, что что-нибудь да помешает мне приступить к работе. Мне Мне уже было известно, что все те, кто пришел со мной из университета, были распределены по конкретным подразделениям и получили по две недели условного неоплачиваемого отпуска, чтобы отдохнуть перед началом работы от госэкзаменов и тяжелого последнего пятого курса. Знал я, что всем, кроме Кулешова, было предложено пройти курс 10-месячной специальной подготовки в школе МГБ, что находилась на улице Красноармейской напротив костела, одного из красивейших храмов Киева. Примечательно, что именно в этом католическом храме долгие годы работала под контролем органов госбезопасности специальная аппаратура — глушители всех вражеских голосов, нацеленных нашими противниками по ту сторону «железного занавеса» на столицу Советской Украины — Киев…
Мы стояли с Вадимом Кулешовым в половине десятого утра у входа в здание ОК и курили, ожидая начала рабочего дня. Оба волновались. Вадим еще не был у себя в Управлении 2-Н, куда его определили. Узнав о моем назначении, Вадим, большой насмешник и хвастун, не преминул сказать:
— Закажи себе рясу или торжественные еврейские одеяния, в которых ходят верующие евреи, и отрасти себе пейсы, тебя точно тогда признают за своего. Неужели нельзя было подобрать для тебя что-то более подходящее?
— Да нет, — ответил я, — мне сказали, что это не только самый специфичный отдел, но и подбор в него идет особый. Вот что ты знаешь об униатах? А именно они, униаты, являются злейшими врагами советской власти, на них опираются бандеровцы. А у тебя-то что? Подумаешь — Управление 2-Н! Вот скоро добьют, да и без твоего участия — не успеешь, — всех бандитов в Западной Украине, и останешься ты, Вадим, без работы.
Так мы стояли и разговаривали, посмеиваясь друг над другом, и все же мне стало как-то не по себе…
Вадима Кулешова я знал еще по спецшколе ВВС. Он после 2-й роты (9-й класс) был отчислен по здоровью — у него появились головные боли после падения в спортзале и 10-й класс он заканчивал в обычной гражданской школе. Парень он был боевой, успел побывать на фронте. Черты не только красивого, но и мужественного лица Вадима всегда привлекали внимание женщин. Много лет спустя, когда мы работали вместе в Москве, я как-то обратил внимание, с каким восторгом смотрели женщины на этого высокого и ладного парня…
Вадим, прозванный в кругу близких друзей «птичкой-колоколой», продолжал дружески издеваться надо мной, всячески восхваляя свою новую службу.
— У нас в подразделении настоящая боевая работа. Мы готовим и осуществляем захват или ликвидацию оуновских бандитов, выкуривая их из бункеров, — чеканил он эти новые слова в таком сладком для молодого чекистского уха звучании — оуновцы, боевая работа, бункер, ликвидация, засады, захваты и т. п.
— Да ты же еще не был на работе, — удивленно возражал я, — ни с кем из сотрудников не разговаривал.
— Ничего подобного, — продолжал Вадим, — со мной уже дважды беседовали в кадрах в присутствии сотрудников Управления 2-Н. Я доволен предложением и уверен, что это самое интересное и важное подразделение. Не то что твое — «пятидесятники-трясуны» и всякая там уже отмирающая церковная дрянь. Смотри не попадись к «скопцам».
— Ну это ты загнул, Вадим, — отвечал я, — какие там «скопцы», мы с ними и без тебя справимся, если выявим такую секту. Работа в церковном отделе филигранная, тонкая, тут надо специфику знать. А что у тебя? Бедные селяне с обрезами? Да им давно уже конец. Ты же знаешь, о чем идет речь! О ликвидации остатков, понимаешь, остатков какого-то там оуновского подполья!..
Наконец, мы дождались своего времени и вошли в здание ОК, где в разных кабинетах потеряли друг друга на несколько дней…
В кадрах мне предложили отдохнуть положенные дни, а затем с сентября пойти на спецкурсы в школу контрразведки. Не хотелось мне идти учиться, только что отучился долгих пять лет, юрист. Я сказал кадровику, что хотел бы сразу без отдыха, приступить к работе. Я ожидал отрицательной реакции, но неожиданно мне ответили согласием. Тут же получил из рук кадровика удостоверение с фотографией пока что в штатском, в котором каллиграфическим почерком было выведено: «Помощник оперативного уполномоченного Санников Георгий Захарович», а внизу мелкими печатными буквами стояло: «Владельцу удостоверения разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия», что привело меня буквально в восторг. Я почувствовал себя намного значительнее, чем до этого момента. Оружие — пистолет системы ТТ с двумя обоймами патронов и кобурой БУ[35] я получил через несколько дней из рук веселого старшего лейтенанта — начальника оружейного склада, и по рекомендации старших товарищей хранил его в выделенном сейфе до присвоения воинского звания «лейтенант» приказом заместителя министра Госбезопасности СССР Гоглидзе, расстрелянного год спустя как враг народа…
На работу уже официально по своей должности я попал после обеденного перерыва, то есть после 19.00. Дома, разумеется, ни слова о своей работе. Меня всего целиком окружала тайна, и это наполняло гордостью за то огромное доверие, которым, я в этом был уверен и никогда не сомневался многие годы, меня наделили партия и правительство…
Петр Кузнецов сидел, на том же месте и с той же набивной папиросой. Курил. Закурил и я.
— Поступаешь в мое распоряжение, — сказал Кузнецов и, наморщив лоб и сделав очередную затяжку, продолжал: — Сейчас я ознакомлю тебя с некоторыми схемами наших разработок, введу в курс дела по нескольким делам — формулярам, выделю тебе для ознакомления и чтения пару личных и рабочих дел нашей агентуры, и ты подойдешь к Евгению Семеновичу Курицыну часа через два, он будет к этому времени на месте, а сейчас он в городе.
Спустя пару дней я узнал и понял значение этих фраз: «он в городе», «работает в городе», «пришел из города», «иду в город», что означало работу в городе с агентурой, коей было великое множество. Существовал у каждого оперативного работника с указанием его фамилии так называемый график встреч с агентурой, утвержденный начальником отделения. В таком графике указывалось не менее 12–15 агентов, встречи с которыми проводились минимум дважды в месяц, ну а при необходимости и чаще, с некоторыми иногда и дважды в день, когда было указание свыше — срочно получить, собрать реакцию населения по какому-то определенному вопросу. Я видел графики у некоторых оперработников, в которых было по 30–40 агентов с указанием их кличек. Бытовал в оперативных подразделениях такой термин — «кличка». Имелся в виду псевдоним агента…
Кузнецов, продолжая морщить лоб и напустив на себя великую важность, извлек из сейфа графическую схему размером 1х0,5 м, на которой были отображены связи одного из известных в Киеве еврейских клерикалов «Соломона», разрабатывавшемуся уже несколько лет по делу с окраской[36] «шпионаж».
Попыхивая папиросой и окутываясь клубами дыма от дорогого душистого табака «Дукат», Кузнецов водил остро заточенным карандашом по лежавшей на столе схеме, на которой были обозначены все выявленные связи «Соломона», и давал по ходу детальные характеристики каждой из них, показывая одновременно фотографии, полученные путем секретного фотографирования при проведении оперативного мероприятия НН — наружного наблюдения. Фотографии находились в отдельном большом бумажном пакете, приклеенном к внутренней стороне задней корочки Д/Ф. В центре графической схемы была помещена фотография самого объекта, зафиксировавшая момент его встречи с установленным сотрудником ЦРУ «Роджером», прибывшем на американском сухогрузе в Одессу под видом одного из помощников капитана.
Я с удивлением рассматривал фотографию «Соломона», который то ли что-то передавал «Роджеру», то ли что-то получал от него. «Соломон» — маленький, тщедушный человек, в возрасте между 50 и 60 годами, с ярко выраженными семитскими чертами, пышными пейсами, в большой черной широкополой шляпе, которые обычно носят цадики[37], длиннополом черном пальто, очень старом и изрядно потрепанном, что было видно даже на фотографии. «Роджер», моложавый бравого вида типичный американец в красивой морской офицерской фуражке, в черном кожаном коротком до колен пальто, высокого роста, выглядел явно антиподом рядом с щупленьким и невзрачным «Соломоном». Эта разница вызывала улыбку, которую, конечно же, я не мог позволить себе в такой серьезной ситуации.
— Вот этот маленький и такой безобидный на вид еврей, — как бы уловив мои мысли, сказал Кузнецов, — подозревается нами в шпионской деятельности. Служба наружного наблюдения очень удачно зафиксировала момент передачи сотруднику ЦРУ каких-то пока нам неизвестных сведений и получение от него денег — несколько сот долларов и тысяч советских рублей. Это позже установили «Еленой», — продолжал Кузнецов и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил: — «Еленой» мы называем оперативное мероприятие «Е», а это означает проведение негласного обыска в квартире или вещей нашего объекта. Мы проводим по «Соломону» и другие оперативно-технические мероприятия. Например, мероприятие Т, или, как у нас говорят на оперативном языке, — «Татьяна», что понятно только посвященным. Короче говоря, мы слушаем при помощи стационарного устройства квартиру «Соломона». А есть мероприятие под наименованием «С». Мы называем его «Сергей» — это прослушивание телефонных разговоров. Осуществляется оно и в отношении «Соломона», у него есть телефон. В общем, обложили мы его со всех сторон. Он плотно обставлен и агентурой, но пока мы не имеем прямых доказательств его шпионской деятельности. Работающей по нему агентурой, в том числе очень проверенной, установлено, что Соломон резко антисоветски настроен, ведет среди посещающих синагогу евреев антисоветскую пропаганду, возводя клевету на советскую действительность, на отдельных руководителей нашей партии и правительства. В общем, сволочь и шпион, — закончил на этой ноте Кузнецов.
«Неужели этот невзрачный старикашка — шпион, — думал я про себя. — Наверное, это именно тот случай, о котором говорил полковник Сухонин: внешне человек может совсем не обращать на себя никакого внимания, или даже на словах идеологически близок тебе, или просто хороший человек, а на деле — враг, шпион, диверсант, который спит и видит гибель нашего социалистического Отечества.
— По «Соломону» работают четыре агента, — продолжил Кузнецов. — Вот в этом сейфе их личные и рабочие дела со всеми их письменными донесениями или рабочими справками о встречах. Там зафиксирован каждый его шаг. Почитай, познакомься с этой агентурой и их работой пока на бумаге. Почитай дело-формуляр на «Соломона». Здесь очень серьезные оперативно-технические мероприятия. И уж если этими мероприятиями что-то будет зафиксировано — значит, так оно и было. Это, брат, техника, это не агентура, которая иногда может быть субъективной по разным причинам. В общем, знакомься, читай, даю тебе на это дело четыре дня, а сейчас иди к Курицыну, он с тобой побеседует. В вопросах не стесняйся, задавай любые. В нашей организации можно говорить обо всем, ставить любые вопросы, на то мы сотрудники государственной безопасности, знать должны все и обо всех. Курицын сразу же принял меня.
Из всех сотрудников отдела, кроме полковника Сухонина, наиболее колоритной фигурой был он, заместитель начальника отделения, капитан Евгений Семенович Курицын. Шрам на лбу смуглого лица — след войны. Уже одним этим он заслуживал уважения. Впрочем, в отделе были и другие фронтовики.
Евгений Курицын принял меня в пустующем кабинете заместителя начальника отдела, находившегося в командировке.
— Ну, с чего начнем? — торжественным голосом, как мне показалось, произнес Курицын и картинно отбросился в кресле. — У тебя университетское образование и это большое дело. У нас в отделе всего несколько человек с высшим образованием. Почти у всех только чекистские курсы. Так что не слишком мы грамотные, но, поверь, в наших делах разбираемся хорошо. У нас самый результативный отдел на все министерство, больше всех арестов. Вот и сейчас готовится арест на группу ИПЦ, человек 10–12 будет арестовано. Будем брать вместе с подпольной типографией. О чем ты говорил с Кузнецовым, нашим маленьким богом по еврейским клерикалам, небось, он хвастался своими успехами?
Мне стало не по себе. И в отделе кадров, и у Сухонина, и сам П. Кузнецов говорили мне, и это особо подчеркивалось, что в органах госбезопасности вообще, а на агентурно-оперативной работе в особенности, категорически запрещено говорить о действующих делах — разработках, все эти дела известны только руководству и тем оперработникам, которые ведут эти разработки, не говоря уже о святая святых — агентуре, чьи данные вообще за семью печатями. «Провоцирует, что ли», — подумалось мне.
Нет, Женя Курицын, симпатичнейший человек, конечно же, не провоцировал. Это у него — все прояснилось какое-то время спустя — такая была манера разговаривать с младшими товарищами. Спустя полчаса, мы оживленно разговаривали, все больше проникаясь симпатиями друг к другу. Конечно же, Женька Курицын любил похвастаться и своим уже довольно солидным, а главное, боевым прошлым, и достаточно весомыми успехами в настоящем. Он был тогда молод, горяч и не так рассудителен, как много позже полковник Евгений Семенович Курицын, закончивший свою карьеру помощником легендарного контрразведчика, знатока человеческих душ, знаменитого и широко известного в творческой среде советской интеллигенции Филиппа Денисовича Бобкова…
Спустя пару лет Женя Курицын уехал в Москву, где окончил «вышку»[38], работал в «Пятой управе»[39], в том числе церковном отделе.
Евгений Семенович Курицын, которого нет уже в живых, остался в памяти веселым, смелым, имеющим всегда свои суждения, упорным в достижении цели, опытным оперативным работником да и просто хорошим человеком…
Несколько часов проговорили мы тогда с Женей Курицыным. Он посвятил меня, пока теоретически, в святая святых — работу с агентурой. Об агентуре говорил уважительно, как о близких себе людях. Я все больше убеждался в высоком профессионализме этого человека, разговаривавшего тогда со мной с напускной небрежностью и некоторой снисходительностью.
— Как ты понял, — говорил Курицын, — я занимаюсь разработкой православной церкви и действующей нелегально от нее истинно-Православной церкви, или, как мы говорим в обиходе, — ИПЦ. Дурман религиозный в любом его проявлении нашему советскому народу не нужен. Такие подпольные церковные формирования, как ИПЦ, призывающие к свержению власти антихриста, то есть нашей с тобой власти, опасны. А раз они призывают народ к свержению советской власти, — значит это уже контрреволюция. Я правильно говорю? — спрашивал Евгений Семенович и получал в ответ мое горячо убедительное согласие. Я готов был тут же идти громить нелегальные центры, арестовывать этих людей, выступающих против моей родной советской власти.
— Помнишь, — продолжал Курицын, — как в 1948 году во Львове был убит Гавриил Костельник?
Гавриил Костельник был одним из руководителей православной церкви в Украине, который еще до смерти митрополита Андрея Шептицкого, главы униатской церкви, уговаривал его ликвидировать Брестскую унию[40], воссоединиться с православной церковью, восстановив таким образом, полностью православную церковь на Украине. Он был убит на ступенях собора Святого Юра, в прошлом резиденции митрополита Шептицкого, по заданию подполья ОУН одним из его боевиков, переодетым в нищего и слепого богомольца. Восемь пуль было выпущено в живот Костельнику. Оуновское подполье полагало, что Костельник, ратуя за ликвидацию униатской церкви, является ставленником Москвы и, разумеется, агентом госбезопасности. Отсюда и решение — ликвидировать его.
— Если бы Степан Бандера знал, — воскликнул Евгений Семенович, — как они нам помогли. Если бы оуновцы знали, какую помощь они оказали Москве! Дело в том, что именно он, Гавриил Костельник был ярым противником Москвы, Московского церковного руководства, вел неустанную работу по отрыву православной церкви в Украине от подчинения Московскому экзархату. Все его усилия и действия были направлены на полный отход от Москвы и создание Украинской автокефальной православной церкви, которая была бы полностью независима от Москвы, с центром в Киеве. Это был глубоко законспирированный украинский националист, ведший тонкую и опасную игру как с Москвой, так и с униатской церковью. Он сознательно уходил от контактов с оуновским руководством, чтобы, зная силу и возможности госбезопасности, не скомпрометировать себя, не открыть ненавистным врагам-москалям свою истинную политику. Как же помогли нам эти оуновцы! — и Курицын, встав из-за стола, подошел к громадному старинной работы сейфу, достал пухлый том и протянул мне со словами. — Вот посмотри.
В деле на первой странице находилась вырезка из «Правды». На меня глянуло бородатое лицо Костельника в черной траурной рамке, под фотографией соболезнование от имени партии и правительства в связи с утратой истинного патриота.
— Я не понимаю, — сказал я, — кому же надо верить: «Правде», МГБ или бандеровцам?
— Какой ты непонятливый, — сразу посерьезнев, продолжал Курицын. — Мы несколько лет разрабатывали Костельника как антисоветчика и глубоко законспирированного врага нашего строя. Ты представляешь, что такое Украинская автокефальная церковь?
Я отрицательно покачал головой.
— После воссоединения западных областей Украины с Советской Украиной в 1939 году нами была практически ликвидирована униатская церковь, добили мы ее уже после войны. Вон в том сейфе, — и Женя ткнул пальцем в другой сейф, — лежат сорок томов агентурно-наблюдательного дела «Ходячие», по нему начиная с 1939 года и сразу же после освобождения западных областей от немцев было арестовано и сослано в Сибирь более тысячи униатских священников во главе с Иосифом Слипым. Слыхал о таком?
Я снова отрицательно покачал головой.
— Ничего, все постепенно узнаешь, все постигнешь, все тебе станет понятно, все в твоей головке встанет на свои места. Ну, а что касается Костельника, то мы и не ожидали такого нужного для нас результата — ликвидация нашего врага руками врагов. Все шесть томов его разработки с удовольствием сдали в архив.
«Как же так, — думал я, глядя на Курицына и одновременно слушая его, — «Правда», центральный орган нашей партии, соболезнование партии и правительства, фотография антисоветчика и врага Москвы Гавриила Костельника, а это все, оказывается, ложь. Может быть, я чего-то не понимаю? Но ведь именно партия учит говорить только правду. Или это делается во имя более высоких целей, в конечном итоге во имя исполнения наших коммунистических идеалов, во имя интересов народа?..»
Спустя несколько лет, будучи слушателем разведшколы в Москве, на лекции о работе журналистов я услышал слова заместителя начальника советской разведки генерал-лейтенанта Ивана Анисимовича Фадейкина:
— Вы все, разумеется, ежедневно читаете Правду, а большинство и другие крупные газеты, такие, как «Известия». Так вот «Правда», если это нам нужно, пишет иногда и НЕПРАВДУ. Я подчеркиваю, если это вызывается необходимостью, прежде всего государственной необходимостью, — именно начал с этой фразы свою лекцию генерал…
Спустя пять лет работы в системе, я не только с пониманием отнесся к сказанному авторитетным генералом И. А. Фадейкиным, но воспринимал это как должное и необходимое для проведения острых дезинформирующих или иных, нужных власти и государству мероприятий…
— Начальник твоего отделения, — продолжал Курицын, — вместе с группой сотрудников отдела сейчас в командировке. Они во Львове. Там сейчас много наших ребят из всех подразделений министерства. Сидят в Тернополе, Ровно, Дрогобыче, в общем во всех восьми западных областях Украины. Мы проводим по всей Западной Украине крупную акцию по ликвидации выявленных нелегальных униатских церквей и монастырей. К сожалению, эта сволочь еще жива и действует. Именно униаты — самая сильная база оуновцев. Есть решение партии и правительства полностью разгромить эту церковь.
— Но по делу «Ходячие» ведь уже и так арестовано больше тысячи священников и другого церковного актива униатов. Неужели их так много? — спросил я.
— Мало арестовали, надо было больше, не церемониться с ними, подумаешь, нет доказательств — доказательств сколько хочешь можно найти. Посещение запрещенной властью церкви или монастыря — вот тебе и доказательства, а задокументировать их — раз плюнуть, было бы желание и указание начальников. Ты знаешь, что такое «задокументировать»?
— Догадываюсь, наверное, подобрать и зафиксировать уличающий материал?
— Да, это так, но я тебе сейчас более подробно объясню. «Задокументировать» полученные агентурно-оперативным путем интересующие нашу службу данные — значит, провести на базе имеющихся материалов запланированные следственные действия: определить круг свидетелей, может быть, «подработать» их нашей агентурой, допросить как положено и в соответствии с нормами УПК, то есть, грубо говоря, на основании существующего законодательства подготовить материалы для передачи в прокуратуру или в суд. В общем, муторное это дело — документация агентурно-оперативных данных, но вещь юридически обязательная. Ведь не будешь предъявлять в суде материалы литерной техники Сергея или Татьяны, или предъявлять секретно сделанные фотографии литера «О».
Я впервые услыхал слово «Визир» — специальное техническое устройство, приспособленное для наблюдения, а в случае необходимости и для производства секретного фотографирования, или киносъемки, в том числе и в инфракрасных лучах. Позже я впервые сам наблюдал за объектами, удивляясь поистине беспредельной фантазии человеческой мысли. Я познакомился и с просветленным зеркалом, через которое ты видишь все, а тебя не видят и не слышат. Такие зеркала, как правило применялись для наблюдения в гостиницах, или в специально для этого оборудованных квартирах…
Эти мероприятия мне вспоминались по-разному: иногда с улыбкой, иногда было неприятно воспроизводить в памяти картинки и образы чужой жизни. Человек, будучи по природе своей в общем-то не только общественным животным, но в принципе существом глубоко одиноким и доверяющим только себе, становился объектом внимания чужих людей, которые пусть и незримо, но вторгались в его жизнь. Один из опытных и старых оперработников любил повторять: «Ты, Георгий, не смущайся. Эти действия нам родные партия и правительство разрешили во имя интересов большинства, чтобы этому большинству жилось спокойнее. Конечно, грязное это дело — в чужом белье ковыряться, в чужую душу влезать. Разве приятно читать чужие письма? А ведь мы читаем их, а некоторые читают их систематически и много. Если ты будешь каждый раз при работе с «Визиром», или читая сводки «Сергея» и «Татьяны», не говоря уже о «ПК»[41], морализировать на эту тему, то никогда не станешь настоящим чекистом. Кому-то надо ковыряться в чужом дерьме. Грязно и неблагородно».
Этот уже пожилой интеллигентный человек учил меня работе с «ПК», показывал, как надо извлекать вложение из конверта, подстелив под конверт и работающие с конвертом руки большой белый лист бумаги, чтобы из конверта не могло выпасть и потеряться, упасть со стола какое-либо имевшееся в конверте, кроме самого письма, другое вложение, может быть, и специально для контроля заложенное отправителем по договоренности с адресатом. Он же рассказал имевшую хождение в оперативных подразделениях, связанных с ПК, вечную чекистскую байку о такой проделке-комбинации отправителя-женщины, которая в письме к адресату указала на специально сделанное ею вложение — волосок с интимного места, отсутствие которого свидетельствовало бы о существующем контроле над их перепиской. Представляешь состояние оперработника! Он, конечно, доложил о случившемся начальству, все лихорадочно искали этот интимный волосок, конечно же, ничего не нашли, долго обсуждали вопрос, в том числе и с медиками, отличается ли этот женский волосок от мужского. Вот такая, брат, была потеха. Пришлось работнику вкладывать свой волосок. Как выяснилось потом, никакого волоска вообще не было. Просто эти двое провели за нос всю нашу систему», — сказал старший товарищ.
Я не понимал необходимости (если это действительно не вызывалось оперативной необходимостью) секретного наблюдения в Визир поведения и интимной жизни крупных государственных, самого высшего ранга, деятелей. В Киеве в те годы в разное время находились с визитами разные «царствующие» особы. Конечно, наблюдение за ними доставляло прямо-таки удовольствие. Чего, например, стоила сценка, когда она — красавица с головы до ног, голая предлагает себя не менее красивому мужу — крупному лидеру, а тот ну каждый раз отказывается. Ребята похихикивали: «Нам бы ее, мы бы не отказались!»
Я не всегда внутренне был согласен с некоторыми положениями и знаменитой в те годы «Операции-100», в соответствии с которой разработка каждого мало-мальски подозрительного иностранца проводилась по всему маршруту его следования по территории Советского Союза. Местные органы госбезопасности в комплексе мероприятий активно использовали женскую агентуру, в том числе и проституток, поставляя этих девиц иностранцам, проинструктировав их соответствующим образом для выполнения нашего задания. Ну что и как могла сделать такая девица, даже если она была бы очень опытным нашим агентом? Да абсолютно ничего. Я всегда был уверен, что женская агентура в нужных случаях более результативна, чем мужская, но не в «Операции-100» — разово, накоротке. В силе и необходимости именно женской агентуры я в будущем убеждался не раз…
В отдел возвращались из командировок сотрудники. Приехал, и меня тут же познакомили с ним, начальник отделения Михаил Яковлевич Купцов, крупный породистый мужчина с лицом и манерами барина — такой большой и величавый, в модных туфлях, хорошо сидевшем на нем бостоновом темно-синем костюме, сшитом у лучших киевских мастеров — а они, особенно евреи-портные из Варшавы, попавшие в Киев после 1939 года, ох и хорошо же умели шить.
От своих новых товарищей я узнал, что несколько месяцев назад на месте Купцова работал Семен Яковлевич Брик, который за год до ухода на пенсию узнал, что его дальние родственники проживают в Америке, ведут переписку с родственниками в Киеве и в письмах спрашивали о нем. Семен Яковлевич доложил об этом в кадры и сам подал рапорт об уходе на пенсию, написав в рапорте, что не имеет права, как коммунист и чекист, продолжать работу в системе госбезопасности. Он был, разумеется, уволен, этот уважаемый человек и Почетный сотрудник госбезопасности. Семен Яковлевич был легендарной личностью. В органы он пришел по партийному набору в середине 30-х годов от станка, образование — ФЗУ, годичная школа НКВД и сразу после окончания школы — церковный отдел. Он считался во всей системе Министерства госбезопасности СССР одним из лучших специалистов по этой линии работы, знал все церковные направления, или как сказали бы сегодня, конфессии. В 38-м он был арестован по доносу. Содержался несколько месяцев во внутренней тюрьме здесь же. Его пытали. Но он не сделал никаких признаний и был освобожден. Ему предложили продолжить работу в Наркомате внутренних дел, и он согласился. Долгие годы этот человек был для меня эталоном коммуниста и чекиста…
Вначале я стал заниматься разработкой еврейских клерикалов. Правда, это было не самое основное направление в отделении. Главным был контроль за деятельностью сектантских формирований, таких нелегально действующих, как «пятидесятники», или, как их тогда называли, «трясуны», «Свидетели Иеговы» — иеговисты, «скопцы» и т. д. и т. п., всего наименований сект разного толка и ориентаций было до трехсот. Большая часть их давно была выявлена и разгромлена. В подавляющем большинстве руководили ими пройдохи и мошенники, в основном уже давно арестованные и отбывающие наказание в далеких сибирских и северных лагерях. Через существовавшие в те времена во всех лагерях оперативно-чекистские пункты за ними велось наблюдение с помощью лагерной агентуры. Вся их переписка стояла на ПК.
В поле оперативного внимания была и официально разрешенная деятельность ВСЕХБ — Всесоюзного союза евангельских христиан баптистов, основатель которого небезызвестный Проханов в начале 20-х годов встречался с В. И. Лениным и тогда же получил от него согласие на службу баптистов в Красной Армии исключительно в нестроевых частях, типа строительных и санитарных, короче, именно в тех, где военнослужащий имел законодательно утвержденное право не брать в руки оружие, исполняя, таким образом, самую основную шестую заповедь — «Не убий». Если верить тогда еще сохранившимся в отделе документам, Проханов понравился В. И. Ленину, который разрешил ему как председателю ВСЕХБ после окончания социалистического строительства в стране создать самостоятельное в системе РСФСР «Государство Солнца» по образцу «Города Солнца» Кампанеллы для верующих баптистов, разумеется, с подчинением советскому правительству и под его контролем.
В те времена верующих баптистов на Украине было более 90 тысяч. Все они были учтены, входили в общины, официально зарегистрированные в Советах по делам религиозных культов при правительстве и исполкомах. Общины имели свои легальные молельные дома и официально работающих в них проповедников. Появление в среде баптистов любого постороннего — верующего этой конфессии, но с некоторыми отклонениями от принятых и разрешенных обрядов, как правило, сразу же фиксировалось агентурой и становилось достоянием органов. Религиозная основа у сектантов одна, как и ритуальная часть, за небольшим, но определяющим исключением — проповедники «трясунов» своими проповедями доводят верующих до такого состояния, особенно молодежь и несовершеннолетних, что они входят в экстаз, начинают трястись, их как бы бьет какая-то лихорадка, они впадают в беспамятное состояние, начинают громко выкрикивать бессвязные слова, нести всякую непонятную для слуха тарабарщину. Такое состояние человека у истинно верующих «трясунов» считается нормальным, а бессвязные выкрики означают, что на него снизошел Святой Дух, он вступил с ним в контакт и заговорил на понятном только своим языке. По утверждению врачей, и это научно доказано, приведение в такое состояние нормального человека является крайне опасным для его психики, наносит непоправимый ущерб здоровью, что, естественно, представляет, как тогда всеми говорилось, опасность для нашего советского общества и социалистического государства. Конечно же, при этом проповедники трясунов, да и всех остальных запрещенных и нелегально действующих сект, призывали к неповиновению властям, не принимать участия в общественной жизни, не работать в государственных учреждениях, не посещать школы, не служить в армии, уклоняясь всеми способами от призыва, вплоть до прямого неповиновения и дезертирства. Такая же пропаганда проводилась и ИПЦ, где священники призывали к полному неповиновению власти дьявола и антихриста…
Я на всю жизнь запомнил, когда в офицерской форме вместе с товарищем по работе вошел в камеру арестованных членов ИПЦ, двух старух, сидевших на корточках по углам камеры, и как они, увидев нас в военной форме и фуражках с голубым верхом, запричитали, закрестились: «Сгинь, сгинь, власть антихриста, чур ее, чур!» И продолжали осенять себя крестным знамением и причитать, злобно глядя на вошедших: «Чур Антихристам, гореть вам в пещи огненной!» Я спросил тогда же у товарища: «Как же это получается? Мы — такая мощь, великая держава, и боимся немощных стариков, полубезумных и неграмотных! Что-то не то мы делаем, или я чего-то не понимаю». Засмеялся опытный чекист: «Может быть, ты и прав, Георгий. Только неграмотных у нас в стране и духовно убогих все еще очень много, да и к нашей власти не все относятся как надо. Вот такие старцы и сбивают людей с толку, особенно молодых. Помнишь, я тебе показывал материалы на Кодубенко? Ты читал ее показания. Она люто нас ненавидит, что и не скрывает. Партией прикрывалась, свое церковное происхождение скрывала, ну а что касается ее военной поры — так ведь вся страна воевала, немцы церковь, тем более нашу, православную, совсем не жаловали, сжигали, как и все остальное. Товарищ Сталин все это отлично понимал. За одни сутки собрал самолетами всех нужных экзархов[42] и воссоздал церковь в Советском Союзе. Тогда она особенно была нужна народу; вчера еще его, советского солдата, родители поклонялись ей, пока мы, большевики, ее не разогнали, а тут война. Мы смогли через церковь, влиять на сознание советского человека в нужном нам направлении. Воссозданная Сталиным православная церковь выполняла, да и сегодня выполняет особую роль генератора идей, ее можно сравнить в этом плане с райкомом партии. Мы, в частности наш отдел, формируем нужную нашему государству идеологическую направленность церкви. У нас достаточно агентуры, чтобы незамедлительно получить информацию об отклонениях в проповедях священников, об опасных высказываниях даже не перед прихожанами, а в своем кругу. Мы контролируем церковь снизу доверху. Все знаем. Конечно, мы не вторгаемся в личную жизнь церковной верхушки в высшей ее ступени. Экзарх Украины Иоанн не знает, кто такой Сухонин, а именно он, Виктор Павлович, проводит с ним систематические встречи, прикрываясь якобы своей работой в Совете по делам православной церкви при Совете Министров Украины, где он выступает в роли заместителя председателя и значится там в официальных списках. И никакой тебе утечки. Раскопаем, и загремит болтун в лагеря. Виктор Павлович значится и в Совете по делам религиозных культов в такой же должности. А Кодубенко самая настоящая сволочь. Перед передачей материалов в прокуратуру для последующего направления в суд Генеральный прокурор Украины Р. И. Руденко попросил наше руководство привезти из тюрьмы к нему в кабинет Клавдию Васильевну. Я был при этом. Стояла молча эта симпатичная тетка с горящими от ненависти за стеклами очков глазами. Ну истинный борец за дело Христово! На все вопросы Руденко отвечала презрительным молчанием. Она ростом высокая, Руденко ниже ее, стоит перед ней, орет, весь красный от натуги: «Как ты, фронтовичка, коммунист, могла связаться с этими подонками? Образумься, проси прощения у партии. Пиши обращение на мое имя, срок меньше дадим». А Кодубенко молчит, смотрит свысока, а на морде сплошное презрение ко всем нам присутствующим. Руденко повернулся к нам, мы стояли втроем чуть в стороне, и говорит: «Уведите от меня эту сволочь, пусть сдохнет в лагерях, туда ей и дорога». Конечно, жалко ее было, все-таки женщина еще молодая, на фронте была, ордена честно заработала. На суде она тоже молчала, только и отвечала «да», «нет», от защиты отказалась. Ни на следствии, ни в суде показаний на других участников этой антисоветской группы не дала, хотя и была полностью изобличена показаниями свидетелей и других арестованных по этому же делу. Поработаешь пару лет, Георгий, и поймешь, какую опасность для нашего государства таит в себе незаконная деятельность церкви, ее отдельных представителей. Они нас за людей не считают, мы для них власть дьявола, антихриста».
Спустя какое-то время мы с Виктором Павловичем вечером были у экзарха православной церкви на Украине, его Преосвященства Иоанна. О встрече Сухонин договаривался сам. В кабинете у Виктора Павловича стояло два разных телефона: один — от Совета по делам православной церкви, второй — от Совета по делам религиозных культов.
Встреча была короткой, но интересной. Пили чай с медом и черными монастырскими сухариками. Цель визита — подписать экзарха на облигации Государственного займа, что и было Сухониным успешно сделано. Сумма была приличная, даже по тем временам — двадцать пять тысяч.
Потом была еще одна примечательная встреча вместе с Сухониным, но уже в Одессе, у епископа Одесского, Ростовского и Донецкого Тихона. Отец Тихон, высокого роста, крепкого сложения красавец 50 лет, с гривой пышных вьющихся от природы каштановых волос, с веселыми чуть навыкате карими глазами, с ярко-красными, как будто накрашенными помадой губами принял нас в просторной прихожей большого дома, собственности епархии. Крупной пухлой и холеной рукой крепко пожал руки обоим и вопросительно, но без смущения уставился на меня.
— Вы не беспокойтесь, — и Сухонин назвал Тихона его светским именем, — это мой помощник и ученик, он работает вместе со мной в совете, куда был направлен после окончания университета, юрист по образованию.
Отец Тихон понимающе и лукаво рассмеялся:
— Редко посещаете нас в Одессе, Виктор Павлович, а новостей у вас в Киеве, наверное, много, поговорить хочется, да вот опять не один.
Поняв и оценив шутку, Сухонин ответил:
— Да вы не стесняйтесь, говорите и спрашивайте, пусть молодежь учится у нас, стариков.
Резко повернувшись и указав рукой, куда следует идти, Тихон пропустил впереди себя Сухонина и, еще раз резко сдвинувшись в сторону, чтобы дать дорогу мне, слишком широко шагнул, отчего накидка на его плечах взметнулась вверх и упала мне под ноги. Запутавшись в ней, я едва не упал. Все рассмеялись. В большой столовой, куда мы прошли, стояла пожилая женщина, вся в черном. Я знал от Сухонина — родная сестра Тихона, монашка, она же экономка в доме. Тихон относился к черному монашеству, не имел права жениться, иметь семью, чем обеспечивал себе иерархическое продвижение в церкви до самых высших ее постов. Виктор Павлович рассказывал мне о любовных похождениях Тихона. У этого красавца была куча любовниц, и не только из числа прихожанок, посещали его и светские дамы, мужья которых в Одессе были в некоторых случаях достаточно известны. Любил женщин Тихон, и они платили ему взаимностью…
Сестра Тихона молча поклонилась гостям и сразу же тихо и незаметно растворилась, исчезла в одной из дверей. Тихон снял с уже сервированного и подготовленного к ужину стола большой кусок марли и, явно рассчитывая на эффект, посмотрел на гостей. Эффект удался.
— Как всегда на столе все то, чего не достанешь даже в Одессе, — сказал Сухонин, на лице которого, пожалуй, больше для того, чтобы сделать приятное хозяину, выразилось и легкое удивление, и удовлетворение хорошим приемом.
— Виктор Павлович, в Одессе все можно достать, даже при нашем скромном образе жизни. У нас на Привозе[43] не только самые дефицитные продукты, а все что угодно купить можно, были бы деньги и желание. Все, что вы видите на столе, — пища наша церковная, простая и здоровая, недаром меня зовут в народе «шахтерским епископом». К слову сказать, я ни разу не пропустил положенные мне службы в Донецке. Люблю этот край шахтерский, народ рабочий люблю, — и хозяин движением руки пригласил гостей к столу.
Казалось, ничего необычного не было на столе, но в те годы и в первой половине мая свежие огурцы и помидоры, рыбное и икряное разносолье было действительно удивительным. Кроме нескольких сортов известной белой и красной рыбы, одной селедки было шесть видов. Копченый, вяленый рыбец и еще какие-то диковинные рыбины в запеченном, отварном, соленом выражении, конечно же целиковый осетр с хреном и т. д. и т. п., всего и перечислить невозможно. Даже стоявшая на столе в больших трех плошках черная зернистая, паюсная и красная икра с воткнутыми в нее деревянными ложками не производила такого впечатления, как эти красиво расположенные и торчавшие в разные стороны на столе хвосты и головы с воткнутыми в них пучками зелени.
— Чувствуется, любят вас прихожане, — с юмором произнес Сухонин, — всем обеспечивают. Картошечка отварная, конечно же, привозная, а такие фаршированные помидоры могут быть в это время только из Болгарии. С таможней, небось, хорошие отношения имеете, — продолжал шутить Сухонин.
— Побойтесь бога, Виктор Павлович, все это делает, добывает и готовит сестра, а уж как ей это удается — ее секреты. Ну да я рад, что доставляю вам какое-то маленькое удовольствие, хоть чем-то сделать приятное, вы же знаете, как я к вам отношусь. У вас высокий пост в совете в Киеве, вас уважает Владыка, и вы у меня в гостях. Принимать вас у себя в доме — великая честь.
Общие разговоры — все ли хорошо в отношениях с комиссией по делам православной церкви при Одесском исполкоме, нет ли неприятностей с властями и т. д. и т. п. — шли довольно долго. Выпито было несколько рюмок водки, на столе нарушился порядок снеди, которая успела поубавиться. Наконец Сухонин произнес:
— Жаль, редко встречаемся, надо бы чаще. Но приехали-то мы к вам в Одессу не только в плановом порядке для составления отчета нашему правительству о работе православной церкви вашей епархии. У нас к вам просьба.
Тихон с подчеркнутым вниманием посмотрел на Сухонина. За маской веселого и гостеприимного хозяина угадывалось волнение и скрываемое напряжение. Высокое начальство просто так для общей официальной беседы не приезжает из Киева. Все священнослужители высокого ранга — и в православной церкови, и ВСЕХБ, католики или представители других религиозных культов знали Виктора Павловича Сухонина как одного из руководителей совета (того или иного), но я был уверен, а с годами еще более укрепился во мнении, что все они догадывались о его истинном положении, о работе в госбезопасности. При этом конечно же они не могли не уважать его за знания церковных канонов, образованность в области истории церкви и наверняка ценили в нем умение разговаривать на одном языке, чувствуя в нем равного профессионала…
— Я не хотел вам говорить об этом по телефону, дело пикантное, да и другие вопросы хотелось обсудить. К вам в епархию и под ваше начало несколько месяцев тому назад прибыл из Франции и работает благочинным[44] Борис Старк. Нам бы хотелось познакомиться и побеседовать с ним. И не только потому, что он реэмигрант, долгие годы жил и работал в Париже, сын того самого адмирала Старка — одного из виновников гибели в Порт-Артуре эскадры в русско-японской войне 190»–1905 годов. Мы знаем, что и его отец, и он сам тесно сотрудничали с белым движением. Знаем, что он давно отошел от всех антисоветских эмигрантских организаций, долго добивался возвращения в Россию, в Советский Союз. У нас имеются некоторые вопросы к нему, мы хотели бы встретиться и побеседовать с ним, познакомиться, и сделать это с вашей помощью, чтобы не травмировать его нашим официальным вызовом в исполком Одессы или Совет Министров Киева, имея в виду Совет по делам православной церкви. Знаете, эти реэмигранты иногда не все правильно понимают, могут как-то иначе истолковать этот вызов.
Тихон лицом сразу просветлел, даже вздохнул, как мне показалось, облегченно.
— Виктор Павлович, конечно, конечно помогу. Только подскажите, как лучше это сделать.
— А вы позвоните ему по телефону и пригласите по просьбе местных властей на беседу и знакомство, это его не напугает. Кстати, сегодня уполномоченный по делам православной церкви при вашем облисполкоме, — и Сухонин назвал фамилию, — вместе с нами пытался дозвониться до Белгород-Днестровского, у нас ничего не получилось. Линия была беспрерывно занята. Телефонистки сказали, что заказ можно сделать только на завтра. А нам ведь торопится надо, уезжать. Вам, наверное, легче связаться с ним, и вызов Старка будет по-человечески понятен.
— Виктор Павлович, да это минутное дело, — радостно почти вскричал Тихон, — сейчас я закажу разговор с отцом Мефодием (Старком), — и Тихон взял телефонную трубку со стоявшего на тумбочке телефона.
— Девушка! Это говорит абонент №***, дайте мне Белгород-Днестровский. Спасибо. Ну вот, можно и по рюмочке.
Выпить, однако, не успели. Раздался звонок, Старк был у телефона. Как и договаривались, Тихон пригласил его на завтра в Одессу для знакомства с местным светским начальством, курирующим церковь.
— Интересно, — задумчиво произнес Сухонин, — мы два часа сегодня не смогли дозвониться до Старка, а вы сделали это за две минуты. Скажите, сколько вы платите девушкам-телефонисткам?
— Господь с вами, Виктор Павлович, просто доброе слово, они знают и уважают меня.
И на настоятельную просьбу Сухонина все же дал пояснения:
— Конечно платим, но не много. Этим занимается моя экономка…
Вскоре подошла вызванная Сухониным машина и мы уехали, договорившись о встрече назавтра в кабинете уполномоченного по делам православной церкви в здании облисполкома, куда Тихон должен был уже своей машиной привезти самого Бориса Старка.
Утром следующего дня Виктор Павлович и я сразу после завтрака в шикарной в те времена одесской гостинице «Красная», где мы остановились, пошли погулять по знаменитому Приморскому бульвару, пообщались с Дюком[45]. Три часа, оставшиеся до встречи со Старком, мы провели в обсуждении предстоящей встречи. Говорил все это время только Сухонин. Что тогда мог сказать я, какое мнение высказать своему начальнику о целесообразности вербовки этого благочинного? Ровным счетом ничего, разве что кивнуть согласно или дать утвердительный ответ на вопрос Сухонина.
— Мы наблюдали Старка все то время, пока он с семьей готовился к реэмиграции в Советский Союз и поэтому многократно посещал наше посольство в Париже. С ним несколько раз беседовали по нашей просьбе в совконсульстве сотрудник нашей резидентуры. Самые приятные впечатления. Старк — патриот Советского Союза, русский человек, с детства мечтал вернуться, выполняя волю покойного отца, в Россию. Он лояльно настроен к советской власти, давно порвал с белогвардейскими и антисоветскими центрами. Резидентура проверяла его через свою агентуру. Отзывы самые хорошие. Жена и девятнадцати летняя дочь имеют такие же настроения, как и сам Старк. Все они положительно с нашей точки зрения характеризуются и за время проживания в Советском Союзе. Ты подумал о вопросах, которые мы должны задать Старку?
Во-первых, я бы детально расспросил Старка о его отце-адмирале. Личность историческая, вице-адмирал, имевший прямое отношение к Порт-Артуру в 190» году, поражению русского флота. Активный участник Белого движения, ненавидел Советскую власть, а яблоко от яблони… Во-вторых, более тщательно прощупать взгляды Старка, узнать, что он думает о Советском Союзе, который он увидел своими глазами. Ведь он уже больше года работает в Белгород-Днестровском, до этого жил несколько месяцев в Одессе, выезжал в Москву, в Ленинград и уже довольно долго работает в провинции. Как ему наша провинция? Одно дело агентурные сообщения, а другое дело, если вы сами его расспросите. В-третьих, мы плохо знаем его отношения в семье, живут замкнуто, ни с кем не общаются, в свой семейный круг никого не пускают. Вот такие вопросы я бы выяснил у него, Виктор Павлович, — закончил я кратко.
— Ладно, в общем правильно, «яблоко от яблони», — язвительно повторил Сухонин, но насмешки в его голосе не было.
От Сухонина мне было известно, что Москва и руководство в Киеве настоятельно рекомендовали Сухонину завербовать Старка еще более года тому назад, как только он приехал в Одессу. Центр планировал использовать Старка в дальнейшем в качестве нашего агента с целью проникновения в церковное руководство в Москве, для чего после закрепления наших с ним отношений, соответствующей подготовки перевести с нашей помощью сначала для работы в центральных районах Российской Федерации, а затем в Москву. Однако Сухонин не торопился. Он ответил Москве, что Старк должен хотя бы пару месяцев поработать в своем новом качестве пройти проверку через агентуру. Дать ему, как говорится, «отстояться», а потом уже решать вопрос о вербовке. Многое в Старке смущало Сухонина, и прежде всего, его деловые и личные качества. Он неоднократно говорил мне: «Завербовать можно каждого, куда им деваться, нашим гражданам. Но мы-то особый отдел — церковный. Просто так, «с кондачка», священника не очень-то завербуешь. Здесь особый подход нужен».
«Чекисты — церковники» — люди особой профессии в ЧК, — любил говорить Сухонин. — Они не только должны хорошо знать церковь и все каноны, но и уметь слиться с толпой верующих, проникнуться их духом, быть особого рода психологами…»
…Беседу со Старком вели втроем. Кроме нас с Сухониным присутствовал и заместитель уполномоченного по делам православной церкви в Одессе, он же — начальник отделения «церковников» Одесского областного управления госбезопасности.
Виктор Павлович был прав. Старк оказался фигурой, совершенно непригодной для роли агента. И не потому, что он был истинно верующим. А потому, что Старк, как выяснилось в четырехчасовой беседе, был человеком, как говорится, «не от мира сего» — чрезмерно застенчивым, робким, нерешительным и в высшей степени скромным. Полученные от беседы впечатления полностью совпали с имевшимися у нас к тому времени данными как из Франции, так и в период его жизни уже в Советском Союзе. Выяснилась также его исключительная привязанность к семье — жене и дочери, которым он явно рассказал бы о вербовочном предложении, если бы таковое состоялось.
Дочь Старка — настоящая красавица, судя по фотографиям, мало походила на отца, больше на мать. Только глаза были отцовские, в них были грусть и доброта. Роскошные волосы, убранные в причудливую прическу, украшали эту чудную девичью головку.
Деликатный в манерах и разговоре Старк откровенно, даже очень уж откровенно и доверчиво рассказывал о себе, о их жизни во Франции, учебе в техническом колледже в буржуазной Эстонии, где он получил специальность техника по холодильным установкам, что давало возможность всюду на Западе хорошо зарабатывать. Работал по специальности он недолго и, проживая в Париже и, естественно, будучи достойным прихожанином и верующим, посвятил себя церкви, став постепенно священником, получил под Парижем русский приход. Как только его окружению во Франции и прихожанам стало известно, что он оформляет в советском посольстве свое возвращение на Родину, белогвардейские, эмигрантские и другие антисоветские центры начали травлю его семьи, часть прихожан перестала посещать его церковь. Вся эта травля, в том числе и в эмигрантской прессе, привела его к изоляции, полному духовному и психологическому истощению. Отец его, вице-адмирал Старк, перед смертью завещал сыну уехать на его истинную Родину — в Советский Союз, чтобы после смерти быть похороненным в России, и взять с собой горсть земли с могилы отца, которую потом положить в гроб сына по смерти его. И в довершение разговора совсем «добил «сотрудников» Совета по делам православной церкви.
— Дочь моя Наталья, — говорил Старк, — почти сразу же по приезде в Советский Союз забеременела от какого-то проезжего актера и вот-вот должна родить. Мы не осуждаем и не ругаем дочь нашу, все от Бога, но нам с женой очень тяжело сейчас. Дочерью нашей мы довольны и очень любим ее, она мастер-парикмахер высокого класса, специалист по дамским прическам, училась в Париже, к ней приезжают за сотни километров сделать прическу. Все от Бога, все образуется, и наша дочь будет счастлива.
Говорил он спокойно, убежденный, что наказан Богом. Подробно рассказывал Старк, как он преодолевал свое духовное истощение, как тяжело входила его семья в новую для них среду. В общем ни о какой вербовке не могло быть и речи, что и было сообщено в Москву. В. П. Сухонин через свои возможности в Одессе и Киеве многое сделал для оказания различной помощи Старку по линии украинского экзархата.
По прошествии десятилетий я нет-нет да и вспомню сына адмирала Старка, с которым судьба столкнула меня в столь необычной ситуации и которого (я при этой мысли всегда улыбаюсь) десница Божья отвела от нелегкой судьбы — стать агентом органов госбезопасности и пожизненно нести этот тяжкий крест. А улыбаюсь я каждый раз этой мысли, так как десницей Божьей в этом случае был большой профессионал, знаток своего дела и человеческих душ полковник Виктор Павлович Сухонин…
К моему приходу в отделе скопилось множество различных оперативных документов, часть которых готовилась к сдаче в архив, часть к уничтожению. Подавляющее число материалов относилось к сороковым годам и заканчивалось началом пятидесятых. Чего там только не было!
Мое сознание будоражили не только сами дела, но и та отрывочная и не всегда понимаемая информация, которую я получал, читая оборотную сторону листов. Дело в том, что в войну было плохо с бумагой и оперработники составляли документы на обороте уже использованных и ненужных старых дел. Так вот, часто на оборотной стороне был более интересный материал. Например, о двух восстаниях заключенных в северных лагерях. Они, по немецким планам, должны были вырваться из лагерей и получить оружие с немецких рейдеров, находившихся в Карском и Баренцевом морях для оказания помощи восставшим. Были протоколы допросов агентов абвера, абверовской школы «Цеппелин», или немецкой агентуры по линии СД[46]. Тогда же я узнал, что гестапо не было широко представлено на оккупированной территории. Действовала в основном служба безопасности, а гестапо имело лишь своих уполномоченных либо небольшие подразделения с особыми целями и задачами.
Я все больше сближался с товарищами по работе. Почти каждый из окружавших меня сотрудников — личность. Яша Лопатко. В июне 41-го пограничник Лопатко на советско-финской границе отражал в течение месяца атаки финнов. Получил медаль «За отвагу». Начальник отделения — Михаил Яковлевич Купцов. В сентябре 41-го минировал и взрывал переправы через Днепр. Докладывал обстановку маршалу С. М. Буденному. Большой нужник, он рассказывал об этом случае с юмором: «Докладываю оперативную обстановку на нашем участке С. М. Буденному у него в штабе, куда был послан с пакетом своим руководством. Передаю пакет адъютанту маршала. Входит Семен Михайлович. «Ты оттуда?» «Да, — говорю, — оттуда». «Докладывай устно, что знаешь, это лучше». Доложил. Обстановка была тяжелая. Кончил доклад. Семен Михайлович говорит: «Свободен, иди». А я к нему обращаюсь с вопросом. «Разрешите, товарищ Маршал Советского Союза, обратиться с вопросом?» Он так весело посмотрел на меня и говорит: «Разрешаю». А я ему: «Киев удержим, товарищ Маршал Советского Союза?» А он мне: «Пока у Семена Михайловича Буденного есть усы — Киев был и будет советским». И подмигнул мне. А на завтра самолетом улетел в Москву, оставив армию Кирпоноса[47], которая была уже окружена немцами и загнана в Ирпенскую пойму».
Иван Степанович Буряк в 1941–1943 годах служил в Кремле, был в охране Сталина. В декабре 41-го года принимал участие в ликвидации террориста, действовавшего под видом патруля, сумевшего обстрелять правительственную машину, выехавшую из Спасских ворот.
Прошедшие фронт или партизанские отряды, остававшиеся по заданию в тылу врага, еще молодые, всего на несколько лет старше меня, они держались со мной на равных.
Несколько прочитанных материалов потрясли меня. По некоторым из них я составлял короткие аннотации для архива. Фрагменты особо запомнившихся дел навсегда остались в памяти.
…Февраль 1942 года. Киевский оперный театр. Зал набит старшими и высшими офицерами вермахта. В партере, амфитеатре, ложах и балконах — 1200 мест. Идет совещание. Присутствуют высшие военные чины Германии. Совещание закончено. Начинается концерт. На сцене Борис Романович Гмыря[48], или, как его называют немцы, «Дубинушка». Он поет старинные русские романсы и всегда романсы Шуберта на немецком языке.
Театр сокрушает глухой удар страшной силы, всем кажется, что рухнул потолок. Одновременно с ударом и грохотом гаснет свет. В зале и на сцене — не пробиваемая вспыхнувшими со всех сторон ручными фонариками густая, проникающая в легкие пыль. Из партера слышатся крики ужаса и стоны раненых. Дали аварийный свет. На высоком голубого цвета потолке зияет вместо люстры дыра, пятиметровая в диаметре. Весом в несколько сот килограммов бронзовая с позолотой шикарная люстра оперного театра с рухнувшими вместе с ней тяжелыми цепями, кусками штукатурки и фрагментами потолка лежит в партере, накрыв собой, убив и покалечив 26 немецких офицеров. В зале стоит крик. Раздается властный голос одного из офицеров, призывающий к порядку и спокойствию. Офицеры помогают друг другу выбраться из-под обломков, пытаются приподнять люстру и освободить раненых и вытащить тела убитых. Вновь раздается команда срочно, организованно и без паники покинуть здание, оставив вещи в гардеробе, погрузиться в уже прибывающие машины для немедленной эвакуации из этого района — в подвале театра неразорвавшаяся авиационная бомба! И надо отдать должное немецким офицерам — не было никакой паники, очень быстро и организованно они покинули через все возможные выходы здание театра и доставленным к театру автотранспортом вывезены в безопасное место. Как выяснилось позже, в здание театра упала сброшенная с советского самолета бомба в 150 килограммов, попавшая в середину купола, которая, к счастью для немцев, а может быть, и для театра (когда бы мы еще имели такой театр), не взорвалась. Бомба была сброшена с небольшой высоты, предохранитель — «ветрянка»[49] не успел открутиться, и бомба, пробив потолок и обрушив люстру, ушла глубоко в подвал. Немцы смогли ее обезвредить к утру следующего дня, и через два дня театр функционировал, а население так ничего и не узнало. Немцы под строгую ответственность запретили говорить о случившемся, местное население не должно было знать об этом.
Москве заранее стало известно о намеченном на конкретное число в феврале «2-го года секретном совещании и было принято решение взорвать оперный театр. Организовать диверсию путем минирования здания не удалось и тогда было найдено другое оригинальное и смелое решение. В партизанский отряд, находившийся наиболее близко к Киеву, легким самолетом У-2 (впоследствии ПО-2, «Кукурузник») была доставлена 150 килограммовая бомба. Летчик — киевлянин, закончивший еще до войны киевский аэроклуб, много раз именно на У-2 летал над Киевом, знал все подходы к театру и в любую погоду на низкой высоте смог бы точно положить в цель свой груз. Все были уверены в успехе. Но немцам повезло. Именно в этот день был туман, а облачность ниже 600 метров. «Ветрянка» была установлена именно на эту высоту. Все учли наши разведчики, если бы не погода… Пилот был вынужден снизиться до 200 метров, иначе он не видел цели. Со второго захода он сбросил бомбу. Он принял правильное решение, бомбу положил точно в цель. Самолет не вернулся к партизанам. Судьба этого парня осталась неизвестной.
Тогда же, читая подготавливаемые для сдачи в архив дела, я впервые столкнулся с самым страшным в жизни человека — предательством.
Нечипоренко Сергей[50] — старший оперуполномоченный отдела «О» (церковный) НКГБ УССР, старший сержант госбезопасности[51], в органах по комсомольскому призыву 1939 года. Коммунист. В начале войны по заданию Наркомата госбезопасности участвовал вместе с другими товарищами в подготовке агентурных спецгрупп для работы в подполье. Имел непосредственное отношение к созданию двух таких групп, в каждую из которых входило 6–8 человек надежных людей, в основном из числа проверенной и закрепленной в работе агентуры. Люди с опытом гражданской войны, в том числе радистка, специально подготовленная для связи с Москвой. Сергей вместе с группой чекистов за несколько дней до сдачи немцам Киева уехал на двух машинах в район Дымера взрывать армейские склады. Задание они выполнить успели, взорвали объект перед носом противника, оторвались от немецких танков, на освободившиеся от взрывчатки грузовики погрузили раненых бойцов и двинулись к Киеву. Немцы по дороге разбили грузовики с воздуха, а сам Сергей был ранен немецкой пулей в колено. Транспорта не было, войска отступали пешком, кто как мог. Находившиеся вместе с отступавшими частями Красной Армии медики смогли в тех страшных условиях сделать Сергею операцию, извлечь пулю, спасти ногу. Но двигаться самостоятельно он не мог. В группе были специалисты по изготовлению документов, имелись у них всевозможные чистые бланки, в том числе и бланки паспортов. В одном из сел с действующей церковью, настоятель которой отец Никодим, как и большинство священнослужителей того времени, был агентом органов госбезопасности, сделали короткий привал, изготовили Нечипоренко новые документы на другую фамилию и оставили под видом родственника у о. Никодима. Детально обсудив поставленную перед Нечипоренко задачу — как ему действовать во вражеском тылу — руководитель группы, старший лейтенант госбезопасности[52] Филиппов, начальник родного церковного отдела, на прощание сказал: «Держись, сынок, мы обязательно вернемся, еще погуляем на твоей свадьбе». Стоя перед Филипповым и сглатывая подступивший к горлу комок, чувствуя, что вот-вот разрыдается, Нечипоренко прохрипел: «Все будет в порядке, товарищ майор, клянусь вам как коммунист и чекист, я выполню свою задачу, оправдаю ваше доверие». «Ладно, ладно, Сережа, будем ждать от тебя вестей. К родным своим не ходи, с ними не встречайся, это опасно».
Немцы вошли в село на следующий день после ухода группы, к вечеру появилась крупная тыловая часть. У священника немцы не останавливались, может быть, потому что сама церковь вместе с домом находилась на отшибе от села. Но в церковь, где шли службы, немцы заходили. Через неделю раненый смог самостоятельно передвигаться, а еще через пару дней двинулся в Киев, ночуя по дороге у добрых людей. Немцы ни разу не остановили его, не проверили документы, которые, впрочем, были весьма надежными.
Дороги были забиты немецкими войсками, техникой и передвигающимися в противоположную сторону, на запад, по указанным немцами маршрутам колоннами военнопленных, почти без конвоя. Кто хотел и мог, тот бежал, но таких было немного. Это объяснялось, как думал Сергей, не только моральной подавленностью вчерашних воинов Красной Армии, не только тем, что эта смертельно уставшая масса людей состояла в большей части своей из детей и близких раскулаченных и сосланных в сибирские и северные лагеря крестьян, а отсутствием в этой бесконечной колонне хотя бы нескольких офицеров-командиров.
Через несколько лет, работая в центральном аппарате МГБ Украины, начальник отделения капитан Нечипоренко, имея доступ к секретным документам, узнает, что миллионная армия генерала Кирпоноса, разрезанная на отдельные части немецкими танками, потеряв почти весь командный состав, утратив управление войсками, уже не была более способной к сопротивлению. Всех тех, у кого на рукаве гимнастерки была звезда[53], или след от нее, а также выявленных коммунистов немцы расстреливали на месте. Не щадили и офицеров, если те попадались с оружием или пытались оказать сопротивление. Количество военнопленных от этой миллионной армии потрясает — четыреста тысяч. Он видел немецкую хронику тех лет в кинотеатрах оккупированного Киева. Фальшивки тут не могло быть, места знакомые, и на этом фоне тысячи и тысячи сидящих на земле советских военнопленных…
Сергей наблюдал серые колонны уныло бредущих на запад и не понимал, как это возможно вот так добровольно топать в плен.
Устав от многочасовой ходьбы и уже сильно прихрамывая, — болела разбереженная рана, — он присел у какого-то полуразрушенного и покинутого дома. Вскоре от колонны пленных отделились двое и подошли к нему. Только сейчас он близко увидел их лица — небритые много дней маски с безумными глазами. Один из них прохрипел: «Парень, у тебя не найдется куска хлеба, мы третий день без еды». И только сейчас до Сергея дошел страшный смысл случившегося. «Да эти голодные люди сейчас уже ни на что не способны», — мелькнуло у него в голове. «Вот, возьмите», — и Сергей протянул им вынутую из котомки краюху хлеба и небольшой шматок сала, оставшийся у него от снеди, полученной от отца Никодима. Сам он не ел с утра, но от нервного напряжения чувства голода не было. До Киева оставалось всего несколько километров, а там мать с братом, связи. В голове адреса двух конспиративных квартир, куда он мог попасть в любое время суток по известному ему паролю. В котомке, кроме полотенца и смены белья, все от того же доброго отца Никодима, был принадлежавший ему табельный пистолет ТТ с двумя запасными обоймами и граната. Для себя он решил — если немцы остановят и после проверки документов потребуют показать содержимое котомки, он попытается убежать, применив оружие, или погибнет в бою.
Последняя ночь перед Киевом была холодной и тревожной. Сергей вместе с несколькими десятками гражданских, в основном пожилых женщин и детей, переночевал в развалинах безымянного полусгоревшего покинутого хутора в стороне от дороги, по которой почти беспрерывно, не соблюдая никакой светомаскировки, двигались в сторону Киева немецкие автогрузы…
На медленно идущее в сторону Киева гражданское население немцы не обращали никакого внимания. Колонн пленных на дорогах уже не было. Встретились им два небольших, обнесенных условно колючей проволокой лагеря для военнопленных с мизерной охраной — и это все, что осталось от многочисленных и плотных масс советских военнопленных, двигавшихся еще вчера и пару дней назад ему навстречу. Позже он узнал, что немцы передвигали эту огромную массу людей в подготовленные места концентрации, что жителям Киева и других мест Украины разрешалось искать среди военнопленных родных и по предъявлению подтверждающих родственную связь документов забирать их домой. Уроженцев и жителей Западной Украины немцы освобождали и отпускали домой самостоятельно, без всяких условий. Все отпущенные немцами военнопленные получали соответствующий документ, который они обязаны были по прибытии к месту жительства предъявлять в немецкую комендатуру для регистрации и дальнейшего направления в созданную немцами на оккупированной территории местную администрацию. Срок регистрации — сутки, по истечении которых в случае задержания — отправка в концлагерь или расстрел. Через несколько недель немцы прекратили отпускать русских, а вскоре и всех остальных, за исключением западных украинцев, которые в дальнейшем в основном влились в состав ОУН — УПА…
В Киев он вошел через Святошино. Людей на улицах мало, шли группками, видимо, возвращаясь домой. С трудом передвигая ноги и прихрамывая на раненую, боль в которой он облегчал, опираясь на палку, Сергей по известным ему с детства проходнякам достиг Кловского спуска, ну а там рукой подать до родной Московской улицы, где жили, если не эвакуировались, мать и младший брат. Он забыл слова майора Филиппова: «К родным не ходи, это опасно!»
Он избежал три проверки документов. Он шел по родному городу и город помогал ему. Сергей подошел к своей улице, обойдя ее по кривой через Окружной госпиталь и Бастионную. Вот он, его дом. Была вторая половина дня. Он посмотрел по сторонам. Никого. Став под большим каштаном, незаметно, но внимательно посмотрел на окна, из которых его могли заметить. Войдя во двор, Сергей сделал несколько шагов, еще раз скользнул глазами по окнам — никого нет — и вошел в подъезд.
Быстро поднялся на второй этаж. Звонок не работал — электричества в городе не было. Осторожно постучал. И сразу же услышал знакомые шаги матери. — «Кто там?» — «Это я, мама, Сергей», — прошептал Нечипоренко в дверную щель. За дверью охнули, зазвенела цепочка, щелчок замка, еще мгновение, и он обнимает прижавшуюся к нему и вздрагивающую от рыданий мать. Брата дома нет, ушел к приятелю в дом рядом. Мать быстро собирает на стол хлеб, масло, зажигает керосинку, ставит чай. Немцы всего лишь третий день в городе, в доме еще остались продукты. Жадно жует кусок черного хлеба и идет в крохотную оставшуюся от самодельных творений отца ванную. Дом принадлежит заводу «Арсенал», где работало три поколения Нечипоренок. Сергей после окончания ФЗУ тоже работал на «Арсенале». Семья была известной — дед и отец участники январского восстания рабочих «Арсенала». Красная Армия тогда, в 18-м, опоздала с помощью всего на три дня. Восстание было зверски подавлено петлюровцами. Захваченные с оружием рабочие — расстреляны, в том числе и его дед. Отец сумел скрыться. Участвовал в гражданской войне, штурмовал Перекоп. В память январского восстания рабочих «Арсенала» оставлены следы пулеметного обстрела одного из корпусов завода, сохранившегося до наших дней.
Сергей помылся на скорую руку, переоделся в чистое белье, надел свой старый гражданский костюм и сел к столу. Утолив первый голод, стал слушать рассказ матери. Почему она не уехала в село к сестре, где не знают, что они — семья коммунистов, а сын ее — сотрудник НКГБ? Оказалось, что мать не успела списаться с сестрой.
И в это время на улице послышался звук мотора грузовой машины и на немецком языке выкрики непонятной для Сергея команды. Он кинулся к окну. Во двор вбегали немецкие солдаты с автоматами в руках, среди них несколько в штатском с пистолетами. Сразу же на лестнице загрохотали сапоги. Сергей выхватил из кармана пистолет, вогнал патрон в патронник. Сдвинул засов в двери черного хода, и в это время загрохотали сапоги на черной лестнице. Немцы бежали вверх и к этой двери. Поздно, — мелькнуло в голове. Затряслась от ударов кулаками и прикладами входная дверь в квартиру. Мать с белым, перекошенным от ужаса лицом смотрела на сжатый в правой руке сына пистолет. Он вытянул руку с пистолетом по направлению к двери и тут же услышал жалобное материнское: «Сереженька, не надо, может быть, тебе дадут жить?»
В последнюю секунду он сказал себе: «Все кончено, поздно, надо все брать на себя, пусть живут мама и брат», — и показал головой матери открыть дверь, положив пистолет на подоконник в стороне от себя. Мать сразу же вскричала: «Подождите, подождите, я сейчас открою», — и отвела в сторону засов почти сорванной с петель двери. В квартиру вбежало сразу несколько немецких солдат, направив автоматы на Сергея. Следом вошли двое в штатском.
«Товарищ Нечипоренко?» — произнес по-русски один из них. Он так и сказал «товарищ», сделав ударение именно на этом слове.
«Да, это я», — хрипло ответил севшим от страха голосом Сергей.
Второй взял с подоконника пистолет Сергея и своим пистолетом в правой руке сделал всем понятное движение «Поднять руки». Сергей покорно поднял руки, давая себя обыскать этому второму, что тот и проделал быстро и ловко, извлекая из карманов Нечипоренко запасные обоймы, гранату, документы, по которым он значился как Тарасюк, проживавший по указанному в документе адресу в г. Киеве и досрочно по болезни освобожденный в 1940 году из Винницкой тюрьмы. Первый быстро обошел, щупая глазами квартиру, открыл гардероб, заглянул в сундук и, спрятав пистолет, приказал: «Поехали». Обернувшись к матери: «Вас тоже касается». Сергей сделал шаг в сторону первого: «Я прошу вас, оставьте маму, я все беру на себя».
Через пятнадцать минут машина, в которой его привезли, остановилась, а затем въехала во двор так хорошо знакомого Нечипоренко здания — Короленко, она же Владимирская, 33, дом, в котором на втором этаже более двух лет работал старший сержант госбезопасности, по-армейски — лейтенант, старший оперуполномоченный Сергей Нечипоренко. Его душили страх и чужой запах чужих людей. Сердце бешено колотилось. Ему стало почти дурно от увиденных во дворе здания, лежавших вдоль стены, явно только что расстрелянных. Он был не в состоянии избавиться от омерзительного и унизительного охватившего его чувства животного страха. Уже находясь в кабинете немецкого начальника, который предложил ему сесть и дал травянистую, невкусную немецкую сигарету, он вспомнил отрывок из любимой книги Рожденные бурей Николая Островского о пане Дзюбеке, которого жажда жить загнала под зловонные доски сортира. «Что происходит со мной? Даже Дзюбек не был предателем, он только спасал свою шкуру, для чего и погрузился в дерьмо, а ты просто предатель, мало того — ты нарушил воинскую присягу, ты изменник Родины, — клял себя Сергей все больше и больше. — Но ведь я сохранил не только свою жизнь, а ценой пусть трусости и предательства жизнь самых близких мне людей — мамы и брата».
Допрос был коротким и деловым. После сделанного вербовочного предложения Сергей постепенно стал приходить в себя. Он понял, что ему сохраняют жизнь, но за это он должен доказать немцам свою откровенность и искренность и подтвердить это конкретным делом. Ему предлагают стать руководителем агентурной группы из числа завербованных им или немецкой службой местных жителей с задачей выявления прячущихся офицеров Красной Армии, коммунистов, советских активистов, агентуру органов ГБ, евреев и других врагов рейха и вермахта. «Докажешь свою преданность — ты наш сотрудник и будешь хорошо жить, как подобает сотруднику СД. Не докажешь — сегодня же будешь расстрелян, а мать и брат отправятся в концлагерь».
И Нечипоренко сдался. Уже через час с ним работал следователь СД. На допросе присутствовали несколько офицеров СД — еще бы, они наверняка впервые видели хорошо информированного офицера всемогущего НКВД — НКГБ, так лихо отдающего на смерть своих товарищей. Встречавшиеся им до этого случая чекисты погибали в бою либо умирали в пытках. Предателей среди них не было.
Но Сергей и не считал себя предателем. Он все больше убеждал себя в том, что начинает с немцами крупномасштабную игру, в которой, он в этом был убежден, выйдет победителем. Итак, он отдаст им только маленькую часть известных ему секретов, выкупив за это жизнь свою, матери и брата. А сам будет мстить немцам, вести работу против них, выполняя указания Центра в Москве. Канал связи у него есть. В конечную победу Красной Армии он верил всегда. Свои колебания и вселившийся в него страх в те страшные дни считал случайным и временным явлением. Конечно же, — и это ему казалось единственно правильным — советскому руководству ни слова о службе у немцев, иначе его расстреляют как предателя и изменника Родины. Здесь все для него было ясно. Он делает все правильно. Ну что было бы, начни он тогда стрельбу в квартире матери? Короткий, в лучшем случае пяти-шестиминутный бой — и просто смерть его и матери, возможно, и брата. Кто выиграл бы от этой в общем-то нелепой гибели? Никто. А так он принесет пользу своей Родине, своей службе, нанеся большой вред немцам.
С годами он все больше укреплялся в правильности своего решения, а прочитав вышедшую вскоре после войны книгу чехословацкого коммуниста Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее», окончательно оправдал себя — ведь такой известный герой, как Юлиус Фучик, поступил почти так же — он тоже не стал стрелять, стоя с пистолетом за дверью. «Еще неизвестно, — думал Сергей, — предал ли своих товарищей Фучик или нет. Кто об этом сегодня может сказать? Нет, все он сделал правильно. В его случае сработал простой расчет — где и что выгоднее, где больше пользы. Вот и все».
Когда после войны он снова вернулся к своей работе, он почти забыл то страшное в своей жизни время, а когда вспоминал, ему казалось, что это было не с ним… Если бы не случай.
Начальник отделения капитан Нечипоренко в военной форме в начале 50-х после допроса, проводившегося в следственном корпусе МГБ УССР, шел по коридору и, достав папиросу, не смог прикурить — спички кончились. Зашел к приятелю в один из кабинетов, где проходил допрос арестованного бывшего агента СД. У него чекисты надеялись что-нибудь узнать о русском резиденте СД, который, по имевшимся данным, не успел уйти с немцами в октябре 1943 года и который активной действовал в годы оккупации в Киеве. Приметы тот резидент имел особые — черную бороду, очки, слегка прихрамывал на правую ногу. Кто бы мог подумать, что с короткой модной стрижкой под «бокс», гладко выбритый, чуть-чуть, почти незаметно прихрамывающий красавец-капитан, герой партизанского подполья, награжденный за успешные операции и ценную разведывательную информацию из оккупированного Киева боевыми орденами и медалями, и есть тот самый многие годы разыскиваемый резидент СД, имевший свою иконную мастерскую на Подоле, где сам и писал иконы вместе с двумя подмастерьями…
«Вернемся к нашему вопросу, — продолжил следователь, когда Нечипоренко прикурил и вышел из кабинета, где в углу сидел арестованный, на которого Нечипоренко и не посмотрел. — Когда вы последний раз видели вашего резидента?» Ответ последовал незамедлительно: «Секунд двадцать назад». Удивленно посмотрев на арестованного, следователь повторил свой вопрос и услышал в ответ: «Только что, с полминуты, это он прикуривал у вас, только уже без очков, бороды и с другой прической. А не узнать его я не мог. Теперь я понимаю, почему он был такой классный специалист своего дела, говорили, он у немцев был лучшим. Не одну сотню коммунистов и евреев поймал».
Следователь мгновенно прекратил допрос, отправил арестованного в камеру и сразу же вместе со своим начальником был принят министром, который дал команду размножить имевшиеся в личном деле ОК фотографии Нечипоренко в штатском и разослать их для опознания в те лагеря, где отбывали наказание ранее арестованные агенты таинственного резидента. Ответ пришел быстрый и точный — это был капитан Нечипоренко. Проинформировав Москву и получив санкцию на арест, министр госбезопасности Украины генерал-лейтенант Н. К. Ковальчук[54] после первого допроса, на котором Сергей не только сразу же рассказал о себе, но и жестко и цинично изложил теоретическую основу своего предательства, сказал ему: «В жизни чекиста бывают такие обстоятельства, при которых у него может быть только один выход — погибнуть в бою или застрелиться…»
Еще год жил Нечипоренко в одиночной камере ВТ МГБ УССР, исписав два тома показаний, где детально и откровенно изложил все случившееся с ним…
Спасая свою жизнь, он отдал немцам одну из известных ему конспиративных квартир вместе с радисткой и оставшимися по заданию в Киеве людьми, с тайниками оружия и средствами для проведения диверсионной работы.
Вторую известную ему конспиративную квартиру он оставил для работы с Москвой, женился на радистке, которая не посвящалась им в сотрудничество с немцами, принимал на этой квартире связников из Центра, не сдавая их немцам, получал инструкции и указания, в соответствии с которыми провел целый ряд диверсионных актов. Не сообщил он немцам и известные ему данные о заминировании Крещатика, который начали взрывать по радиосигналам из Харькова, когда стало ясно, что Киев сейчас не вернуть.
В собственноручных показаниях после разоблачения Нечипоренко описал много интересного: «…Вскоре после моего освобождения я был на Крещатике, где должен был состояться парад немецких войск. Начало парада немцы были вынуждены перенести на несколько часов, так как на вывешенном с вечера на фасаде магазина «Детский мир»[55] не менее десяти метров высотой громадном коричневого цвета нарисованном портрете фюрера в полный рост — было написано крупными буквами: «Гiтлер — вызвольник Украiни!»[56] А рукой неизвестного героя, сумевшего проникнуть в охраняемое здание и на веревке спуститься к портрету, мелом, но также крупными буквами под этой надписью стояло: «Вiд хлiба та сала!»[57] Сердце мое радовалось. Я чувствовал себя не одиноким. Настроение немцев было испорчено и тем, что какой-то юноша-подросток в военной форме ВВС бросился к машине немецкого генерала, но был сразу же схвачен немцами. В кармане у него был револьвер, он пытался убить генерала. Не успел. Но еще больше обрадовался я, когда позже начались взрывы на Крещатике, превращая его в груду развалин. Мне были известны два заминированных дома, о такой масштабности я не знал…»
Он успешно вел двойную жизнь. Он выставил немцам свои условия — для зашифровки сотрудничества с СД он, с санкции своих новых руководителей, изобразил перед матерью и братом побег по дороге в тюрьму, и это же самое изложил в объяснении НКГБ после освобождения Киева. С разрешения СД вывез мать с братом к родственникам в село. Обосновал перед немцами нецелесообразность ареста отца Никодима, который якобы должен обеспечивать связь с возможными партизанскими курьерами в том районе. Под контролем немцев продолжил работу со священником и совершенно не хотел сдавать его СД, если бы…
Однажды осенью 1942 года он подошел к машине с немецкими офицерами и собирался сесть в нее, когда неожиданно увидел отца Никодима, с испугом и удивлением наблюдавшего эту сцену. Нечипоренко подошел к священнику и объяснил, что в машине свои, советские разведчики, и что у него есть задание из Центра отправить о. Никодима вместе с матушкой в Москву, для чего в назначенное время тому следует подойти к ипподрому, что в районе Печерска, куда и прибудет вызванный им самолет. Нечипоренко понял, что нужно ликвидировать отца Никодима для безопасности.
Не пришел, однако, Никодим с матушкой Оксаной в обусловленные день и час в темную осеннюю пору на киевский ипподром, где нашел бы смерть свою. Напрасно ждал его Нечипоренко. На следующий же день выехал Сергей в знакомое ему село и увидел наскоро заколоченный дом отца Никодима и заколоченную брошенную церковь. Никто из опрошенных ничего не мог сказать об исчезнувшем отца Никодиме. Пытался Сергей и после войны уже официально разыскать этих стариков — так и не нашел, пропали в горниле войны.
С матерью и братом в период оккупации с санкции немцев встретился всего один раз, снабдил деньгами и продуктами, потом выехали они к родственникам в село, и остался он в их глазах героем-подпольщиком.
Центр с самого начала ареста Нечипоренко дал указание держать это дело в строгом секрете, близко знавших предателя сотрудников по работе строго предупредить о неразглашении, а перед родственниками легендировать выполнении им спецзадания.
Судьба Сергея Нечипоренко неизвестна.
* * *
Каждый день работы обогащал меня все новыми и новыми знаниями. Я буквально наполнялся совершенно неизвестной мне ранее информацией, познавал этот таинственный, полный загадок и неожиданностей мир чекистского труда. Шли дни, недели, месяцы и постепенно у меня появилось новое чувство — секретная, порой необычная работа становилась для меня обыденной. Я уже привык к работе с агентурой, участвовал в нескольких острых чекистских мероприятиях. Учителями были опытные, с многолетним стажем, намного старше меня сотрудники.
И все же вся обстановка в церковном отделе казалась мне не «боевой». Мысли о работе друга моего Вадима Кулешова в настоящем, как мне представлялось, боевом подразделении не покидали меня. Разумеется, не все дела в отделе были «тихими» и неинтересными. Но таких дел даже в те далекие времена было крайне мало, если не считать аресты «воинствующих» сектантов, особенно «Свидетелей Иеговы». У них чекисты изымали антисоветскую литературу, листовки, типографии или другую, в те годы примитивную, множительную технику. И все же все это казалось мне малоинтересным. Но то, что рассказали мне в начале работы в церковном отделе, потрясло меня, молодого чекиста.
Я с чувством скрытой зависти, что не мне была поручена эта акция, слушал рассказы бывалых чекистов о ликвидации архиепископа униатской церкви в Закарпатье Ромжи. Еще бы! Уничтожен заклятый враг советской власти, коммунизма, поддерживавший тайные контакты с Ватиканом, Папой Римским, благословившим Гитлера на написание книги «Майн Кампф», и крестовый поход на оплот мира и социализма — Советский Союз. Униаты и католический Ватикан, которому подчинена греко-католическая, униатская церковь — одно целое. Все они враги советского строя, Ведь это прихожане Ромжи передавали информацию на Запад о нашей советской действительности, дислокации военных частей, политических настроениях населения.
От советской агентуры, работавшей на Западе, стало известно, что Ватикан упорно старается оказать давление на правительства США и Англии оказать помощь униатской церкви, а стало быть, и оуновскому движению, националистическим повстанцам в западноукраинских лесах, в Карпатах. А Ромжа консолидировал вокруг себя все антисоветские силы в Закарпатье. Это враг.
Не думал в те годы я, молодой лейтенант, что физическое устранение политической оппозиции — признак бессилия. Это спустя годы я стал понимать, что «убрать» противника — человека гораздо проще и удобнее, чем долго и нудно убеждать его в противном и с помощью самой сильной в мире идеологии склонить на свою сторону.
Но тогда я был другого мнения и всей душой ненавидел тех, кто был против нас. У всех коммунистов-чекистов тех времен, может быть, за очень небольшим исключением, было именно такое мнение — если враг не переходит на твою сторону, он должен быть уничтожен любым путем, любыми способами и средствами.
Я в те годы не представлял, что убить вот так просто человека, не в боевых условиях, не на войне — страшно и противоречит всей человеческой сути. Меня учили: чекист всегда в бою, всегда в готовности пресечь любую вражескую попытку нанести ущерб нашему государству. Для чекиста нет мирного времени. Он боец невидимого фронта…
Операция по ликвидации Ромжи осуществлялась по указанию Н. С. Хрущева с санкции самого Сталина в 1947 году. Эту работу выполнили чекисты Украины. Акция готовилась тщательно. Непосредственные исполнители — лейтенант М. и старшина К., водитель грузовика. Их специально готовили, тренировали, инструктировали на высшем руководящем уровне. Взяли специальные подписки о неразглашении тайны особой государственной важности…
На бампер тяжелого армейского грузовика «студебеккер» специально для утяжеления приварили кусок железнодорожного рельса и металлическую катушку-барабан с намотанным тяжелым металлическим тросом.
Ромжа почти ежедневно в одно и то же время выезжал из Ужгорода к своей пастве в опекаемые им приходы и монастыри.
Ранним воскресным утром архиепископ с возницей-монахом в бричке, запряженной парой лошадей, двигался по пыльной сельской дороге, проходящей между лесочком и большим и безлюдным в это время года колхозным полем. Они слышали гул приближающегося к ним сзади грузовика.
На максимальной скорости, на которую был способен на этой дороге «студебекер», грузовик ударил бричку. От страшного удара сзади кони, оборвав постромки, взлетели в воздух и бездыханными рухнули на землю. Расколовшаяся на несколько частей повозка разлетелась в разные стороны. Людей — Ромжу и монаха — подняло в воздух как пушинок и они, описав дугу, упали далеко в стороне от дороги на поле.
Бывалый старшина-фронтовик, выполняя данную ему инструкцию, подбежал к лежавшим на земле еще живым мужчинам. И несколько раз ударил каждого монтировкой по голове.
Много месяцев местная милиция и госбезопасность вместе с военной прокуратурой округа тщетно разыскивали по всему Союзу загадочный военный грузовик.
Свидетелей не было. Монах мертв. Ромжу добили в местной больнице смертельным уколом с помощью медсестры — агента госбезопасности. Препарат для умерщвления доставили из Москвы.
За неудачную операцию лейтенант М. был отправлен для прохождения дальнейшей службы в оперативно-чекистский пункт одного из северных лагерей, чтобы начальство и товарищи забыли его поскорее. От более строгого наказания лейтенанта спас тяжелый перелом руки, полученный при выполнении задания. По непонятным причинам правительственную награду не получил и водитель, старшина К. Его решили отметить денежной премией, правда, в весьма солидном размере по тем временам — десять тысяч рублей.
Сегодня, спустя несколько десятилетий, это трагическое событие, конечно же, рассматривается под другим углом зрения. Все происшедшее видится как кошмарный и нереальный сон. Но было именно так.
В наши дни греко-католическая церковь Западной Украины поднимает перед Ватиканом вопрос о причислении убиенного архиепископа Ромжи к лику святых великомучеников…
Как-то появился в Украине невесть откуда взявшийся новый и авторитетный среди «пятидесятников-трясунов» проповедник.
Проверкой было установлено, что им является некий Борис Тараненко[58], осужденный в прошлом за антисоветскую деятельность, выразившуюся в проведении подпольных сборищ «трясунов», на которых он призывал к неповиновению советской власти, уклонению от призыва в Советскую Армию. При этом своими проповедями и воздействием на собравшихся приводил их в полубезумное состояние, заканчивающееся общей истерией, то есть тем, чем и были знамениты «пятидесятники-трясуны».
Отсидел Тараненко в лагерях несколько лет, а по выходе на свободу сразу же перешел на нелегальное положение, начал разъезжать по всей Украине, консолидируя вокруг себя членов этой запрещенной секты. Было принято решение задержать Тараненко, препроводить во внутреннюю тюрьму МГБ, где и продолжить с ним работу с целью вербовки. В положительном случае планировалось использовать Тараненко в качестве авторитета для выявления и разложения подполья «пятидесятников». «Сняли» Тараненко с соблюдением всех правил конспирации, зная, где он находится, по пути на ночлег к знакомым сектантам-«пятидесятникам». Напуган он был чрезвычайно, так как абсолютно не подозревал, что вновь попал в поле зрения органов. Как только он был задержан, посажен в машину и с ним были совершены уже в тюрьме все положенные при этом манипуляции, стало ясно, что с ним можно работать в вербовочном плане. Все в нем действительно «тряслось», но не от того, что на него сошел Дух Святой, а от обычного страха человека, который и тюремно-лагерной баланды нахлебался, и наломался на тяжелой, по сути каторжной работе, и не хотел испробовать это все заново. Было решено подержать его в камере пару дней, не допрашивать, понаблюдать через надзирателей за его поведением и состоянием.
В камере Тараненко вел себя беспокойно, беспрерывно молился, спал мало, временами впадал в прострацию. Было организовано тщательное медицинское обследование арестованного, включая врача-психиатра. Здоровье у него оказалось отличное, психических отклонений выявлено не было. Первые контакты с ним показали, что Тараненко стремился избежать наказания, умолял отпустить его, доказывал непричастность к антисоветским проповедям.
— Ну не мог я говорить, что власть наша сатанинская, что правит страной Сатана, — повторял беспрерывно Тараненко. — Четыре года лагеря меня многому научили, я свое отсидел и полностью исправился, пощадите меня, клянусь, что я не буду больше заниматься проповедями, собирать вокруг себя верующих. Я не виноват, что они сами разыскивают меня, сами организуют наши собрания, они любят слушать меня. Разве я в этом виноват? — причитал он, размазывая слезы по лицу кулаками.
Сценарий работы с ним составил сам Виктор Павлович: по-настоящему, как положено, не допрашивать, беседовать на общие и отвлеченные, не имеющие к его деятельности проповедника вопросы. Держать его в неведении, причины ареста не объяснять, содержать и кормить хорошо и только в одиночной камере. Дать ему возможность выговориться. Виктор Павлович говорил: «Пусть пропитается страхом». И Тараненко «пропитался». На пятый или шестой день он обратился с просьбой дать ему возможность письменно изложить сущность своих выступлений, места и адреса сборищ сектантов, указать известную ему активную часть «пятидесятников», существующие организационные связи между общинами. После этого он был официально с соблюдением процессуальных норм допрошен. И этих материалов, в которых он с небольшими наводящими подсказками со стороны следователей еще раз развернуто показал свою действительно антисоветскую деятельность, по тем временам — начало 50-х годов — было достаточно для осуждения его на несколько лет за проведение антисоветской пропаганды. «Отдал» он и типографию, где печатались листовки с призывом бороться с сатанинской советской властью. Стало ясно, что он пойдет на вербовку, которая позволит органам госбезопасности разложить все еще действующее подполье «пятидесятников» и увести подавляющую его часть в официально зарегистрированные на территории Украины баптистские общины. Тараненко был готов отдать всех членов известных ему подпольных сект «пятидесятников-трясунов», за исключением своей сестры и женщины из числа членов общины, с которой он был близок, чем уже серьезно нарушил правила поведения «брата во Христе», совершая грех с «сестрой во Христе» в безбрачии.
После двух месяцев работы с Тараненко, когда он был завербован под псевдонимом Богдан, меня вызвал полковник Сухонин.
Он был немногословен:
— Перед тем как освободить Богдана из тюрьмы и направить его в рейд по нашему заданию, да еще в Западную Украину для выявления пока неизвестных нам нелегальных общин «трясунов», надо привести его в божеский вид. За время нахождения в тюрьме он побледнел, осунулся. Мы составили легенду для сектантов о его двухмесячном отсутствии, а вот подзагореть на солнышке ему не помешало бы. Берите служебную машину, и куда-нибудь за город, покупайтесь, позагорайте.
Моему напарнику пришла идея взять с собой футбольный мяч, выехать в район Кончы-Заспы покупаться и поиграть в футбол.
Это был первый день на воле для Тараненко. Сидя рядом со мной на заднем сиденье старенькой по виду, но с новым мотором Победы, он с нескрываемым удовольствием и любопытством смотрел по сторонам. Стоял чудный жаркий день, июльское солнце нещадно палило. Остановились около ручья, протекавшего через большой скошенный луг, разделись до трусов и давай гонять мяч. Тараненко пробегал не больше десяти минут и скис, судорожно хватая широко раскрытым ртом воздух. Сказывалось двухмесячное нахождение в камере. Поставили Богдана на импровизированные ворота, гоняя мяч втроем — напарник, водитель и я. Бегали часа два, посылая в ворота мяч за мячом, а в воротах метался Богдан, наверное, чувствуя себя настоящим вратарем и, войдя в раж, кричал футболистам: «Что же вы, мазилы, мяча настоящего забить не можете?» И героически бросался на мяч. Обгорели все четверо до индейской красноты.
Через несколько дней агент Богдан ночью был вывезен из тюрьмы и отправлен в свой первый по заданию органов рейд, имея целью как можно больше вывести из-под влияния «пятидесятников-трясунов» «братьев и сестер во Христе» и направить их в официальную ВСЕХБ. Больше я никогда не встречался с Богданом, но слышал, что он стал одним из лучших агентов по разложению сектантов-«трясунов».
* * *
Самое ответственное и, конечно, самое сложное — работа с агентурой. В течение первых месяцев службы я прочитал все имевшиеся в нашей библиотеке учебники по всем спецдисциплинам, и прежде всего по работе с агентурой. На практике же все оказалось по-другому.
Первым моим агентом была Юлия Николаевна, по кличке Николаева. Пожилая женщина, сотрудничавшая с органами по линии церковного отдела с 1927 года, выбрала этот путь по доброй воле и желанию. Она неоднократно внедрялась в различные секты, вела активную переписку со «Свидетелями Иеговы», в том числе была на линии связи и с Бруклинским центром в США. На ее счету были и боевые дела — в 1928 году ее засылали под видом связной в националистическую вооруженную банду, которая была ликвидирована с ее помощью и при непосредственном ее участии. Работала по заданию в оккупированном Киеве, многократно выполняла задания по внутрикамерной разработке объектов. В моем представлении, она была если и не героем, то очень смелой и решительной женщиной. Судя по рабочему делу, где хранились все оригиналы письменных сообщений, Николаева была не очень грамотной, но обладала четкостью мысли, логикой. Работала на совесть.
Первая наша встреча проходила поздно вечером в одном из глухих переулков, недалеко от здания МГБ. Зам. начальника отделения Кузьма Емельянович, у которого на связи была Николаева, представил меня агенту:
— Юлия Николаевна, это наш новый молодой работник, у которого вы теперь будете на связи.
И вдруг я услышал совсем не то, что ожидал.
— А зачем мне нужен новый, да еще такой молодой работник! Или органы потеряли ко мне интерес? Или я стала старой и не гожусь для работы? Кузьма Емельянович, я буду жаловаться Виктору Павловичу. Я сотрудничаю с органами больше 25 лет, с вами работаю много лет, со мной работал сам Виктор Павлович, а вы кого мне даете в руководители, желторотого юнца? Это что, благодарность за мою работу?
Я знал от руководства, что Николаева практически уже «выработалась», что мне отдают на связь агента, потому что руководство отдела потеряло к ней интерес, как к ценному источнику, что она планируется в недалеком будущем к исключению из действующей агентурной сети. Я пошел на хитрость.
— Юлия Николаевна, я с трудом уговорил Виктора Павловича разрешить мне работать с вами, ибо вы самый опытный человек в нашем отделе. Я ведь только начинаю работать, и Виктор Павлович мне сказал: «Пройти практику у нашего самого опытного и ценного источника, а именно Николаевой, — это получить квалифицированную школу агентурного матсерства». Так что, Юлия Николаевна, во-первых, это указание Виктора Павловича, а во-вторых, научите меня этой работе, я хочу учиться у вас.
— Мог бы и сам Виктор Павлович прийти на встречу и объявить мне о своем решении. Ну да ладно, будем работать, я научу вас нашей работе, — с уверенностью и с чувством собственного достоинства завершила диалог старая агентесса.
И пошли мои частые встречи с Николаевой. Последнее время начальство не очень-то жаловало ее вниманием, все чаще под разными предлогами уклоняясь от предлагаемых, зачастую по ее инициативе, услуг. Ей казалось. что она делает важные сообщения, а информация была либо устаревшей, либо не представляла оперативного интереса. К этому времени возможности Николаевой практически иссякли. В общем, «старушка устарела». Николаева полностью выкладывалась в работе. Было заметно, как уставшая, часто болеющая пожилая женщина изо всех сил старается быть полезной для органов, всем своим видом и поведением показывала, что она еще нужна, что располагает нужными связями. Николаева просто не мыслила себя без этой организации, она слилась с ней, была ее частью.
Не одно десятилетие отдал я агентурно-оперативной работе, десятки разных агентов были у меня на связи, были и свои вербовки, но первого агента Николаеву я не смог забыть никогда, как не забывают первую женщину, первую любовь. Она действительно многому научила меня в работе с агентами, как их называли, «источниками», и как они сами себя именовали в агентурных сообщениях: «источник сообщает» или «источник установил…» Без работы этих настоящих помощников, как стали позже их называть, было бы невозможно функционирование сыска, являющегося обязательным атрибутом любой формы государственного правления в любую историческую эпоху. Пока существует в природе аппарат принуждения, аппарат насилия, карательные и аналогичные им органы любого типа — прокуратура, суды, армия, контрразведка, разведка, милиция, полиция и т. д. и т. п., то есть государство, — будет существовать и действовать агентура.
В основе каждой оперативной разработки лежит полученная, как правило, негласным путем, информация, заслуживающая внимания и дальнейшего изучения, что и выполняется различными способами — от агентуры до самых современных и совершенных технических средств. Человек устроен так, что, существуя в среде себе подобных, он обязательно будет делиться даже самым своим сокровенным с кем-то из близких ему людей — друзей, товарищей. Заместитель В. П. Сухонина Владимир Павлович часто ходил со мной на встречи и, терпеливо разъясняя принципы работы с агентурой, говорил: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Я цитирую классиков марксизма. Но ведь это действительно так. С кем делится человек своими мыслями, с кем разговаривает о своей жизни, кому жалуется?» И сам себе отвечал: «Друзьям-товарищам. Вот тут-то мы и возникаем, используя возможно имеющуюся в окружении объекта агентуру, или подводя нашу, или специально вербуя агента из числа этих «друзей-товарищей». Кто обычно предает? Самый близкий друг, который больше других знает. Конечно, не все и не всегда предают своих друзей. Я говорю в самых общих чертах, в принципе. Часто, и таких случаев у нас достаточно, когда друзья сами проводят профилактическую работу, предупреждают по-дружески своих друзей о возможных крупных неприятностях, если друг не перестает болтать ненужного или политически неверно высказывается, что само по себе является иногда опасным. К сожалению, чаще всего нам приходится вербовать человека на базе имеющихся компрометирующих материалов. Мы вынуждены «загонять» его в угол, оказывать давление на него, принуждать к сотрудничеству. Но все это мы делаем исходя из интересов нашего общества, защищая его от проникновения в нашу среду чуждой идеологии, врагов нашего строя. А как же иначе? Других путей пока нет. Конечно, много случаев и добровольных заявлений, добровольных услуг, предложений об оказании помощи».
Я внимательно слушал этого аса агентурной работы и был с ним полностью согласен. Впрочем, некоторые позиции мне не нравились, например, его любимое высказывание: «Ничто так не объединяет и не сближает людей, как их совместные пороки. Агентурная работа — это вид секретной, скрытной, тайной деятельности, а ведь это уже отклонение от нормальной жизни, уже все это порочно. Это сближает людей. Не говоря уже об известных темных делах или пороках вербуемого, которому в ходе вербовочной беседы становится ясно, что проводящему беседу сотруднику госбезопасности известно о нем все. Ну а уж в ходе дальнейшей работы с ним в качестве нашего агента все зависит от оперработника, который не просто направляет его работу, но и проводит нужную воспитательную линию. Конечно, если мы вербуем проститутку, тут ничего не сделаешь, это ее работа, и ни о каком воспитании не может быть и речи. Она и используется нами как проститутка. Что касается категории нашего специфического церковного отдела, мы должны превращать постепенно завербованную нами агентуру из верующих в атеистов, в наших настоящих идеологических помощников. Вот смотри, Николаева и Кущ были в начале 30-х совсем молодыми и фанатично веровавшими сектантами. Оба были привлечены к сотрудничеству. Нами были использованы данные о нарушениях ими сектантских норм поведения. Вербовочной базой послужило их убеждение в правильности политики советской власти в отношении изуверских сект, таких как «мурашковцы»[59], «скопцы», «хлысты» и т. п., желание помочь заблудшим «братьям и сестрам».
Агент по другой линии, Арон, был в активе синагоги, считался правоверным евреем, выдавал себя за хасида[60], прекрасно знал Талмуд, но было известно, что он атеист, а в синагоге работал исключительно за деньги, что и было использовано нами при его вербовке. Оказался прекрасным агентом. О преданности Арона органам госбезопасности, советской власти в отделе ходили легенды.
У агентуры с чекистами, у которых она находилась на связи, были особые, секретные, доверительные отношения. И поэтому были допустимы почти любые острые политические вопросы. Так, Арон и другие агенты из числа еврейских клерикалов часто спрашивали у чекистов, когда же будет решен правительством вопрос о строительстве в Киеве памятного монумента на том месте Бабьего Яра, где были расстреляны тысячи евреев.
Это был «больной» вопрос. Кому-то не хотелось превращать Бабий Яр в Новую Голгофу, которой поклонялись бы не только уцелевшие евреи Егупеца[61], но и весь иудейский мир. Удобнее было просто замалчивать страшную трагедию. В мои руки из архива попадались разные документы о массовой казни евреев в этом месте, в том числе и фотографии, сделанные палачами.
История создания памятника убитым евреям Киева крайне примечательна.
Протянувшийся на многие сотни метров овраг на северо-западной окраине города стал местом массовой казни киевских евреев осенью 1941 года. Там же в течение трех лет немецкой оккупации уничтожались советские военнопленные — солдаты, командиры и комиссары РККА. Так было удобно оккупантам. Таковых было 5 тысяч. Число убитых в Бабьем Яру евреев было более 100 тысяч. Их расстреливали голыми из пулеметов трое суток днем и ночью. Всех подряд — взрослых и детей, стариков и старух, молодых женщин с младенцами, здоровых и калек. Все они евреи, а посему по приказу Берлина и, исходя из расовой теории мракобесов ХХ века они должны быть умерщвлены.
За несколько дней до этого немцы расклеили по городу объявления: «Все жиды Киева и окрестностей должны явиться 29 сентября к восьми часам утра на угол улиц Mельника и Дохтуровской с документами, теплой одеждой и ценными вещами. Кто не подчинится, будет расстрелян». В объявлении, продублированном разъезжающими по городу машинами с громкоговорителями, подчеркивалось, что евреи должны иметь при себе драгоценности, деньги и что их собирают всех вместе для отправки на историческую родину — Палестину.
Mногие не верили в свою близкую смерть. Говорили: «Немцы — культурная нация. Они не позволят себе уничтожать евреев. Все, что писали до войны советские газеты, — коммунистическая пропаганда».
Для довоенного Киева с населением в восемьсот тысяч человек уничтожение ста тысяч — каждого восьмого — поражает своей чудовищной масштабностью. Далеко не все смогли эвакуироваться из города, тем более что командование Красной Армии неоднократно заявляло, что город немцам не взять, Красная Армия сумеет отстоять столицу Украины. Слишком поздно поступил приказ об эвакуации населения. Да и широкий Днепр явился преградой для ухода гражданского населения на восток. Своевременной и плановой эвакуации города не было…
Группки евреев, все, как правило, в темных одеждах, соединяясь с другими, образовывали стремительно увеличивающуюся и двигающуюся в одном направлении толпу людей. Внешне это напоминало ручейки, образующие реку, впадающую в человеческое море. Людской поток заполнил Большую Житомирскую, улицы Артема, Мельника. В толпе изредка мелькали белые головные платки, принадлежащие украинкам или русским. Это были жены или домработницы. Человеческая река медленно текла к большому Лукьяновскому пустырю — месту сбора. Отсюда до расстрельного места — рукой подать. Это известный сегодня всему миру Бабий Яр…
В первые послевоенные годы играющим на склонах оврага и на дне его ребятишкам попадались человеческие кости, черепа, которые вымывались дождями и вешними водами. Власти постепенно засыпали городским мусором и землей когда-то громадный овраг, и на этом страшном месте образовалось заросшее травой поле. Еще в 60-е годы можно было наблюдать, как милиция, исполняя указание отцов города, препятствовала приезжавшим сюда родственникам расстрелянных и любому простому народу оставлять на земле цветы в память убиенных, кости которых лежат под этой заросшей густой травой поляной.
Вопрос о создании на месте гибели киевских евреев памятника долгие годы обсуждался на всех уровнях и в Киеве, и в Москве. В защиту идеи памятника выступила общественность. Особенно велика заслуга писателей Сергея Смирнова, Феликса Кузнецова, известных борцов за память о всех погибших в страшной войне. Мировую общественность всколыхнул и Евгений Евтушенко своей поэмой «Бабий Яр». Время все расставило по своим местам. Власти дали разрешение на создание памятника, но не евреям, а всем казненным на этом месте советским гражданам.
Талантливый скульптор нашел решение. Среди срывающихся с обрыва фигур в гражданском платье, в красноармейской и краснофлотской форме четко выделяются две — старик с выраженными семитскими чертами и женщина с младенцем, прижатым к груди. Это мальчик, и если внимательно присмотреться, мальчик-еврей. До его гибели в конце сентября 1941 года родители-евреи успели совершить над ним обряд обрезания…
* * *
Гораздо больше, чем в официальных лекциях и пособиях, я приобрел, читая архивные материалы, особенно старые дела агентуры. Некоторые из этих дел навсегда остались в моей памяти.
Однажды мы с начальником одного из отделов дежурили по министерству. Ночь с субботы на воскресенье проходила спокойно, и мы читали архивные дела, которые должны были быть отправлены для дальнейшего хранения в Москву. Я прочитал тогда хранившееся в архивах Украины дело-формуляр на Нестора Ивановича Махно, заведенное еще царской охранкой. Меня поразила окраска этого дела: «социалист», «террорист», «коммунист», «анархист». Такую окраску царские жандармы давали в разные периоды действий на воле Нестора Ивановича. Тогда же этот начальник отдела доверительно дал мне следственное дело, предупредив, чтобы я никому не рассказывал о расстрелянной в 1938 году троцкистке Доре Соломоновне Соловейчик. Материалы были особо секретными, а посему, наверное, и подлежали отправке в Москву, так как речь шла о семье Ульяновых. Арестованная троцкистка в ходе следствия дала показания о вербовке ее совсем в юном возрасте охранкой для разработки семьи Ульяновых, и, в частности, самого Владимира Ильича, дороги и связи которого проходили через Киев. Особенно интересовали охранное отделение неизвестные ему каналы поступления из-за границы марксистской революционной литературы. Вербовал молодую участницу революционного подполья, уже тогда члена РСДРП, в общем-то одного с ней возраста внешне симпатичный и обаятельный жандармский подполковник с юридическим университетским образованием, и, судя по его отчетам о беседах с троцкистской, в высшей степени образованный и интеллигентный. Дора была арестована при разгоне нелегальной марксистской сходки, задержание ее и временное отсутствие было в последующем квалифицированно залегендировано.
Жандарм оказал на молодую революционерку ошеломляющее впечатление своей молодостью, эрудицией, галантностью, уважением к ее мыслям и политическим убеждениям. Он рассказал ей, что, еще будучи студентом Киевского университета, серьезно увлекся марксизмом. Тогда это была новая, увлекающая образованную молодежь теория революционной борьбы. И действительно, он, казалось, знал все, что было известно о марксизме самой Доре, и даже больше и лучше ее. Подполковник владел немецким и английским в достаточной степени, чтобы читать в оригинале «Капитал» Маркса и другие работы новых теоретиков. Он знал и почитал Плеханова. Он в подробностях знал все теоретические выкладки Кропоткина и Бакунина, был хорошо знаком с теориями западных философов и экономистов. В общем, он произвел на молодую Дору самое лучшее впечатление человека, отвечающего всем ее внутренним человеческим, женским и даже идеологическим постулатам и полностью разделяющим ее политические взгляды. Он говорил ей (а он вел с ней беседы, не допросы, и не в тюрьме, а на явочной квартире, но под охраной, и не с тюремной похлебкой, а с обедами и ужинами из знаменитого своей кухней лучшего в Киеве ресторана «Континенталь»), что считает марксизм самым современным учением. Однако при всем этом он оговаривал, что указанные в «Капитале» и «Манифесте» революционные теории сегодня в России слишком преждевременны, «что час России еще не пробил», что всем своим патриархально-крестьянским укладом, живущая общинным строем огромная страна, в которой должен в силу этого и еще не одно столетие почитаться царь-батюшка, своим историческим развитием еще не подготовлена к тому, к чему так настойчиво призывают нынешние социалисты-революционеры, коммунисты. Задача российской интеллигенции заключается в том, чтобы не допустить в России кровавую смуту, защитить еще так нужное на долгие-долгие годы самодержавие. «Поверьте мне, у нас еще будет, может быть, и республика, как во Франции, и свой Российский парламент, — говорил ей опытный жандарм, — но обязательно с царем, как в Англии с королем, ибо другого русскому народу не дано, поверьте мне, — убеждал Дору жандарм. — Мы должны вместе с вами, молодыми революционерами, сегодня защищать наш строй, не доводить народ до бунта, держать под контролем работу революционеров, и если хотите, даже как бы и помогать им тем самым, чтобы мы, защитники нашего строя, нашего царя, его верных слуг, губернаторов, судей, чиновников, смогли бы в нужное время отвести удар, который готовите сегодня вы, молодые революционеры, не понимающие, что ваш удар вызовет ненужные ответные меры, кровь», — внушал «защитник царя и Отечества.
Дора вела с ним длительные политические дискуссии, все больше и больше раскрываясь перед ним, и совершенно незаметно для самой проговорилась о некоторых своих товарищах и известном ей канале связи с заграницей, через который получала корреспонденцию и литературу в Киеве семья Ульяновых. «Конечно, — твердил Доре жандарм, — если вы откажетесь нам помогать, имеющихся у нас материалов более чем достаточно для отправки вас в ссылку в очень далекие края и вечного наблюдения за вами, как неблагонадежным элементом. Вся ваша последующая жизнь будет проходить под нашим контролем. В случае согласия сотрудничать с нами, оказывая тем самым даже помощь некоторым вашим революционерам, подсказывать им не совершать глупости, вы и вашему делу принесете пользу, и государству Российскому окажете помощь. Подумайте, у вас еще есть время и выбор, мы вас не торопим. Конспирация гарантирована».
И Дора сдалась. Она уже встречалась с революционерами-каторжанами, с ссыльными. Слушала их рассказы. И ей очень не хотелось, такой молодой, еще не любившей, еще не жившей по-настоящему и так любящей своих родителей, очутиться в ссылке.
«Хорошо, — ответила она подполковнику, — я согласна, но при одном условии. Кроме полной и гарантированной конспирации я хочу, чтобы не пострадала семья Ульяновых и сам Владимир Ульянов. Я обеспечиваю партию литературой, поступающей из-за границы. Я буду показывать ее вам. Если вы конфискуете хоть одну почту, я прекращу с вами работать и буду готова идти на каторгу. И последнее — я хочу, чтобы со мной работали только вы. Лично».
И действительно, подполковник выполнил все ее требования — семья Ульяновых, с которой встречалась Дора в то время, не пострадала. Охранка знала содержание почты, проходившей через Дору, и ни разу не конфисковывала ее. Этот наверняка незаурядный и талантливый жандарм работал с Дорой до 1917 года. В первые годы советской власти ЧК тщательно исследовала все окружение семьи Ульяновых, зная по архивным документам охранки о наличии источника информации около В. И. Ленина, но, кто именно был этим источником, установить не удалось. Почти все, имевшие контакт с семьей В. И. Ленина в Киеве, позже погибли или исчезли в годы революции и гражданской войны. Дора была вне подозрений. Член РСДРП с 1903 года, активный участник революции и гражданской войны, комиссар полка, штурмовавшего Перекоп, она несколько лет проработала в ВУЧК[62] следователем. Арестованная в 1938 году как примыкавшая к бухаринско-троцкистскому блоку, она мужественно вела себя на допросах и не была напугана вопросом следователя НКВД: «Вы были в период пребывания семьи В. И. Ленина в Киеве в числе самых близких к этой семье. Скажите, не подозреваете ли вы кого-нибудь из этого окружения в принадлежности к агентуре охранки, так как имеющиеся у нас документы свидетельствуют, что рядом с семьей Ульяновых, будучи вхожим в нее, действовал опытный и до сих пор нераскрытый агент». Ответ был ошеломляющим: «Это я. Но должна заявить, что семья Ленина из-за меня тогда не пострадала и не могла пострадать».
В ходе следствия было установлено, что Дора считалась настолько ценным агентом охранки, ее настолько тщательно оберегали, что в агентурной картотеке охранки не было ее учетной карточки, она, наверное, хранилась в сейфе киевского шефа этого департамента, а работал с ней только один сотрудник, ее же и вербовавший. Когда следователем НКВД был поставлен вопрос, что ей известно об агенте охранки в окружении Ленина, она была уверена, что следствие знает о ее сотрудничестве с охранкой, и решила избавиться от мучившего ее всю жизнь груза. На вопрос следователя — зачем она сразу же призналась, Дора Соломоновна ответила, что знает о своем конце — это расстрел, «так что, — заявила она, — лучше сразу все поставить на свои места, а смерти я не боюсь. Вреда нашему вождю я никакого не причинила, а вот многих наших товарищей-большевиков по революционному подполью из-под удара вывела, помогла им избежать ареста или других неприятностей. В этом помог мне мой руководитель в охранке. Фамилия его мне неизвестна…»
Ее собственноручные показания в следственном деле начинались словами, которые я запомнил на всю жизнь: «Если бы я родилась мужчиной, то стала бы обязательно летчиком-истребителем. Я всегда любила острые ощущения, я не могла жить без них. Да, я авантюристка, но это как наркотик, как кокаин, который я нюхала во время гражданской войны, сильнее наркотика… — чувствовать остроту жизни… Я знаю, меня расстреляют как троцкистку… Я не отрицаю свою принадлежность к великим идеям великого революционера нашей эпохи Троцкого… Когда меня вербовала охранка, я просто была слишком молодой и очень хотела жить. Должна заявить, что вербовавший меня жандарм выполнил все мои условия — он ни разу не задержал никого из семьи Ульяновых, ни разу не конфисковал зарубежную революционную почту, ни разу не арестовал ни одного связника, знавшего меня. Он очень ценил меня и по моей просьбе неоднократно буквально отводил от ареста моих хороших друзей-подпольщиков. Когда мы с ним расставались в 1918 году, он сказал: «Дорочка! Вас не должна мучить совесть, мы оба выполняли свой долг, мы оба служили великой России. Будьте спокойны, ваши друзья-большевики в архивах следов о нашей работе не найдут. Я об этом побеспокоился». Больше я с ним не встречалась, наверное, погиб в гражданскую…»
Всю жизнь помнил я это дело и их главных действующих лиц — Дору Соломоновну Соловейчик и ее руководителя, не отдавшего на связь другому работнику охранки своего ценного агента. «А какая конспирация! Профессионал! честь и хвала ему. Умел, мерзавец, работать», — довольно часто говорил я себе, вспоминая этих давно ушедших из жизни людей.
Спустя много лет я узнал, и это поразило меня, что жандармский корпус формировался царским правительством не из негодяев, подонков и других омерзительных личностей, занимавших в моральной табели о рангах самую низкую ступень общества, а наоборот. Это была элита царского общества. В корпус жандармерии принимали, как правило, дворян с высокими моральными качествами, соответствующими духу того времени, и конечно, очень образованных политических сыскарей. Разумеется, работали в охранке и «выходцы из народа», но это были личности, умом своим, профессионализмом и трудом достигнувшие в этом очень сложном политическом ведомстве высоких служебных вершин. Таким, в частности, был руководитель закордонной агентуры охранки некто Гартинг[63], еврей по национальности, из бывших агентов, сумевший до 1917 года внедрить свою агентуру в действующие за границей российские революционные группы разного политического толка. Обработанные Гартингом зарубежные агентурные материалы внимательно читались Николаем II, от которого тщательно скрывалась национальная принадлежность самого Гартинга. Можно представить, как был бы возмущен российский царь, узнай он, что зарубежной агентурой такого архиважного политического ведомства великой России, как охранное отделение, то бишь зарубежным политическим сыском, руководит еврей…
* * *
C Николаевой мы обычно работали у нее на квартире, в годы оккупации это была партизанская явка и отвечала всем требованиям для конспиративных встреч. Однажды, когда мы сидели у нее на широком удобном кожаном диване и вели беседу, Юлия Николаевна, хитро и кокетливо улыбнувшись, достала из выреза блузки полученное ею письмо из Бруклинского центра от связной, покрутила письмом перед моим носом, а когда я протянул руку, чтобы взять его, тут же спрятала письмо снова в вырез блузки. И такую манипуляцию она проделала несколько раз. Рассердившись не на шутку, я в сердцах бросил:
— Юлия Николаевна, что вы ведете себя как девчонка, кокетничаете не по возрасту, отдайте письмо!
— Я специально демонстрирую вам свой старый метод-завлекалочку. Вот эта кровать напротив помнит не одного чекиста. Женщина я была почти всегда одинокая, сейчас старуха, а была, как вы можете представить, хороша. Дочь ушла от меня рано, так что я могла себе позволить любовь со своими. Хочу вас по-дружески предупредить: никогда не идите на это с работающими с вами женщинами, поверьте, это мешает делу.
Я попытался превратить этот, по сути, серьезный разговор в шутку, но начальству докладывать, а тем более отображать случившееся в справке о встрече не стал. Стыдно было. За много лет службы я не раз сталкивался с агентурой из числа женщин и всегда вспоминал агента Николаеву, ее добрые и умные, идущие от сердца наставления молодому чекисту.
Как-то возникла необходимость во внутрикамерной разработке. Это то, что обыватель называет «подсадной уткой». Нужен был опытный агент-женщина. Ну, конечно же, выбор пал на Николаеву, которая много раз «разматывала»» сокамерниц. Встречи проходили во время вызовов на допросы. Питание во внутренней тюрьме было приличным, но есть арестованным хотелось всегда, наверное, сказывалось нервное напряжение, стресс. Или было наоборот, безразличие к пище.
После первых нескольких дней пребывания в камере с объектом нашего внимания Николаеву вызвали на допрос. Дело вел капитан Юрий Иванов, он был старше меня, работал несколько лет в системе, в прошлом фронтовик. В общем, опытный офицер. Розовощекий, с пухлыми пунцовыми губами, слегка наивным выражением голубых глаз и короткой стрижкой льняных волос, капитан Иванов даже в военной форме был похож скорее на подростка и выглядел явно моложе меня. Разработка велась не по линии церковного отдела, но агент был на связи у меня, и я пришел повидаться с Николаевой.
Конвоир, щелкая большим и средним пальцами[64] по пути следования из камеры в следственный корпус, привел Николаеву в кабинет следователя, где уже находились Иванов и я, купивший в буфете для Николаевой булочки, чай и солидный кусок нарезанной ароматной «любительской» колбасы, которую, как утверждали знатоки, могли делать только в Киеве и только киевские колбасники-евреи. Готовясь к встрече, Иванов разложил на тарелке колбасу, положил рядом булочки, поставил стакан с чаем. Небольшой, в 8–10 кв. метров кабинетик наполнился запахом колбасы. Как только ушел конвоир, Николаева буквально набросилась на Иванова с криком:
— Как вы могли додуматься до такого? Вы с ума сошли! Мне, арестованной и несколько дней евшей тюремную баланду, купили колбасу. Ну ладно вы, еще неопытный, молодой человек, а вы-то куда смотрели? — кричала Николаева, обращаясь ко мне. — Вы же должны были подумать, какой от меня будет идти запах после «допроса» — колбасный. Вот так вы и расшифровываете своих помощников. Купите мне пищу без запаха, молока, — закончила свою искренне гневную тираду Юлия Николаевна.
Первым начал возражать я на правах руководителя агента:
— Юлия Николаевна, во-первых, капитан старше меня по должности и званию. Во-вторых, мы думали прежде всего о вашем здоровье. В-третьих, это я виноват, я купил вашу любимую колбасу, — сказал я, пытаясь взять на себя эту ошибку. — Я сейчас же принесу сметану и молоко, а чтобы вас не «смущала» эта вкусная и такая аппетитная «любительская», я уберу ее, — и я, забрав со стола злосчастную колбасу, выскочил из кабинета и вскоре вернулся с молоком и сметаной.
На всю жизнь запомнилось знаменитое «дело врачей-убийц» с прогремевшей на всю страну Лидией Тимашук. Ей звонили сотни врачей по телефону и писали в письмах советские медработники: «Спасибо вам, Лидия Тимофеевна, вы спасли чистоту белого халата!» Пресса широко освещала ее жизнь, были фотографии сына в инвалидной коляске, в прошлом летчика, награждение орденом Ленина. В стране стремительно нарастала волна антисемитизма. Врачи-то, убийцы-то в большинстве своем евреи. Когда же в центральных газетах появились статьи о деятельности на территории Советского Союза сионистских организаций «Джойнт» и других, дело приняло совсем дурной оборот. В Киеве чуть не дошло до откровенных еврейских погромов. Почти сразу же после опубликования этих статей в киевском городском транспорте в это же утро было зафиксировано несколько случаев физической расправы с евреями. Нескольких человек с выраженными семитскими чертами выбросили на ходу пассажиры трамвая. К счастью, обошлось без жертв.
Надо отдать должное ЦК Компартии Украины, который был незамедлительно проинформирован органами госбезопасности о возникающей угрозе, и к утру следующего дня все партийные организации Киева, а потом и всей Украины получили нужные указания и рекомендации остановить распоясавшихся хулиганов, действия которых были, конечно же, спровоцированы нашей партийной прессой. Буквально через день-два в республиканской, местной, городской прессе появились разъяснения и статьи, остановившие быстро распространявшуюся волну антисемитизма. И все же в самом густо населенном евреями районе города Киева — Подоле, где еврейское население составляло тогда 125 тысяч человек, произошло два случая еврейских погромов. В те дни весь аппарат госбезопасности работал практически круглосуточно, многие ночевали на рабочих местах. Была задействована вся агентурная сеть. Встречи с агентурой проходили беспрерывно. С некоторыми агентами было даже по две-три встречи в день. Наверх шла объективная информация. На все острые сигналы, поступающие с мест, шла мгновенная реакция, принимались срочные меры по ликвидации конфликтных ситуаций, вплоть до вмешательства милицейских нарядов. Партийные организации Украины всячески пресекали антисемитские проявления на местах. Положение быстро стабилизировалось, жизнь вошла в свое обычное русло…
* * *
Верх мастерства каждого оперативного работника — вербовка агентуры. Кончался год. Я проработал несколько месяцев, приобрел некоторый опыт, как практикант присутствовал при арестах, нескольких задержаниях, первичных допросах, нескольких вербовках. Самостоятельно подобрал две явочные квартиры и привлек к сотрудничеству хозяев этих квартир. Но все это было не то. Содержатели явочных квартир были стопроцентными советскими людьми, коммунистами. Аресты и вербовки проводились моими коллегами. А так хотелось самому испробовать это!
В преддверии одного из пролетарских[65] праздников В. П. Сухонин собрал отдел и коротко поставил задачу: «Пришло время выбросить из города монашествующий и кликушествующий элемент», — дав тут же указания соответствующим отделениям, как надо «выбрасывать из города этот самый элемент», чтобы обеспечить таким образом политическое спокойствие по церковной линии в столице и республике, дать «возможность советским людям спокойно встретить праздники».
Отдел имел достаточный опыт по обеспечению порядка по своей линии, что и было проделано в течение нескольких последующих дней. «Элемент», временно конечно, был «выброшен из города». Одновременно Виктор Павлович поставил задачу о привлечении к сотрудничеству с органами молодых сектантов для разложения в будущем с их помощью молодежных сектантских групп, особенно в сельской местности, направив специальные ориентировки в территориальные органы, прежде всего в Западную Украину, где было много иеговистов, «трясунов». Он просил обратить особое внимание на Сумскую область, где также отмечалась концентрация «пятидесятников» и где наиболее активно действовали общины ВСЕХБ, в которые все больше и больше шла сельская молодежь. По Киеву Сухонин поставил задачу непосредственно мне по привлечению молодежной агентуры. Вскоре были получены данные о появлении в баптистской общине нового члена, молодого парня, только что окончившего одно из высших учебных заведений Киева. Его полные установочные данные[66] были известны, имелась и фотография. Это был совсем молодой, внешне симпатичный человек, с веселым взглядом, что можно было увидеть на фотографии, увеличенной в ОТУ с фотокарточки размером 3х4, временно изъятой формы № 1 в паспортном столе районной милиции. По агентурным данным этот молодой баптист, назовем его Юрием, отличался от большинства верующей молодежи своей интеллигентностью, образованностью, хорошим знанием Библии. Родители его были авторитетными баптистами в Киевской общине ВСЕХБ. Они с детства приучили Юру к посещениям общины, а когда ему исполнилось 14 лет, эти посещения прекратились, пока мальчик не закончил школу, а затем и институт. Комсомольцем он не был, а вот в пионерах состоял, чтобы в школе не обратить на себя внимание отказом от участия в работе пионерской организации.
Внешне он был приятным молодым человеком, легко сходился с людьми, к нему с уважением относились и пожилые верующие и молодежь. В руководстве общины поговаривали, что со временем Юрий наверняка займет прочное положение в руководстве ВСЕХБ. Были получены и точные данные о его политических настроениях — он не только лояльно относился к советской власти, но считал основателя Советского государства В. И. Ленина выдающимся политическим деятелем, он превозносил Ленина за его встречи, в прошлом, с основателем и организатором официально действующей на территории Советского Союза баптистской общины Прохановым, которому разрешил для баптистов альтернативную службу в Красной Армии. Отличные оценки были у Юрия по марксизму-ленинизму, историческому и диалектическому материализму, философии. Он ничем не отличался от обычного советского хорошо успевающего и активного студента. Правда, уклонялся от работы и участия в жизни комсомольской организации. Вот такой человек и нужен был органам госбезопасности в качестве агента. Было решено организовать вызов Юрия в военкомат, где и провести с ним вербовочную беседу. После короткой беседы в военкомате Юрий был приглашен в отдельную комнату. Зондирующий разговор проводил начальник отделения Кузьма Емельянович. Представились как сотрудники госбезопасности, занимающиеся подбором офицеров запаса для службы в одной из спецчастей ГБ. Юрий попросил предъявить документы, внешне оставался спокоен. От предложения отказался, ссылаясь на тяжелое семейное положение — болезнь родителей и свои религиозные убеждения. Беседа показала, что Юрий — фанатично верующий, и он заявил, что жил и будет жить только в рамках известных десяти заповедей: от службы в армии отказывается, тем более в предлагаемом ему боевом спецподразделении, а если будет призван официально, то будет вынужден подчиниться насилию, но оставляет за собой право просить направить его служить по линии связи, медицины или в хозяйственную часть. Казалось, все стало на свои места, ни о каком дальнейшем контакте не могло быть и речи. Кузьма Емельянович попросил Юрия написать под диктовку и подписать обязательство о неразглашении встречи и характера беседы с представителями госбезопасности, затем предложил ему выйти и подождать в коридоре.
— Что скажешь? Этот парень невербуем. Тут не только нет никакой вербовочной базы, тут даже зацепится не за что. Он фанатик из семьи глубоко верующих. Таких можно вербовать только на очень солидном компромате, когда тюрьма «светит». Поверь мне и моему опыту — ничего из твоей затеи не выйдет. Ищи другую кандидатуру, в нашем случае это только потеря времени.
— Кузьма Емельянович, — взмолился я, — это же самый подходящий и нужный нам человек. Из всех изученных мною возможных кандидатов на вербовку он самый подходящий. Все остальные вербовки будут для «галочки», для временного успокоения, а Юрий — это нужная нам громадная перспектива, — горячился я. — Ну разрешите мне, Кузьма Емельянович, следующие встречи провести. Ведь жалко терять такую возможность. Разрешите мне с ним поработать.
— Хорошо, я согласен, но при условии встреч с ним в нерабочее время, если тебе еще удастся с ним договориться об этих встречах. Все, поехали, — отрубил мой начальник.
— Разрешите остаться с Юрием. Я попытаюсь с ним договориться.
— Валяй, только на помощь мою не рассчитывай.
В коридоре он вежливо попрощался с Юрием. Мы остались вдвоем. Медленно шли по городу, разговаривали, как могут говорить друг с другом два ровесника. Я не чувствовал в Юрии человека, чем-то от меня отличающегося, даже в беседах на религиозные, библейские темы, в которых он, конечно же, был более образован, более подкован в знаниях библейской истории, жизни и деяниях Христа. Перешли на «ты». Пока единственное, о чем мне удалось договориться с Юрием, это о последующей неофициальной встрече в очередное воскресенье. На том и разошлись.
На работе начальник коротко поинтересовался у меня результатами. Неодобрительно, как он любил делать, покачал головой и произнес: «Только в нерабочее время, для твоего самообразования, и можешь мне не докладывать, я в людях не ошибаюсь». В. П. Сухонину рассказали о неудачной беседе с Юрием и продолжили поиск других кандидатур среди молодых сектантов.
В течение месяца я провел две вербовки: молодого парня и девушки из числа членов баптистской общины, попавших в поле зрения госбезопасности по милицейским материалам: Люба М. из-за попытки ее изнасилования в молодежном общежитии трикотажной фабрики, а парень, довольно активный баптист, попался по пьяной драке, а ведь верующий был, дурак, и надо же — такое нарушение. Не хотелось ему, чтобы об этом стало известно в общине.
Любе была оказана помощь в перемене места работы и переводе в другое, более хорошее общежитие, оказана материальная помощь. Девушка была психически травмирована, нуждалась в поддержке человеческой и материальной. Спустя довольно короткое время она пришла в себя, психически восстановилась, привыкла к конспиративным встречам и постепенно втянулась в нужную органам работу. Я работал с ней осторожно, стараясь не нарушить тонкий барьер негласных отношений между официальным представителем госбезопасности и его неофициальным помощником. Кажется, мне это удалось. Однако через некоторое время я заметил, что нравлюсь Любе, а еще через какой-то период стало ясно, что девушка влюбилась в меня. Доложили руководству, и на очередной встрече эта симпатичная и милая девушка была передана на связь другому оперработнику.
Паренек, попавшийся по пьяному делу, оказался менее подходящим на роль помощника в церковном отделе системы, однако с радостью дал подписку о сотрудничестве в обмен на молчание о его пьяной драке и длительное время оказывал нам посильную помощь, но делал это вяло и уныло. Энтузиазм разжечь в нем не удалось.
А тем временем я продолжал встречаться с Юрием, и только в нерабочее время, тщательно готовясь к этим встречам. Много читал специальной церковной литературы, детально изучал имевшиеся в отделе материалы о работе с церковной молодежью. В общем, приходил к Юрию во всеоружии. Пришло время удивиться и ему. Я хорошо знал мировое искусство, связанное с библейской тематикой, и свои знания использовал в беседах с ним. Удивил я Юрия и тем, что доказал ему по Библии же, что и святые нарушали шестую заповедь — «не убий», указав ему соответствующее место в Библии. Добрались постепенно и до противоречий в самой Библии, которых в ней множество, хотя это не умаляет значение великой книги. Каждую субботу мы стали вместе ходить в академическую библиотеку, вместе читали интересующие нас обоих книги, обсуждали их в курилке (Юрий впервые открылся мне, что нарушает баптистские нормы поведения, иногда покуривает), вместе перекусывали в буфете. В спорах о несогласованности некоторых исторических моментов и противоречиях в Библии подошли постепенно и незаметно для Юрия к известной антирелигиозной книге Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих». Я прорабатывал вместе с Юрием страницу за страницей этой книги, сравнивал каждое положение с Библией церковной, с церковными же комментариями. И вот так постепенно, шаг за шагом я приближал к своей идеологии Юрия, и радовался своим маленьким успехам, и вскоре почувствовал, что уведу за собой этого парня. Такое возможно сделать только с молодым верующим, с которым по своему интеллектуальному и общему культурному и образовательному уровню вы равны. Со стариками и старухами верующими бессмысленно работать по их перевоспитанию. Ни один из фанатиков-стариков не поверит, что Иисус Христос — еврей. Они, старики, да и люди среднего возраста, и молодые, не имеющие соответствующего образовательного и культурного уровня, не в состоянии понять современные научные и философские постулаты. И пусть они веруют и дальше, только жизнь молодым не уродуют в изуверских сектах. Обо всем этом и толковали на каждой встрече молодые парни — офицер госбезопасности и верующий баптист Юрий. Открылся он мне, что на работе в предпраздничные дни попивал с коллегами винцо, правда, натуральное красное («кровь Христова»). И он не считал это грехом. Говорили и о женщинах, о любви. Вместе вспоминали известные произведения Мопассана, Золя, Льва Толстого, Горького и других, так прекрасно описавших женщину, и физическую любовь к ней. И рассказал однажды Юрий мне доверительно, что познал женщину, и что ему не было стыдно перед Создателем за вступление в близкую, интимную связь с женщиной до брака. А ведь вера в Господа запрещает ему делать это. Он совершил серьезное нарушение. Горячо молился Господу и увидел, что тот простил его. Что делать! Природа взяла свое. Мы серьезно и горячо обсуждали эту тему. При этом я не провоцировал Юрия, а когда я процитировал ему слова мыслителей и философов Великой Французской буржуазной революции 1789 года: «О, Дева Мария, зачавшая без греха, помоги нам грешить без зачатия» — тот долго и с полным пониманием смеялся над всем этим, разделив взгляды великих французов. Про себя я подумал: «Ну, лед тронулся, Юрий не фанатик, с ним можно и нужно работать». Мы подружились. Два молодых человека с разных идеологических и социальных полюсов, но это была искренняя дружба. Мы симпатизировали друг другу, часто перезванивались по домашним телефонам. Для родителей Юрия я был товарищем по работе. Юрий разделял мои воззрения в той части партийной идеологии, которую, Юрий в этом был уверен, коммунизм взял из Библии, — такие основные принципы, как «кто не работает, тот не ест», «от каждого — по способностям, каждому — по труду», и т. п., и доказывал горячо это мне. Нас роднило многое. Юрий был полностью согласен со мной о необходимости запрета секты «Свидетелей Иеговы», изуверских сект «скопцов», «хлыстов», ну и им подобных. Емельяна Ярославского читали больше месяца, спорили. И как-то незаметно, в конце четвертого месяца наших встреч я сказал Юрию:
— Помоги мне разобраться с вашей молодежью в центральной общине ВСЕХБ в Киеве, разобраться в оттоке верующей молодежи в запрещенные секты, в причинах их ухода. И вообще, с молодежью надо работать, в том числе и с верующей.
— У меня есть идеи, — ответил Юрий, — у меня давно зреет план по работе с баптистской молодежью.
— Ты можешь изложить мне свой план письменно?
— Да. Но ведь ты сотрудник госбезопасности, и, стало быть, я становлюсь тем, которых в народе называют сексотами.
— Ну и что здесь такого? Знаешь, что такое сексот? Это слово расшифровывается как секретный сотрудник. Конечно, обидное, жаргонное словечко. А теперь посмотрим, какую ты пользу смог бы принести, сотрудничая с нами.
И я еще несколько раз, встречаясь, убеждал и доказывал Юрию целесообразность претворения его плана по привлечению в баптистскую общину (ВСЕХБ) молодежи из сект «пятидесятников-трясунов», «Свидетелей Иеговы» и других с помощью офицера госбезопасности, то есть с моей помощью. Да, он будет секретным сотрудником госбезопасности, да, он будет сотрудничать, но со мной, его новым товарищем и другом. Нас объединяют общие мысли и заботы о верующей молодежи, так почему же не использовать для общего дела так удачно сложившийся тандем двух молодых, и сильных духовно и физически людей. Мы оба принесем тем самым только пользу своему обществу и государству.
И вот однажды Юрий принес четко изложенный им план действий по выводу из-под чуждого взглядам ВСЕХБ молодых людей, втянутых в другие, вредные секты. Он подписал этот интересный документ псевдонимом «Ключ». Так в историю церковного отдела (Шестого отдела Четвертого управления МГБ Украины) вошел агент под кличкой «Ключ», ставший впоследствии одним из лучших агентов по этой линии работы во всей системе госбезопасности Советского Союза. Спустя несколько лет, работая за границей, я узнал от товарищей в Киеве, что оперативник, у которого был на связи «Ключ» Володя Чашников за умелое руководство этим источником при выполнении специальных заданий КГБ СССР был награжден именными золотыми часами…
* * *
А жизнь крутилась дальше. Участились командировки по республике. Десятки областей и городов Украины. Встречи с агентурой, составление отчетов, справок с мест, информация ЦК Компартии Украины об арестах церковных авторитетов, о ценных вербовках, о разгроме и ликвидации нелегально действующих групп ИПЦ, различных сект.
ЦК ставит вопрос — почему такая тяга молодежи в сектантские общины, в частности в общины официально разрешенной ВСЕХБ? Госбезопасность отвечает — потому что в сектантской общине парни водку не пьют, не курят, не сквернословят. Потому что в каждой сельской общине имеется свой струнный оркестр, свой хор. Молодежь вечерами разучивает и поет мелодичные церковные песни. А в колхозном клубе зачастую рядом или напротив — пьянь, брань, шум, девчат в темном месте тискают, пол грязный, окна голые, одни плакаты кумачовые на стенах с призывами. А напротив, у сектантов — голубые занавесочки, на листах ватмана выписки из Библии, тишина и порядок. Свет электрический, а это очень часто бывало, погас — свечи или фонари, заранее заготовленные, сразу же зажигают, и девчат никто, грубо во всяком случае, не щупает. ЦК реагировал на такие информации однообразно — плохо, товарищи, работаете. Усильте, активизируйте, пресеките и т. д. и т. п.
Вспоминаю случай, как в Харьковской области выявили секту «молчальников»[67]. Их собрали всех вместе, вывезли на колхозное поле, дали в руки тяпки и задание — прополоть, а они как взяли тяпки в руки, так и простояли, пока не упали. Промучились с ними так дня два да и махнули рукой. А пострадал при этом лишь один человек — второй секретарь Харьковского обкома комсомола. Одна из «молчальниц», красивая такая дивчина с вызывающе обольстительными женскими формами, как и все другие с тяпкой в руках, замерла на месте. Комсомольский вожак смотрел-смотрел на нее, должно быть просто любовался, уж очень хороша собой была эта дивчина, а потом подошел к ней, посмотрел в невидящие никого огромные прекрасные глазищи и взял красотку за грудь, да видно крепко так, со словами: «Ну как тебе не стыдно! Такая красивая и ладная, шла бы за меня замуж! Тебе не в «молчанку» играть надо, а хлопцев любить, да детей рожать!» Она же оставалась безучастной ко всему происходившему. Каким-то образом донесли свои же на вожака областных комсомольцев. Было разбирательство. Парня исключили из партии и направили работать на завод — исправляться.
А как хотелось мне и другим молодым чекистам быть на месте своего товарища, который ранней весной 1953 года, будучи в командировке в Житомире, сумел организовать местных чекистов, возглавить их и ликвидировать банду. За неделю до этого случая были получены агентурные данные о том, что болевшие туберкулезом легких два оуновца из Ровенской области Роман и Серый, вооруженные автоматами и гранатами, получили согласие подполья пойти на самопожертвование и уничтожить во время майской демонстрации украинское правительство. Они планировали по действующим каналам связи дойти до Киева, влиться в колонну демонстрантов или пробраться на чердак дома напротив трибуны и расстрелять правительство Украины.
Находившийся в командировке в Житомире сотрудник центрального аппарата В. А. работал поздно вечером в субботу в «правлении, когда к нему в кабинет вбежал дежурный со словами: «В городе вооруженные бандиты. Не могу найти никого из руководства. У меня на телефоне в приемной агент, он ждет указаний». В. А. бегом бросился в приемную, схватил телефонную трубку. Человек говорил из телефона-автомата:
— Ко мне только что прибежала знакомая с соседней улицы. В ее доме находятся два бандита, пришедшие из Ровенской области, у них оружие. Что делать?
— Оставайтесь на месте, где вы находитесь, и ждите меня.
В. А. не терял ни минуты. Он собрал находившихся в здании управления нескольких вооруженных сотрудников, примчался в Управление городской пожарной команды (в те времена пожарные команды были вооружены), поднял пожарников своей властью по тревоге, и все вместе, около тридцати человек, на пожарной машине выехали в район, где их ожидал у телефонной будки звонивший. У В. А. был ручной пулемет, взятый им в управлении. Машину оставили в стороне, а сами выдвинулись к дому, где находились вооруженные неизвестные. Дом был блокирован. В. А. удалось с помощью соседей вывести из дома хозяйку с двумя детьми, в затем в рупор предложил «гостям» сдаться. Из дома ответили автоматным огнем. В. А. дал команду поджечь дом. Вскоре две фигуры метнулись во двор, ведя беспрерывный огонь из автоматов и бросив несколько гранат. В. А. расстрелял их обоих из пулемета. Как выяснилось впоследствии, ими оказались разыскиваемые Роман и Серый. За ликвидацию двух опасных и вооруженных оуновцев, умелое проведение операции, проявленное при этом личное мужество В. А. был награжден именным пистолетом. Государство восстановило дом погорельцам и полностью возместило весь ущерб.
Несмотря на проведенную операцию, первомайская демонстрация для украинской госбезопасности проходила в большом напряжении и тревоге. А если это не все бандиты? А если еще кто-то двигается сейчас из Западной Украины в Киев для ликвидации правительства? Весь Крещатик был буквально наводнен переодетой в штатское милицией, которая шла в колоннах вместе с демонстрантами. В каждом доме, обращенном к трибуне, у каждого квартирного или чердачного окна, у каждого выхода на крышу дежурили сотрудники госбезопасности. Привлечены были все сотрудники, включая женщин. Все вооружены. К счастью, все обошлось.
Часто и подолгу я раздумывал о деле уже упоминавшейся Кукелки. Два года ходила беспрепятственно из Польши через границу в районе Равы-Русской Львовской области эта связная иеговистского центра, получая от своих «братьев и сестер» — «Свидетелей Иеговы» данные о советских воинских частях, аэродромах, танкодромах, военных базах, в том числе ГСМ и т. п. для передачи на территорию Западной Германии, и затем в Бруклинский центр в Нью-Йорке. На Кукелку были получены данные от польской безопасности, но поляки разрабатывали по нашей просьбе Кукелку вяло и без желания. У советских контрразведчиков в Киеве складывалось впечатление, что поляки или не хотят почему-то активизировать разработку, или, что еще хуже, делают это умышленно. Кукелка продолжала бы еще долго работать на этой линии связи, если бы в пограничный наряд не попал агент ГБ из пограничников, который оказался невольным участником неожиданного события. Он умело зашифровал свои действия и сообщил все, ставшее ему известным своему оперативному руководителю — заместителю начальника заставы по оперативной работе (есть такой на каждой заставе). А дело было так.
Кукелка в один из переходов границы (а ходила она через границу два-три раза в месяц) была задержана нашим пограничным нарядом. К слову сказать, поляки слабо охраняли границу с Советским Союзом. Практически они ее вообще не охраняли, так, условно. КСП[68] оборудовалась и обслуживалась только советской стороной, да и то имелись такие заболоченные места, где КСП не было, и пересечь там границу было не сложно.
Наряд, задержавший Кукелку, — это двое пограничников с разными годами службы — у одного, русского, вологжанина, только начало службы, впереди три года, а у второго, бакинского азербайджанца — два. Вот и ходила Кукелка свободно, пока азербайджанца не сменил другой пограничник.
Кукелке приказали лечь на землю, пограничники подошли и обыскали ее. Оружия нет, ничего с собой нет. Идет из пограничного польского села в село на советской стороне, где живут ее родственники и знакомые. Возвращаться будет завтра. В общем, «хлопцы, отпустите, больше не буду». Старший наряда азербайджанец — ни в какую. «Пойдешь с нами на заставу — ты нарушитель границы». А Кукелка девушка очень симпатичная и лет ей всего-то двадцать, ровесница пограничникам, и собой ох как хороша. Ребята твердят свое — на заставу, и все тут. И тогда Кукелка предлагает им себя. Возьмите меня, хлопцы, только отпустите. Я договорюсь с вами, когда буду ходить к родственникам в это село, а вы будете каждый раз брать меня. И всем будет хорошо». Не устояли хлопцы. Оба уже знали женское тело, особенно опытным был азербайджанец, да к тому же он и сержант, старший наряда. Легла, добровольно, на плащ-палатку, и покрыли ее каждый по очереди. Азербайджанец дважды.
Азербайджанец, уступая место напарнику, шепнул: «А она-то девушка, у нее до нас никого не было». (Кукелка позже на допросах это подтвердила.). Договорились с Кукелкой ребята-пограничники, в какие дни у них следующие наряды, где лучше и незаметнее пройти через границу, договорились и о времени — днях и часах перехода. Еще двух пограничников привлек азербайджанец к этому сладкому для молодых парней делу — наряды-то время от времени менялись, до случая, пока не попал в наряд с вологжанином агент ГБ. Не смог его уломать вологжанин, парень сослался на страх, неумение и отсутствие желания, но обещал молчать, мол, потом и он тоже попробует. Ну а все остальное было делом техники. Кукелку взяли с поличным, с зашифрованным сообщением. Надо отдать должное стойкости этой девушке — связной «Свидетелей Иеговы». Два месяца молчала Кукелка на допросах, не выдавая свои связи в украинском и польском селах. А за это время ее люди с польской стороны предупредили своих в украинском селе, и они исчезли. Найти этих людей госбезопасности не удалось. Правда, было арестовано несколько человек ее связей в Польше, и этот канал прекратил свое существование. Вина ее была полностью доказана, зашифрованная информация расшифрована, кое-какие сведения о своих связях из нее все-таки выдавили, и польские друзья помогли материалами, подтверждающими ее шпионскую деятельность на территории Советского Союза и ПНР. Кукелка была осуждена за шпионаж и отправлена в лагерь.
Солдаты-пограничники, имевшие отношение к этой истории были строго наказаны, часть из них — осуждена.
Времена тогда были строгие. Венчаться, креститься, соблюдать и отмечать церковные праздники членам партии возбранялось. С них за это строго взыскивали, вплоть до исключения из партии. И вот однажды получаю я сообщение от агента, что некто Черногорский[69], коммунист, на могиле трагически погибшего сына поставил памятник с шестиконечной Звездой Давида. В. П. Сухонин тут же дал команду: «Установить, проверить, доложить». И было установлено, проверено и доложено, что член партии Черногорский, член коллегии и начальник главка Министерства лесного хозяйства УССР был расстрелян в 1938 году по литерному делу «Система», заведенному еще при Ф. Э. Дзержинском в 1925 году на виновных в хищении леса: пиломатериалов, деловой древесины и т. п., в нанесении громадного экономического ущерба советской экономике. Всего в литерном деле «Система» было 32 тома. Расстреляна была по этому делу в 1938 году куча народу, в том числе и Черногорский, работавший зав. лесобазой. Я получил все данные на этого человека, выезжал на Житомирщину в то село, где родился и какое-то время жил тогда еще молодой Черногорский. Тщательной проверкой было установлено, что именно он был расстрелян, что подтверждал хранившийся в деле документ, засвидетельствованный и скрепленный подписями оперработника, прокурора, врача и проводившего экзекуцию офицера НКВД. Расстрел был проведен в подвале одного из зданий НКВД в Киеве. И тут я совершил ошибку. Я еще раз пошел в Министерство лесного хозяйства Украины, вторично взял в первом отделе десяток разных личных дел, в том числе и Черногорского, и побеседовал с начальником этого отдела отставным чекистом-полковником, не зная, что этот бывший чекист большой друг Черногорского, о чем позже и сообщила агентура. А сам Черногорский неожиданно пропал. Уверен, что предупредил его отставник-полковник. Объявленный в розыск, он навсегда исчез. Вспоминая в те годы эту историю, я, как тогда мы шутили в отделе, «просил Создателя» не трогать больше этого человека, дать ему умереть своей смертью. Разумеется, в случае задержания Черногорского даже в те времена ему ничего бы не грозило, но из партии исключили бы. Как все это было в том далеком 1938 году, никому не известно и не понятно до сих пор.
* * *
За время работы в Системе я был свидетелем нескольких случаев психических отклонений от норм поведения, неадекватных реакций некоторых сотрудников. Глубоко убежден, что причина в тяжелых, необычных для человека психических, моральных нагрузках, связанных со спецификой работы. Особенно памятен мне один.
Спустя несколько лет, когда я уже не работал в церковном отделе, вследствие серьезных психических отклонений был уволен на пенсию начальник отделения подполковник Виктор Федорович Поляков. Отличный специалист своего дела, тонкий знаток церкви. Росточка Виктор Федорович был небольшого, полноватенький, с животиком, стригся под «ежик», внешне подтянутый, подвижный, походка быстрая, стремительная. Острый на язык Вадим Кулешов прозвал его ласковым словом «Хлюня». Это прозвище очень ему подходило. Он удивлял окружающих своей начитанностью и образованностью. Еще до войны Поляков закончил филологический факультет университета, говорили, пописывает стихи. В написании документов, особенно ответственных и важных, был большой мастер. Самые серьезные бумаги общего характера Сухонин поручал обычно Виктору Федоровичу. Это были, как правило, сообщения в ЦК Компартии Украины, различные отчеты, планы и т. п. От подчиненных требовал ясности и четкости в написании любого документа. Я многому у него научился и в принципе был благодарен Виктору Федоровичу за его иногда обидные придирки. Никогда мне не забыть, как я, доведенный однажды до отчаяния многократной переделкой и перепиской после правок Полякова очередного отчета в ЦК, взял да и вписал в «шапку» этого документа, и как раз по теме, что-то из работ В. И. Ленина о церкви. Виктор Федорович внимательно прочитал и сказал:
— Вот опять ты чепуху заумную написал. — И перечеркнул весь текст.
А я ему:
— Так это же, Виктор Федорович, не я, а Ленин написал, и как раз по этому вопросу.
Поляков потребовал показать ему эту работу В. И. Ленина и очень долго не разговаривал со мной, но мстить не стал, и вскоре эта история забылась. И вот с этим-то человеком и случилось несчастье — тихое помешательство. В гражданском платье, с приколотыми к нему орденами и медалями, но обязательно в старой фуражке с голубым верхом, он ходил по улицам Киева, громко разговаривал сам с собой, нес несусветную тарабарщину, но секретов при этом, как утверждали контролировавшие его время от времени товарищи по прошлой работе, не разглашал. Говорили, что жена увезла его жить к родственникам в село. Детей у них не было…
Самые неприятные ощущения за время работы в системе я испытывал, когда становились известными факты использования не по назначению оперативных денег, именуемых чекистами «статьей девятой».[70]
Что-то унизительно-гадкое закрадывалось в душу: «Как можно воровать народные деньги? Ты — чекист, совесть народа, стоишь на страже его интересов, обеспечиваешь государственную безопасность социалистического Отечества. Партия и правительство тебе доверяют святая святых, ибо ты — вооруженный отряд партии». А тут — мелкое воровство. А как проверишь, когда деньги практически безотчетные. То стало известно, что из статьи 9 присвоили деньги на пропой и угощали товарищей, скрыв при этом истинное происхождение этих денег, то использовали часть оперативных средств для покупки себе дорогого фотоаппарата, то еще выявилось что-то подобное, трусливо-жалкое, мелочное, унизительное для всех сотрудников, работавших вместе с пойманным за руку человеком. Изобличенные сотрудники незамедлительно увольнялись, но, как правило, без широкой огласки. Не принято было пачкать чекистский мундир — символ чистоты и честности.
Надо сказать, такие воришки встречались редко. Но то, что произошло с одним из уважаемых чекистов, навсегда осталось в моей памяти.
Почетный сотрудник КГБ, кавалер нескольких боевых орденов, уважаемый и известный в чекистской среде человек оказался банальным мздоимцем.
Это произошло в те далекие 60-е годы, когда весь чекистский аппарат казался кристально чистым и честным.
Поступавшие неоднократно сигналы от церковной агентуры о том, что один из руководителей ведомства по делам православной церкви при правительстве Украины ежемесячно берет денежные подношения в собственный карман со всех 17 православных приходов Киевской области, заставили руководство КГБ Украины провести расследование.
Председатель КГБ Украины получил согласие Москвы не привлекать уважаемого чекиста к уголовной ответственности, а провести с ним беседу. Конечно, пришлось уволить с работы, запретив впредь всем сотрудникам КГБ использовать бывшего чекиста в наших интересах и поддерживать с ним в будущем служебные контакты.
Вызванный к председателю КГБ отставник полковник, выслушав запись зафиксированных техникой его разговоров со священнослужителями во время получения денег, молча встал и вышел из кабинета. Встревоженный непредвиденными действиями так неожиданно быстро ушедшего от него отставника председатель направил за ним сотрудников, но было уже поздно. Когда, спустя короткое время, они подъехали к дому, где проживал изобличенный, он в длинной белой рубахе стоял на карнизе четвертого этажа, забаррикадировавшись в квартире, и громко распевал псалмы. Картина была страшной и необычной. Собравшаяся внизу толпа любопытных наблюдала, как высокий худой старик с развевающимися на ветру седыми патлами размахивал руками. Пришлось прибегать к помощи пожарных и милиции. Затем многомесячное пребывание в психиатрической больнице и безвестное, проклятое всеми существование…
* * *
5 марта 1953 года умер Сталин. Я переживал это как вселенскую трагедию. Казалось, рухнул мир. Сотрудники госбезопасности с траурными повязками на рукаве и обязательно с личным табельным оружием наблюдали за порядком в городе, имея каждый свой участок. Ходили только парами. Мы с моим другом Володей Мазуром молча шли по городу, всматриваясь в лица прохожих. Мы не видели улыбающихся людей. Мы знали — радоваться мог только враг. Лица встречных людей были необычно угрюмы, сосредоточенны, расстроенны, или заплаканны. Из специально установленных многочисленных уличных репродукторов неслись, выворачивая душу, траурные мелодии. Полный горя и скорби голос Левитана, который на всю жизнь остался в моей памяти, звучал: «…Никогда больше не разомкнутся твердо сжатые сталинские губы. Никогда больше эти губы не произнесут трижды продуманные сталинские слова… Никогда больше в этой голове не зародятся мудрые сталинские мысли…»
Мы шли по улицам родного города, поглаживая рубчатые рукоятки пистолетов, вселявших в нас еще большую уверенность и силу. Мы обеспечивали порядок и искали врагов… Потом я узнал, что те, кто отмечал 8 Марта, исключались из партии и комсомола. Имели неприятности и те, кто в скорбные дни траура отмечал семейные праздники…
Отдежурив положенные часы в городе, мы шли на явки с агентурой, собирая по указанию руководства реакцию населения на смерть вождя.
Никогда мне не забыть клятву агента Арона. Он, естественно, не знал, что подполковник Брик уже давно не работает, но он запомнил его по прошлым встречам и обращался к нему как к своему руководителю и начальнику:
«Майор Брик! Я, ваш агент Арон, в день смерти вождя, нашего горячо любимого товарища Сталина, клянусь отдать жизнь в нашей борьбе за коммунизм. Я буду уничтожать всех наших врагов, если встречу их на своем пути. Арон. 6 марта 1953 года».
Короткое обращение было написано с ошибками почти в каждом слове. Но этот агент был действительно преданным помощником органов госбезопасности. Он говорил искренне и словами, идущими от сердца. Высокий, худой, он стоял навытяжку передо мной, тоже вставшим со стула, на явочной квартире в доме по улице Пироговской и плакал, размазывая слезы по лицу, и, всхлипывая, повторял слова своей клятвы. Я стоял перед этим малограмотным стариком евреем, смотрел на его скорбное, залитое слезами, передернутое судорогой лицо, и сам заплакал, не стыдясь слез. Даже спустя много лет, вспоминая эту сцену, я не могу смеяться ни над собой, ни над этим преданным советской власти человеком. Все это принадлежало тому времени, и люди были искренни в своих чувствах.
Назначения Берии в Министерство внутренних дел было с восторгом воспринято чекистами Украины. Многие говорили: «Теперь будет порядок, обеими руками голосую за Лаврентия Павловича». Старые чекисты рассказывали о довоенных кроссах, заплывах и забегах имени Берии, говорили о нем как о верном соратнике Сталина, а в случае чего и достойном его преемнике, хвалили его профессиональные чекистские качества. Вспоминали об особой красивой довоенной форме работников НКВД — НКГБ — серые коверкотовые из специально заказанного в Японии материала гимнастерки; синие, с особым цветовым оттенком галифе, и вообще о той роли и власти всего этого ведомства. С большим подъемом говорили о новой, уже утвержденной Берией, форме и знаках различия, отличавшихся от армейской формы и цветом, и фасоном. Цвет должен быть ближе к голубому, морской волны, символу чистоты, который на тот день оставался только на верхе фуражек. В секретариат из Москвы пришло описание новой формы, и начальник секретариата Четвертого управления пожилой чекист, сухопарый, с вечно улыбающимся маленьким морщинистым личиком Анатолий Иванович неожиданно для всех появился в новой форме и похож был в ней на старого опереточного артиста — уж больно яркой была эта форма. Но смотрелась, в общем-то, красиво. Никто из начальства замечания ему не сделал, наверное, потому, что приказ о введении новой формы, пока без указания сроков, был подписан самим Лаврентием Павловичем. Молодые сотрудники посмеивались между собой над причудливо смотрящемся Анатолием Ивановичем, но давать оценки нововведению ни ему, ни старшим товарищам не решались.
Вскоре на Украину прибыл новый министр — Мешик. Он появился в министерстве совершенно неожиданно для рядовых сотрудников, предупредив о своем приезде руководство госбезопасности Украины за несколько часов, так что весть о новом министре не успела распространиться. Он приступил к своим обязанностям по приказу заместителя Председателя Совета министров СССР, Министра внутренних дел, самого Берии, в соответствии с постановлением Совета Министров Союза. И войдя в свой новый кабинет в здании МВД Украины, сразу же начал работу до утверждения его в ЦК Компартии Украины, что вызвало недоумение у сотрудников министерства — нарушались твердо установленные ранее партийные нормы. На партийный учет, кстати, также без оформления всех положенных в данном случае формальностей, он встал в Четвертом управлении, так что я имел возможность сразу же познакомиться с министром. Произошло это через несколько дней после приезда Мешика в Киев. Вел партийное собрание секретарь парткома полковник Беляев, который на фоне довольно высокого и внешне крепкого Мешика выглядел мальчиком. Мешик, солидный мужчина с рыжеватыми волосами и крупными чертами лица, на котором заметно выделялось несколько бородавок, был представлен коммунистам Беляевым. Представление было сделано без обычного, как говорили старшие товарищи, подъема и нужной в данных случаях торжественности — вяло и невыразительно. Наверное, с этой минуты Мешик невзлюбил полковника Беляева, потому что через очень короткое время Беляев был переизбран и отправлен для дальнейшего прохождения службы во второстепенное и неоперативное подразделение начальником отдела «А»[71] в Киевское областное управление МВД, то есть попросту говоря, Беляеву «указали свое место».
А тогда события на партийном собрании развивались крайне интересно. Мешик властным, хорошо поставленным командным голосом, так соответствующим не менее властным и волевым чертам лица, несколькими фразами сообщил присутствующим о своей мало кому известной биографии, из чего коммунисты так и не поняли, кто он и откуда. Разумеется, через несколько дней все знали, что он близок Берии, выполнял специальные задания партии и правительства (много лет спустя стало известно об участии Мешика вместе с Берией в советских атомных проектах), занимал высокие должности в системе государственной безопасности.
Начались выступления коммунистов, в основном руководителей. Мешик, уже влившийся в партийную организацию, довольно бестактно, во всяком случае, раньше такого на партсобраниях в министерстве не было, прерывал выступающих, задавая по ходу их выступления вопросы. Надо отдать ему должное — вопросы были профессионально правильными, или как тогда, да и сегодня говорят, грамотными и по существу. В общем тон тому партийному собранию задавал новый министр. В своем выступлении Мешик буквально «разнес» почти все направления деятельности министерства. Особое внимание он уделил работе по ликвидации, как тогда говорили, «остатков бандоуновского подполья», упрекнув чекистов в недостаточной изобретательности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, заканчивавшихся, как правило, ликвидацией всей бандгруппы или отдельных ее членов, при этом упускали оставшихся в живых. Смысл выступления сводился к тому, что верхом чекистского мастерства и успехом любой операции следует считать захват всей группы оуновцев или отдельных участников подполья ОУН только живыми. Такая постановка вызвала у всех недоумение и вопрос: «Кто захочет подставлять себя под пули?» Досталось и церковному отделу. Министр призвал сотрудников этого отдела, занимавшихся разработкой униатского подполья, проводить побольше профилактических мероприятий и ограничить количество таких карательных санкций, как арест или высылка на спецпоселение в Сибирь. Он заявил, что проводимые по униатскому подполью аресты униатских священников и церковного актива ухудшают отношение населения к местной советской власти, озлобляют людей. «Надо больше проводить разъяснительной работы», — закончил Мешик.
На очередном партийном собрании проводились выборы партийного бюро управления. Неожиданно для всех министр внес предложение кооптировать в бюро отсутствующего (он был в командировке) полковника Ивана Кирилловича Шорубалко. Шорубалко был известен в министерстве как знаток оуновского подполья, один из руководителей Управления 2-Н, многие годы проработавший в Западной Украине, в том числе начальником райотдела в Клеванском районе, что на Ровенщине, славившемся активностью националистического подполья. И еще большей неожиданностью для всех явилось замечание секретаря парткома министерства полковника Беляева, сразу заявившего, что по инструкции ЦК Компартии кооптация в партийные выборные органы запрещена.
Собрание проходило в актовом зале со знаменитыми фресками, изображающими символы труда. Я сидел во втором ряду, и когда Мешик поднялся с места и повернулся лицом к сидящим в зале, то очутился прямо передо мной. Я совсем близко увидел разгневанное лицо министра, покрывшееся от возмущения красными пятнами. Он стоял перед собранием в белом с кремоватым отливом френче, выражая всем своим видом высочайшую представительность. Покачиваясь еле заметно (взад-вперед) с носка на пятки и не поворачиваясь к Беляеву, Мешик резко бросил в зал:
— Вы что, товарищ Беляев, так привыкли здесь работать? — подчеркнуто выделив «так» и здесь.
Беляев, было заметно, волновался и, стараясь говорить спокойно произнес в спину не повернувшегося к нему Мешика:
— Товарищ министр, я повторяю, что существует пока действующая инструкция ЦК, запрещающая кооптировать отсутствующих членов партии в выборные партийные органы.
Мешик — с теми же интонациями:
— А я повторяю, вы что, привыкли здесь так работать?
— Я прошу вас, товарищ министр, давайте проконсультируемся с Центральным Комитетом, а сейчас сделаем перерыв.
— Хорошо, объявляйте перерыв.
— Спросим у коммунистов. Кто за то, чтобы сделать перерыв и посоветоваться с ЦК, прошу голосовать.
Все подняли руки. Единогласно.
Мешик, не обменявшись больше ни словом с проходившим мимо него Беляевым, подошел к президиуму, сел рядом с одним из руководителей управления и проговорил с ним весь перерыв.
Вернувшийся Беляев объявил, что ЦК Компартии Украины в порядке исключения разрешил кооптировать полковника Шорубалко в состав партийного бюро. Вот так вошел в жизнь министерства новый министр Мешик…
Глава вторая
Нас было трое друзей. Этой дружбе завидовали многие. Никто из нас по отношению друг к другу не был способен на подлость, на предательство в любом его выражении. Нас связывало многое. Прежде всего общие интересы. Мы беспредельно были влюблены в свою работу. Так можно любить женщину, даже зная о ее недостатках и, может быть, пороках. Мы горячо спорили о ней, рисовали себе картины ее совершенствования в будущем, смутно представляя этот завтрашний день. Мы посмеивались между собой над «стариками», над их, и таких было достаточно, неумением грамотно изложить мысль, написать не «суконным», а интеллигентным и грамотным языком документ. Вот была потеха, когда Вадим Кулешов рассказывал нам с Володькой Мазуром о своем начальнике отделения, как тот, пожилой уже человек, написал на своей рабочей папке: «Папка для бaмаг». А этот начальник, был автором многочисленных чекистско-войсковых операций по уничтожению вооруженных оуновских отрядов, мастер-виртуоз чекистских комбинаций, участник боевых дел, имевший многократные поощрения за боевые дела. Его уважали все, в том числе и Вадим Кулешов, и мы, его друзья. Но это же молодость. Ну как не посмеяться! Никто из уважения к нему не мог сделать даже косвенное замечание или исправить слово бамаг» на «бумаг». Товарищи при случае просто подарили ему новую красивую кожаную папку с правильной надписью. Как-то Кулешов поздно вечером, уходя домой, обнаружил на стуле своего начальника забытое им дело по розыску руководителя вооруженного оуновского подполья Лемиша. Вряд ли имелось более секретное дело в производстве министерства. Следующим утром, когда тот начал лихорадочно шарить в сейфе, Вадим подошел к нему и положил завернутое в газету дело Лемиша в сейф, услышав тихое: «Спасибо, Вадим». Оба понимали, что если бы это дело нашла уборщица, которым комендатура платила денежные премии за подобные находки, начальник, несмотря на его заслуги, понес бы строгое наказание. Надо отдать должное коммунисту-руководителю — он не изменил своего отношения к Вадиму, продолжая, как и раньше, делать ему замечания и «втыки» по работе за ошибки и недоработки молодого чекиста Кулешова, которых было предостаточно.
Вадим Кулешов был у нас одним из самых перспективных работников. Образованный, схватывающий буквально на лету чекистские премудрости, он мгновенно оценивал сложные ситуации и принимал, как правило, грамотные и правильные оперативные решения. Блестяще работал с агентурой. Практически за пару месяцев освоил «галичанское» наречие, на котором разговаривало большинство жителей Западной Украины. Он удивлял нас и своей памятью. Но вместе с тем, Вадим был чрезмерно самолюбив, дико упрям и совершенно не воспринимал ну никакой критики. Это было, конечно, поначалу. В отделе с ним возились, воспитывая его, как нам казалось, в нужном направлении. Через четыре года, когда Вадим был рекомендован в разведшколу в Москву, ему дали самую блистательную аттестацию, он ее заслужил. Мы радовались, когда он начал работать в разведке, а затем был направлен на работу в США.
Совершенно другим был Володька Мазур. Одного роста со мной, а значит на голову ниже Кулешова, он был его противоположностью. Мягкий, уступчивый, гибкий во всех отношениях, он ни с кем не вступал в конфликты и обладал удивительной способностью «проникать во все дырки», независимо от того, диктовалось ли это рабочей необходимостью или личными интересами. Широкий в плечах, с мощной грудью и спиной штангиста (Володя много лет занимался штангой), с крупной головой, красиво посаженной на могучие плечи, несколько витиеватой речью, он внешне напоминал молодого актера. Володя любил поэзию, многие стихи знал на память и охотно читал их товарищам. Он был душой общества, балагуром, весельчаком, великолепнейшим рассказчиком анекдотов. Володю Мазура, как и Вадима, я знал еще по Киевской спецшколе ВВС. Он был младше меня на год. Я помнил этого красивого «рогатика»[72] из второй роты (9-й класс), маршировавшего в строю вместе с другими спецшкольниками, участниками Всесоюзного парада физкультурников 1947 года. Вот почему мы сразу же подружились, увидев друг друга в МГБ. Володя после окончания средней школы, как и я, поступил на работу в систему госбезопасности и был направлен на учебу в годичную школу разведки в Ленинград[73]. Уже в звании младшего лейтенанта Мазур после окончания школы был направлен работать в Киев. Работал он результативно, был на хорошем счету у самого начальника 7-го отдела МГБ Украины полковника В. Н. Кашевского, однако в силу своей внешней броскости был вынужден уйти из этого подразделения, что кстати отвечало его тщательно скрываемому от начальства желанию. Он продолжил работу в 9-м отделе министерства, занимавшемся охраной правительства Украины.
Володя был трогательно влюблен в студентку одного из Ленинградских вузов. Женя Волкова стала впоследствии женой, его верной спутницей на всю далеко не легкую жизнь…
Я любил бывать в их доме в Киеве. Мама его, Софья Свиридовна, или, как ласково называли ее в семье Володя и младший брат Толя — Муха, была простой женщиной и, как большинство женщин на Украине, да еще и родом из крестьян, прекрасно готовила. Такие борщи, как у Мухи, не едал я больше нигде и никогда — ни в лучших специализированных ресторанах, ни в глухих украинских селах, в которых мне подавали борщи великое множество раз. А какие были пампушки и пирожки, а лапшевники, грушевый взвар, или компот из ревеня… Нет, так могут готовить эти блюда только украинские женщины. Софья Свиридовна была очень красивой женщиной. В молодости, конечно. Судьба свела красавицу Софью с лихим кавалеристом Иваном Мазуром, которого по партийному набору направили служить в ГПУ. Иван по службе не раз заезжал в село, где батрачила Соня, повстречаться и поговорить со своей зазнобой-поповной, глаза и косы которой давно и часто виделись ему в молодых снах. Вместе с товарищем-чекистом приезжали они на добрых конях при шашках и вроде бы по службе в село да и сидели вместе с молодежью, лузгали семечки, а иногда и танцевали с девчатами под гармошку, а по праздникам к ней прибавлялась скрипка с бубном. Весело было. Но сельские хлопцы не любили этих лихих кавалеристов из ГПУ — шла борьба с самогоноварением и достаточно было одного запаха, чтобы чужие кавалеры выведали источник получения спиртного, что и было не раз. Озлобились сельские хлопцы, стали сторониться кавалеристов, да и к девчатам ревновали. Пошла молва по селу — Иван Мазур, сотрудник ГПУ в поповну влюбился. Дошло это до начальства коммуниста Ивана Мазура. Вызвал его командир. «Если это так, положишь партийный билет на стол и сдашь оружие». Все отрицал Иван, сердце кровью обливалось. Лукавил, конечно. Любил поповну. А может быть, казалось ему это и только. Да партия и служба в ГПУ были для него — в недалеком прошлом сельского хлебороба, но хлебнувшего уже не раз свинцового посвиста бандитских пуль и видевшего не одну смерть рядом и самому убивавшему во имя великих идей — дороже, чем все поповны на свете. Иван сказал начальству, что имеет данные на укрытые в доме попа самогонные аппараты. Доказать хотел командиру Иван, что плевать ему на поповну. Выпили с другом по паре стаканов конфиската, пристегнули шашки да и поскакали в село, и прямо к дому священника, что при церкви. Все село видело. Всю хату и клуню[74] перевернули, в погребе крынки побили, некоторые со сметаной во дворе разбили, чтобы все видели. Поповна из хаты не выходила, а матушка и батюшка молча во дворе стояли. Иван с дружком во дворе шашки вытянули, чтобы все видели, да и давай рубать подсолнухи. В общем шкоду сделали великую, чтобы знала контра свое место. Ну о какой тут любви к поповне можно говорить? Вечером, на молодежных посиделках увидел Иван Соню. И пошла у них великая любовь. Через месяц увел Иван Соню к себе. Помнила Соня, как тяжело жили, денег хватало едва на еду, сама в старом ходила, хорошо еще, что Иван в казенное и добротное одет. Хата не топлена, дров нет, дитя от холода плачет. Пеленки под собой телом сушила.
Отец Володи — лейтенант госбезопасности Иван Мазур, по армейским знакам отличия — капитан, был в июне 1941 года начальником райотдела НКГБ в Киеве. Как и все сотрудники органов госбезопасности Украины, он с первых часов войны — в бою. Семью он больше не видел. Мать Володи с детьми при эвакуации учреждений города была вывезена на восток…
Капитан Мазур участвовал в ликвидации вражеского десанта, выброшенного немцами с самолетов в Голосеевском лесу, тогда пригороде Киева. Взрывал мосты, заводы и склады и уходил из Киева с последними защитниками города. В одном из арьергардных боев осколком мины ему оторвало челюсть. Испытывая нечеловеческую боль, слабея от нее и не имея возможности принимать пищу, он оставался в строю до конца и вел бой. Находившийся рядом с ним армейский офицер из приданной чекистской группе войсковой саперной части, успевший за последние дни беспрерывных боев познакомиться с капитаном Мазуром, видел смерть чекиста. Всю группу раздавили немецкие танки и добили следующие за танками на бронетранспортерах автоматчики. Офицер, к счастью для него, за несколько часов до этого боя сменил разодранное в клочья командирское обмундирование на красноармейскую форму. Он был контужен взрывом снаряда немецкого танка, засыпан землей. Немцы приняли его за убитого и прошли мимо. Взрывом этого же снаряда был контужен и капитан Мазур. Когда немецкие автоматчики подбежали к окопу, он пытался приподняться. В руках у него была винтовка. Вот он сделал попытку приподнять оружие, и был тут же в упор расстрелян автоматчиком. Бой продолжался. Советские танки отбросили немцев. Нескольких случайно уцелевших раненых подобрал танковый десант, среди них контуженного офицера, давшего позже в особом отделе отбившей их от немцев войсковой части показания о гибели чекистской группы и капитана Мазура.
Много, очень много чекистов погибло в том далеком и страшном сорок первом…
Мы с Володькой сходились в том, что и мы, наверное, приняли бы такую же смерть за свою социалистическую Родину и за светлое коммунистическое будущее. Мы были молоды, энергичны, полны физических сил, задора и радужных перспектив и очень, очень оптимистичны. Нас с рождения приучали любить свою Родину, принадлежавшее нам социалистическое Отечество, быть частицей своего народа и защищать этот народ от возможных посягательств капиталистического мира на его счастье. Руководит и ведет нас к светлым высотам коммунизма (и этот тезис воспринимался без намека на юмор) родная коммунистическая партия, а с партией мы были связаны кровными узами с 14-летнего комсомольского возраста. Это спустя много лет, служба приучала нас мыслить критически. С годами мы стали приходить к выводу, что не все так гладко у нас в стране.
Умер академик Стражеско, ученый с мировым именем, врач-кардиолог. Четырежды он награждался орденом В. И. Ленина. Когда он умер, Саша Романов, осуществлявший оперативное наблюдение за медицинской наукой, сдал в архив восемнадцатитомное дело-формуляр на этого ученого как антисоветчика и буржуазного националиста. Саша тогда серьезно так и совершенно без юмора говорил: «Жил бы себе да жил старик, такой крупный и нужный для людей ученый. Нашел время умирать. Умер бы лет через 10–15, не мне, а другому пришлось бы возиться со сдачей в архив такого большого дела. Сдача в архив — муторная это работа. А может быть, к этому времени вообще прекратилось бы за ненадобностью все наблюдение за ним. Подумаешь, когда-то, где-то, что-то сказал. Пора бы уже забыть все это».
Думалось тогда мне: «Если он враг нашему обществу, зачем мы награждаем таким высоким орденом? А если он имеет заслуги перед государством, но не разделяет нашу идеологию, пусть ему правительство присваивает высокие почетные звания, ученые степени, короче, поощряет любыми способами, вплоть до государственных или иных денежных премий, но не орденским знаком с платиновым силуэтом коммунистического вождя».
Позже, уже в Москве, из служебной книжицы с грифом «секретно», находившейся в кадрах КГБ, я узнал, что почти все советские ордена, особенно орден Ленина, изготавливаются из драгоценных металлов и вручную, что придавало им особую ценность. И в рублях это тоже выражалось прилично. Так, по ценам 1975 года орден Ленина стоил 25 тысяч рублей. Инструкцией было предусмотрено, что при присвоении звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, а также при награждении орденом Ленина осуществлялась, и это было обязательно, проверка представленного к награждению по линии КГБ. Что касается жителей Западной Украины и других районов Советского Союза, где долгие годы после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году действовали вооруженные националистические формирования, спецпроверки проводились при награждении любой правительственной наградой или же при назначении на любую государственную или выборную должность. Спецпроверки проводились и при вступлении в партию. Это, однако, не касалось молодых людей, вступающих в комсомол. Здесь дорога была открыта всей молодежи.
* * *
Молодость озорлива и небезгрешна. Мы зачастую лихо проводили те свободные от работы часы, которые не так часто выпадали на нашу долю. Выпивали, конечно же, как говорится, «не единожды и не по единой». Безусловно, было много спорта: волейбол, кроссы, соревнования, всякие динамовские заплывы и забеги, молодежные выезды на Днепр. Но все же «тайные услады» доставляли особое наслаждение.
Встречались и дружили мы не только с сослуживцами. Были у нас и «гражданские» друзья.
Юрий Калиновский и аспирант кафедры Киевского сельскохозяйственного института Серега Криштап были всегда рядом с нами. Калиновский и Криштап даже женились на молоденьких сотрудницах КГБ, прибывших для работы в Киев из Москвы после окончания Московского института иностранных языков.
Регистрация брака Юры Калиновского и Зины проходила в Киевском районном загсе. Родители Калиновского — известные в киевских кругах люди. Отец — журналист с именем. Мать — доктор экономических наук, профессор, зав кафедрой политэкономии Киевского университета, Алевтина Семеновна Сухопалько. Эта красивая женщина с толстой, еще не седой косой, уложенной вокруг головы, разговаривала с сыном и его друзьями исключительно на украинском языке, делая снисхождение только для частой гостьи в своем доме, невесты сына Зины. Ни замечаний, ни недовольства по поводу будущей невестки, да еще и коренной москвички, она не высказывала. И вдруг в загсе Алевтина Семеновна, впервые взглянув в анкету невестки, взревела: «Не позволю портить породу запорожскую! Наши корни к временам Богдана Хмельницкого уходят, у нас гетманы в роду были, Юрко! Не расписывайся, не образуi родини и матерь свою[75]. Тут настала очередь свирепеть Юрку. Схватил мать за плечи и кричит ей по-украински: «Это вы, мамо, меня позорите перед женой и товарищами. И если не хотите потерять сына, сейчас же извинитесь перед Зиной». Заголосила Алевтина Семеновна и бегом из загса. Ребята-свидетели все за ней, никто пока ничего не понял. Зина стоит бледная, ее трясет как в лихорадке. Она первая поняла, в чем дело, но стоит, молчит. Позднее мы поняли, что тогда она была уже беременна.
«Ты решай сам, Юра, — говорит, — нам не с матерью жить». Выскочил тот следом за друзьями, а они уже мать держат, уговаривают, и к ней: «Вот что, мамо, я не ожидал от бабушки моих будущих детей, от фронтовички такой дремучести. Ты на фронте вступала в партию, с тобой рядом люди всех национальностей умирали, ты не думала тогда об этом. Приди в себя и успокойся, или видишь меня в последний раз». Тут только поняли и узнали друзья-свидетели, о чем шла речь. Невеста Зина, внешне совершенная копия типичной украинской дивчины с полтавщины, по национальности — чувашка. И об этом стало известно только в загсе. Тут пришла очередь удивляться и возмущаться друзьям-свидетелям. Как взяли они в оборот Алевтину Семеновну, да все на украинском. Вернулась она в загс, припала, рыдая, к Зине, поплакали они обе да и помирились. Жили потом дружно…
Как хороши были незабываемые вечера, вернее ночные часы, в киевском «коктейль-холле» (там потом был ресторан «Лейпциг»). Мы часто посещали это заведение после окончания работы. Заканчивалась работа после часа или того позже. Встречались на углу у Золотоворотского сквера, внимательно просматривали улицу Владимирскую со стороны служебного здания и уже тогда, убедившись в полной безопасности не быть «засеченными», бегом пересекали перекресток и входили в «коктейль-холл». Заведующая баром Галя Демьяненко была влюблена в Вадима и встречалась с ним на правах любимой девушки, почти невесты, официанты знали каждого из нас лично, а ресторанный оркестрик — труба, саксофон, виолончель и аккордеон, — находившийся в нише, как раз напротив входа, мгновенно по незаметному для постороннего взгляда указанию руководителя Мони прекращал даже заказанную музыку и проигрывал широко известную в те годы мелодию «Гольфстрим» из кинофильма «Подвиг разведчика». Еще бы! В зал входили разведчики! Моня, с большим носом и зачесанными назад светлыми вьющимися от природы длинными волосами, известный в Киеве любовник и покоритель женских сердец, широко улыбаясь белозубым ртом и заговорщически подмигивая каждому из нас по очереди, лихо растягивал аккордеон, переходя сразу же после «Гольфстрима» на любимую Вадимом мелодию «А парень с милой девушкой на лавочке прощается». Заказывалась каждому через Галю яичница (другой пищи в ресторане в это время уже не было) из трех яиц и водка. На посошок шел обязательно коктейль под мудрым названием «Маяк» — спирт, свежий яичный желток и ликер Шартрёз» — все в три слоя. Моне и его команде обязательно жаловалось по стакану. В ресторанчике наша троица находилась не больше часа. И по домам. Вадим часто оставался, ждал Галю, провожал ее домой. Красивая и хорошая дивчина была эта Галя. Под нашим влиянием окончила 10-й класс школы рабочей молодежи, поступила во Всесоюзный заочный институт торговли и впоследствии долгие годы работала директором образцового винного магазина, что находился в известном всем киевлянам «Пассаже». Но не судьба была соединиться этой красивой паре — Вадиму и Галине…
Иногда по субботним или воскресным дням, в дни работы Гали в ресторанчик ходили вместе со своими «гражданскими» друзьями — Юрой Калиновским и Сергеем Криштапом. Дружили крепко. Никогда не было между нами служебных разговоров. И Юра, и Сергей были такими же преданными своему социалистическому Отечеству молодыми людьми, как и мы. Однако именно тогда были сказаны однажды Сергеем Криштапом запомнившиеся мне слова: «Это хорошо, что умер мой отец. А то не бывать мне в партии, никогда не приняли бы в аспирантуру, и не быть мне кандидатом сельскохозяйственных наук. Вы ведь знаете, отец дважды был в окружении, дважды бежал из немецкого плена. В партии его не восстановили, так и умер, дал мне своей смертью дорогу в жизнь». Со слов отца Сергея мы знали, что был он комсомольцем в гражданскую войну, долго работал вместе с Николаем Островским, автором романа «Как закалялась сталь», в киевских железнодорожных мастерских и, будучи крепким хлопцем, пару раз колотил комсомольца Колю Островского из-за девчат, за которыми оба ухаживали, и были на равных, ибо старший Криштап тоже был на «той далекой, на гражданской»… Не думал и не гадал Криштап-отец, что станет Николай Островский известнейшим комсомольским писателем и имя его будет знать каждый молодой коммунист планеты. Страшные слова сказал тогда Сергей об отце, смысл их дойдет до меня позже.
Крепко мы дружили. Казалось, случись самое ужасное, на что только способна судьба, мы останемся навечно при своих идеалах, сохранив самые лучшие и сокровенные человеческие ценности: порядочность, принципиальность, честность и искренность по отношению друг к другу, любовь к ближнему своему и ненависть ко всему враждебному, чужому. Жизнь не раз проверяла нас, не раз ставила перед дилеммой: сохранить себя за счет другого. И всегда каждый из друзей старался пожертвовать собой во имя другого. Пусть это были мелкие случаи, но и они являлись проверкой наших отношений к самой высокой человеческой ценности — любви и преданности. В те политически жестокие далекие годы кажущиеся сегодня мелкими и незначительными события могли приобрести трагический характер.
Противодействуя переходу моему в другое подразделение, полковник Сухонин рекомендовал направить меня начальником отделения в управление КГБ вновь созданной Черкасской области. Я встречался с любимой девушкой, считал ее своей невестой, поэтому заявил начальству, что, конечно же, как офицер подчинюсь любому приказу и поеду, куда направят, но при условии, если будущей жене будет там обеспечена работа по ее специальности. Алла Колгина заканчивала геологический факультет университета, по специальности геолог-геофизик, была готова и согласна вместе со мной поехать в любую, самую далекую точку Советского Союза, но туда, где ей найдется работа по специальности. Между мной и одним из руководителей отдела кадров состоялся примерно такой диалог:
— Я не видел вашего рапорта на женитьбу. Не исключено, что ваша невеста может не подойти вам по своим анкетным данным.
— Я знаю семью невесты много лет, встречаюсь с ней четыре года. Ее политическое лицо не вызывает никаких сомнений, а самое главное — я ее люблю, мы с ней уже договорились о совместной жизни.
— А если все же выявится что-либо не позволяющее совмещать вашу дальнейшую службу в системе госбезопасности, вы что же, выберете эту женщину?
— Да, я люблю ее и в случае чего останусь с ней. А что касается ее работы, то уверен, что любой сотрудник из Магадана, Колымы, Кушки и других мест, где есть геологические экспедиции, сразу даст согласие на работу в Киеве или Черкассах. Я же с ней готов выехать в любую точку.
— Вы меня удивили. Еще не жена, а вы в ней уже уверены. Вы работаете в политическом органе, здесь особая дисциплина и порядок. Пишите рапорт на женитьбу.
Я посоветовался с Аллой, рапорт был написан. Она стала моей женой. В Черкассы мы не поехали, геологической экспедиции там не было…
Позже я узнал от Володи Мазура, какие трудности были и у него в кадрах по поводу его жены Жени Волковой. Дед Жени, сам из крестьян, перед революцией был заместителем управляющего Волго-Камским пароходством, имел свою усадьбу и владел несколькими домами. В 20-е годы, как тогда было положено, он, как «контра», с подушечкой и маленьким чемоданчиком на все пролетарские праздники, то есть 1–2 мая и 7–8 ноября, должен был добровольно являться по имевшемуся в органах ВЧК — ГПУ — ОГПУ списку и пребывать под арестом несколько дней как «ненадежный политический элемент». В личном деле В. И. Мазура, наверное, до сих дней в архиве в Омске хранится фотография могилы деда его жены. Так, на всякий случай.
Все же уговорил меня дружок Володя Мазур проверить по учетам семью Аллы Колгиной. Мы были уже достаточно опытными. Все провели гладко и конспиративно. Картина выявилась не совсем приятная. Во-первых, из материалов КНД[76] на мать моей будущей жены — Антонины Григорьевны Колгиной, работавшей тогда секретарем-машинисткой в приемной одного из зам. Председателя Совмина Украины, следовало, что ее муж — полковник Николай Иванович Умеренко, в 1939 году, будучи начальником отдела Киевского Особого Военного Округа, арестовывался по статье 54.1а (измена Родине) как участник военно-фашистского заговора Тухачевского. Семья была объявлена семьей «врага народа». От мужа Антонина Григорьевна не отказалась, была уволена с работы и выселена из квартиры в доме военного ведомства. Боролась за освобождение мужа, и благодаря ее усилиям он был из-под стражи освобожден за отсутствием состава преступления. От дальнейшей службы в Красной Армии отказался, ушел на фронт с началом Великой Отечественной войны. Во-вторых, Алла не была его родной дочерью. Узнала об этом позже, уже взрослым человеком, при разводе родителей. Настоящий отец Аллы — тоже Николай Иванович, Андреев, оставил жену на четвертом месяце беременности и ушел к другой женщине.
Прочитав все это и другие пикантные подробности жизни этой семьи, Володя сказал мне:
— Подумай, стоит ли жениться на этой девушке? Смотри, сколько «хвостов».
— А у кого их нет, этих «хвостов»? Ты копни любого нашего лидера. Мы-то с тобой уже кое-что знаем. Хотя бы тот же П. Г. Тычина. Кто у него родной брат? Священник! Ну и что? Нет, Володя, сердцу не прикажешь.
Не смог бы я расстаться со своей Аллой, так, во всяком случае, мне казалось, ни при каких обстоятельствах. Только при одном единственном условии ушел бы я от нее — если бы она меня не любила…
* * *
Временами казалось, что я давным-давно работаю в госбезопасности; все здесь — и сама работа, агентура, окружающие товарищи — представлялось мне давно знакомым и родным. В последние несколько лет, после окончания войны в 1945 году в органы МГБ — МВД Украины пришло много молодежи, среди них большинство фронтовиков, но они в лучшем случае имели только среднее и специальное чекистское образование в виде шестимесячных или годичных курсов. Многие учились в вечерних школах рабочей молодежи, заочно в вузах. Многие работники центрального аппарата МГБ — МВД Украины ни интеллектом, ни грамотностью не отличалась, и окончившие в послевоенное время очные вузы молодые люди выделялись на фоне «старичков». За первые четыре года работы в МГБ — МВД — КГБ Украины я пережил восемь сокращений аппарата. Происходили структурные изменения и кадровая замена. Особенно активизировался этот процесс после смерти Сталина. Удивительные события проходили перед моими глазами. Я стал свидетелем новой политики в отношении еще действовавшего на территории Западной Украины вооруженного националистического подполья и его базового подспорья — униатской церкви.
Новый министр Мешик запретил проводить операции по ликвидации вооруженных оуновцев. Санкционировались те агентурно-оперативные мероприятия, которые обеспечивали захват участников вооруженного подполья только живыми, якобы с целью их дальнейшего использования для захвата оставшихся в подполье других членов ОУН или участия в пропагандистских мероприятиях. Было дано указание начальнику церковного отдела полковнику В. П. Сухонину прекратить разработку униатской церкви. Затем из Москвы последовало указание набирать в органы госбезопасности молодых людей, желательно украинской национальности, родной язык которых украинский. Речь шла о новом наборе трехсот сотрудников для работы в территориальных органах всех восьми областей Западной Украины из числа местного населения, направив их предварительно в центральную школу МГБ в Киеве. Но лишь несколько человек из набранных трехсот отвечали нужным требованиям. Иначе и быть не могло — каждый житель Западной Украины, прямо или косвенно за небольшим исключением, был связан с вооруженным подпольем. Практически в каждой западноукраинской семье прямой или дальний родственник либо погиб в вооруженной борьбе против советской власти, либо был арестован за участие в подполье, либо сослан в Сибирь за пособническую деятельность, за укрывательство подпольщиков, хранение оружия, боеприпасов, листовок и националистической литературы, содействие на оуновских линиях связи, снабжение продовольствием, медикаментами, сбор и передачу информации, да и просто за недоносительство органам госбезопасности о контактах с подпольем. Где уж тут найти кандидатов для работы в органах ГБ с такой «чистой» анкетой.
Мешик дал указание сотрудникам министерства шире использовать украинский язык, а что касается работы в условиях Западной Украины, то здесь от оперативных работников он потребовал безукоризненного знания украинского языка. Многие работники, как и я сам, находили это правильным.
Сам Мешик не знал украинского и решил самостоятельно овладеть им с помощью кого-либо из сотрудников, для кого украинский язык был своим, родным. Наверное, с этой целью он приблизил к себе уже упоминавшегося выше полковника И. К. Шорубалко. Иван Кириллович был не только опытным чекистом-профессионалом. Он был известным в чекистской среде специалистом по разработке оуновского подполья, мастером оперативно-чекистских операций, досконально знал националистическое подполье, всех его лидеров — мертвых и живых. Шорубалко готовил для министра доклады и сообщения на украинском языке, отрабатывал с ним украинскую бытовую лексику. Новый министр решительно взялся за дело, почти ежедневно проводил совещания с руководством, внимательно изучал имевшиеся в производстве в оперативных подразделениях основные дела. Особенно это касалось оперативных разработок по линии 2-Н. Однако, в результате указания Мешика захватывать участников оуновского подполья только живыми оставшиеся на свободе немногочисленные вооруженные группы значительно активизировались, о чем свидетельствовали поступавшие с мест агентурные данные.
Я стал свидетелем разговора полковника Сухонина и его заместителя о встрече с министром. Сухонин и полковник Ф. А. Цветухин были вызваны к Мешику. Министр резко критиковал Сухонина за, как он выразился, «слишком острые мероприятия в отношении униатской церкви, что может вызвать ответную и нежелательную реакцию населения». Критикуя работу церковного отдела в этом вопросе, министр дал понять Сухонину, что он не просто недоволен работой отдела, но и считает проводимую Сухониным линию на уничтожение униатской церкви ошибочной и не отвечающей складывающейся политической ситуации на территории Западной Украины. Сухонин, как он рассказывал, растерялся и не стал вступать в спор с Мешиком. Выйдя от министра, Сухонин высказал Цветухину свое недоумение и добавил:
— Я не в состоянии сейчас вступать с министром в полемику, но мне кажется, что министр либо не понимает важности вопроса, либо это что-то еще хуже.
— Что вы имеете в виду, Виктор Павлович? — спросил Цветухин.
— Федор Андреевич, мы давно работаем вместе. И вы, и я выполняем пока еще действующее указание партии по ликвидации униатской церкви, являющейся опорой и базой оуновского движения. Вы должны были поддержать меня. Пока не будет новых указаний по линии Центрального Комитета я буду продолжать осуществляемую работу.
Цветухин промолчал. Каково же было удивление Сухонина, когда на следующий день Сухонин уже один был вызван к министру, который в короткой и сухой беседе по общим вопросам работы отдела дал понять, что ему известна коридорная беседа начальника отдела В. П. Сухонина с начальником управления Ф. А. Цветухиным.
Мешик сказал Сухонину:
— Да, Виктор Павлович, вы являетесь крупным специалистом по вопросам церкви в системе госбезопасности Советского Союза. Но уверены ли вы, что все и всегда понимаете в политической линии нашей партии? Я прибыл на Украину по воле партии и в деталях обсуждал свою работу здесь с членом Политбюро Лаврентием Павловичем, который предельно четко и ясно сформулировал мою задачу. Мне не нравятся ваши настроения и некоторые реплики по поводу моих рекомендаций. Подумайте над этим.
— Товарищ министр, для меня указания моего руководства обязательны к исполнению. Церковная линия, разработка униатской церкви, направленная на ее ликвидацию, осуществляются по указанию ЦК КПСС и ЦК Компартии Украины. Другой линии в моей работе я не знаю.
— А что Лаврентий Павлович Берия — член Политбюро, это не партия? Идите, товарищ Сухонин, и хорошо подумайте над содержанием наших разговоров.
Виктора Павловича Сухонина спасли стремительно развивающиеся события, происшедшие через несколько дней в Москве и Киеве…
— Ваши документы, — остановил меня на входе в здание министерства незнакомый офицер, стоявший с группой других военных в полевой форме, вместо привычного для глаза знакомого вахтера — старшины или сержанта.
Я, с недоумением глядя на незнакомых офицеров, протянул удостоверение личности.
— Оружие имеется с собой?
— Пистолет в сейфе.
— Оружие вам придется на время сдать. Охримчук, проводите лейтенанта.
Поднимаясь по лестнице на второй этаж вместе с незнакомым капитаном, я увидел в глубине коридора нескольких солдат и офицера, возившимися с пулеметом Горюнова, как бы устанавливая его для стрельбы вдоль этого длинного коридора. В комнате находились два сотрудника, пришедшие на службу раньше меня. Сейф, который был открыт, принадлежал не одному мне. В этом металлическом добротном ящике, изготовленном в конце прошлого века, хранились документы и оружие нескольких оперативных работников, в том числе и мои.
По поведению товарищей я понял, что препроводивший меня капитан Охримчук уже изъял оружие и у них.
— А что, собственно, происходит? — спросил я, обращаясь сразу ко всем.
— Я объяснял товарищам. В 11 часов, то есть через час, вас всех соберут в актовом зале и объяснят ситуацию. Большего сказать не могу, сам ничего не знаю, — сказал Охрмчук.
— Ну вы-то армейские или из войск МВД? — спрашивал дальше я.
— Мы из мотомехдивизиона МВД, нас вчера по тревоге машинами перебросили из Львова. Зачем и для чего — мы не знаем.
— Зачем же у нас изымается табельное оружие? — спросил кто-то из присутствовавших.
— У нас приказ, вам все объяснят, — закончил разговор капитан и вышел из комнаты.
Действительно, около 12 часов всех пригласили в актовый зал. За столом президиума нет Мешика, кто-то из замов представляет чекистам нового министра — генерал-лейтенанта Тимофея Амвросиевича Строкача, только что прилетевшего из Москвы. После представления Строкач сразу же обратился к примолкнувшему залу:
— Товарищи чекисты! Вчера в Москве по решению ЦК КПСС и правительства арестован враг партии и советского народа Берия. Одновременно с ним арестовано еще несколько человек, имена которых скоро станут известны. В это же время арестованы ставленники Берии — Мешик, бывший министр внутренних дел Украины, и его заместитель Мильштейн. Решением партии и правительства новым министром назначен я. Прошу всех соблюдать дисциплину и порядок. В системе органов государственной безопасности Украины вводится особое положение. Любое нарушение служебной дисциплины будет строго караться. Вопросов сейчас прошу не задавать. Всем разойтись, начальникам отделов и самостоятельных подразделений прошу остаться.
Из зала все-таки раздалось несколько выкриков: «Почему забрали оружие?» «Нас специально разоружили». «Почему чекистам Украины не верят?»
Строкач поднял руку, сказал:
— Оружие вам вернут сегодня же. Я уже дал команду. Повторяю — все свободны.
Было тихо, так тихо, что в зале слышалось дыхание людей. Стукнула открываемая дверь, зал наполнился звуком шаркающих по паркетному полу, там, где кончались ковровые дорожки, кожаных офицерских сапог и шевровых ботинок. Расходились молча, ныряли в свои кабинеты, недоуменно смотрели друг на друга, курили, перебрасывались отдельными фразами. За Берию было стыдно и неловко. Ведь только пару месяцев назад он выступал от имени всей партии с Мавзолея, прощаясь с вождем: «… тот, кто не слэп, тот выдыт …», и все, кто слышал эти слова, верил и в него, и видел и в нем, в Берии, нового вождя, продолжателя дела гениального Сталина. Все чувствовали себя как будто запачканными.
Вскоре последовала команда получить изъятое оружие. Сразу появилась пропавшая было уверенность в себе. Весь отдел собрался у В. П. Сухонина. Полковник коротко проинформировал об арестах в Москве высшего руководства МВД СССР — генералов Гоглидзе, Кобулова, Меркулова. Работники потрясены. Гоглидзе подписывал приказ о моем зачислении в офицерский корпус госбезопасности, заслуженный боевой генерал. Кобулов, Меркулов — верные соратники Сталина…
Прошло несколько дней. Работа министерства входила в свое обычное русло. Выехал в командировку в Ровенскую область Вадим Кулешов. Вернулся возбужденный и взволнованный потрясшим его событием. Он впервые участвовал в бою. Был ликвидирован давно находившийся в разработке и розыске один из руководителей окружного провода ОУН Богун. Произошло это в Клеванском районе. По полученным агентурным данным, Богун и два его боевика — Назар и Стодола — после разбункировки в одном из лесных массивов Рогатинского района Станиславской области в начале апреля 1953 года совершили переход в свой родной Клеванский район, где и были обнаружены агентурой органов ГБ в июле того же года.
Вернувшись на свои терены[77], Богун решил передохнуть, осмотреться и потом уже искать Лемиша. От верных людей он получил сообщение, что Лемиш, живой и невредимый, действует на Волыни, собирая остатки подполья, стремясь продолжить борьбу в новых условиях. Богун дал указание своим надежным и все еще многочисленным помощникам наладить линию связи с Лемишем, планируя в положительном случае пойти к нему на соединение. Все учел мудрый Богун, кроме одного: после короткой паузы органы вновь активизировались. Не знал Богун, что украинская госбезопасность три последних года ставила своей целью захватить, в крайнем случае уничтожить, Лемиша как врага № 1. Руководство МГБ — МВД Украины считало, что захват или ликвидация Лемиша, может стать широкой пропагандистской кампанией. Это обезглавит остатки подполья, сломит волю руководителей действующих групп ОУН, ослабит их влияние на местное население и облегчит ликвидацию этих разрозненных и не имеющих прочной связи между собой небольших по численности, но все еще опасных групп вооруженных оуновцев, присутствие которых в районах их базирования оказывало на местное население сильное идеологическое воздействие. Население их боялось, но продолжало оказывать поддержку, укрывая при необходимости от местных органов МВД. В ходе активных агентурно-оперативных мероприятий по поискам линий связи с Лемишем были получены данные на Богуна и его боевиков, которые укрывались в хате одного из своих пособников. Остальное было делом времени. Руководитель оперативной группы, в которую входил Вадим Кулешов, принял решение атаковать укрытие Богуна и уничтожить всю группу, заведомо зная, что Богуна и его команду живыми не взять, — на проведение комбинации по захвату их живыми времени не было, а оуновцы могли уйти. Руководитель опергруппы, принимая это решение, также знал, что Богуну связь с Лемишем установить не удалось, местонахождение Лемиша ему неизвестно, а потому и живым он не очень-то нужен…
Три автомашины — две армейские полуторки и ГАЗ-69 — на предельной скорости двигались по ухабистой дороге, оставляя за собой шлейф высоко поднимавшейся пыли. Позади остались двенадцать километров пути от райотдела МВД до опушки лесного массива. И вот это, село и чуть вправо последняя, как бы на отшибе, одинокая хата. Дорога подходит прямо к ней. За хатой вишневый с грушами и парой яблонь садик, за садом картофельное поле, и пошли хаты соседей. С другой стороны, метрах в трехстах небольшая березовая рощица, а за ней — лес. В кузовах грузовых автомашин весь состав райотдела, милиционеры, всего до сорока человек. На крышах кабин грузовиков ручные пулеметы, готовые открыть огонь. Одна из машин резко уходит вправо, чтобы отсечь отход Богуна к лесу, едет по скошенному полю. Ухабы страшные, стрелять в таком положении бессмысленно. Главное — быстро, не скрываясь, как можно ближе приблизиться к хате. Последние сто — сто пятьдесят метров. Вторая машина по жнивью совсем близко подъехала с другой стороны хаты, из которой выскакивают трое. Они первыми открывают огонь из автоматов. Машина резко тормозит. Заработал ручной пулемет, затрещали ответные автоматные очереди спрыгнувших из двух автомашин милиционеров и оперработников. Один из оуновцев падает. Двое исчезают из вида. Интенсивный огонь из нескольких десятков стволов ведется беспрерывно по хате и дворовым постройкам. Гулко и резко бьют винтовки милиционеров. Сквозь стрельбу слышен безумный визг, наверное, раненой свиньи. Оуновцев не видно. По команде смолкла стрельба. Кто-то из офицеров кричит: «Вы окружены! Сдавайтесь!» В ответ автоматные очереди через соломенную крышу с хаты. Как выяснилось после завершения акции, оуновцы пробрались на чердак, проникнув в хату через свинарник. Снова команда «Огонь!» Все ведут беспорядочную стрельбу по соломенной крыше. Оглушительно гулко стреляют два ручных пулемета. От потока пуль часть крыши разворочена. Внезапно раздается глухой взрыв. Обнажается угол крыши. «Это граната», — кричит кто-то из офицеров. Стрельба прекращается. Несколько добровольцев перебежками приближаются к дому. Свинья продолжает дико визжать. Один из подбежавших к хате исчезает в проеме двери, второй вскакивает за ним. Сразу же слышится длинная глухая автоматная очередь. Визг животного прекращается. Проходит несколько томительных минут. В двери показываются смельчаки. Группа бегом направляется к хате. Во дворе лежит один из оуновцев. Он весь посечен пулями. Мертв. На чердаке еще двое. Один из них Богун. У него на теле множество пулевых ран. Наверное, часть из них получена после смерти. Умирая, Богун подорвал себя гранатой, подложив ее под голову. Второй — Назар. Во дворе — Стодола. Трупы грузят в кузов машины, завернув в плащ-палатки, найденные в хате. Часть людей остается в селе для задержания хозяев хаты, в которой укрывались оуновцы, допросов жителей, тщательного обыска всех построек. В теле свиньи, все еще издающей, но уже слабые звуки, несколько пулевых отметин, ноги ее перебиты. Кто-то из сердобольных милиционеров, наверняка сам в прошлом селянин, знающий цену всему этому, закалывает ее кем-то поданным ножом, спускает кровь и начинает свежевать. Не пропадать же добру. Один из офицеров говорит, чтобы мясо оставили хозяевам. «Но ведь хозяев-то заберут, если найдут», — говорит один из милиционеров. «Мясо отдайте соседям под расписку», — поясняет офицер.
Трупы убитых сволакивают с чердака и кладут рядом с тем, кто в начале боя не успел укрыться в хате. Они лежат, наливаясь восковой желтизной. Тела окровавлены, кровь везде на одежде. В каждом, наверное, по десятку пуль. Голова Богуна разворочена взрывом гранаты. Один из милиционеров приносит с чердака часть оторванной взрывом челюсти. Одного глаза и части височной кости и черепа у Богуна нет. Никто из оперсостава не хочет заниматься туалетом трупов, то есть приводить их лица в более или менее приемлемый вид. Для этого необходимо обмыть запачканные кровью лица убитых, вставить в веки глаз кусочки спичек, чтобы придать лицам узнаваемость. Один из оперработников, чувствуется уверенная и опытная рука, ловко проделывает это с убитыми Назаром и Стодолом. С Богуном никто возиться не хочет. Развороченной от взрыва гранаты голове Богуна можно придать нормальный вид только с помощью судебно-медицинского эксперта или врача-хирурга. Такой специалист должен быть в областном центре или в местной районной больнице из числа хирургов. Если таковой вообще имеется. Однако надо что-то предпринять, так как необходимо произвести опознание убитых местными жителями и составить протокол опознания, который будет подшит к делу на этих троих оуновцев-подпольщиков. Дела эти отныне будут прекращены производством.
Наконец, один из милиционеров добровольно вызывается собрать и сложить воедино остатки лица и черепа Богуна. Он это делает под руководством того самого оперативника, который производил туалет первых двух трупов. Лицо становится узнаваемым. Тем временем во двор вводят неизвестно каким образом убежавших из хаты хозяев. Пожилые господарь и господыня[78]. На их лицах покорность и безразличие к своему будущему. Укрывая убитых в их доме «хлопцев из леса», они знали на что шли. Страха на их лицах не видно. Вуйко[79] бросает взгляды на развороченную крышу, смотрит на разбитые пулями окна и дверь. Районный оперработник знает этих людей. Старшая дочь замужем, живет в райцентре. Сын — в армии. Старший сын погиб в 19»9 году в бою с войсками МГБ. С согласия хозяев мясо разделанной свиньи отдают под расписку соседям. Нескольких жителей села проводят перед убитыми. Они испуганно смотрят на них и тут же отворачиваются. Никто из них не признает в убитых знакомых. Это понятно, так как убитые родом из соседнего села, часть жителей которого будет завтра доставлена в райотдел для опознания. Хозяев хаты увозят. После короткого опроса здесь же, во дворе, жителей села, в основном соседей, милиционеры грузят в машину завернутые в плащ-палатки тела убитых. Машины трогаются в обратный путь. Все молчат. Потом начинают тихо разговаривать, почти шепотом, как будто в чем-то виноваты. Некоторые обсуждают детали боя. Заметно, что героями себя не чувствуют. Сорок против троих. Но ведь все рисковали жизнью. Все были под пулями. Обычно такой дневной бой заканчивался не только уничтожением оуновцев, но и потерями атакующих. Участники операции торопятся в райотдел. Трупы надо будет сфотографировать. Таков порядок. Завтра много работы — допрос хозяев хаты, свидетелей, опознание убитых, негласное захоронение, сдача трофейного оружия, решение судьбы укрывателей. Наверное, им не дадут срок и не сошлют в Сибирь: сын в армии.
За участие в операции Вадим Кулешов получает свое первое поощрение — благодарность министра в приказе по министерству и денежную премию. Руководитель этой операции и два сотрудника районного отдела МВД отмечены ценными подарками — именными часами. Я и Володя завидуем Вадиму. Смотрим на него, как на героя. По этому поводу, конечно же, устраивается в излюбленном для нас месте — «коктейль-холле» — приличный ужин втроем. Платит «именинник». Говорить на тему «операция с ликвидацией» категорически запрещено соответствующими приказами по министерству. Вадим строго предупреждает на этот счет нас, своих друзей. Детали знаменательного для всей троицы события обсуждаются с соблюдением всех правил конспирации — никому ни слова и вида не подавать. Мы в восторге от рассказа Вадима. Расспрашиваем его о деталях. Нас поражает стойкость оуновцев. Ведь они могли сдаться, им было это предложено, им гарантировали жизнь. Они знали, что им не уйти. В подобной ситуации даже чудо не поможет. Все происходило днем, в открытом поле. Им и деваться было некуда. Значит, пошли на смерть сознательно. Почему? Зачем? Они же были с самого начала боя обречены. После рассказа Вадима у нас возникает двойное чувство: с одной стороны, речь шла о физической ликвидации в бою врагов советской власти, вооруженных и опасных врагов, работающих на враждебный советскому строю Запад, наверняка связанных с западными разведками. Об этом известно, это есть во всех чекистских учебных пособиях. ЗЧ ОУН связана с ЦРУ, ЗП УГВР — с английской разведкой. С другой, — героическая смерть этих самых врагов и тоже в бою со своими врагами. Но это они, оуновцы, вешали и расстреливали председателей колхозов, советский и партийный актив в Западной Украине. Зверски убивали активистов, сторонников Советской власти, жестоко расправлялись с учителями, особенно приехавшими в Западную Украину из ее восточных областей.
* * *
Все силы органов госбезопасности Украины были брошены на розыск и ликвидацию или захват Лемиша, принявшего на себя руководство вооруженным подпольем после гибели в марте 1950 года генерала Чупринки. В июле 1950 года руководители подполья, имевшие связь друг с другом и с Лемишем, получили от него по своим каналам, еще не перехваченным МГБ, письменное указание подчиниться ему, Лемишу, одному из оставшихся в живых членов центрального провода ОУН, заместителю Чупринки, взявшему на себя руководство всеми вооруженными отрядами и группами, всем, что осталось от ОУН — УПА, всем подпольем на Piдних Землях[80].
«Вiд Бюро iнформацii Укранiскоi Головноi Визвольноi Ради:
Бюро iнформацii УГВР уповноважене поiнформувати кадри пiдпiлля i весь украiнскиий народ про те, що пiсля смертi славноi памятi генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича-Лозовьского-Чупринки посаду Голови Генерального Секретарiяту УГВР та Головного Командира УПА обняв полковник УПА Василь Коваль.
(В Укрiанi, 8 липня 1950 р.
Бюро iнфорацii Украiнскоi Головноi Визвольноi Рады.)
От Бюро информации Украинского Главного Освободительного Совета.
Бюро информации УГОС (УГВР) уполномочено проинформировать кадры подполья и весь украинский народ о том, что после смерти славной памяти[81] генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича-Лозовского-Чупринки должность Председателя Генерального Секретариата УГВР и Главного Командира УПА взял на себя полковник УПА Василь Коваль. (На Украине, 8 июля 1950 г. Бюро информации Украинского Главного Совета.)
Лемиш, он же Коваль — Кук Василий Степанович — больше известный в оуновском подполье как полковник УПА Василь Коваль, член центрального провода ОУН с 1941 года. В подполье с юношеских лет, опытный и опасный для советской власти враг. После выступления Лемиша на II Большом Съезде ОУН в июне 1941 года с аналитической оценкой действий вооруженного подполья в условиях новой политической ситуации — началом Второй мировой войны и нападением фашистской Германии на Советский Союз он обратил на себя внимание самого провидныка ОУН Степана Бандеры, который знал Лемиша по его активной оуновской деятельности и ранее. Знал не только как активного борца за идеалы ОУН, но и как мужественного человека, посвятившего свою жизнь борьбе за независимую и самостийную Украину. Не раз он подвергался арестам, сидел не раз в польских тюрьмах, многократно рисковал жизнью. Лемиш был уже тогда неплохим военным специалистом, тщательно изучал методы и тактику партизанской войны. В общем, по мнению Степана Бандеры, Лемиш отвечал всем требованиям руководителя ОУН на родных землях и поэтому лично Бандерой был введен в состав центрального провода ОУН.
Подпольщик с громадным опытом конспиративной работы и жизни, он, находясь в розыске и разработке НКВД с 1939 года, много раз ловко уходил из подставляемой ему западни. Розыск Лемиша в 1944–50 годах был активизирован с целью его ареста или ликвидации как особо опасного преступника. В 1947 году по предложению председателя провода ОУН Романа Шухевича — генерал-хорунжего УПА Тараса Чупринки Лемиш на одном из совещаний командиров отрядов и групп УПА, проходившем в Гурбенском лесу, на Ровенщине, единогласно был избран заместителем Шухевича.
Уничтожению основного главаря и самого опытного в подполье конспиратора и организатора вооруженного сопротивления на Украине генерала Чупринки Москва и Киев придавали самое серьезное значение. Достаточно сказать, что опытный и известный специалист в системе госбезопасности Советского Союза, один из организаторов разгрома вооруженного подполья на Украине, лучший знаток оуновского движения, сам бывший нелегал, ликвидировавший в свое время лидера ОУН Евгена Коновальца, генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов в течение шести месяцев в 1949–1950 годах безвыездно находился во Львове, где возглавлял оперативную группу по розыску и ликвидации Шухевича-Чупринки. Вместе с ним был еще один известный в те годы генерал — Виктор Александрович Дроздов. П. А. Судоплатовым и его группой было установлено, что Чупринка укрывается в селе Билогорща, недалеко от Львова. Зверя загнали в его последнее логово. Конечно же, было предложено сдаться. В ответ автоматная очередь. Он еще пытался прорваться, выбросив две гранаты. Был убит на месте, сраженный десятком пуль. Так закончил жизнь редседатель генерального секретариата УГВР, главный командир УПА с 1943 года, один из создателей Украинской повстанческой армии, генерал-хорунжий УПА, председатель провода ОУН на Украинских землях Роман Шухевич — Р. Лозовский — Тарас Чупринка — ТУР.
Еще какое-то короткое время в подполье и среди населения ходили легенды и слухи, что он жив и что ему удалось прорваться, что был убит другой подпольщик, пока Лемишу от своих надежных связей не стало известно, что Чупринка действительно мертв.
Смерть Шухевича настолько потрясла остававшихся в живых руководителей подполья, что только в июле 1950 года по своим каналам Лемиш направил указанный выше документ о взятии на себя полномочий по дальнейшему руководству вооруженным подпольем.
Как указывал в своей книге Павел Анатольевич Судоплатов: «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 гг.» (с. 419–420):
«После смерти Шухевича движение сопротивления в Западной Украине пошло на убыль и вскоре затихло… Крах украинской «эпопеи» наступил через год…»
Действительно, после ликвидации Шухевича движение резко пошло на убыль, но далеко не затихло. И до краха украинской «эпопеи» было еще далеко.
В те годы руководство МГБ стремилось как можно быстрее доложить в правительство о положительных результатах в деле ликвидации, как как тогда их называли, «остатков бандоуновского подполья». Действительно, имевшие место в конце войны в период 1944–1945 годов крупные стычки оуновских формирований с частями Красной Армии и НКВД ушли в прошлое, прекратились рейды отрядов УПА по территории Правобережной Украины. Ушли в прошлое, но остались в памяти оперработников случаи захвата оуновскими отрядами на 8–10 часов райцентров, в частности таких, как Турка, Борыня, Сколя Дрогобычской области, в 1947 году. Оуновцев тогда выбивали танками. То было время, когда в лесах Западной Украины действовали оуновские отряды, или, как их называли в подполье, курени, по 600–800 штыков. После ухода на Запад в 1947–1948 годах остатков разбитой ранее дивизии СС «Галичина» и крупных отрядов УПА, с боем прорвавшихся через территорию Словакии в Западную Германию, открытых крупных боев уже не было. Однако еще в 1950–1952 годах активно действовали оуновские группы по 8–12 человек, вооруженные автоматическим оружием, имевшие свои базы и укрытия, а также связь с ЗЧ ОУН и ЗП УГВР. Эти зарубежные центры, связанные с ЦРУ и английской разведкой, продолжали забрасывать по воздуху своих эмиссаров, обеспечивая материальную и моральную поддержку оуновскому подполью. Вплоть до 195» года над территорией Украины летали самолеты США и Англии, сбрасывая груз и эмиссаров-парашютистов, снабжая подполье оружием, боеприпасами, продуктами, документами, деньгами. Были зафиксированы случаи, когда части американской армии, дислоцированные на территории Западной Германии, специально проводили маневры с применением транспортной авиации и под видом сбившихся с курса самолетов проникали в воздушное пространство Советского Союза и оказывались над нужным им районом Западной Украины. При этом подготовленные к выброске парашютисты были экипированы в форму ВС США. Так осуществлялось прикрытие операции. Как правило, самолеты противника приближались к воздушному пространству Украины с севера, резко снижались, с тем чтобы войти в широкую и многокилометровую долину реки Днестр, имея целью избежать обнаружения их советскими радарами. Дело в том, что долина реки Днестр обрамлена с обеих сторон достаточно высокой холмистой местностью. Высота этих холмов — 300–350 метров над уровнем моря. Самолет как бы попадал в своеобразное ущелье и исчезал с экранов локаторов служб ПВО. Выброска людей и грузов осуществлялась с высоты 200–250 метров. Все четыре двигателя этих мощных винтомоторных машин работали на малых оборотах, не производя большого шума. Выброска занимала не больше нескольких секунд, а затем самолет на максимальной мощности резко взмывал вверх, быстро набирал высоту и вновь уходил через Польшу в сторону севера. Обычно базой этих самолетов был Франкфурт-на-Майне (ФРГ). Советские локаторы фиксировали самолет на далеких подступах на большой высоте. По мере приближения его к советскому воздушному пространству объявлялась тревога, поднимались истребители со Стрыйского аэродрома Дрогобычской области. Но пока истребители набирали нужную высоту и наводились службой ВНОС[82] на самолет неизвестного происхождения, локаторы радиолокационных станций, фиксируя резкое снижение объекта, теряли его. Самолет противника входил в днестровскую долину. Я помню, как в 1953 году наш истребитель МиГ-15 «достал» нарушителя. Пока «запросил ракету»[83], пока искали Н. С. Хрущева, прошло несколько минут. На большой высоте, следуя за самолетом противника, летчик с трудом удерживал свою машину, так как вражеский самолет все время набирал высоту. Потолок у него был явно выше нашего МиГ-15. Но опытный летчик все-таки удерживал свой все время «проваливающийся» вниз истребитель. И когда наш пилот получил разрешение на ракету, у него кончилось горючее. По команде с земли он катапультировался и приземлился на стыке трех границ: советской, венгерской и румынской. Наши пограничники, поднятые по тревоге и перекрывшие всю границу в этом районе, конечно же, захватили беднягу пилота. Он был в высотном костюме и гермошлеме. Поди разберись, кто это: свой или чужой. Он им по-русски: «Я — советский летчик». А они ему в ответ: «Ты американский шпион-диверсант». В общем, когда его полуживого привели на заставу, спина пилота была в лиловых кровоподтеках от прикладов. Извинились, конечно, прощения просили. Уладилось все.
Мой сослуживец, участник и очевидец одной нашей акции в те годы, рассказывал. В конце 1951 года получили данные о выброске американской агентуры из числа оуновцев в районе горы Говерла, что между Восточными и Лесистыми Карпатами в Закарпатье. Высота горы чуть более двух тысяч метров. Самая высокая гора в Карпатах. Местность, поросшая густым лесом, малонаселенная, пустынная. Прислали из Москвы новую систему ПВО — спаренные зенитки, 37-мм автоматы (четыре ствола) с радиолокационной системой наведения и мощным прожектором, все работает в одном ключе. Притащили эту мощную установку под видом геологической экспедиции на одну из плоских площадок Говерлы. Все смонтировали. Стали ждать. Послышался гул приглушенных двигателей. Все ближе, ближе. Командовавший операцией молодой генерал хорошо поставленным голосом почти торжественно произнес: «Осветить и сбить». Прожектор выбросил луч в одну сторону, противоположную приближавшемуся самолету, зенитные автоматы заработали в стороне от луча. Самолета в луче не оказалось. Он пролетел стороной, тень его, мелькнувшую в небе, видели все присутствовавшие на операции. Самолет явно заметил опасность, взревел двигателями и растворился в ночном небе. Новейшая техника здорово подвела. Судьба этого армейского генерала-артиллериста ПВО осталась неизвестной. Он из Москвы был, не с Украины. Начальство поговаривало — уволили, что по тем временам считалось большим счастьем, могли и арестовать, срок дать.
В те же годы группа оуновцев в составе трех человек благополучно перешла границу между ФРГ и Чехословакией, дважды выходила в эфир в районе советской границы, что не было зафиксировано ни чехословацкой, ни советской радиослужбами. Уже на территории Украины, в районе Ужгорода, они еще два раза связывались со своим центром по рации, и одна из этих передач была зафиксирована нашей спецрадиослужбой в районе Свердловска, которая установила: вражеский передатчик работает где-то в районе Западной Украины. Вот такой широкий диапазон. Находясь на территории Чехословакии, группа была обнаружена местными жителями, когда нарушители спали в стоге сена. Сообщили в органы госбезопасности. Двое из них, оставив одного в стоге сена, отошли к реке в поисках лодки, когда сзади раздались выстрелы. Чехословацкие пограничники окружили стог сена и предложили сдаться. То ли оставшийся оуновец хотел предупредить об опасности своих товарищей, то ли у него сдали нервы, но он выстрелил из пистолета в сторону пограничников, которые ответили огнем, и оуновец был убит. Сводка об этом событии позже была направлена чехами в Киев. Из материалов следовало, что убитый оуновец мог быть и один, а если верить местному населению, их было трое. Вся экипировка убитого была итальянского происхождения — личные вещи, нательное белье, обувь, часы, компас, карты, предметы личного обихода, вещмешок, продукты питания, сигареты, спички и т. д., даже пистолет был системы «Беретта». Чехи провели поиск с собаками, устроили тщательную проверку местности — никаких следов. Позже, уже будучи задержанными на территории Закарпатья, они дали в Киеве очень любопытные показания. Советско-чехословацкую границу они перешли через несколько часов после того, как услыхали выстрелы и поняли, что их обнаружили. Вплавь преодолели реку. Одежду держали в руке. Прошли несколько километров и оказались у границы. Вот она, граница, перед ними. По идее граница должна была быть уже перекрытой, хотя бы с чехословацкой стороны. Но все было тихо и спокойно. Давно не обрабатывавшаяся с обеих сторон КСП позволяла, не оставляя следов преодолеть ее. Посередине КСП лежала старая и ржавая спираль Бруно[84], которую они без труда перешагнули и оказались на советской стороне, в Закарпатье. Оба арестованных оуновца добровольно и охотно дали развернутые показания. Назвали полученные ими в Мюнхене от ЗП УГВР конспиративные связи в Украине, рассказали, как их готовили английские специалисты-разведчики…
В начале 50-х в Костопольском районе Ровенской области практически полностью сгорело село, что-то около 100–110 дворов. Сухо было, подхватило с края подветренного, и пошел гулять огонь. На пожарище позже обнаружили около трехсот стволов длинноствольного, в подавляющем большинстве, и короткоствольного оружия, три ручных пулемета. Вот тебе и мирное население!..
Историю сгоревшего села мне рассказывал тогда начальник следственного отделения УКГБ Ровенской области майор Лезин на совещании, где чекисты обсуждали варианты и планы по уничтожению оуновской бандгруппы районного провидныка Моряка, действовавшего на территории Костопольского района.
Судьбе было угодно распорядиться так, что именно с этим симпатичным, рано поседевшим майором мне пришлось вместе учиться в разведшколе в Москве, работать в Германии и вообще прожить бок о бок долгие годы, вплоть до смерти Олега в 1999 году в госпитале КГБ на Пехотной…
Выпускные экзамены в музыкальном училище им. Гнесиных, которое заканчивал 18-летний Олег по классу виолончели, совпали с началом Великой Отечественной. Тонкие и сильные пальцы, прижимавшие к грифу струны и державшие смычок, крепко сжимали теперь черенок тяжелой лопаты на строительстве оборонительных рубежей под Москвой. Олег копал противотанковые рвы, преграждая дорогу к столице стальной немецкой технике. Навсегда ушли в прошлое виолончель и вся его московская музыкальная жизнь.
В октябре 1941 года красноармеец Лезин в ботинках не по размеру и в неумело навернутых обмотках вместе с восемью сотнями мальчишек-добровольцев, в основном из Замоскворечья, ушел по шоссе Энтузиастов. Потом их погрузили в эшелон, выдали новенькие автоматы ППД и лыжи без креплений. К утру из теплушек сняли несколько убитых и раненых парней от неумелого обращения с пока неизвестным им оружием. Их никто не учил, как пользоваться автоматом.
Затем марш-бросок в несколько десятков километров и команда атаковать деревню, где засели немцы. Маскхалатов не было. Серые шинели четко выделялись на снегу. Били немецкие снайперы и минометы. Мальчишки упорно ползли вперед. Кричали умирающие и раненые. Они почти все остались лежать на поле перед этой русской деревушкой, то ли Чернушкой, то ли Чернявкой, так и не взяв ее. Оставшиеся в живых, те, кто еще мог двигаться, помогали друг другу, пытаясь выйти из-под обстрела и отползти к опушке леса. Олегу запомнился случай. Накануне ночью в теплушке замоскворецкий хулиганистый парнишка избил за нежелание отдать проигрыш в карты интеллигентного вида москвича. А здесь, на поле боя, кинулся на помощь к нему, истекавшему кровью. Приподнялся и сделал рывок в сторону кричавшего от боли и тут же получил в лоб пулю немецкого снайпера. Оба так и остались лежать рядом в глубоком снегу. После этого запомнившегося на всю жизнь боя их, выживших, осталось в строю сорок два бойца. Потом было много боев, но этот был самый страшный.
Зимой 1942 года Олега вызвали в особый отдел дивизии. С этого времени еще долгих 40 лет чекист Олег Сергеевич Лезин обеспечивал государственную безопасность социалистического Отечества. После окончания войны его, боевого офицера-чекиста, получившего за войну два тяжелых ранения и контузию, не отпустили домой в Москву, а направили в Ровенскую область для борьбы с вооруженным оуновским подпольем. И снова бои. На этот раз не на занятой немцами территории. Но для него, коммуниста-чекиста, эти люди, взявшие в руки оружие против советской власти, были такими же врагами, как и немцы. Так говорила ему партия. Не случайно оуновцев в те годы в официальных документах называли немецко-украинскими националистами. И все же в понимании Лезина это было не совсем так. Бандеровцы были гражданами Советской Украины. Рядовые оуновцы — вчерашние сельские хлопцы, большая часть их скрывалась от военного призыва в Красную Армию, от трудовой повинности. Подавляющая часть их малограмотные вчерашние крестьяне, ушедшие в повстанцы под воздействием оуновской пропаганды.
В Ровно Олег начал работу следователем. Он был из немногих следователей того времени, который ни разу не ударил арестованного и не применил недозволенных мер при проведении следствия, чем впоследствии обоснованно гордился. Как говорил Олег: «Я был одним из немногих в управлении сотрудником, на кого от бывших арестованных и осужденных не поступило ни одной жалобы. Я старался видеть в своих подследственных прежде всего обычных людей».
Почетный сотрудник КГБ, кавалер боевых орденов полковник Лезин достойно представлял органы госбезопасности и за пределами своей Родины. Его хорошо помнят немецкие чекисты в бывшей ГДР, товарищи по работе в советских посольствах в Болгарии и Швейцарии.
Под стать ему, но совершенно противоположной по характеру и внешнему виду была его жена Люба. Любовь Алексеевна ушла на фронт в свои неполные восемнадцать. Оренбургская черноглазая красавица вынесла с поля боя десятки раненых, спасла жизнь командиру дивизии. Санинструктор роты — это окопы на передовой, кровь, гной, грязь, страдания. Награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны. Однако самой дорогой наградой была для нее медаль «За отвагу», которую лихая казачка получила в начале 1945 года, когда остановила и подняла в атаку дрогнувших и обратившихся в бегство бойцов.
Они познакомились в госпитале в 1944 году. Люба была тяжело ранена в живот. Все-таки сумела родить Олегу двух мальчишек. Она ушла из жизни раньше Олега.
Я запомнил на всю жизнь, как осенью 1953 года с водителем на ГАЗ-69 мы заблудились, ориентируясь по секретным картам 1939 года, и попали на вновь отстроенный хутор. Вижу, дивчина стоит, симпатичная такая, а у ног ее прижался к юбке хлопчик маленький. Игриво смотрит дивчина на меня, молодого хлопца, то ли военного, то ли гражданского, не поймешь, кто. А у меня в машине всегда было два головных убора — гражданская, в то время модная серая кепка из букле и чекистская фуражка с голубым верхом. Каждый раз в зависимости от ситуации я надевал нужное. В этот раз на мне была чекистско-войсковая. Изменилась дивчина в лице, но продолжала улыбаться мне. Вынес я ногу в начищенном до блеска офицерском хромовом сапоге из машины, спрыгнул на землю, вытащил из кармана бриджей горстку конфет и говорю: «Ходи, хлопчику, до менэ, я тобi цукерок дам.»[85] А мальчонка так насупленно посмотрел на меня, потянул дивчину за юбку, сказал ей что-то и побежал к дому.
Подошел я к дивчине, а та смеется.
— Ти з кого смiэшся, дiвчино, з мене?[86]
— Та що Ви, пане офiцере, я не з вас смiюся, я зi своэi дитини. Смiхота та й годi!
— Що вiн сказав тобi? — спрашиваю.
— Та вiн сказав менi, що совiти хотiли злопати його!
— А скiльки ж йому рокiв?
— Та йому чотири роки. Що з його вiзьмеш?
— А де ж його батько?
— А хто його знаэ. Може вже мертвий, вбитий. А можэ i живий.
— Ну что вы, пан офицер, я не над вами, я над своим дитем смеюсь. Смехота да и только!
— Что же дитя сказало тебе?
— Да ребенок сказал, что советы хотели его арестовать.
— А сколько же ему лет?
— Да ему только четыре года. Что с него взять.
— А где же его отец?
— А кто его знает, может уже мертвый, убитый, а может и живой.
На том и закончился разговор.
Потом я часто вспоминал эту встречу с симпатичной чернявой молодой хуторянкой и ее сыном, не захотевшим, отказавшимся взять сладкие конфетки из рук советского офицера. И это в четыре-то года! Что же из него вырастет? Ну а девчонка была, конечно же, не прочь пококетничать с военным. Молодая, а мужиков вокруг мало. Кто пропал в войну, кто убит в лесу, кто сослан в Сибирь, кто ушел на заработки в район или город. Понимать надо!
«Ничего, — думал я, — пойдет дитя в школу советскую, она его исправит, и в комсомол вступит, и в армию пойдет служить. Все поправится. Все равно будет любить свою родную Советскую Украину. Ну а то, что отец в банде погиб, или сослан куда подальше, так это плохое и страшное забудется. Жизнь, нормальная жизнь, в справедливость которой я свято верил, возьмет свое». И все-таки неприятный осадок всегда оставался на душе, когда я вспоминал эту случайную встречу на неизвестном и не отмеченном на секретной карте хуторе.
«А что касается такого большого количества оружия, которое будучи запрятанного под соломенную стрiху[87] может быть уже ушедшими из жизни людьми, о наличии которого селяне-хозяева могли и не знать и которое было обнаружено только при пожаре, так это всем должно быть ясно — здесь дважды проходил фронт, и после войны была война. Это не так страшно, сознание людей со временем меняется, вряд ли это оружие будет вновь стрелять в человека…» Так думал я тогда.
* * *
Через несколько дней после приезда из знаменательной командировки Вадима Кулешова новый министр Т. А. Строкач собрал в актовом зале весь оперативный состав. Все уже знают — арестован Берия. Он —» враг народа», готовил уничтожение всего советского правительства путем взрыва. Министр более детально информирует собравшихся о преступной деятельности «шайки Берии», его «подручных» — Мешике, Мильштейне, Кобулове, Меркулове, Гоглидзе и других. В сейфе Берии обнаружено личное письмо к врагу социализма и коммунизма И. Тито, в котором предлагалось установить деловые контакты, давалась положительная оценка Берией реформ клики Тито — Ранковича в Югославии. Для всех присутствующих предельно ясно, что Тито — это в прошлом агент гестапо под кличкой «Вальтер». Об этом не только было сказано в книге бывшего посла СССР в Югославии Мальцева «Югославская трагедия», об этом говорилось и в официальных документах МГБ СССР. Через несколько дней коммунистам министерства секретарь парткома зачитывает письмо ЦК КПСС о преступной шайке Берии. В тишину актового зала МВД Украины падали тяжелые слова пока не совсем понятной чекистам информации: «…в годы гражданской войны и иностранной интервенции Кавказа служил на агентурно-оперативных должностях в органах мусаватистской контрразведки… где и был завербован англичанами. …используя свое положение в партии и войдя в доверие к товарищу Сталину, уничтожил всех тех, кто знал о его преступном прошлом… это была змея, пригревшаяся на груди у товарища Сталина…
Берия — агент империализма и британской разведки, пытался установить связь с кликой Тито — Ранковича… а после смерти товарища Сталина Берия окончательно обнаглел и распоясался. …пытался захватить власть… использовав свой авторитет в МВД… с целью захвата власти, планировал взрыв Большого театра во время расширенного Пленума ЦК КПСС…
…Берия не только преступно нарушал соцзаконность, но полностью разложился, окружив себя подхалимами и подобными ему преступниками.
…Следствие установило, что Берия за период своей власти имел интимную связь с огромным количеством женщин, которых приводили к нему его преступные помощники и принуждали их вступать с Берией в интимную связь, используя зачастую спецпрепараты, изготовленные в лабораториях МВД… Большинство из этих женщин Берия насиловал… следствие располагает полным списком этих женщин… У преступника Берии был изъят пистолет-портсигар, из которого он убивал неугодных ему людей…
…Берия уничтожил таких преданных партии чекистов и в прошлом верных соратников Дзержинского, как член коллегии ОГПУ тов. Кедров и другие… Преступную волю Берии охотно исполняли его друзья и помощники, пробравшиеся с помощью Берии в органы госбезопасности, Кобулов, Меркулов, Гоглидзе, Мешик… Преступный сообщник Берии Мильштейн лично пытал в подвалах НКВД верного сына партии тов. Эйхе, прикасаясь электропроводом к обнаженному спинному мозгу… Благодаря бдительности и преданности нашей партии коммунистов преступная деятельность Берии была вовремя разоблачена…»
В письме также указывалось, что в настоящее время по делу Берии и его сообщников ведется тщательное расследование и преступники понесут заслуженное наказание. Письмо призывало всех чекистов страны повысить бдительность и беспощадно бороться на местах с возможными проявлениями бериевщины, строго соблюдать социалистическую законность. В письме указывались те источники и те исходные данные, с чего началось дело Берии. Первым поднявшим тревогу и сообщившим о неблагополучном положении в органах госбезопасности на местах в связи с совершенно непонятными и противоречившими линии партии указаниями Берии был широко известный в Украине и во всей стране, бывший во время войны начальником Украинского штаба партизанского движения, а затем длительное время возглавлявший МВД Украины генерал-лейтенант Т. А. Строкач. Хорошо зная Н. С. Хрущева, имея с ним личные дружеские отношения, Тимофей Амвросиевич Строкач составил на имя Хрущева служебную записку и выехал неофициально на доклад к Никите Сергеевичу в Москву. Обменявшись информацией в Москве, Хрущев предложил Строкачу незамедлительно лечь в Кремлевскую больницу якобы с обследованием, чтобы вывести его тем самым из-под возможного ответного удара Берии. Короче говоря, спрятал Строкача подальше от Берии. Вторым лицом в этой истории был начальник церковного отдела госбезопасности Украины полковник Виктор Павлович Сухонин, написавший детальную докладную записку в ЦК Компартии Украины о непонятной и опасной политике Москвы (понимай — самого Берии) в отношении униатской церкви на территории западных областей Украины. В этой записке указывалось, что вследствие этой политики идет восстановление униатской церкви, выход ее из подполья, а стало быть и оживление оуновского движения.
Записка Сухонина по счастливой случайности была направлена далее лично Н.С. Хрущеву по неофициальному каналу. Чекисты посмеивались: «Ну еще пару недель, и быть бы Виктору Павловичу Сухонину трупом от пули Берии».
В университете я хорошо учился и с интересом и вниманием изучал такие дисциплины, как судебная медицина и судебная психиатрия. Я никак не мог представить себе, что Мильштейн прикасался электропроводом к обнаженному спинному мозгу товарища Эйхе. «Что-то тут не так, может, я что-то не так понял?» Нет, все было написано именно так: «…к обнаженному спинному мозгу…» «Но ведь с обнаженным спинным мозгом человек должен умереть, — думал я. — Наверное, какая-то описка, или ошибка в изложении этого случая». Поделиться же с товарищами побоялся: «Ты что, сомневаешься в том, что тебе сказало руководство? Берию защищаешь? Я побоялся высказать вслух свои сомнения.
Надо отдать должное генералу Строкачу. Он, став министром, сразу же издал несколько приказов, не просто призывавших к спокойствию, но давших четкую линию работы и действий чекистам Украины…
Спустя несколько месяцев, сидя у костра в лесу во время одной из чекистско-войсковых операций по ликвидации окружного провидныка Шувара и надрайонного провидныка СБ Игоря, я слушал двух очевидцев ареста Мешика и Мильштейна. Рассказывали начальники штабов двух мотомехдивизионов по борьбе с вооруженным оуновским подпольем, два подполковника, оба москвичи, проходившие службу в Западной Украине. Именно им, этим офицерам было поручено и доверено арестовать министра Мешика и его заместителя Мильштейна. Сотрудников аппарата МВД Украины к этой акции не привлекали. Боялись доверить. Мало ли что могло случиться. Рассказывали, что Мешик, вызванный в ЦК Компартии Украины, спокойно прослушал решение Президиума ЦК КПСС препроводить его в сопровождении приставленных к нему войсковых офицеров в Москву.
Он только спросил у объявившего ему это решение секретаря ЦК: «Гражданину Берия об этом известно?» Так и сказал: «гражданину», как бы показывая, что его арестовывают. На что тот ответил: «Гражданину Берия об этом известно». И спрашивавший и отвечавший поняли, о чем идет речь. Мешик еще спросил, можно ли ему заехать домой, взять с собой кое-что из вещей и переодеться, как он сказал, «в более представительный костюм. Препроводят-то наверное к самому высокому начальству». Отвечал офицер: «Мы имеем только одно указание — доставить вас в Москву. Все остальное — исключено». Мешик ничего не ответил и вплоть до самой Москвы и доставки его в тюрьму вопросов не задавал. От предлагавшейся ему несколько раз пищи отказывался отрицательным движением головы. С момента ареста до прилета самолета в Москву и взятия арестованного под стражу в тюрьме прошло восемь часов, и ни разу ни с одним вопросом Мешик не обратился к сопровождавшим его офицерам. Даже при оформлении соответствующего акта передачи арестованного на вопрос принимавшего его офицера в тюрьме, есть ли у него жалобы на обращение с ним по пути следования в тюрьму, он ничего не ответил и даже не сделал отрицательного движения.
Мильштейн же вел себя иначе. Он без удивления воспринял факт ареста в его рабочем кабинете. Был он в военной форме — генерал-лейтенант. Выражение лица было спокойным. Он как будто ждал ареста. Как только сели в самолет, он тут же попросил поесть. В самолете, кроме самого Мильштейна, находились три офицера и несколько солдат, расположившихся в хвостовой части за занавеской, которые после взлета стали подкрепляться гречневой кашей со свиной тушенкой. По всему самолету аппетитный запах. Офицерам, этапировавшим Мильштейна и не евшим с утра, есть не хотелось, а Мильштейн то ли от нервного стресса, то ли еще от чего-то вдруг неожиданно попросил покормить его. Пришлось обращаться к солдатам. Те положили Мильштейну почти полный солдатский котелок, который генерал с удивительным спокойствием и с жадностью голодного человека полностью съел и завалился спать, устроившись на идущей вдоль борта длинной металлической скамье. Самолет был военно-транспортным…
Из всех арестованных по делу Берии генералов госбезопасности не был расстрелян только один — Мильштейн, его казнили два года спустя — в январе 1955 года.
Спустя месяц, в самом конце июля — начале августа 1953 года в Киев прибыл генерал армии Иван Александрович Серов[88].
Через день в здании чекистского клуба, что был на ул. Розы Люксембург и где ныне Театр юного зрителя, проходило республиканское совещание руководства МВД Украины, включая всех начальников областных управлений, руководителей райотделов западноукраинских областей, в общем, всех тех из числа руководства и оперработников самостоятельных подразделений, имевших отношение к разработке вооруженного оуновского подполья. Зал на 600 мест был переполнен, народ сидел на приставных стульях. Были приняты тщательные меры по обеспечению безопасности этого мероприятия. Мне посчастливилось быть участником этого события, хотя я не имел в тот период никакого отношения к этой линии работы. В числе нескольких молодых офицеров я, обеспечивая безопасность совещания, был помещен на железных стропилах, находившихся над сценой. Нам был хорошо виден зал, а главное — вся сцена, над которой мы сидели, пристроившись на положенных на металлические конструкции досках, прикрученных проволокой к стальным решеткам, — это чтобы не упасть вместе с доской на сцену и не зашибить руководство. Все было отлично видно и слышно.
Первым выступил генерал И. А. Серов. Он дал общую картину обстановки в стране в связи с разоблачением «преступной шайки Берии», призвал к бдительности, соблюдению соцзаконности и к быстрейшей ликвидации «остатков бандоуновского подполья» в Западной Украине. Он говорил о той враждебной политике линии партии, которую проводили ставленники Берии — Мешик и Мильштейн. Выступления руководства и сотрудников, занимавшихся ликвидацией оуновского подполья, были малоинтересны. Почти все говорили о трудностях в работе в связи с последними указаниями Берии и Мешика, в которых рекомендовалось не ликвидировать вооруженных членов ОУН, а брать их живыми, что, естественно, сразу же отразилось на результатах. И все заверяли руководство, что приложат максимум усилий для ликвидации вооруженных групп оуновцев в ближайшее время.
Затем слово взял сменивший на посту секретаря ЦК Компартии Украины Мельникова, уехавшего послом в Румынию, Алексей Илларионович Кириченко. Высоченный, атлетического сложения, с красивым, несколько грубоватым баритоном, он долго и напористо говорил о враждебной деятельности зарубежных центров украинских националистов в Мюнхене. Особо подчеркнул опасный курс, проводимый лидером ЗЧ ОУН Степаном Бандерой. Как запомнилось мне, А. И. Кириченко так и сказал:
— Еще живет и действует на Западе опасный враг советской власти Бандера. Поверьте мне, товарищи чекисты, не станет Бандеры, и конец всему оуновскому движению. Ну сколько их там еще в западных областях осталось? Пара десятков вооруженных бандитов, терроризирующих местное население. А вы до сих пор не можете их уничтожить.
Все больше распаляясь, Алексей Илларионович снял с себя пиджак (в зале было жарко) и вышел из-за трибуны. Он стоял на краю сцены, высокий и внушительный, в шелковой, ручной вышивки сорочке, и, уперев в бока руки, бросал гневно в зал:
— Какие же вы чекисты! Вот эту бабу, ну как ее там, ну бабу эту, члена их центрального провода… — из зала сразу же одним выдохом донесло: «Рута», Вот-вот, Руту эту никак поймать не можете. Поймать не можете — ликвидируйте! Ведь это не просто женщина, а наш политический враг, опасный преступник, бандеровка. Это она и в прошлом, и в этом году дважды уходила от львовских чекистов, отбивалась гранатами. Стыд и позор! И все это почти в центре города Львова. Можно себе представить реакцию населения. В общем, товарищи чекисты, кончайте с этим безобразием!..
В заключение выступил Т. А. Строкач, призвавший чекистов Украины сделать самые серьезные выводы из указаний министра и секретаря ЦК Компартии Украины. Строкач предложил укрепить службы, ведущие разработку оуновского подполья, свежими кадрами, кое-где поменять руководство по этой линии работы и призвал молодых офицеров-чекистов, имеющих опыт агнтурно-оперативной работы, оказать содействие местным территориальным органам в западных областях Украины и лично участвовать в операциях по ликвидации бандформирований. В конце выступления Строкач дословно сказал:
— Я жду от вас, товарищи, особенно от нашей молодежи, рапортов с просьбой направить в Западную Украину.
Я на следующий же день написал рапорт и подал его по инстанции. Подобных рапортов было много, они поступали с визами руководства из всех подразделений центрального аппарата МВД Украины. Дал свое «добро» мне и Виктор Павлович Сухонин. Наверное, тогда он не догадывался, что полюбившийся ему и подающий надежды молодой оперработник написал свой последний рапорт в качестве сотрудника церковного отдела. А Виктор Павлович рассчитывал на меня и планировал вырастить профессионала по церковной линии. К тому же ни замечаний, особых разумеется, ни сбоев в работе или нерадивости у меня не было — я исполнял очень прилежно свои обязанности, проявлял достаточно для своего возраста и положения инициативу, порадовал руководство такой вербовкой, как агент «Ключ», получал высокие оценки в работе с агентурой и от самой агентуры. Только спустя многие годы я понял, какую роль в становлении меня как профессионала, настоящего оперрабтника госбезопасности сыграл церковный отдел и такие начальники как Виктор Павлович Сухонин, Кузьма Емельянович Салтыков, Михаил Яковлевич Купцов, Виктор Федорович Поляков, Владимир Павлович Калашников, Иван Степанович Буряк. Но тогда, в те годы мне казалось постыдным заниматься разработкой всей этой церковной, сектантской и иудейской «братии», «монашествующим и кликушествующим элементом», что мне, молодому, физически сильному, отличному спортсмену, с университетской юридической подготовкой, не место в церковном отделе. Мое дело — борьба с настоящими врагами советской власти, с теми, кто с оружием в руках все еще выступает против моей власти, против интересов трудящегося народа, кто является агентами самой враждебной Советскому Союзу разведки США — ЦРУ и их союзников. «Только туда, только на линию огня, — повторял я слова одного из любимых героев — Павки Корчагина — чтобы не жег позор мелкого и подленького существования и чтобы, умирая, мог сказать — все лучшее, всего себя отдал самому прекрасному на земле — борьбе за освобождение человечества». Я был уверен, что вооруженное националистическое подполье в Западной Украине, выполняя волю своих хозяев за океаном, стремится к восстановлению власти помещиков и капиталистов и нового обращения в рабство капитала родной и милой мне Украины.
Из нескольких десятков рапортов были удовлетворены только двенадцать. Чем руководствовался Строкач в этом решении — неизвестно, но я попал в список «счастливчиков» и стал, к огромной своей радости, готовиться к предстоящей командировке, до которой оставалось несколько дней…
Всем отъезжающим выдали новую полевую форму, яловые сапоги. В одном из отделов Управления 2-Н с командированными состоялось двухдневное совещание, а практически это была оперативная подготовка к выезду, на которой участников задания ввели в общую оперативную обстановку тех регионов, где дислоцировались бандформирования. За каждым из командируемых закреплялись определенные районы и конкретная вооруженная оуновская группа. Мне было поручено принять участие в составе специально созданной на территории Дрогобычской области оперативной группы из сорока двух человек.
Наша группа должна была выявить и ликвидировать оуновскую группу из четырех человек во главе с надрайонным провидныком СБ Игорем. В эту группу входили еще Грицько, Стефко, Роман. Это оуновское формирование являло собой остатки разгромленного в 1950 году отряда ОУН, возглавлявшегося в 1947–1950 годах окружным провидныком Шуваром. В 1950 году отряд Шувара попал в засаду и был почти весь уничтожен. Тогда погибло несколько десятков оуновцев. Раненые оуновцы были госпитализированы, вылечены, допрошены, осуждены и направлены в спецлагеря Сибири. Самому Шувару вместе с несколькими боевиками удалось скрыться и в течение 1950–1953 годов точное местонахождение группы было неизвестно. В момент боя с частями МГБ группа Игоря по ранее полученному заданию Шувара была в разведывательном рейде по линии Ходоров — Жидачев — Николаев — Медыничи, тогда Дрогобычской области. Эти районы и составляли часть надрайона Игоря. Рейд имел целью создать новые линии связи, найти новых информаторов и проверить надежность старых бункеров. Счастливая случайность помогла тогда Игорю избежать смерти. Пятеро его боевиков погибли в том бою. Их осталось четверо вместе с Игорем, но они имели свои базы, надежные связи на своих теренах и не собирались слагать оружие. Об Игоре и его людях органам госбезопасности ничего не было известно вплоть до лета 1951 года, когда он начал вновь активно проявлять себя. По последним агентурным данным Шувар особой активности не проявлял, но дал клятву отомстить за погибших хлопцев. Было также известно, что он задействовал старые и надежные, пока неизвестные органам госбезопасности каналы связи, желая поскорее восстановить связи с действующим подпольем, в том числе с группой Игоря. Мы знали, что он ищет связи и с членом центрального провода ОУН, окружным провидныком СБ Уляном, который в 1952 году исчез из поля зрения органов ГБ, и известно было только, что он укрывается на территории Ровенской области, в той части Гурбенского леса, которая примыкает к железнодорожному поселку Здолбуново, что рядом с Ровно. Однако поиски его положительных результатов не принесли. Самые последние данные свидетельствовали о том, что Улян дважды посылал своих боевиков Мысливца[89] и Андрея для восстановления связи с подпольем в районы Киверец и Цумани на Волыни и Костополя и Клевани в Ровенской области.
Разработка линии связи, по которой весной 1953 года с целью ликвидации Украинского правительства во время первомайской демонстрации в Киеве шли два террориста Роман и Серый, показала, что нити ведут к Уляну, о чем он писал в одном из перехваченных нами «грипсов»[90] Богуну. Из текста следовало, что именно Улян разрешил этим двум боевикам, больными туберкулезом, идти на самопожертвование и «быть вписанными золотыми буквами в историю Украины», как он писал в «грипсе». Боевики, как указывалось в записке, в течение двух последних лет укрывались в отдельном бункере, чтобы не заразить здоровых товарищей по подполью. «Силы их таяли с каждым днем, они попросили меня разрешить им террористический акт против большевистского правительства Украины в Киеве, и я дал им разрешение на это», — писал Улян.
Всего к концу лета 1953 года в Западной Украине оставалось несколько десятков вооруженных формирований, небольших групп и одиночек. Эти группы и терроризировали население, держали в напряжении сотрудников территориальных органов ГБ, два мотомехдивизиона, отдельные части погранвойск, всю милицию и часть советской границы, проходившей по территории Западной Украины. Возобновились поиски находившегося на свободе Лемиша. Указание Строкача сконцентрировало все наше внимание именно на его поимке или ликвидации.
«Лучше живым, — говорил Тимофей Амвросиевич Строкач. — Мы тогда заставим его работать на нас. Ну а если не получится, пусть пока живым посидит в нашей тюрьме. Мы «поиграем» с западными разведками от его имени, а придет время, сможем сделать заявления официального характера от его имени с целью разоблачения враждебной деятельности оуновского подполья и их хозяев за рубежом».
Крупным успехом украинских чекистов явился арест в июле 1953 года одного из ведущих лидеров вооруженного подполья ОУН Галасы Васыля (Орлана) и его жены Савчин Марии (Марички). Захват этих врагов советской власти был осуществлен одной из агентурных спецбоевок КГБ с применением спецпрепарата «Нептун-47».
Однако нам не удалось заставить Галасу оказать помощь органам КГБ и выйти на Лемиша и других, пока действующих оуповцев. Он перехитрил нас, дав ложные показания. Забегая вперед, хочу сказать, что в последующем нам, казалось, все же удалось сломить Орлана и склонить его к сотрудничеству. Но в действительности он продолжал свою игру, дав согласие на вывод за рубеж от имени легендированного подполья ОУН свою жену Маричку вместе с нашим агентом Матросом (Оуновская кличка «Тарас»).
По прибытии в зарубежные центры ОУН, Маричка выполняя указание мужа, сообщила ЦРУ об аресте Орлана и планируемой органами КГБ игре. Только благодаря нашей зарубежной агентуре, мы были своевременно предупреждены о предательстве Галасы-Орлана. Он был вновь арестован и осужден. Освобожден по амнистии в 1960 году…
Несколько часов я внимательно изучал материалы дела Игоря и его боевиков. В деле имелась и фотография Игоря 1950 года, последняя. На фотографии 1940 года, изъятой у его сосланных в Сибирь родителей, он был еще совсем юным. 1922 года рождения, уроженец одного из сел Ходоровского района, в подполье с 1942 года, укрываясь в то время от угона молодежи в Германию, активно участвовал в местной Просвите, возглавлял молодежную группу членов ОУН своего села. Толковый и смышленый хлопец, он обратил на себя внимание подполья собранностью, дисциплиной, смелостью. Высокий и статный, веселый и контактный, он быстро стал вожаком молодежи не только в своем селе, но и в других селах района. Любили его и ребята, и девчата. А когда он со своими дружками по приговору подполья повесил в 1943 году на виду у всего села школьного учителя-инвалида за симпатии к Красной Армии и связь с советскими партизанами, люди стали остерегаться и побаиваться Игоря. Молодежь же видела в нем своего кумира. Игорь, как никто другой, мог убедить человека в правоте ОУН при помощи простых, житейских и понятных любому селянину фактов, примеров. Он так влиял на людей, что они готовы были отдать последнее для нужд подполья или же взять оружие в руки и идти вместе с ним в лес, в засаду на «энкэвэдистов», в подполье и до конца биться за любимую и самостийную Украину, свою многострадальную родину, натерпевшуюся и от поляков, и от немцев, и от чехов, и от мадьяр, и от русских. В конце 1943 года окружным руководством ОУН Игорь был направлен на двухмесячные специальные курсы военной подготовки, дислоцированные недалеко от Львова. На курсах изучал тактику партизанской войны, правила конспирации, организацию и проведение агентурной работы, топографию. В общем, это был подающий надежду будущий командир ОУН. В 1944 в УПА участвовал в нескольких войсковых акциях по разоружению немцев и захвату немецкого военного имущества. Был он и в нескольких боевых стычках с советскими партизанами. По решению окружного руководства ОУН принимал участие в одном из рейдов отряда УПА в «Закерзонье»[91] в 1947–1948 годах. К этому времени Игорь приобрел большой боевой опыт и как руководитель надрайонной службой безопасности в ОУН. Вместе со своей боевкой он должен был осень 1948 года уйти через Словакию с одной из групп УПА в Западную Германию, но не успел выйти на соединение с этой группой, так как на подходе к месту встречи попал в засаду, вступил в бой, удачно вывел группу из-под удара, ушел в леса и вернулся к окружному провидныку Шувару. Уйти за кордон ни в 1949, ни в 1950 году ему не удалось — органы ГБ перехватили известные ему и Шувару каналы связи с Западом. Ну а потом, уже в 1950 году, был известный бой Шувара с войсками МГБ, когда Игорь был в рейде, и с тех пор они не могли восстановить связь, хотя через надежных людей пытались выйти друг на друга, но вследствие высокой активности органов ГБ им это сделать пока не удалось.
Игорь неожиданно дал знать о себе летом 1952 года, совершив нападение сначала на медпункт в селе Диброва Николаевского района Дрогобычской области, где забрал все медикаменты, а затем на магазин в селе Рудковцы того же района, похитив в основном продукты — крупу, макароны, мыло. Мыло и часть продуктов Игорь раздал нескольким селянам, от которых органам ГБ и стало известно о нем. Затем он неожиданно появился у одной из своих связей в самом Ходорове — большом райцентре Дрогобычской области. Тем же летом были получены данные об исчезнувшем еще в 1951 году из села Черный Остров Жидачевского района Ивана Кашубы. Хлопцу было 20 лет. От армии имел отсрочку из-за болезни матери. В войну не учился, пропустил несколько лет, в Германию немцы не угнали по малолетству. В школе учился хорошо, в колхозе хорошо работал. Был у матери светом в окошке. Отца не было. То есть отец где-то был, но мать никогда не говорила о нем. Так и был записан в сельсовете: Иван, сын Марии Кашубы. Жили с матерью на то, что давали сердобольные соседи и родичи в селе. Горячо любил свою мать Иван, только по ее просьбе и желанию доучился в школе до 10-го класса. И вдруг исчез, пропал, испарился. Случай необычный, сразу же обратил на себя внимание обслуживавшего село оперработника. А мать — Мария Кашуба молчит, заявления в сельсовет не подает. От агентуры вскоре стало известно — в лес к хлопцам ушел Иван Кашуба и псевдо[92] у него сейчас в подполье Роман. И никто другой, а сам Игорь уговорил Ивана уйти в лес. Агентура сообщала, что Игорь обещал Роману после установления связи с другими подпольщиками-повстанцами уйти на Запад.
Позже, в октябре 1954 года, когда Игорь и Роман были ликвидированы, вышедшие ранее с повинной Грицько и Стефко поведали страшную историю, случившуюся в конце лета 1951 года на реке Днестр, в районе сел Тужановцы и Подднестряны. В той части, где проходит болотистая местность, много пойм, стариц, где берега Днестра заросли камышом и часто бывают густые туманы, в поисках старых бункеров, которые здесь в свое время понастроили оуновцы, работала разведывательно-поисковая группа (РПГ) в составе 30 человек офицеров и солдат с собаками, в том числе несколько оперработников из Ходоровского райотдела МГБ. Группа в течение недели вела поиск этих бункеров и оуновских складов-баз в районе сел Черный Остров, Рудковцы, Городище, а затем машинами была переброшена в Подднестряны, где переночевала и продолжала поиск вдоль Днестра с правой его стороны. Кроки маршрутов группы, планы работы обсуждались на совещаниях офицеров каждый раз перед ночевкой в хатах, правда хозяева не присутствовали, их удаляли при обсуждении оперативных вопросов, но каждый, кто бывал в украинских селах, знает, что разговор при желании в любой хате можно подслушать. Как случилось, что бандитам стало известно о маршруте группы и о работе на Днестре именно в этом районе, не известно. Может быть, вообще произошло совпадение и бандиты не получали никаких данных от своих информаторов. Но факт остается фактом.
Ранним утром весь отряд находился на берегу Днестра, кучно расположившись отдыхать на плащ-палатках кто сидя, кто лежа. Солдаты, уставшие после десятикилометрового перехода, курили. Офицеры отдельной группой работали с картой. Неожиданно из тумана, нависшего над серединой реки показалась рыбацкая лодка. В ней трое без головных уборов. Обычные сельские молодые мужики. Расстояние до лодки не больше 200 метров. Сидящий на веслах не гребет, только подправляет веслами медленно движущуюся по течению лодку. Вот лодка поравнялась с группой. Все внимательно смотрят на людей в лодке. Никто, да и команды-то не было, не изготовил оружие к бою. Один из офицеров, закрывая ладонью глаза от слепящего солнца, кричит сидящим в лодке: «Кто такие? Давай к берегу!» В лодке не реагируют на окрик, смотрят в сторону военных. Офицер повторяет свой приказ. Лодка, двигаясь по кромке тумана, начинает разворачиваться, как бы делая полукруг, но в сторону противоположного берега, и начинает входить в еще не рассеянный утренним солнцем туман. И в это же мгновенье сидевший на корме человек резко вскидывает, наверное, лежавший у него на коленях автомат и открывает огонь в сторону военных. ППШ работает беспрерывно, пока не опустошает весь круглый диск — семьдесят два патрона. И эти несколько секунд, пока пули шлепались в воду, секли песок, чавкая, уходили в глинистый берег, никто из лежавших не поднялся с земли и не ответил огнем. Лодка быстро уходила в туман, туда, где был еще невидимый заросший камышом противоположный берег. Первым пришел в себя бывалый сержант, который вытянув перед собой автомат, ответил в сторону уже смутно видневшейся в тумане кормы уплывающей лодки двумя длинными очередями. Это рожок — тридцать два выстрела. Бросился к «дектярю»[93], хозяин которого лежит без движения. Еще пару секунд, пулемет направлен в сторону смутно мелькавшей в клочьях тумана и уже не стреляющей лодки, и начинает гулко выбивать характерную для «дегтяря» дробь. Еще секунда-две — к грохоту ручного пулемета примешивается трескотня автоматов. «Правее сто по течению!» — кричит кто-то из офицеров-войсковиков. Все дружно переводят огонь правее по течению. Через минуту следует команда: «Прекратить огонь!» Безумно лают собаки. Проводники их быстро успокаивают. Погибших двое. Парни — из России, через несколько месяцев их ждала демобилизация. Нескольких человек бандитские пули только зацепили. Один из раненных в голову и щеку теряет сознание, наверное, от потери крови. Его, как и убитых, несут на самодельных носилках, сделанных тут же на берегу из тонких стволов нарубленного ивняка. Рации в группе нет. Офицер и двое солдат бегом направляются в ближайшее село, чтобы по телефону сообщить в райотдел Ходорова о случившемся, остальные, неся убитых и раненых, спешат в сторону небольшого села Межиречье, где их заберут машинами из Жидачевского или Ходоровского райотделов МГБ. Все село видело и убитых, и раненых…
* * *
Иван Кашуба с детских лет был связан с хлопцами из леса, активно посещал нелегально работавшую просвиту, а когда ему исполнилось шестнадцать, твердо решил уйти к повстанцам и стать бойцом УПА. Шел 1946 год. Западная Украина пылала в огне боев оуновцев с частями советских войск, с пограничникми, подразделениями госбезопасности. Гибли сотни людей с обеих сторон. Тысячи так называемых бандпособников и семей, находившихся в подполье ОУН или УПА, ссылались в Сибирь. Подпольем ОУН проводились масштабные диверсионно-террористические акции. Поджигались сельсоветы, срывались советские флаги, взрывались мосты, портились линии электропередачи и телефонной связи, расстреливались, а чаще умерщвлялись короткой удавкой — мотузком[94] рослыми хлопцами из службы безопасности ОУН сельские активисты, поддерживавшие советскую власть, предполагаемая или выявленная агентура МГБ, все те, кто отрицательно относился к ОУН или отказывался снабжать подполье продуктами, одеждой и обувью. Подавляющее большинство населения помогало оуновцам. И не только из чувства страха, боясь за свою жизнь или жизнь своих близких. На территории бывшей Польши, перешедшей после 1945 года к советской Украине, местное украинское население, которое «за Польщi»[95], жестоко угнеталось поляками. Запрещался украинский язык, преследовались и арестовывались руководители Просвит и ее активные члены. Существовала жесткая квота для украинцев при поступлении в гимназии, специальные и высшие учебные заведения, где преподавание велось исключительно на польском языке. При призыве украинцев в армию они, за редчайшим исключением, не направлялись в школы подхорунжих, хорунжих, или подпоручиков, не говоря уже об офицерских школах.
Украинцев призывали только во вспомогательные войска польской армии — саперные, строительные или рядовыми в пехоту в глухие польские гарнизоны. Пренебрежение ко всему украинскому, к украинцам было настолько очевидно, что вызывало открытую враждебную реакцию и со стороны украинского населения. Подобная обстановка создавала самую благоприятную почву для пропагандистской деятельности ОУН на этих территориях. Выявленные польской дефензивой[96] участники ОУН немедленно арестовывались и бросались в тюрьмы. В ответ на притеснения польского правительства ОУН не раз предпринимала террористические акты против польских жандармов, прокуроров и судей. В ответ — еще большая жестокость и репрессии. Украинское население видело в ОУН своих единственных защитников и активно помогало этим, в их глазах, героям-революционерам. Вследствие неправильной политики Коминтерна и его руководства в Москве, действовавшая в этих регионах компартия Польши была обвинена в сотрудничестве с «Двуйкой»[97] и распущена. Начиная с 1935–1936 годов компартия практически не работала, а к 1938 году прекратила свое существование. Отсутствие коммунистической пропаганды и агитации, изоляция таким образом западноукраинского населения от трудящихся в Советской Украине, Советском Союзе также способствовало росту влияния и авторитета ОУН…
Маленький Иван Кашуба не знал, конечно же, всей этой истории в деталях. Но, посещая просвиту, он знакомился с историей своего народа, Украины. Он знал ее героическое прошлое, был знаком с такими украинскими героями, как Наливайко — руководитель восстания на Украине в XVI веке, и поздними руководителями сельской голытьбы и казаков Довбушем, Гонтой, Кармелюком, Железняком. Знал хорошо историю народных восстаний, гайдамаков, выступивших в XVIII веке против угнетателей — польских панов. Знал он и славных гетманов Украины — Сагайдачного, Богдана Хмельницкого. Знал на память Иван много славных и героических украинских песен. Мог часами петь их тихо-тихо, как бы про себя. И уже в подполье, коротая бесконечные ночи в бункере, пел он хлопцам такие песни, горячо любимые всеми молодыми и старыми:
«Боже великий, единий, Нам Украiну храни, Всi своi ласки, щедроти Ти на люд наш зверни»… Боже, великий, единый, Нам Украину храни, Всю свою щедрость и ласку Ты на народ обрати.Голос у Ивана был сильный, красивый. У себя в сельском хоре и в просвите считался лучшим певцом-солистом. «Ему бы в театре на сцене петь, ему в консерваторию надо», — говорили учителя. Да видно не судьба была Ивану петь в театре…
Тогда, в 1946 году, когда он подростком бегал в лес к повстанцам и носил им хлеб и сало, что мать собирала по добрым людям, он хотел быть с ними, там, в лесу, и с оружием бороться против тех, кто арестовывал его дядьку Степана за помощь хлопцам из леса, сослал в Сибирь любимого его учителя — руководителя просвиты. Он ненавидел русских и русскую речь. Командиры боевых отрядов, которых он видел в лесу, говорили ему: «Ты еще молод для оружия. Помогай нам тем, чем можешь, веди для нас разведку». Позже, в 1947–1948 годах, уже другие командиры говорили ему: «Ты хорошо учишься в школе, учись еще лучше. Считай, что ты выполняешь задание подполья. Ты с нами и для нас. Подполью нужны образованные и грамотные бойцы. Учи хорошо русский язык, язык врагов наших, чтобы войти к ним в доверие». Пропали эти командиры, не стало их. Часть из них, как ему стало позже известно, ушла на Запад, часть была рассеяна, ликвидирована. В 1946 году молодым хлопчиком он в лесу познакомился с Игорем и привязался к нему всей душой. Работал на Игоря и его боевиков, других командиров ОУН, добывая по их заданию информацию о появлении в селе военных, представителей райцентра, оперработников госбезопасности, или милиции, о поведении «ястребков», группа которых, вооруженная винтовками, была создана в 1949 году и несла охрану сельсовета. Полученную информацию он передавал надежному человеку из своего же села, который имел постоянный контакт с подпольем и мог связаться с оуновцами в любое время.
Иван и Игорь систематически встречались в 1947 и в 1948 годах, а, в 1949-м всего лишь несколько раз. Потом был большой перерыв, и вдруг неожиданно условный стук в окно в 1950 году. И вот он Игорь стоит перед ним, как всегда, подтянутый и строгий с неизменным немецким МП[98] на груди. Обрадовались друг другу, крепко пожали руки и как всегда в таких случаях: «Слава Украине!» —»Героям слава!» Иван был готов заплакать от радости и счастья, что вновь видит своего кумира живым и здоровым. Рядом с ним еще двое, менее рослых, чем Игорь, но достаточно крепких хлопцев. У них автоматы ППШ, у каждого на левой части портупеи в кожаном мешочке по «лимонке». Иван знал предназначение этих гранат, закрепленных в мешочке на портупее. Если положение будет безвыходным, следует подорвать себя, вытянув чеку зубами (если будешь схвачен за руки или ранен и беспомощен) за тонкий кожаный ремешок, прикрепленный одним концом к ремню портупеи, а другим — к кольцу запала гранаты. Хлопцы смеются — тоже рады видеть Ивана.
— Знакомьтесь, — говорит Игорь, — это Грицько, а это Стефко. Мои боевые друзья. Приглашай, Иван, в хату, если можно, — улыбается Игорь.
— Конечно, конечно, — радостно говорит Иван.
— Стефко, останьтесь для охраны, а Грицько пойдет с нами в хату.
Хата Кашубов стоит почти рядом с лесом, в стороне от других хат села. Мать Мария Кашуба быстро готовит ужин. Благо, что есть десяток курей и поросенок. Значит, всегда есть яйца с салом от прошлогодней свинки.
— Хлеб-то есть у вас, мама? — спрашивает Марию Игорь. Возраст Марии позволяет Игорю называть ее мамой, да и знают они давно друг друга.
— Есть, сынок, есть. Да и к хлебу кое-чего найдется, — отвечает Мария, суетясь у печи. Запаливает лучину, на которой поджарит яичницу на сале.
По хлопцам заметно, что они голодные, но вида не подают и старательно и медленно моют руки, лица, вытираясь поданным рушником, и садятся на широкой скамье к столу. На столе с огорода огурцы, помидоры, хлеб, несколько кусочков сала. Хата наполняется пьянящим запахом яичницы с салом. Хлопцы крестятся, бормочут молитву и начинают есть. Едят по-крестьянски, степенно. Яичница на всю большую сковородку, штук на пятнадцать яиц. Мария стоит у дверей, подперев голову рукой, с состраданием смотрит на хлопцев. Иван сидит рядом с ними. Наконец Игорь обращается к своему боевику:
— Друже Стефко, смените Грицько, скажите ему, чтобы шел в хату поужинать.
Стефко молча, но с явным сожалением на лице встает с лавки, берет рядом лежащий автомат и выходит из хаты. Входит Грицько.
— Слава Украiнi!
— Героям слава! — отвечает Мария и протягивает Грицьку рушник, молча указывая рукой на умывальник в углу. Грицько снимает старую немецкую военного образца фуражку с большим матерчатым козырьком, над которым четко выделяется трезуб. Автомат висит на плече. Кажется, Грицько с ним не расстается и во сне. Крестится и смотрит на Игоря. Тот кивает головой, указывая место за столом напротив себя, пододвигает ему еще горячую сковородку. Грицько в отличие от своих друзей начинает быстро, лихорадочно есть, громко чавкая и захлебываясь. Поперхнулся и громко кашляет. Он вытаскивает из кармана грязную тряпку, заменяющую ему, должно быть, носовой платок, и с ее помощью пытается унять, заглушить сотрясающий его кашель.
— Тихо ты, — недовольно произносит Игорь, — все село разбудишь! Это у него с весны, — поясняет он, оборачиваясь к Марии. — Мы весной, как только сошел снег, вышли из краивки[99] и стали продвигаться к селу, где свои люди, а тут весенний ручей лесной разлился как река настоящая. Грицько соскользнул с бревна, что через ручей перекинуто, да и свалился в воду, еле вытащили, сами все вымокли. Простудился он здорово, температура высокая. Оставить его было негде, не возвращаться же в бункер. В селе, где нас ждали, «энкэвэдисты» на постой стали, по всем хатам ходят, краивки ищут, хлопцев шукают. А у нас встреча с людьми на другом терене. Вот мы и ушли из села, а в лесу еще сыро, огня большого не разведешь. Плохо стало ему, но потом отошел, только кашель стал мучить. Врача бы надо, да где его здесь возьмешь, — горестно закончил Игорь.
Грицько перестал кашлять и виновато улыбался. На щеках его проступил пятнами яркий румянец, глаза воспаленно блестели и слезились. Стали прощаться. Мария протянула Грицьку свежий маленький рушничок.
— Возьми, сынок, вместо платка носового. Молочка теплого возьми бутылку. От соседей молоко, утром приносили. А всем вам от нас хлеба немного, картошки отварной десяток, да сала шматочек. Все что есть, больше нету.
— Спасибо, мама, — за всех ответил Игорь. — Пойдем уже, нас в другом месте нужные люди ждут. Спасибо вам за все доброе, и за сына такого спасибо.
Не ведала Мария Кашуба, что уведет Игор сына ее Ивана на погибель. Что через две недели соберет он свои вещички нехитрые, поцелует ее рано скрюченные изуродованные тяжелым крестьянским трудом руки и уйдет в лес с хлопцами, навсегда. Будет он приходить к ней темными ночами, крадучись и получив от своих информаторов в селе, что нет засады в хате, что нет в селе военных или других посторонних. Будет жить как волк в лесу, надеясь на Игоря, который обещал ему уйти вместе на Запад, и тогда исполнится его заветная мечта — увидеть страны другие, неведомую ему жизнь больших городов. А может, вернется сюда, в родное село, к матери вместе с американской армией, на приход которой на Украину так надеется Игорь, повторявший много раз в беседах на эту тему: «Большевикам все равно конец придет, власть у них на обмане. Каратели они, как и немцы, смотри, сколько народа в Сибирь выслали, а сколько убили! Мы тоже хорошо их колотили, да жаль силы у нас сегодня разные. Еще год-два, и война Америки с Москвой обязательно начнется. Мы все время слушаем передачи с Запада на украинском, для нас передачи. Американцы с русскими никогда не будут жить в мире. Разные системы, всегда будут врагами. Это в войну с немцами они объединились в союзники, потому что фашисты еще хуже большевиков. Наше дело добыть свободную Украину любыми способами. Верь мне, Иван, американцы пойдут войной на Советский Союз и станет Украина независимой и свободной от Москвы. Американцам это выгодно».
И эта убежденность Игоря заражала Ивана, вселяла в него уверенность, что так все и будет. По заданию Игоря он ездил во Львов и Дрогобыч, где приобретал батареи для приемника хлопцам. Несколько комплектов на долгую зимнюю ночь в бункере. Полученный в школе аттестат зрелости, где почти все пятерки, Иван взял с собой, пригодится там, на Западе, в далеком и таинственном Мюнхене или Лондоне. А может быть, там и в консерваторию поступит, петь по-настоящему научится. Впрочем, мысль о консерватории пришла к нему как-то вскользь, однажды, и больше он к этой мысли не возвращался. Конечно, жаль будет маму, которую он так любил, село родное, свой любимый и славный край. Иван уже побывал к этому времени во Львове, Дрогобыче, Трускавце и полюбил эти шумные места с большим количеством снующих туда-сюда людей. И его тянуло к еще более интересному, неожиданному, неизвестному, о чем он читал в книгах разных.
Псевдо Иван Кашуба получил от Игоря — Роман, в память о его погибшем друге в одном из рейдов в 1948 году.
— Долго жить будешь, Роман, — пояснил Игорь и похлопал друже Романа по плечу.
— Я уверен в этом, — радостно ответил Роман и доверчиво и проникновенно пожал протянутую ему руку.
— Отныне вы, друже Роман, становитесь в ряды настоящих борцов за независимую самостийную Украину, приняли присягу УПА и до конца жизни будете бороться за наше святое дело, — торжественно произнес Игорь в присутствии боевиков Грицька и Стефки. — Скоро мы соединимся с другими группами и начнем прорабатывать план ухода в Западную Германию. Но перед тем как уйти, мы добрую память оставим о себе москалям, «энкэвэдистам» и всем зрадникам[100] украинского народа, — закончил свою речь командир нового подпольщика-повстанца.
Матери Роман перед уходом наказал, что если будут искать и спрашивать, говорить, ушел мол, в город учиться, аттестат взял с собой. Почему без справки сельсовета? Да взял себе, да и ушел, а в какой город — не знаю. К счастью для оперработника, внимательно наблюдавшего через свою агентуру за этим смышленым и умным красавцем-парнем Иваном Кашубой, а именно таких выбирало оуновское подполье, он вскоре получил точные данные, что Ивана увел в лес Игорь, и видели Ивана вместе с Игорем уже с оружием, с оуновским трезубом на кашкете[101]. И псевдо у него бандитское — Роман. Марию вызвали в Ходоров и тщательно допросили. Твердила она свое — собрал вещи и ушел в город учиться. Ничего больше от нее не добились. К тем же связям Игоря, у которых агентура видела Романа, оуновцы перестали заходить, взяв их на подозрение, и на всякий случай временно законсервировали.
* * *
Глубокой осенью пришел Роман к матери. С ним пришел тот, который тогда закашлялся в хате, Грицько. Вид у Грицька нездоровый, щеки впали, глаза какие-то туманные стали. Видно, болен хлопец. Кашлять стал еще сильнее, так бухает, за километр слышно. Поужинали хлопцы у Марии, взяли продукты и пошли в ночь дальше. Не сказал матери Роман, когда еще появится, но обещал обязательно свидеться с ней до зимы. На судьбу не жаловался, говорил, что все у него хорошо, что ждет больших перемен в жизни. Позже Грицько объяснит такое настроение Романа подготовкой к уходу на Запад.
Спустя пару недель, вот такой же глубокой и темной ночью, но чужим стуком в окно кто-то дал знать о себе. Мария мгновенно проснулась, накинула платок и подошла к окну. За окном никого, но кто-то же стучал. Знала Мария, что тот, кто стучит, свой или чужой, никогда не будет стоять прямо перед окном — так и пулю из хаты получить можно. Стоит в стороне, плотно прижавшись к стенке, и стучит в окно, вытянув руку. Спросила тихо Мария: «Кто там, чего надо?» И тут же получила в ответ: «Откройте, тетка Мария, это оперработник из райотдела МГБ Стецюк. Вы меня знаете. Поговорить надо». Эту собаку из НКВД, иначе Мария его и не называла, знало все село. Дважды попадал он в засаду хлопцам, да уходил от смерти, а от метких автоматных очередей Стецюка трое повстанцев-оуновцев остались лежать мертвыми. Идет третий год его работы в Черном Острове, всех знает и его все знают. Капитан Стецюк многим был здесь поперек горла. Года два назад, вспомнила Мария, убили милиционеры и военные из МГБ трех местных хлопцев, попали они в засаду, когда шли в свое родное село отдохнуть и продуктов взять. Стецюк тогда организовал, как эти военные говорили, опознание убитых. А чего тут опознавать-узнавать, все знали этих хлопцев. Говорили люди, Стецюк просил начальство высокое в районе, а может, и выше где, не высылать в Сибирь родичей этих убитых. Остались они и дальше жить в Черном Острове. А еще рассказывали, что тот же Стецюк добился у начальства разрешения захоронить убитых на кладбище в своем селе. Разрешили. Знала Мария, приглядывается к ее сыну Стецюк, соседей о нем и раньше расспрашивал. Говорили люди, что Стецюк и добрые дела для села делает — вот похоронить убитых добился у начальства, хлопотал за девчат местных, послать их во Львов на фельдшериц учиться. А все равно и для Марии, и для людей — собака он «энкэвэдистская», чужой человек, оттуда, из Винницы, а это совсем не Украина — Россия. Чувствовала Мария всем своим материнским чутьем, подбирается Стецюк к ее Ивану, и сейчас пришел к ней не с добром. Так думала Мария, узнав Стецюка за окном, пока зажигала керосиновую лампу, открывала ему двери, тяжело справляясь с запавшей щеколдой.
— Добрый вечер, Кашуба, хотя и ночь уже, — тихо произнес Стецюк и вошел в хату, настороженно прощупывая комнату глазами.
Нет, не добрый это человек, хотя и украинец, — думала Мария, глядя на Стецюка. — И чего ему ночью от меня надо? Допрашивали уже. Все равно о сыне ничего не скажу. Уехал учиться, и все тут, пропал, и ничего не знаю. Слова-то какие — «добрый вечер», а ведь ночь уже». Мария все последние годы ее жизни с сыном слышала только одно приветствие приходящих ночью из леса людей: «Слава Украине!», и как и все односельчане отвечала: «Героям слава!» И это было понятно и привычно.
— Добрый вечер и вам, пан офицер, — ответила на приветствие Стецюка Мария и вопросительно посмотрела на него.
— Когда же я приучу вас всех говорить товарищ? — произнес Стецюк. — Вы одна в доме?
— Не пугайтесь, одна я. Для меня, что «пан», что «товарищ» — все одинаково, начальство в общем.
— Я не из пугливых, Мария. Вот поговорить нам надо. Я не один пришел, а действительно с начальством.
В комнату, нагнув голову в низкую дверь, вошел высокий чернявый мужчина с гладкими зачесанными на косой пробор волосами в полувоенной форме, какую обычно носили в то время партийные и советские работники, сотрудники ГБ — военные сапоги, френч с гражданскими пуговицами и без погон.
— Здравствуйте, Мария Максимовна, — слега картавя, ласково улыбаясь, произнес мужчина и протянул ей руку.
«Говорит как украинец, только восточник[102], а как ласково и красиво обращается, по отцу, — подумала про себя Мария и подала незнакомцу руку. — Надо же, какая мягкая рука, как у женщины», — мелькнуло в голове у Марии. Сама же сказала:
— Спасибо, что так называете. Проходите в хату, садитесь к столу, — пригласила Мария незваных гостей, ставя лампу на стол.
— Мария Максимовна, простите нас за ночной визит и уберите, пожалуйста, лампу куда-нибудь, чтобы не так ярко светила, и занавесьте окна от соседей. У вас, наверное, опыт приема ночных гостей имеется, — также дружелюбно улыбаясь и без злости произнес чернявый начальник.
Мария исполнила просьбу и, занавешивая окна, заметила во дворе несколько теней. «С охраной пришли, как и наши хлопцы. Боятся», — подумалось Марии.
— Перекусить желаете, поужинать, если не ужинали? — тихо произнесла Мария.
— Нет, нет, Мария Максимовна, — уже серьезным голосом продолжал начальник. — Да вы садитесь ближе к нам, вот здесь, напротив. Поговорим. Мы коротко, несколько минут.
Мария вопросительно и без страха смотрела на обоих. Помолчали.
— Мария Максимовна, мы знаем, что ваш сын ушел в банду. Такой хороший хлопец, отличник учебы, можно было бы его от колхоза послать учиться на агронома или инженера. Мне Стецюк не раз докладывал об этом подающем надежды хлопце. И надо же такому случиться. Ведь убьют. Если вы нам не поможете, жить ему осталось недолго. Верните его домой, уговорите порвать с подпольем. Их, ваших «героев Украины», осталось на всю Украину пара десятков. О чем он думал, он же лучший ученик в школе был. Мы знаем, что вам как матери очень тяжело. Иван ваш единственный и любимый сын. Не дайте ему погибнуть. Мы знаем, вы нам ничего нового не скажете, и не говорите ничего сейчас. Подумайте. Обидно. Советская власть самая справедливая. Это она дала возможность учиться вашему сыну. Такое ни при Польше, ни при немцах было бы невозможно. Вы умная женщина, мы знаем. Так помогите спасти вашего сына. Мы через вас передаем ему письмо, где наши предложения и гарантии жизни и безопасности. Мы переселим вас обоих с Иваном в другую область, временно, конечно. Пока не ликвидируем всех бандитов до единого. Вот вам письмо и мы больше ни о чем не говорим. Судьба сына в ваших руках. Оставляем вам наш телефон и адрес. В случае необходимости выезжайте в Ходоров или Дрогобыч и позвоните нам или отправьте письмо. Здесь номера телефонов и адрес, — и положил на стол перед Марией клееный конверт и лист бумаги с номерами телефонов и адресом. Четко были написаны имя и отчество Стецюка и его начальника — Александр Герасимович Лихоузов. — Мы не хотим крови. Советская власть простит вашего сына, если он явится к нам добровольно и с повинной. От имени нашего руководства я еще раз заявляю вам, Мария Максимовна, что мы сдержим свое обещание и спасем Ивана, направим его учиться в институт, позаботимся о вашей и его безопасности от возможной мести подполья. Будьте благоразумны и не думайте плохо о нас. Мы желаем Ивану и вам добра, — закончил свою речь, произнесенную тихо, но отчетливо и понятно, начальник. Встал и кивнул Стецюку: — Пошли, капитан.
Прощаясь с Марией, он молча пожал ей руку, и Марии показалось, что эти люди действительно желают ей и сыну Ивану добра. Спрятав письмо и записку, она легла в остывшую постель и долго не могла уснуть, думая о происшедшем: «Пришли эти «энкэвэдисты» так же тихо и незаметно, как хлопцы из леса, разницы-то между ними внешней почти нет. Такие же украинцы, как и наши повстанцы, одеты только чище, да выбриты гладко, одеколоном пахнут…» Знала давно она о тесной связи сына с лесом, с повстанцами, с Игорем и не очень-то одобряла это, но все равно помогала хлопцам чем могла. Всегда осенью, как только брат ее Степан или кто другой из родичей или соседей закалывал свинью, которую Мария для себя откармливала, откладывала она пару шматков сала для передачи в лес. Солонину тоже готовила с учетом леса. Картошку, муку и крупу в мешочки паковала. Иван с ранней весны до первого снега бегал к хлопцам в лес и нес с собой то пару яиц, то шматок хлеба, то еще чего-то, ей неизвестное, но видела, что были у него деньги, и ездил он то во Львов, то в Дрогобыч, то в Ходоров. Покупал там что-то по просьбе подпольщиков и нес к ним, в лес, а чаще они сами заходили за покупками. Молчала Мария и болело ее материнское сердце. Плакала по ночам, когда уходил Иван из дома, и не спала, ждала его возвращения. Ругала себя за горькую долю безмужнюю.
Об отце Ивана Антоне Корде думала. То была ее тайная девичья любовь к соседскому молодому парню, который женился на другой, не любимой им, а родители настаивали, потому что за нее хорошее приданое давали — два с половиной морга[103] земли и хату для молодых. Женился, а радости не было, тайно бегал к любимой им Марии, а та для отвода глаз и по договоренности с Антоном танцевала с другими хлопцами на вечеринках молодежных, кому-то и потискать себя давала, только бы с Антоном, самым дорогим, для нее остаться. И понесла она дитя от Корды Антона, и радовались оба и плакали вместе от счастья и горя, и ничего не могли поделать, и не знали, как исправить такую прекрасную и такую проклятую жизнь. Такова, наверное, была их доля. Избавиться от ребенка Мария никогда бы не согласилась — так любила Антона. А когда стало известно о беременности, отец нещадно избил ее и прогнал из дома. Мать раньше умерла, жили они вдвоем с отцом. Старший брат Степан принял ее и помог с работой сначала у себя по хозяйству, а потом устроил к знакомому поляку на фольварке[104] у него в сыродельне, где и заработала Мария на роды желанного и уже любимого дитя. Рожала в Ходорове у знакомой повитухи — добрые люди из села рекомендовали. У нее отлежалась неделю и к брату Степану вернулась. Отец уже там сидит: «Покажи внука, — говорит. У Степана все еще детей нет, а мне жить осталось недолго, внука хочу». Поняла Мария, что простил, радостно стало на сердце. Упала перед отцом на колени и целовала руки его, и плакала от счастья.
Надрывались с отцом на своем крохотном поле. Зимой подрабатывали у богатого поляка. Жили ничего себе. Корова была, телочка, пара свиней, птица.
Сынок рос. С Антоном виделись все реже. Помогал изредка деньгами, передавая их тайком. Ей бы только увидеть его, прижаться к родному телу хоть на секундочку — и ничего больше не надо. Взяли Антона в армию, и совсем не виделись два года, а когда вернулся, отслужив свой срок, то долго-долго не искал с Марией встречи, наверное, избегал сознательно. Всю себя отдавала Мария сыну. Было Ивану годков десять, когда умер отец Марии. Осталась одна с сыном. Иван все чаще расспрашивал мать об отце. Мария говорила, что уехал на заработки в Варшаву, а оттуда в Америку, где и погиб в автомобильной катастрофе. Специально так ловко придумала Мария, чтобы не думал сынок, что нет и не было у него отца.
В 1939 году вновь призвали Антона в армию и погиб он в первых боях с немцами, говорят, героем. Уланом был, убили в конной атаке на немецкие танки. Им, уланам, рассказывали Марии бывалые односельчане, офицеры говорили, что немецкие танки из фанеры сделаны. Жена Антона, бездетная, спустя несколько лет еще раз замуж вышла. Погибли они оба в партизанке украинской в 1946 году. Когда Иван заканчивал школу, все рассказала ему Мария. Взрослый хлопец все понял и мать не осуждал. Любил мать Иван, счастья желал ей, помогал по хозяйству всеми силами. В 19»8 году колхоз у них в селе образовался. Друзья Ивана из оуновского подполья дали ему добро на работу в колхозе и приказали выведывать все интересное для подполья и сообщать им, что Иван старательно выполнял. Нравилось Ивану быть разведчиком для своих повстанцев-подпольщиков. Он знал, ему доверяли и он гордился этим…
Спустя десяток дней после ночных визитеров, ночью уловила Мария движение под окном и сердце подсказало — Иван пришел. Не дожидаясь условного стука, вскочила с постели и бегом к окну, в которое уже стучали обусловлено. Не спрашивая, кто стучит, кинулась к двери, срывая щеколду.
— Не зажигайте, мама, свет, — произнес самый родной на свете голос, и Мария прижалась к сыновней груди, ставшей мокрой от ее слез.
Ни слова не могла произнести Мария первые минуты, и только тело ее, тесно прижавшееся к сыну, сильно и часто содрогалось от беззвучных рыданий. Тяжелый запах бункера шел от давно немытого тела. Большой и сильный хлопец с автоматом на плече, в грязной и засаленной, пропитанной вонью бункера тяжелой суконной тужурке с чужого плеча, был для Марии маленьким и беспомощным ребенком, частью ее самой.
— Успокойтесь, мама. Я с вами, живой и невредимый. Скоро расстанемся на пару месяцев до весны. Время пришло бункероваться, снег скоро выпадет. Я помыться пришел еще с одним хлопцем. Вы его знаете, мама, это Грицько. Поставьте воду подогреть, я быстро помоюсь. Белье сменю. Пока моюсь, соберите нам ужин. Продуктов с собой брать не буду, у нас все есть, на всю зиму заготовлено.
— Ой, сынок, поговорить надо без свидетелей.
И Мария рассказала сыну о ночном визите Стецюка. Иван, не перебивая, выслушал мать.
— Где эти бумаги, мама?
— Вот возьми, сынок, — Мария протянула Ивану конверт и записку.
— Я все это передам своему провидныку, мама. Когда «энкэвэдисты» еще раз придут к вам, скажите, что передала, и больше ничего не говорите. Когда буду еще у вас, я не сказал, вы ничего не знаете. Посидел и ушел. Один был. Все.
Снова заплакала Мария, ставя воду греть и готовить ужин хлопцам. Стала молиться и причитать, просить сына одуматься, сдаться «энкэвэдистам», поберечь себя и ее.
— Одни мы с тобой на земле остались. Убьют тебя, мне тоже не жить, наложу на себя руки, — горячо шептала Мария сыну.
— Да что вы, мама, причитаете. Ничего со мной не будет. Уйдем мы летом на Запад. Поверьте мне, скоро Советам и большевикам конец. Народ украинский замучен и замордован ими. Вы не знаете, сколько они людей поубивали и в Сибирь сослали. Прощенья им нет. Да и меня они не простят. Врут они. Не смогут они простить меня.
И как ни уговаривала Мария сына пожалеть ее и вернуться домой, Иван отвечал однозначно:
— Нет, мама, нет у меня дороги назад. Я верю в свое и ваше счастье. Оно у нас другое, чем у этих «энкэвэдистов» и москалей.
Не мог Иван рассказать матери о своей первой боевой акции, закрывшей навсегда ему дорогу назад в родной дом…
Первые недели пребывания в оуновском отряде он тщательно изучал с помощью Игоря и его боевиков военное дело, материальную часть оружия, которое хорошо знал, как и все подростки военных лет. В глухом лесу провели стрельбы. Иван стрелял лучше остальных хлопцев и даже лучше самого Игоря. От имени командования УПА и руководства УГВР Игорь принял от нового своего боевика Романа присягу: «Я, воин Украинской повстанческой армии, взявший в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед Великим Народом Украинским, перед Святой Землей Украинской, перед пролитой кровью всех Самых лучших Сынов Украины и перед Высшим Политическим Проводом Народа Украинского — бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков… за Украинскую Самостийную Соборную Державу… буду стараться до последнего дыхания… полной победы над всеми врагами Украины… Если я нарушу … присягу, то пусть меня покарает суровый закон Украинской Национальной Революции и падет на меня гнев Украинского Народа». Присягу Роман знал наизусть и произносил ее часто про себя как молитву и стихи любимого поэта Тараса Шевченко:
…Вставайте, цепи рвите, И вражьей злою кровью Волю окропите…Однажды Игорь во время очередного рейда по селам в поисках канала связи на Шувара и создания запасов продуктов на зиму получил от информаторов сообщение о группе офицеров и солдат МГБ с собаками, которая вела поиск оуновцев вдоль Днестра с правой стороны реки по течению. Переговорил Игорь с нужными и верными ему людьми — помощниками из села Надднестряны, взял с их помощью лодку рыбачью, рано утром посадил в нее Романа и Стефка и, ничего не говоря им, велел медленно плыть по течению вдоль кромки тумана, что плотной пеленой стлался посередине Днестра вплоть до его левого берега, поросшего густым камышом. Оружие хлопцы положили на дно, чтобы не было видно. Шапки и портупеи Игорь приказал снять и тоже положить себе под ноги. Плыли молча, внимательно всматриваясь в правый обрывистый берег. Вскоре все сразу увидели лежащих и стоящих на берегу вооруженных военных с собаками, тоже смотревших в их сторону. У Ивана бешено забилось сердце. Не от страха, от волнения. «Неужели придется стрелять?» — подумал он. С берега тоном приказа окликнули по-русски: «Кто такие? Плывите сюда!» Игорь внимательно и весело посмотрел на Ивана и тихо произнес:
— Друже Роман, пришел ваш час доказать свою преданность делу революции в борьбе за вольную Украину. Берите автомат и по моей команде стреляйте во врагов Украины. Весь диск и чтобы так же метко, как на учении в лесу. А вы, друже Стефко, сразу же направляйте лодку в туман и к берегу в камыши. Приготовиться! Давай!
Стефко налег на весла, Роман поднял автомат и, пока лодка быстро уходила в туман, успел выпустить весь диск в сторону военных, которые открыли ответный огонь. Но лодка уже была полностью скрыта туманом и вошла в камыши. Вскоре выстрелы военных стихли. Бросив лодку в камышах, оуновцы броском прошли двадцать километров и укрылись в одном из бункеров, которых было несколько в этом районе. Через два дня им донесли, что у военных было двое убитых и несколько раненых.
— Поздравляю вас, друже Роман, с первой боевой акцией и ликвидацией «энкэвэдистских» бандитов, — сказал Роману Игорь, пожимая руку.
Роман улыбнулся Игорю, а сам подумал: Проверял меня друже провиднык. Неужели сомневался в моей преданности и честности? Нет, наверное, он хотел проверить мою решительность и смелость, умение вести бой, бить врагов. Я доказал ему это». Об убитых и раненных им военных Роман не думал. Он подвергался не меньшей опасности, чем они. Их было больше, у них — пулеметы. Просто Игорь умелый командир, он перехитрил своих противников, не они, а Игорь устроил им западню.
Теперь дороги назад для Романа не было…
Глава третья
В купе спального вагона Киев — Львов было уютно, шумно и весело. Народу набилось много, человек восемь-девять командированных оперработников из центрального аппарата МВД Украины. Лихо пили водку, закусывали домашними припасами. Бывалые «бандоловы», как тогда называли тех оперработников, которые имели личный опыт борьбы по ликвидации бандоуновского подполья, рассказывали молодым о своих боевых делах, делились опытом работы, учили, как надо вести себя с местным населением, как лучше и грамотнее допрашивать арестованных или задержанных бандпособников, бандитов. Особый интерес у молодых оперработников вызывало применение спецпрепарата «Нептун-47». Ребята были хорошо знакомы с его применением и последствиями, испытав его на собственном опыте. Были случаи, когда применяли по ошибке. Один из «бывалых» буквально пару недель назад стал жертвой такой ошибки, перепутав нажимные кнопки на фляге с водой[105]. Пить захотелось, да не ту кнопку нажал. Попил водички и через несколько минут стал «дуреть». Говорит, хлопцы, что-то я кнопки перепутал, руки онемели, пальцы не повинуются и голова «плывет». Только это и успел сказать, и «поплыл», «отключился». А хлопцам работать надо.
Подъехали к селу вместе со спецгруппой из числа бывших оуновцев, перевербованных и задействованных органами ГБ Украины в качестве спецагентуры.
Бывшие оуновцы, все как на подбор лихие хлопцы, рослые и здоровенные, и убивать привыкшие, и сотни раз рисковавшие жизнью, испытавшие на себе воздействие «Нептуна-47», смеялись: «Вот это хорошо! Теперь сами поймете, что такое эта отрута[106], на себе испытаете, как это тяжко и муторно переносить». Человек, принявший такой препарат, первые пять-шесть минут ничего не испытывает. Но пальцы и руки буквально через пару минут уже бездействуют. Затем наступает полная «отключка», но человек еще может двигаться, идти, не соображая при этом, куда и зачем он идет и что он делает, полностью теряет контроль за своими действиями. Но самое неприятное впереди. Наступает тяжелый изнурительный сон с галлюцинациями. Наверное, что-то из наркотиков содержалось в препарате. Но никто из оперсостава не знал химического содержания «Нептуна-47». Сон длится обычно около двух часов. Самым мучительным было пробуждение. Человек испытывал страшную жажду во сне и при пробуждении и даже если ему давали воды, не мог утолить ее. Ему казалось, что все вокруг покрыто снегом, и он пытается ловить рукой мелькающие перед глазами снежинки. Это состояние после пробуждения длится около часа. Самое подходящее время для активного допроса. Человек охотно отвечает на любой поставленный вопрос. Применение этого препарата было строжайшим секретом госбезопасности. Однако все население Западной Украины, включая детей, знало о нем.
Вот этот препарат и принял по ошибке оперработник.
А работать-то надо. В селе ждут «оуновцев»: срывается запланированное и крайне важное мероприятие. Решили несчастного Валентина (это был В. Л. Агеев) связать ремнями и оставить лежать на шинелях возле машины. Когда группа вернулась с задания через три часа, Валентин в тяжких муках полуразвязался, прополз к ручью, метров двадцать, и голова его была буквально в метре от воды. Еще пару минут и был бы наш Валя мертв, захлебнувшись в этом ручье. Такая вот была история. Хлопцы, бывшие оуновцы, уважали этого оперработника и подшучивали: «Теперь мы с тобой побратимы, вместе на том свете побывали».
Поезд стучал колесами, рассказы бывалых зачаровывали нас, молодых сотрудников. Нам хотелось быть похожими на этих опытных «бандоловов», делать то, что они делали многократно в своей работе.
За жаркими беседами и рассказами о боевых чекистско-войсковых буднях прошла ночь. Спать не хотелось, но старшие товарищи строго сказали: «Хлопцы, всем спать. Завтра, а это уже сегодня, важное совещание и подготовительная работа в отделе управления. Через день все выезжают на места. Надо быть бодрыми завтра…»
Львов встретил нас солнечным утром с легким туманом, характерным для этого времени года, и вкусным запахом яблок. Такого запаха, как у львовского ранета, я больше нигде и никогда не встречал.
В этом городе я бывал и раньше, в далеком 1947 году после окончания спецшколы, по приглашению родителей Стасика Карюка, отчим которого работал тогда во Львове заместителем военного прокурора военного округа. Жили они в конце улицы Ленина, где стоял танк Т-34 на высоком постаменте, его было видно из двухэтажного особняка. Тогда город поразил мое воображение своим чужим, еще незнакомым мне западным стилем и обилием польской речи. Как раз было время выселения поляков в Польшу. Бабушка Стасика, полька по национальности, ходила с нами по рынку, где отъезжавшие поляки продавали свое барахло, и искала католический деревянный крест, бойко разговаривая по-польски. Потом этот крест долгие годы висел в ее комнате, в доме, где она жила, на маленькой железнодорожной станции Буча под Киевом. Купила она и несколько старинных польских книг. Мы тогда с упоением ходили по этому странному для нас городу. В городе было много военных, которых часто останавливал военный патруль, проверяя документы. Чувствовалась какая-то напряженность, не свойственная другим городам Украины. Русской речи мало.
И вот он вновь, Львов, но уже совсем другой для меня город. Город, как бы вывернутый наизнанку. Львов укрывал в своих каменных недрах не один десяток разыскиваемых ГБ Украины опасных государственных преступников из подполья ОУН. Здесь длительное время действовал известный генерал УПА Чупринка, здесь скрывалась неуловимая Рута, здесь был духовный центр националистического движения, здесь ежемесячно случалось что-то страшное и кровавое.
И здесь же, в этом городе располагался центр управления всей деятельностью чекистско-войсковых операций по ликвидации вооруженного подполья. Здесь по улицам Жовтневой и Крылова находились самые знаменитые оперативные особняки ГБ Украины.
В общем, это был чужой для меня город.
Автобус доставил прибывших в лучшую гостиницу Львова «Интурист» (ныне гостиница «Жорж»). Все разместились в двухместных номерах, где я с неприятным чувством увидел, что лежащие на кроватях великолепные шерстяные одеяла в роскошных пододеяльниках в уголках имели мало заметную для глаза метку с четко видимой фашистской эмблемой — орел со свастикой в когтях. Видимо, эти одеяла остались от времени оккупации, а именно эта гостиница была предназначена для высших чинов вермахта, абвера и гестапо.
Назавтра предстояло совещание в Львовском управлении МВД, которое проведет опытный и любимый всеми оперработниками генерал Шевченко. Предстояло ознакомиться с местной оперативной обстановкой и после обеда разъехаться по своим местам. Для меня был определен Ходоров, куда я и прибыл поездом поздно вечером. Встречал на вокзале заместитель начальника РО МВД майор М. П. Супрун. Этот толковый и опытный работник начал вводить меня в курс местных дел уже в машине. Заехали на короткое время в райотдел, я представился начальнику — майору Я.М. Червоненко, украинцу, не владевшему украинским языком и недавно прибывшему в Западную Украину из Сибири, где он был первым секретарем райкома партии. Опыта работы по ОУН он не имел, но сталкивался с ней в Красноярском крае, где было большое количество ссыльных из Западной Украины, а также имелись лагеря с большим количеством осужденных бандеровцев. Начальником райотдела после окончания шестимесячных курсов в Киеве он работал всего-то второй месяц. Он радостно реагировал на мой приезд, сказав, что рассчитывает на мою помощь и мой опыт работы в центральном аппарате, был искренне расстроен и удивлен, когда я заявил ему, что до командировки работал в церковном отделе, о работе по линии ОУН знаю только по оперативным документам, которые основательно изучил, что в органах ГБ работаю чуть больше года, но рассчитываю на взаимную помощь местного опытного оперсостава.
Мне во Львове сказали, что заместитель Червоненко — майор М. П. Супрун работает в данном райотделе с 1948 года, куда прибыл из армии и от помощника оперуполномоченного вырос до заместителя начальника райотдела, что сам он был ранен в одном из боев с оуновцами. Прекрасный агентурист[107], великолепно знающий, как говорится, «от и до» местную обстановку. С бандитами у него особый счет — четыре года назад в кроватку его трехлетнего и единственного сына упала брошенная через окно одним из боевиков надрайонного провидныка Игоря «лимонка», которая к счастью не взорвалась — не сработал взрыватель. Он точно знал от своего агента, что ликвидировать его должен был оуновец, посланный лично Игорем.
Супрун был приговорен оуновцами к смерти уже давно. Его машину дважды обстреливали. Он несколько раз получал письма с угрозами расправы над ним, если не покинет навсегда Ходоровский район.
Ходоров и примыкающие к нему районы Дрогобычской области играли важную роль в оуновском подполье, так как находились на стыке четырех областей — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской. Именно здесь проходили оуновские линии связи и население оказывало наиболее активную помощь подполью, укрывая оуновцев при поисковых мероприятиях войск МВД.
В течение первых дней я изучал материалы дела Игоря и его боевиков. Почти все я знал еще в Киеве, где также имелись материалы на Игоря и его бандгруппу. И все же в местных материалах обнаружил много нового и интересного в оперативном плане. В деле имелась довольно четкая фотография Игоря среди других командиров УПА. Я внимательно и подолгу рассматривал фотографию. Мне казалось, что, вглядываясь в черты незнакомого мне человека в «петлюровке»[108], присевшего у ног своего руководителя Шувара и других командиров УПА, я как бы вступал с ним в невидимый контакт, вел разговор, пытаясь проникнуть в мысли Игоря. «Симпатичный парень, — думал я, — вид у него независимый, хотя и сидит на корточках с автоматом МП и внимательно и чуть насмешливо смотрит в объектив. Красивое, мужественное лицо, нос орлиный. Правда, глаза маленькие и глубоко посаженные. Это придает Игорю жестокость в лице. Чувствуется, человек решительный и смелый, не случайно он стал «эсбистом». Наверное, не один десяток людей лично убил. Мягкотелых в СБ не берут. Такие, как Игорь, бьются до конца. Терять им нечего».
Было известно, что не только Игорь ищет связь с Шуваром, но и Шувар ищет Игоря, чего нельзя было ни в коем случае допустить. Знали также, что Шувар имеет связь с другими группами, но какими, где, как осуществляется эта связь — пока новых сведений не поступало. Было совершенно непонятно, почему Игорь немедленно прекращал связь и все контакты с теми лицами, на которые выходила агентура ГБ. Создавалось впечатление, что у Игоря есть осведомитель в самом аппарате райотдела или же среди проверенной и закрепленной агентуры, работающей по его розыску. Дальнейший анализ показал, что Игорь был просто чрезвычайно осторожен и при малейшем подозрении сразу же рвал связь с людьми, в окружении которых появлялись без понятных на то оснований новые люди. Достаточно было кому-либо из доверенных Игоря исчезнуть из его поля зрения хотя бы на одни сутки, связь с таким человеком немедленно прекращалась. Было известно, что Игорь имеет повышенный интерес к женщинам. У него были любовницы из числа самых красивых девчат почти в каждом селе (мужиков-то было мало), через которые проходили его маршруты или где работали со связями его боевики. Было принято решение усилить работу по женским связям Игоря и его боевиков — Грицько и Стефко, также имевших подруг в разных селах. В отношении недавно ушедшего в банду Романа данных о его женских связях не имелось. Уже при мне были получены сведения от агента, что переданное Марии Кашубе начальником отдела майором А. Г. Лихоузовым письмо-предложение выйти с повинной Иван невскрытым отдал Игорю, что еще раз продемонстрировало преданность Ивана Кашубы идеалам ОУН и практически не оставляло шансов на выход его из подполья с повинной.
В оуновском подполье существовало жесткое правило — о любой подозрительной, даже вызывающей только самое отдаленное подозрение мелочи немедленно докладывать своему руководителю — провидныку или же службе безопасности. Что касается переданных через родственников писем-предложений от органов госбезопасности на выход с повинной или на встречу с представителем ГБ — следовало передавать их провидныку, не вскрывая. Органам госбезопасности еще не было известно, кто был в рыбацкой лодке на Днестре, когда бандиты убили двоих и ранили нескольких солдат.
Пользуясь правом представителя МВД Украины, наделенного большими полномочиями самим министром Т.А. Строкачом, я взял на связь нескольких агентов из районов предполагаемых переходов группы Игоря и активно включился в работу. В райотделе было всего два автомобиля — грузовой и ГАЗ-69, которые или всегда находились в разъездах, или ремонтировались. Было несколько бричек с сильными и хорошо ухоженными конями, которые использовались оперсоставом для выездов в села на встречи с агентурой. Было несколько верховых лошадей, одну из которых выделили мне. Это была старая кобыла по имени Линда, внешне очень красивая — серая в яблоках, но с трудом ходившая галопом, способная лишь на умеренную да и то не длительную рысь. В принципе это была привыкшая к всаднику лошадь, по ее возрасту в приличной форме. Довольствие она получала по полному положенному ей рациону, всегда была сытой. Она была уже не способна реагировать ни на какие шенкеля, сколько бы ей их ни давали[109], зато могла длительное время нести на себе всадника, изредка труся рысцой, если ее к этому принуждали, или двигаться довольно быстро обычным лошадиным шагом. Самым же главным достоинством этой красивой кобылы было то, что она попала в райотдел НКГБ в конце войны из конной разведки партизанского отряда самого полковника Медведева, десантированного 1942 году в глубокий тыл фашистов в Ровенскую область, где находился и легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов. Уже от одного этого я приходил в восторг, устраиваясь в седле партизанской кобылы, ласково гладя ее по теплой и упругой шее, прикасаясь к шелковистым и толстым губам и ощущая ногами исходящее от ее боков приятное тепло. Я для кобылы всегда имел в карманах пару кусков хлеба и сахара, иногда скармливая ей во время езды эти лакомства. Каждый раз, входя в конюшню, находившуюся рядом с гаражом, тут же во дворе райотдела, я видел внимательные глаза Линды, смотрящие в мою сторону. Кобыла ждала своего угощения и, получая его из рук, ласково прикасалась теплыми и влажными губами и ноздрями к моим рукам. Я старался делать это незаметно от строгого конюха, запрещавшего мне, как он говорил, «баловать коня»:
— Вот вы тут приезжие-командированные коней балуете, а мне с ними после вас тяжело работать, кусаются, угощения требуют. Баловство это ненужное. Конечно, надо лошадь поощрять, но не каждый же день и не так часто.
Он строго предупредил, чтобы я не давал разгоряченной ездой лошади пить, чтобы не испортить селезенку и «не загубить коня, а подождать часок надо, остыть дать».
Этот штатный конюх-возница, пожилой старший сержант быстро обучил меня как седлать и взнуздывать кобылу, каждый раз проверяя ворчливо мои действия и помогая при этом, потом выпускал в поездку. Я не стал рассказывать вознице, что мальчишкой в войну работал с лошадьми в колхозе, то есть знал лошадь и умел с ней обращаться, много ездил верхом, да при этом и без седла.
Я чувствовал себя героем на этой старой партизанской кобыле из отряда Медведева. Кобыла значительно облегчала мою работу при поездках в близлежащие села, где я проверял действия и получал информацию от находившихся в этих селах чекистских групп — 2–3 офицера, и 7–10 солдат, как правило, со служебной собакой. Всего в оперативной группе, закрепленной за управлением МВД по Дрогобычской области, числилось сорок два оперативных работника, частично командированных из других областей Украины. Разная по составу, служебному положению, званиям и возрасту группа, по моему мнению, плохо выполняла свои задачи. Так мне тогда, во всяком случае, казалось, но говорить открыто об этом я стеснялся. Были случаи пьянства, нарушений служебной дисциплины, проявлений, как тогда их обозначали, аморального характера, а проще говоря, откровенных заигрываний и интимных контактов с местными молодыми женщинами. Оперсостав был в основном молодой, а в селах с мужиками молодыми и здоровыми было туговато. Кого в банде убили, кого на войне, а кто и в Сибири очутился. О проступках оперсостава мгновенно узнавало местное население, и, как думалось тогда мне, молодому офицеру, все это влияло на авторитет госбезопасности.
Спустя пару недель, имея кое-какой опыт в разборе подобных неприятных случаев, я поделился этим с начальником отдела из Дрогобыча, уже упоминавшемся выше Александром Герасимовичем Лихоузовым.
— Ну а что ты хочешь, — просто и откровенно отреагировал этот опытный оперативник и руководитель, — люди месяцами живут вне семьи, молодые, выпить хочется, женщину иметь. Другое дело, когда все это делается грубо, с насилием и принуждением, как известный тебе случай с майором К. Пришел к сельской учительнице пьяный, выстрелил в потолок, водки требовал и любви. А этому майору 27 лет, он вот уже четвертый месяц в командировке, холостой. Третий год по таким командировкам мотается, месяцами чистой постели и нормальной бани не видит. Тяжело. Я такое не оправдываю, но понять его состояние можно. Наказывать обязательно надо, прежде всего как коммуниста. И правильно ты говорил на партийном собрании, что прежде всего спрос идет как с коммуниста, а уж потом как с оперработника.
— Я всего не знаю, как вы, Александр Герасимович. Я живого или мертвого бандита еще не видел, но знаю, что наш представитель в селе — это лицо нашей партии. По нему селяне делают выводы о всей партии, о всей госбезопасности. И из этого надо исходить.
— Это вы правильно говорите, — переходя почему-то на «вы», с едва уловимой хитринкой в глазах после короткой паузы вымолвил Лихоузов, — но партийность и человечность рядом должны быть, дополнять взаимно друг друга… Вы разбирали этот случай. К. выстрел произвел случайно. Автомат был на боевом взводе, патрон в патроннике, забыл поставить на предохранитель. Вы же знаете, уже должны знать, — подчеркивая «должны знать», произнес Лихоузов, — что, там, где встреча с оуновцами может произойти совершенно неожиданно, ночью, днем, когда все решают секунды, где каждый лишний звук, тем более звук затвора, может привести к гибели, патрон должен находиться в патроннике, а оружие стоять на боевом взводе. Ну забыл парень поставить на предохранитель, ну выпивший был, ну выстрелил случайно. След на потолке оставил. Заявила при первом опросе девушка, что приставал и угрожал оружием, вы об этом помните?
Я согласно кивнул.
— А помните, что эта же самая молодая учительница говорила, когда узнала о возможных неприятных последствиях для майора?
Я снова молча кивнул.
— Девушка эта заявила нам с вами обоим, что была бы у нее в доме водка, выпила бы вместе с ним, да водки не было. Что ничего против этого хлопца-майора не имеет, что ей жалко его, что он может пострадать из-за этого случая. И правильно мы с вами решили — обсудить случай построже, предупредить товарища и перевести его под замену в другое село. Похлебаете с наше, товарищ лейтенант, может, помягче станете, — как бы подчеркивая условия моей работы в Киеве, закончил Александр Герасимович.
— Я все понимаю. Конечно, тяжело работать оперсоставу месяцами, не имея никакого устроенного быта. Солдат, и тех каждую неделю меняют на новую смену из Ходоровского мотомехдивизиона. Но посмотрите на старшего лейтенанта Дьякова, он же все время как после большой пьянки, перегаром несет и глаза красные.
— А знаете ли вы, — по-прежнему соблюдая официальный тон, продолжал Лихоузов, — что этот старший лейтенант еще год назад работал начальником райотдела в одном из самых глухих районов Дрогобычской области, в Борыне, что лежит почти в Карпатах, а до этого он работал в тех же краях, в Сколе, Турке старшим оперуполномоченным. У него на счету много операций и почти все «с кровью»[110], что у него на личном счету более десяти бандеровцев. Он у нас на самом хорошем счету как оперативный работник. Мы, учитывая его просьбу и длительный срок работы в тяжелых районах, перевели в управление, в Дрогобыч, пока на должность старшего оперуполномоченного, но планируем в конце года назначить заместителем начальника отделения… — Лихоузов сделал паузу. — Глаза, говорите, красные и перегаром несет? Поговорю с ним. Вы тут недавно, в операциях еще не участвовали. Как в поиск пойдете, в засадах побываете, на погранпайке посидите, сами водки попросите. Ну, это я так, ради шутки, дорогой товарищ представитель центра, уважаемый товарищ лейтенант, — иронически закончил диалог со мной майор Лихоузов.
И уже выходя из комнаты, сказал:
— Что касается таких работников, как командированный из Винницы капитан К., то это бездельник и нытик. Жаль его. А укажи это в аттестации, уволят его сразу же. Я вот все думаю, под каким предлогом откомандировать его без ущерба для дальнейшей службы? Говорят, следователь он хороший, а вот оперработник — никудышный. Вы на него сами жаловались — вам нагрубил, да еще при солдатах. Правда, мне передавали товарищи, — и Лихоузов снова с хитринкой взглянул на меня, — что вы достойно ему ответили, как старший по положению офицер, призвали его к порядку, и он был вынужден при всех извиниться. Мне понравилось, что вы не стали рассказывать мне эту историю, не стали жаловаться и просить о помощи.
— Александр Герасимович, — взмолился я, — что же это получается, тут же доносят начальству, даже такие мелочи!
— Нет, не прав ты, — дружеским тоном ответил на это Лихоузов. — Я здесь старший оперативный начальник и, как и ты, все знать должен. Не только иметь мнение о каждом работнике, знать все его нужды, но быть уверенным в нем и знать, на что каждый способен.
Лихоузов протянул мне руку и уже в дверях бросил:
— Думаю, сработаемся мы с тобой. Дело наше ты любишь, я в этом уже уверен, мне Супрун рассказывал, как ты на встречи с ним ходил. Быстро освоился, и сотрудникам нашим ты понравился. Правда, капитан К. на тебя жаловался, но не обращай внимания. Я подумаю, заменю его и переведу на следственную работу в Дрогобыч. Будь здоров. Завтра я в Дрогобыче, увидимся через пару дней…
Вспоминая об этом периоде своей жизни по прошествии многих лет, я с теплотой думаю о своих товарищах, вечно не высыпавшихся, очумелых от ночной работы, смертельно уставших от бесконечных переездов, командировок, прочесываний местности и ночных засад молодых офицерах, часто отдававших свои жизни в борьбе с бандоуновским подпольем. Я помню, как многие из них писали рапорты руководству с просьбой направить их на учебу, пока они молоды, и им из года в год отвечали резолюцией, установленным штампом: «Ваша просьба будет удовлетворена после ликвидации остатков бандоуновского подполья». А этим остаткам казалось не было конца. Вспомнил я и то, что большинство этих ребят, как тогда в своей среде их называли — «бандоловов», позднее было уволено за ненадобностью и из-за нехватки образования. Вспоминаю печальные глаза сидевшего напротив меня капитана Димы Жирко, пониженного со старшего оперуполномоченного до оперуполномоченного — не было у него высшего образования. Он ушел добровольцем на фронт в 1942 году в свои семнадцать, и в первом же бою под Ростовом был ранен. Бой начался рано утром. На Ростов наступали восемью цепями. Первые пять цепей были с винтовками. Три последующие без оружия, но обученные изображали наступающую массу для острастки противника. К вечеру досталась винтовка и Жирко. Довоевал Жирко до победы. Двухмесячные курсы — и младший лейтенант Жирко продолжил боевой путь в Западной Украине. И снова бесконечные бои, и так до 1948-го. Удалось все-таки Диме закончить 10-й класс в вечерней школе рабочей молодежи, но это было уже в 1953 году. Написал рапорт. Хотелось в высшую школу КГБ. Ответ был известный: «… после ликвидации…» Стыдно было мне смотреть в глаза своего товарища Димы. Сам-то я остался старшим оперуполномоченным. Правда, Диме еще повезло — направили его вскоре начальником отделения в Магаданское областное управление КГБ по его же просьбе. База в тех краях для работы по ОУН хорошая — лагерей много, а в них бандеровцев тысячи…
Вот так система обходилась с нужными ей в свое время «бандоловами».
* * *
От многочисленной агентуры, задействованной на поиски Игоря, стала поступать обильная информация о появлении его группы в разных районах области. Но вот загадка — их было всегда трое. Где же четвертый?
Неожиданно стало известно, что работавшая до недавнего времени в Ходоровской районной библиотеке местная жительница Олена Стасула была в прошлом довольно долго любовницей самого Игоря. Как утверждал опытный и надежный источник, Игорь систематически посещал ее вплоть до того страшного для этой девушки дня, когда ей стало известно, что она больна туберкулезом легких в тяжелой форме. В этих случаях оуновцы сразу же прекращали все контакты с такими больными, исходя, прежде всего, из интересов собственной безопасности — не заразиться и не заразить своих товарищей по подполью. Лекарств против такой болезни, особенно туберкулеза легких, не было, и лечиться было негде. Тот же агент сообщал, что Игорь был настолько увлечен своей любовью, что дал Олене адреса нескольких надежных связей, через которые она, в крайнем случае, могла бы найти его. Оба надеялись на чудо и на Создателя, как рассказывала нашему агенту Олена. Было принято решение взять Стасулу в активную разработку, подвести к ней агентуру из числа родственников, проживающих в одном из сел Ходоровского района. Вскоре мы с Супруном выехали на совещание во Львов. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись через два дня, мы услыхали в одном из кабинетов громкий голос, скорее крик, майора Червоненко, допрашивавшего Олену. Да как допрашивавшего! Где и кто обучал майора, в прошлом ответственного партийного работника, служившего в госбезопасности всего-то несколько месяцев, этой методе допроса, осталось для нас неизвестным. Когда мы вошли в комнату, Стасула, одетая в полушубок, стояла рядом с жарко натопленной печью. Перед ней стоял в распахнутом от жары кителе, весь багровый от гнева и ярости Червоненко и, размахивая кулаком перед лицом несчастной, орал: «Я тебе покажу, б… бандитская! Я тебя заставлю говорить, бандитская подстилка! Я тебе покажу, что такое советская власть, ты здесь сдохнешь у меня, не видать тебе ни Игоря, ни родных, ни дома. В тюрьму пойдешь как бандпособница, сгниешь в лагере!..» Все это изрыгалось на русском языке и через каждое слово шел чудовищно оскорбительный для женщины, тем более для западной украинки, мат. Они и брани-то, так широко употребляемой русским человеком, не знают. Я посмотрел на ярко красивое лицо этой дивчины и мне стало не по себе — ее пылающие от чахотки и ненависти изумительной красоты карие глаза смотрели прямо в лицо Червоненко, а яркие, чуть приоткрытые и нежные пунцовые губы, казалось, шептали: «Я тебя так ненавижу, как могут ненавидеть самое страшное чудовище на земле — зверя в человеческом облике. Ты ни слова от меня не услышишь, вообще ни слова. Я бы убила всех вас, зверей-«энкэвэдистов», поменяйся мы местами. Боже, как же ненавижу вас! Боже, дай мне силы не упасть от слабости перед ними. Боже, помоги мне». Только сейчас я почувствовал в комнате запах мочи и увидел под ногами Олены мокрые пятна. «Неужели мочилась под себя?» — мелькнуло в голове.
Увидев нас, Червоненко прекратил допрос и вышел с нами в коридор. На наш вопрос, почему и как Стасула очутилась в райотделе, Червоненко пояснил:
— Как только вы уехали, я получил данные о ее намерении покинуть Ходоров. Зачем, куда, с какой целью, мы не знаем. Надо было срочно принимать меры. Мы установили за домом наблюдение и, когда она вышла из дома и пошла в сторону рынка, незаметно «сняли» ее и в закрытой машине привезли в райотдел. Санкцию прокурора я получил. Материалов о ее бандпособнической деятельности более чем достаточно. Ее место в тюрьме, если не даст нужных нам показаний и не поможет выйти на Игоря и его людей.
Говорили тихо, вполголоса, стоя рядом с дверью в комнату, чтобы оставшаяся там одна Стасула нас не слыхала.
Я робко заметил, что тяжелобольная Стасула при таком допросе и помереть может.
— Я ее и пальцем не тронул, — ответил Червоненко. — Ничего с ней не случится. Обыкновенная бандитская сволочь. Попадись к такой в лесу, живым бы не ушел.
Я попросил Червоненко разрешить мне продолжить работу со Стасулой. Было заметно, что он недоволен происшедшим разговором, но против моей просьбы возражать не стал.
Когда Червоненко ушел к себе, Супрун мрачно произнес:
— Я такого от него не ожидал. Времена давно уже не те, да и необходимости нет. Дивчину действительно жалко. Я таких знаю, она ничего не скажет.
— И все-таки я с ней поработаю, — ответил я на это. — Я прошу вас, товарищ майор, послать кого-нибудь в аптеку купить сулемы[111], а в вокзальном буфете чего-нибудь для нее поесть — конфет, ветчины, колбаски, молока, еще чего-нибудь вкусненького. Вот деньги. И еще я попрошу вас через какое-то время, когда я дам Стасуле отдохнуть, подъехать вместе со мной в райбольницу, где имеется туберкулезное отделение, и побеседовать с кем-то из врачей, кому мы доверяем, о тяжести болезни Стасулы и перспективах лечения. И попросите у дежурного мыло и полотенце для Стасулы.
Я прошел мимо милиционера, сидевшего у дверей в кабинет, где находилась Стасула, и, толкнув дверь, вошел в жарко натопленное помещение. Олена сидела на табуретке, прислонившись спиной к стене. Ее разгоряченное жарой от печки лицо с нездоровым румянцем ничего не выражало. Глаза безучастно смотрели в пространство перед собой. На вошедшего она никак не реагировала.
— Олена, снимите кожух и сядьте поудобней на стул. Я открою окно, пусть будет свежий воздух. Вы не боитесь простудиться?
Стасула не ответила, только качнула отрицательно головой.
— Олена, — продолжал я, — я представитель МВД из Киева. Хочу с вами побеседовать, попытаться прояснить некоторые вопросы. Но прежде всего, приведите себя в порядок.
Я вновь вышел в коридор. Взял у подошедшего дежурного мыло и полотенце и попросил дежурившего у комнаты милиционера:
— Товарищ сержант, сопроводите во двор, где туалеты и умывальник, арестованную. Пусть приведет себя в порядок, умоется, и доставьте ее обратно, сюда же.
Та молча взяла солдатское вафельное полотенце и поднялась со стула, вопросительно взглянув на меня.
— У нас тут свои порядки, Олена. Идемте, я провожу вас до лестницы, дальше пойдете в сопровождении милиционера.
Стоя в коридоре у окна, я видел, как медленно шла по двору Стасула. Шла шагом смертельно уставшего человека, сгорбившись, как старая больная птица. Проводив ее взглядом, я вернулся в комнату.
«Как же мы бываем жестоки с людьми, — думал я, — даже с женщинами… А если женщина — враг? Взять ту же Руту. Вон она сколько бед натворила — и стреляла, и даже гранаты бросала. Идет жестокая идеологическая борьба двух миров. Острие этой битвы — вооруженная борьба. Вооруженное оуновское сопротивление должно быть подавлено силой оружия. И это правильно — другого выхода у нас нет. Сила идет на силу.
Против оуновцев, начиная с конца войны с фашистской Германией, когда наиболее активно проявляла себя УПА и бои она вела крупными отрядами, действовала армия могучего государства — Советского Союза. Последние отряды УПА ушли за кордон в 1948 году. Оставшиеся в Западной Украине вооруженные оуновские формирования в течение трех последних лет были почти полностью уничтожены физически. Тысячи и тысячи людей высланы в Сибирь как пособники. Мы были вынуждены выселять бандпособников, и это касалось широких слоев населения. Таким образом мы лишали оуновцев их базы, кормившей и снабжавшей их всем необходимым. Но неужели нельзя использовать другие методы — политические, человеческие, что ли». Я вспомнил рассказы участников боев с оуновцами в 1944–1948 годах, когда советское правительство многократно обращалось к подполью с призывами сложить оружие, выйти с повинной, гарантируя жизнь бойцам и командирам оуновских формирований, в том числе и высшему руководству. Тогда, как рассказывали мне товарищи по работе, многие сдали оружие, вернулись в семьи. Часть высланных семей была возвращена в их родные места. Среди вышедших с повинной было несколько крупных руководителей. Некоторые из них выступили перед населением, призывая оуновцев к выходу из подполья. Потом эти бывшие руководители неожиданно исчезли. Никто из их родственников так и не узнал о дальнейшей их судьбе. Как говорили мне, все они были расстреляны по указанию Москвы. И тогда вновь активизировались с еще большей силой бандеровцы. Именно в те годы случилась известная на Украине так называемая «дерманьская трагедия», когда озверевшие от мести и крови оуновцы расстреляли и повесили почти все село. Не только людей, всю скотину побили и телами людей и животных завалили несколько колодцев. Село Дермань, что рядом с районным центром Мизоч в Ровенской области, и в годы войны было известно своими связями с советскими партизанскими отрядами. Было в этом селе много сторонников советской власти, люди в подавляющем большинстве хотели работать в колхозе. Одним словом, их устраивала советская власть и проводимые этой властью политика и мероприятия. Эти люди всячески помогали советской власти и, конечно, органам госбезопасности в выявлении оуновцев.
В 1955 году из подполья ОУН вышел с повинной боевик известного провидныка ОУН Уляна, упоминавшийся выше Мысливец (он же Лопух), который выдал органам госбезопасности часть архивов подполья, хранившихся в специальных схронах (укрытиях) в лесу в герметических алюминиевых молочных бидонах. Из оуновских документов стало известно, что «дерманьская трагедия» являлась заранее спланированной акцией по указанию известного в ОУН руководителя на ПЗУЗ — Пiвнiчно-Захiднi Украiнськi Земли (северо-западные украинские земли) Смока, которым и был составлен детальный отчет об этом событии.
* * *
В дверь постучали, и вошел дежурный с бутылкой сулемы, ватой и пакетом с продуктами. Я протер ватой, смоченной сулемой, дверные ручки, стулья, стол, все то, к чему могла прикасаться Стасула, и на листе белой бумаги на столе разложил принесенные дежурным офицером продукты. Свежая, «со слезой» аппетитная ветчина, домашняя украинская колбаса, масло, сыр, печенье, булочки еще теплые и конфеты шоколадные. Мне самому захотелось есть, время шло к обеду. В дверь снова постучали. Это был конвойный милиционер, приведший Стасулу. Видно было, что девушка умылась, причесалась, привела себя в порядок.
— Я сейчас принесу вам да и себе чая горячего, а вы пока ешьте. Я скоро, — вымолвил я, глядя на эту красивую дивчину, носившую в себе страшную хворобу. Мне стало не по себе. «Ведь точно умрет, сожрет ее туберкулез. Надо как-то помочь ей. Как?» — вертелось в моей голове. Девушка не глядела на меня. Глаза ее были опущены на бессильно лежавшие на коленях руки.
— Да вы ешьте, ешьте, я сейчас, — продолжал я, надеясь на какую-то реакцию со стороны Стасулы. Я уловил еле заметный кивок красивой головы с черными слегка вьющимися волосами, собранными в большой пучок на затылке. «Неужели не разговорю ее, — думал я, торопясь взять чайник с чаем из постоянно кипевшего титана в комнате дежурного. — У меня всегда получался контакт с людьми. Они видят и чувствуют мою искренность. Они заражаются моей уверенностью в желании оказать им помощь, посодействовать в чем-то для них необходимом. С чайником и двумя стаканами в руках я вошел в комнату, где была Стасула. Олена сидела в той же позе, в которой я ее оставил несколько минут назад, но кусочка ветчины и булочки не было. Надежда на успех мелькнула в моей голове.
— Давайте вместе поедим, — сказал я и налил Олене чай, пододвинув стакан поближе к девушке. Сделав рукой приглашающий к еде жест, я достал перочинный нож, намазал себе и Олене хлеб маслом, сделал несколько бутербродов и приступил к еде, призывая к этому и девушку.
Олена взяла конфету, как-то тихо и незаметно сняла обертку, откусила кусочек и отпила глоток чая из стакана. Глаза ее все время были опущены вниз, и, как я ни старался разговорить Олену, она по-прежнему не произнесла в ответ ни слова, только изредка делала еле заметные движения головой, то ли показывая, что слышит меня, то ли соглашаясь или отрицая сказанное.
— Сейчас вам принесут раскладушку, отдохните. Я не буду беспокоить вас часа три-четыре. Поспите. Если что-то потребуется, позовите милиционера, он тут, за дверью.
И опять никакой реакции. Я вышел к дежурному и вернулся с раскладушкой. Разложил ее, бросив сверху кожух.
— Ложитесь, укройтесь кожухом. Я скоро вернусь.
В райбольнице, в которую майор Супрун предварительно позвонил, нас ждал главврач с лечебным делом Стасулы. Выяснилось, что процесс идет в обоих легких, болезнь запущена до предела, несколько крупных каверн делают невозможным лечение этой больной в условиях районной да и областной больницы. Единственный, да и то негарантированный выход — достать для больной новый препарат ПАСК и отправить ее в туберкулезный санаторий Крыма на пару месяцев, тем более учитывая приближение осени.
— Только при этих условиях может быть какой-то шанс, — сказал на прощание главврач. На мой вопрос, сколько будет тянуться эта болезнь, может быть, годы, главврач помолчал, а затем коротко ответил: — Она умрет самое позднее весной следующего года. Чуда не будет. Мы бессильны ей помочь. Если будет затяжная и дождливая осень, может помереть и раньше, к Новому году…
По моей просьбе главврач отдал нам рентгеновские снимки легких больной Стасулы, показал на них каверны и дал соответствующие пояснения…
В райотдел возвращались молча. Поднимаясь по лестнице, я сказал Супруну:
— Я попытаюсь убедить Стасулу отдать нам хлопцев. А за это гарантирую ей самое современное санаторное лечение в Крыму. Если по моему рапорту наше начальство не пойдет на это, я сам на свои деньги куплю Стасуле ПАСК и санаторную путевку в Крым. Это, разумеется, в случае ее согласия поработать с нами и вывести нас на бандитов.
— Не советую я делать это, — возразил Супрун. — С одной стороны, вы, конечно, проявляете сострадание и милосердие к этой женщине. А с другой — применяете недозволенный прием — это хуже пытки, говорить больному о его неизлечимой болезни, показывать рентгеновские снимки, обещать жизнь и не выполнить своих обещаний. Вам никто не разрешит заниматься ее лечением на свои деньги и без санкции руководства. Вы сначала получите «добро» на такое предложение, а потом беседуйте на эту тему с задержанной. И самое главное — не забывайте, Стасула активнейшая бандпособница, несколько лет была связана с подпольем, постоянная и самая близкая, насколько нам известно, любовница Игоря, который ей полностью доверял и оставил только потому, что боялся сам заразиться туберкулезом. Знаете, есть такое правило в оуновском подполье — не подвергать себя и окружение ненужному риску. Туберкулез, особенно в условиях подполья, означает гибель, и не в бою со своими врагами, а медленную и мучительную смерть в бункере. Нам такие случаи известны.
Он помолчал и добавил:
— Стасула больна была давно, но обратилась она к врачу два месяца назад, добавьте время на встречу с Игорем или с его связными, выходит, она имела с ним контакт где-то месяц-полтора назад, совсем недавно. Разумеется, знает каналы связи на Игоря и его людей, летом была с ним в лесу. Любовь у них. Но поверьте мне, такие не идут на сотрудничество, даже ценой своей жизни. Попытайтесь, может, получится.
Мы еще какое-то время постояли в коридоре, покурили.
— Если она в течение нескольких часов не расскажет мне об Игоре, я попрошу Червоненко освободить Стасулу.
Супрун многозначительно улыбнулся, покивал головой и молча ушел в свой кабинет…
Олена сидела на раскладушке, накинув на плечи полушубок. Я подошел к ней и увидел, что ее бьет лихорадка. Прикоснулся к ее покрытому испариной лбу. «У нее явно высокая температура, — подумал я, — не умерла бы вот тут, в райотделе, во время моего допроса. Разбирайся потом, кто прав, кто виноват».
— Олена, вы себя плохо чувствуете?
Девушка медленно подняла голову и впервые посмотрела мне в глаза. Я не увидел в них ни ненависти, ни злости. Но глаза, казалось, говорили: «Вы видите, мне плохо. Не мучьте меня, отпустите».
— Пан офицер, отпустите меня домой. Сегодня вечером тетка из села должна приехать и, если меня не будет дома, она уедет обратно. Я уже говорила вашему начальнику, что ничего о хлопцах не знаю, никогда с ними не встречалась, не видела и в лес к ним не ходила. Ничего я не знаю.
— Олена, давайте поговорим откровенно. Мы многое знаем о вас. Нам абсолютно точно известно не только о вашей многолетней связи с подпольем ОУН, но и те причины, по которым вы в свое время не ушли в подполье, а остались здесь, в Ходорове для выполнения заданий службы безопасности, с которой вы были связаны долгие годы. Здоровье вас подвело, а так были бы вы вместе с хлопцами в лесу. Мы знаем, что вы не только самым активным образом помогали хлопцам из леса разведывательной информацией, но среди своих доверенных людей организовывали для подполья сбор продуктов питания, медикаментов. Знаем мы и о вашей любви с Игорем. Олена, будьте благоразумны. Если удастся уговорить Игоря сдаться органам госбезопасности, выйти с повинной вместе со своими хлопцами, мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему обрести новую жизнь. Дело ОУН проиграно. В лесах Украины их осталось несколько десятков. Все они в ближайшее время будут уничтожены, если не одумаются и не сдадутся властям. Мы, органы, делаем все возможное, чтобы эти люди были возвращены к нормальной жизни, остались живы, смогли иметь семьи и вернуться в семьи, к своим матерям. В случае выхода с повинной их родственники и все те, кто оказывал им помощь в прошлом и был за это сослан в Сибирь, будут возвращены домой. Конечно, некоторым из них придется по приговору суда отсидеть положенное за их преступления в прошлом. Это касается и Игоря. Он много крови, пролил, Олена. Он многих убил и повесил лично, а еще больше убили и повесили по его приказанию подчиненные ему люди. Передайте ему, что с вами разговаривал представитель МВД Украины, специально приехавший сюда, в Ходоров, по поручению министра Строкача, с тем чтобы установить контакт с Игорем и его группой. Если Игорь и его хлопцы сдадутся и помогут органам захватить или уничтожить Шувара, о котором вы тоже знаете, ни Игорь, ни его люди не понесут никакого наказания. Мы можем дать письменные обещания, гарантирующие жизнь и свободу Игорю, но, естественно, при условии честного и откровенного поведения при контактах с нами. Другого пути и выхода у него нет. Рано или поздно мы установим его местонахождение и ликвидируем всю группу. Согласны со мной, Олена?
— Я уже отвечала начальнику и вам, пан офицер, я ничего не знаю и с хлопцами никогда не встречалась. Я всех этих хлопцев, может, там был и Игорь, как вы его называете и фотографию которого показывали, видела, как и все селяне, несколько лет назад, когда жила у тетки в селе. Больше я ничего не знаю. Отпустите меня, мне плохо.
И еще несколько часов я уговаривал Олену, зная от надежнейшей агентуры все детали ее встреч с Игорем и не имея права называть эти детали, потому что расшифровывался источник, а результаты были бы нулевые. Даже ее чистосердечное и откровенное признание в близких отношениях с Игорем не имело бы тех результатов, которые были нам нужны. Нужно было ее согласие на сотрудничество, на откровенную помощь госбезопасности. Позже, вспоминая этот допрос-беседу, я посмеивался над своими словами, я тогда был, наверное, похож на молодого парня, ухаживающего за желанной девушкой, который безумно хочет ее, готов на все, чтобы угодить ей, беспредельно изворотлив в своих мыслях и обещаниях, коварен и лукав, мудр и настойчив, лишь бы она отдалась ему. А она не хочет — и все тут. И вся тебе любовь.
И тогда я пошел на последнее, о чем жалел потом всю жизнь, удивляясь своей подлости и жестокости. А может, я ошибался, ведь я действительно желал Олене добра. В то же время я знал, что самым важным для меня была не жизнь этой девушки, а выполнение задания, что было для меня святым и непререкаемым, выше и значимее всего святого на земле. Я выполнял свой долг и следовал своей морали, своему уставу и воинской присяге.
— Олена, мы с тобой погодки, — переходя на «ты», говорил я девушке, — мы оба молоды и нам еще долго жить. Мы и не жили еще с тобой в этой жизни по-настоящему. У тебя нет семьи, нет детей.
И тут я стал рассказывать Стасуле о своей любви к девушке-невесте, о своей жизни. Что готов я все отдать за любовь свою, и знаю, что такое любовь. И был я искренен и откровенен с Оленой. Может быть, она и поверила мне.
— Ты еще имеешь шанс на жизнь и любовь, на семью и детей.
Я раскрыл пакет, вынул оттуда рентгеновские снимки и протянул их Стасуле, держа в руках так, чтобы видно было обоим.
— Посмотри, это твои легкие и каверны. Врачи мне сказали, что ты обречена, ты умрешь. Это произойдет в конце года при плохой погоде с дождями или ранней весной. Эти же врачи мне сказали, что тебя может спасти очень дефицитный препарат ПАСК, которого нет у вас в районе, да и в области он тоже ограничен и дефицитен. Я буду просить свое начальство сегодня же разрешить приобрести это спасительное лекарство и направить тебя в туберкулезный санаторий на несколько месяцев в Крым. Но это при условии твоего согласия на сотрудничество с нами, имея в виду захват Игоря. Ты сможешь сделать это. Я клянусь тебе, что он будет живым. Если мое начальство откажет в лекарстве и лечении, я на свои деньги куплю тебе ПАСК и путевку в Крым. Только помоги мне. Я даю тебе слово коммуниста и офицера. Тебе по вашему подполью известно, что такое честь и совесть. Эти понятия есть и у нас, у коммунистов, и ты должна мне поверить.
Олена Стасула подняла голову и посмотрела мне в глаза: «Что ты мне поешь, пан офицер. Если ты действительно любишь свою любовь, то должен понимать меня — я никогда, даже ценой жизни своей не отдам любимого» — так говорили ее глаза.
— Отпустите меня домой, пан офицер, тетка из села, наверное, уже приехала. Она долго ждать не будет, уедет обратно. Меня сутки нет дома. Плохо мне, я сейчас упасть могу, — сказала дивчина и снова пристально посмотрела мне в глаза.
Я уловил в выражении ее глаз смешинку и какое-то подобие возможного человеческого контакта. «Боится, что сутки отсутствует. Соседи и тетка из села могут почувствовать неладное. Значит, не хочет, чтобы знали об ее аресте и конспиративном пребывании в райотделе. А вдруг Стасула поверила мне и захочет сдать банду, свяжется с Игорем, уговорит его на контакт через нее с органами. Вдруг получится. Если так, то ее надо немедленно отпускать», — подумал я.
— Вот что, Олена, идите домой. Я договорюсь с местным начальством. О вашем задержании советую никому не говорить, кроме Игоря.
Олена снова посмотрела на меня, и мне показалось, что глаза девушки выражали понимание и благодарность.
Коротко переговорив с Червоненко и доказав ему, что смертельно больная Стасула не подлежит аресту и дальнейшее ее задержание чревато неприятностями, я вернулся к девушке и объявил ей об освобождении.
— Я дам вам номера телефонов дежурного райотдела и заместителя начальника майора Супруна. Можете с нами связаться в любое время суток. Мои условия вы знаете. Рассчитывайте на мою помощь всегда, — и я протянул Олене сложенный в несколько раз тетрадный листок с телефонами.
— Спасибо вам, пан офицер — слабым голосом произнесла Стасула и, протянув руку, взяла у меня бумажку. — Я готова, я пошла, — поправляя жакет, сказала дивчина и вопросительно посмотрела на меня.
— На улице уже темнеет, фонари пока не зажгли, выходите через боковую дверь, я вас выведу.
Я поднялся из-за стола и подошел к Олене, протянув ей руку для прощания. Рука у Олены была холодной и влажной. Чувства брезгливости к больной девушке у меня не было. Были жалость и сострадание. Где-то в глубине души уважение к ее стойкости, терпению и мужеству. Молча спустились к выходу на боковую неосвещенную улицу. Я погасил свет в коридоре и открыл дверь, кивнув Олене головой на прощание. Быстро закрыл дверь и бегом поднялся на второй этаж, чтобы через окно посмотреть на уходящую в темноту улицы Стасулу. Она медленно шла вдоль забора, выделяясь светлым жакетом в сумерках. Мне показалось, что-то мелькнуло белым лепестком у ног Стасулы и осталось лежать на тротуаре. У меня заколотилось сердце: «Неужели, выбросила бумажку с телефонами?» Сейчас Стасула скроется за углом, ее фигурка еще была видна в быстро надвигающихся сумерках. Я кинулся к выходу, почти скатился с лестницы и выскочил на улицу. Олены уже не было видно, она повернула за угол. За несколько метров до поворота на тротуаре лежал скомканный и еще влажный от руки дивчины листок из ученической тетрадки…
Олена Стасула умерла в туберкулезном отделении районной больницы ранней весной 1954 года…
* * *
На пышном кусте волчьей ягоды с еще нетронутыми осенью зелеными листьями и с начинающими наливаться чернотой плодами шевельнулись ветки, и на освещенную ярким полуденным, солнцем поляну вышел вооруженный человек. Заросшее многодневной черной щетиной лицо было напряжено. Глаза внимательно прощупывали покрытое мелким кустарником в редком сосновом лесу пространство на противоположной стороне оврага. Людей там не было, а если бы они там и были в укрытии, это заметил бы вышедший на поляну человек — он и до этого из кустов довольно долго осматривал местность вокруг оврага через потертый и старый, но сохранивший свои рабочие качества цесовский бинокль. Вокруг было спокойно и тихо. Заливались лесные птахи, и это верещанье птиц радовало человека, который знал, что при появлении кого-либо птицы замолкают на какое-то время, что и произошло вблизи от него. Там, за оврагом и вокруг него, шла лесная симфония, и это успокаивало человека. Он держал в руках немецкий автомат, известный в народе как «шмайсер», палец правой руки лежал на спусковом крючке. Затвор автомата был отведен в заднее крайнее положение. Он готов был открыть огонь в долю секунды. Медленно и осторожно ступая по густой траве, человек подошел к пологому краю оврага, выдвинул автомат и заглянул вниз. Затем он, оторвавшись от автомата, поднял правую руку, что для посвященного, как и для военных любой армии по уставу означало: «внимание», и начал так же осторожно спускаться вниз на дно оврага. Он медленно подошел к огромной деревянной колоде, лежавшей внизу, у основания которой находилось выложенное серым камнем довольно большое по диаметру углубление, частично покрытое от времени зеленым бархатом мха. Вода по колоде протекала в почти незаметную для глаза и также выложенную старым серым камнем канаву, уходящую куда-то вниз по оврагу. Был полдень, и в это время дня солнце ярко освещало родник. Человек хотел пить. Он снял висевший на шее на широком кожаном ремне автомат, положил его рядом с собой и наклонил лицо к водной поверхности, глядя в нее как в зеркало. Вдруг он вздрогнул, и правая рука мгновенно ухватилась за автомат. Там, внизу, из воды на него смотрели чьи-то глаза. «Холера ясна[112], надо же такому случиться», — тихо произнес человек и тяжело и облегченно вздохнул. Внизу, под водой, сидел тритон и, казалось, разумными глазами смотрел на готовящегося пить человека. Человек перекрестился, снял фуражку военного образца с прикрепленным в околышу трезубом, опустил вначале на несколько секунд лицо в холодную воду и только потом начал пить, медленно втягивая в себя ртом воду. Пил долго, пока не утолил жажду. Потом отстегнул с ремня добротную, обшитую темно-зеленым, местами протертым до металла сукном немецкую алюминиевую фляжку, снял стаканчик колпачок и еще выпил, а затем, чтобы не замочить сукно, этим же стаканчиком наполнил ее. Над оврагом было тихо. Человек той же дорогой медленно поднялся по склону, подошел к кусту волчьей ягоды и пощелкал языком. Из кустов ответили таким же звуком, и раздался знакомый человеку голос:
— Друже провиднык, я готов.
— Сейчас я тебя сменю, друже Роман, — ответил человек и вошел в кусты.
Через короткое время из кустов вышел тот, которого назвали Романом, и уже не так осторожно как первый спустился в овраг, повторив ту же процедуру, что и первый. Это были надрайонный провиднык СБ Игорь и его боевик Роман. Чтобы им уйти на Запад, как обещал Игорь, нужно было установить порванные МГБ связи с другими отрядами, которые располагали каналами выхода к польской и чехословацкой границам и дальше — до Западной Германии. Игорь был уверен, что взявший на себя командование остатками вооруженных отрядов УПА после гибели генерала Чупринки полковник Василь Кук, он же Лемиш, имеет эти каналы. Еще год назад Игорь встречался со связными Лемиша, и они рассказывали ему, что у полковника есть радиосвязь с американцами, что они вооружены американскими автоматами, доставшимися им из груза, сброшенного американским военно-транспортным самолетом. Игорь своими глазами видел американские автоматы, его научили пользоваться этим оружием. У связных были иностранные продукты питания — вкусные и сытные мясные консервы, разные концентраты. Все это вселяло уверенность в Игоря и его боевиков. Игорь и часть его людей чудом уцелели. Он знал, что Шувар жив, что он имеет связь с Лемишом, что Шувар тоже ищет его, Игоря. После того страшного боя Игорю так и не удалось найти Шувара, но он сумел выйти совсем недавно на нужных и надежных людей, через которых дал знать Шувару, что жив и ждет от него указаний…
Шли ходко, чутко прислушиваясь к лесным звукам и обходя густые заросли и завалы, на всякий случай, — вдруг там засада. Хотя было маловероятным, так как о их движении и маршруте никому, даже оставшимся в бункере хлопцам, известно не было. До заката солнца надо было пройти к бункеру, где их ждал Грицько, около двадцати километров, а там до второго бункера, где был Стефко, совсем близко, пару километров. Успеть надо. Ночью тяжело двигаться да и груз у них немалый — два полных вещевых мешка продуктов. Скоро зима, которую надо пережить в бункере. Все чаще задумывался Игорь о судьбе Грицька. Хлопец давно кашлял. Недавно удалось показать его надежному сельскому фельдшеру, тот своего врача нашел. Возили Грицька в самый Львов на рентген. Туберкулез, открытая форма. Игорь знал и свято соблюдал правила подполья — береги себя и своих товарищей. Больной туберкулезом должен быть изолирован от всех остальных. Вот почему выделили ему старый, но хорошо сохранившийся и более менее сухой бункер и оставили там одного. Он в этом бункере несколько месяцев, с весны. Сколько Грицько сможет выдержать? Ну, еще одну зиму. Так и с ума сойти одному в бункере можно. А если не выдержат нервы? Нет, Грицько на предательство не способный. Он, как и Роман, кровью повязан с Игорем. Помнил Игорь, как Грицько по его команде повесил на плече на мотузке нескольких сельских активистов, люди знали об этом, видели, кто совершал «правосудие» над большевистскими пособниками и предателями украинского народа. Приговор приводился в исполнение не по его, Игоря, решению, а сам Шувар дал указание, но люди-то видели Игоря и его хлопцев. И правильно сделал — предателям собачья смерть.
Игорь ни о чем не жалел. Вся его жизнь в прошлом, как и в настоящем, принадлежала подполью. Он был уверен в правоте своего дела, дела революционной ОУН. Не было выше авторитета для него, кроме Бога, чем Степан Бандера и его командиры, сражавшиеся на родных землях за свободную Украину. Он боготворил Бандеру и командующего УПА легендарного Чупринку и переживал его гибель. Только однажды ему удалось увидеть и услышать генерала Чупринку, чтобы навсегда сохранить его образ в своем сердце. Конечно, Василь Кук не был таким авторитетным, как знаменитый генерал, но и он достоин большого уважения, ибо в тяжелых условиях борьбы имел мужество взять на себя руководство всей вооруженной борьбой, сплотить вокруг себя немногочисленные отряды, оставшиеся после смерти Чупринки. Командир Игоря окружной провиднык Шувар, как и все остальные, оставшиеся в живых командиры оуновских отрядов, получил письменное уведомление от Лемиша, известного среди ОУН как полковник Василь Кук, что он взял на себя руководство подпольем, и через связных передал устно о встрече командиров для решения вопросов дальнейшей борьбы с советской властью на Украине. Те же связные, пришедшие от Лемиша к Шувару, своим бодрым видом, добротной экипировкой и американскими автоматами внушали Игорю и всем видевшим их партизанам надежду и уверенность в завтрашнем дне. В совещании участвовали все подчиненные Шувару командиры, и Игорь с радостью узнал от связных, что Лемиш разрабатывает план вывода на Запад через Польшу или Чехословакию еще сохранившиеся оуновские группы. Но для этого он должен соединить эти группы воедино, собрать всех вместе, произвести соответствующую подготовку, разведку, а затем двинуться в рейд и уйти в Западную Германию. Это было серьезное мероприятие, сопряженное с возможными боями и огневым прорывом через границу. Известен был и второй вариант — уходить в ФРГ мелкими группами по заранее подготовленным и проверенным маршрутам. В любом случае требовалась продуманная и подготовленная разведка и посылка пробной разведывательной группы в ФРГ по основному маршруту. Шувар был готов выполнить любое указание Лемиша и собирался двинуться на соединение с ним, если бы не та роковая засада.
Игорь люто ненавидел не только все советское, большевистское, но и все русское. Не случайно у него и автомат был немецкий, хотя очень нравился почти такой же русский ППС[113]. «Вот расстреляю все немецкие патроны и возьму этот русский автомат, — время от времени думал Игорь, поглаживая пальцами рубчатую эбонитовую рукоятку «шмайсера». — И в бою хорош, не так разбрасывает, как ППШ. Безотказный. Ствол в случае нужды заменить за пару секунд можно, боевую пружину сменить». У него всегда с собой был запасной ствол со специальным ключом для замены накалявшегося от длительной стрельбы ствола и пружина для замены лопнувшей. Такое случилось однажды в бою в 1947 году, когда они рейдом ходили в Карпаты и захватили на несколько часов райцентр Турку, перебив чекистов в райотделе НКВД. Огонь с обеих сторон велся страшный. На предложение оуновцев сдаваться работники райотдела отвечали огнем пулеметов и автоматов. Продвигаясь перебежками вместе с другими хлопцами ближе к кирпичному зданию райотдела и пытаясь зайти с тыльной стороны дома, Игорь расстрелял более десятка магазинов. Огонь со стороны дома стал затихать, наверное, кончились патроны. Неожиданно прямо перед Игорем возникла фигура с пистолетом в руке, направленным на него. Игорь вскинул автомат, но очереди не последовало, автомат отказал. Офицера с пистолетом «срезал» автоматной очередью бежавший за Игорем оуновец.
Здорово дрались большевики, до единого полегли, даже раненых не осталось. У всех оружие в руках без патронов. Добили их на всякий случай, но наверное, в мертвых стреляли, — вспоминал тот случай Игорь. И вдруг снова раздались пулеметные очереди. Кто-то из чекистов успел подняться на чердак с ручным пулеметом, залег за брандмауэром[114], к нему не подобраться. Ничем его не возьмешь, даже гранатой. Сыплет из пулемета беспрерывно. Уложил нескольких боевиков. Командир правильное решение тогда принял — бросить его, сектор обстрела у него все равно ограничен.
Игорь часто, особенно темными, душными, бесконечно длинными ночами, в бункере, перебирал в памяти свою жизнь, которая и вспоминалась ему в основном боями, тяжелыми рейдами, переходами, перестрелками и работой в СБ — врагов казнили, а глаза человеческие все одинаковы. Почти все казненные им люди умоляли не убивать их, плакали, теряя человеческий облик. Дерьмом от них воняло почти всегда — все из кишок вываливалось от страха. Таких он не жалел — ликвидировал даже с облегчением. Редко, но были и такие, особенно из коммунистов или чекистов-«энкэвэдэшников», которые умирали очень даже достойно. К тем, ненавистным врагам своим, он где-то в глубине души иногда относился со скрываемым от своих боевиков уважением. «Надо же так держаться», — думал об этих людях Игорь. Этого «энкэвэдиста» пьяного живым в хате захватили. Хозяева хорошо его подпоили, своим в лес сообщили. Принесли его хлопцы в лес, положили на травку, тот очухался, протрезвел сразу, когда увидел, кто его в лес привел. И больше ни слова не сказал, кроме тех, которые Игорь запомнил навсегда: «Товарищи мои найдут всех вас и отомстят за меня». — «Ты знаешь, с кем ты разговариваешь, курва твоя мама? — закричал тогда Шувар. — Я Шувар, слыхал о таком?» «Как же не знать такого бандита. Тебя-то мы и ищем. Придет время — найдем», — ответил чекист. «Ты младший лейтенант Иван Прилипко, подтверди это, — закричал тогда Шувар. — Назови агентуру НКВД в селе и всех тех, кто вам помогает. Кто твой начальник? Ответишь, может быть, дадим тебе жизнь. Ты ведь такой же украинец, как и мы — борцы за нашу родную незалежную Украину. Переходи к нам, вместе будем бить большевиков. Ты коммунист?» «Да, я коммунист, знаю, что умру, но и вам жить осталось недолго. Всех вас побьют. Ты хоть людей простых пожалел бы, Шувар, они-то за что должны гибнуть? Ты, Шувар, давно труп, тебе от нас не уйти. Вот поймают тебя наши, для начала ноги твои кривые выправят, а потом за душу возьмутся. Вот тогда поплачешь», — кричал связанный по рукам и ногам захваченный офицер, и пена от ярости и бессилия выступала на губах у него. Кривые и короткие ноги Шувара были его большой слабостью. Наследие голодного, рахитичного, рабского существования в нищей украинской семье, которая и видела только горе от тяжелой каторжной жизни в панской Польше. Такого оскорбления Шувар снести не мог. В лице изменился, весь перекосился от злости и взревел, повернувшись к своим помощникам при допросе, среди которых был и Игорь: «Вогнать ему в сраку бутылки, да побольше». Знал чекист, что это такое, лицо белым стало. Но молчит. Сняли с него сапоги, пригодятся другому, сняли галифе — тоже пойдут на дело, и вогнали в него одну за другой несколько бутылок. Умирал чекист тяжело, хрипел от боли, стонал, кровавая пена на губах пузырилась, должно быть, кусал себе от боли губы, зубами скрипел, но ни слова больше не вымолвил. «Отрежьте ему язык», — бросил Шувар и, повернувшись к лестнице, вылез из бункера через люк на свежий воздух. В бункере после таких допросов воняло…[115]
Однако кошмары никогда не мучили Игоря. Даже самое неприятное и страшное для обычного цивильного[116] человека воспринималось им как рядовое, нормальное явление в его суровой, полной ежедневной и ежечасной опасности жизни в подполье. Конечно, такие случаи, как дело с захваченным чекистом-коммунистом, было редкостью и душу немножко мутило, но это не смущало Игоря, он не испытывал ни угрызений ни совести, стыда, ни жалости, ни сомнений. В последний год все внимание, все усилия, все действия, все мысли были сконцентрированы в одну точку — найти связь с Шуваром. Он знал и понимал, что должен быть предельно осторожным, так как спецотряды госбезопасности после непонятного для него многомесячного затишья возобновили поиски бандеровцев, вновь начали арестовывать подозреваемых в связях с лесом селян, подбираться к его проверенным и надежно закрепленным многолетним сотрудничеством агентам.
Его радовал приход к нему Романа. Такие хлопцы очень нужны подполью, и он уведет его в Западную Германию. Они там передохнут, подучатся и включатся в настоящую работу по освобождению Украины от большевиков. Брать с собой на Запад Грицька он не может, да тот вряд ли и доживет до весны. Если он в этом году, до бункеровки, найдет Шувара, все равно нужно ждать весны следующего года. Зимой на Запад не пойдешь, это можно делать только летом — следов не видно. А если Грицько доживет до весны и его захватит «безпека»?[117] И вдруг он расскажет «энкэвэдистам» об уходе его вместе с Шуваром на Запад? Тогда большевики перекроют все границы и переход ее будет значительно затруднен. Бой возможен только при переходе последней, чехословацко-немецкой границы. Конечно, они прорвутся с боем и через советско-чешскую границу, но это означает практически гибель их отряда, который будет таким образом обнаружен, и вдогонку пошлют войска как чехословацкие, так и советские, а немецкая граница будет надежно перекрыта. У Игоря заколотилось сердце: «Ну ясное дело, это единственный выход. Господь простит его. Он лично застрелит Грицька, не говоря об этом ни Роману, ни Стефку. Он провиднык, он знает, что делает. Он застрелит его перед уходом на Запад, когда придет прощаться, и пусть бункер будет ему родной могилой. Так всем будет хорошо. Все равно Грицька ожидает смерть от болезни. Врач во Львове сказал это сопровождавшему Грицька фельдшеру. И так он многим тогда рисковал, направляя больного во Львов. Он, конечно, уверен в Грицьке, но прежде всего надо соблюдать правила подполья. Подвергать риску всю группу ради временного благополучия одного — преступление и ошибка». Так думал Игорь, принимая это решение, и на душе сразу стало спокойнее…
Часто вспоминал Игорь своих женщин, многочисленных подружек в селах, где он ночевал, или пополнял продовольствие, получал информацию, или просто отдыхал, брился, приводил себя и людей в порядок. Девчат он любил, и чем тяжелее становилась жизнь в подполье, тем чаще и острее тянуло его к домашнему теплу, ласковому и горячему женскому телу, ждавшему его и отдающемуся ему в краткий миг любви. Все его женщины — потерявшие своих мужей в партизанке, или в Красной Армии вдовы, или никогда не бывшие замужем девчата, — были желанными для него, и они ждали его, уверенные, каждая, что она — его единственная. Он мог месяцами не встречаться с ними, те знали, кто он и откуда, и терпеливо ждали сладкого для них ночного часа свидания. Каждую из своих женских связей он обставлял надежной агентурой и появлялся у женщины только после встречи с этой агентурой и получения самых свежих сведений. Предательства он ожидал от каждой своей связи и соблюдал высочайшую осторожность. Некоторыми он увлекался и встречался чаще, чем с другими. Чувство увлеченности быстро проходило и вскоре он забывал об этом, изредка вспоминал как приятно волнующее кровь событие; его увлеченность сменялась другой, и так все шло по кругу. Некоторых женщин он оставлял навсегда, даже если и был увлечен ими, получая настораживающую информацию, или выявляя в их поведении что-то ему непонятное, необъяснимое. Ему казалось, что он был в состоянии вырвать из сердца любую любовную занозу, что и делал довольно часто.
Не мог предугадать Игорь, что его черствую и огрубевшую душу озарит светлое для всего живого чувство — любовь. Разве мог он подумать, что встретившись однажды со связной из Ходорова кареокой смуглянкой Оленой Стасулой, известной в подполье под псевдонимом Джерело[118], до конца дней своих не сможет утолить вечную жажду всепожирающей любви, сколько бы ни пил из этого родника. Припав однажды к нему губами, понял он, что не сможет быть более без нее, и искал сам встреч с Оленой.
Девушка, попав впервые в своей жизни в такие жаркие и любимые объятия хлопца, поняла, что и он неповторим для нее, и отдалась ему, восторженная от чувства, охватившего ее. Так они любили друг друга, встречаясь у тетки Олены в селе, где она часто бывала не только по заданию организации, но и просто отдыхала летом. Олена закончила во Львове техникум культуры и работала какое-то время завклубом в селе, где и жила у тетки, а после смерти матери переехала в Ходоров, где устроилась на работу в районную библиотеку. В ОУН ее вовлекли во время учебы в техникуме, и она проявила себя заслуживающим доверия членом. Была какое-то время в лесу в партизанском отряде, но часто болела, простужалась, и командиры решили легализовать ее на постоянное жительство и работу недалеко от Ходорова, у ее тетки, использовав на линии связи, как надежного и проверенного члена ОУН. Вот тогда-то она и познакомилась с Игорем. Хрупкая внешне, но сильная физически, Олена без труда преодолевала расстояние в двадцать километров от Ходорова до теткиного села — где пешком, где попутной машиной или подводой, передавая полученные ею материалы от связных из Дрогобыча или Львова другим связным, и почти каждый раз встречалась с любимым. Утром нужно было быть на работе, и не спавшая ночь Олена чувствовала себя бодрой и здоровой — она была с любимым. Зимой они почти не встречались. Когда перед Рождеством шел обильный снегопад, хлопцы выходили из бункеров и шли к своим людям в села, Олена приходила к тетке и ждала хлопца. Ждала несколько дней. На работе договаривалась — по семейным обстоятельствам за свой счет. И вот она — долгожданная встреча, и жаркие объятия горячо сплетенных тел, и такие родные, любимые губы.
— Погубите вы себя оба, — возмущалась тетка, зная об их отношениях, да их и скрыть было невозможно.
— Тетка Марина, я Олену заберу с собой весной, — отвечал на это Игорь. — Далеко заберу, мы должны быть мужем и женой.
Сам того не ожидая от себя, Игорь хотел всегда видеть Олену рядом с собой, всегда иметь под рукой любимое тело. Никогда он не желал так женщину, как эту хрупкую дивчину. Он любил подолгу смотреть в бездонные глаза ее, ловил взгляд, полный любви и нежности. С ней он не вспоминал свое кровавое прошлое и не думал о непонятном пока для него будущем. Кроме любви их связывали тесные и прочные узы — они верили в будущее родной им Украины, в общем-то слабо представляя себе Украину за левобережным Бугом и Днепром. Олена вместе с Игорем читала литературу, поступавшую на Украину с Запада и передаваемую по линии связи в отдаленные уголки Западной Украины, где эти каналы еще не были перехвачены госбезопасностью. Они изучали историю Украины Грушевского[119], работы Виниченко[120]. Особенно любили читать вслух «Кобзаря» и другие так понятные им стихи Т. Г. Шевченко. Иногда тихо, почти шепотом, устав от любви, пели любимые песни. С Оленой Игорь нарушил святая святых подполья — он рассказал ей о своем родном селе, матери. Назвал свое настоящее имя. Договорились, что она не будет пока называть его этим именем. Совсем неожиданно для себя он доверился ей и сообщил о планах ухода через границу на Запад и спросил, готова ли она уйти с ним. Девушка ответила сразу же горячим согласием, сказав ему, что ей все равно куда, лишь бы быть вместе. Она уверена, что там, на Западе, в свободном мире они найдут свое счастье и смогут иметь семью и детей. Молодые люди были счастливы одной этой мыслью…
Беда подкралась как всегда неожиданно. Олена стала покашливать и жаловаться на слабость. Ее кашель показался Игорю уже знакомым, где-то слышанным. Ну конечно же, он походил на кашель больного туберкулезом Грицька. «Не может этого быть, — мелькнуло у него в голове. — Олена такая здоровая и цветущая дивчина. Пожаловалась на слабость, так ведь две ночи почти не спала. У нее была тяжелая ночная поездка во Львов, потом обратная дорога и еще ночь со мной. Тут и здоровый устанет, по себе знаю», — думал Игорь. И гнал от себя такие тяжелые мысли. Об Олене думал каждый день, перебирая в памяти детали их последней встречи, и улыбался про себя, и растворялся в нежности ее рук, губ и ласк.
На очередную встречу связная Джерело не пришла. Встревоженный Игорь, не дожидаясь запасной встречи, послал тетку Марину в Ходоров, а сам ждал ее возвращения, укрывшись в старом бункере в лесу. Тетка вернулась к обеду следующего дня и сообщила, что Олене стало плохо на работе, она потеряла сознание, ее увезли в больницу, сейчас ей стало лучше, она уже дома, но температура не падает. Просила передать, что ничего страшного, будет в следующий раз. Сам не свой был Игорь эти несколько дней в ожидании Олены. С субботы на воскресенье подошел, как всегда с охраной, к знакомой хате, постучал условным стуком 3–2–1 и замер в ожидании.
— Лезь в окно, — прошептал знакомый голос.
Уже в комнате Игорь прижимал к себе крепко Олену, лихорадочно ловил губами ее губы, а в ответ хриплый от волнения шепот:
— Не целуй меня, любимый, я тяжело больна, я заразная, у меня открытая форма туберкулеза легких, ты можешь заразиться, так врачи сказали, что я инфекционно опасная. В больницу областную должны положить, лечиться надо. Это очень долгое лечение — врачи говорят, — продолжала взволнованно и хрипло шептать Олена, всхлипывая на груди у Игоря.
Он растеряно гладил ее плечи, волосы, лицо и долго молчал, соображая, что же сказать ей в успокоение и надежду.
— Знаешь, родная моя, все можно вылечить, были бы деньги. Я тебе дам деньги, много денег, ты поезжай в Карпаты, в санаторий, там воздух лечит, мне рассказывали, я знаю.
— Я постараюсь быть здоровой, я буду лечиться. Ты не беспокойся за меня, я крепкая, я выдержу. Себя береги. А со мной не надо сейчас. Я люблю тебя больше жизни. Во имя любви нашей я должна выздороветь, — продолжала взволнованно и горячо шептать Олена. — Сейчас мы с тобой расстанемся. Оставаться вдвоем опасно для тебя. Уходи и не забывай меня. Ты у меня единственный на всю мою жизнь. Линию связи на меня закрой, ищи другого связника. По своей линии на Дрогобыч и Львов я людям уже сказала. Меня все поняли правильно. Не жалей меня, я должна все выдержать. Это испытание от Бога. Пусть Он благословит нас обоих, — и она целовала руки и одежду Игоря.
— Я буду ждать тебя всегда, — ответил мрачным и севшим от напряжения и волнения голосом Игорь. — Жди от меня вестей и денег, я передам с теткой Мариной, — поцеловал ее в волосы Игорь и, цепляясь за подоконник автоматом, полез через окно.
Во дворе его ждали хлопцы. Все ушли в ночь…
Игорь передал с теткой крупную сумму денег Олене и записочку, в которой писал, что через тетку будет передавать деньги на хорошее питание и врачей, что верит в ее излечение и никогда ее не оставит…
Олена долго лежала в областной туберкулезной больнице. Деньги у нее были, Игорь несколько раз передавал, но уже без записок, она была уверена — он соблюдал конспирацию. Потом тетка сказала, что Игорь хотел бы увидеть ее, просил встречу. С трудом добралась Олена в обусловленный день до теткиного села. Встреча с Игорем была безрадостной. Он сидел молча, держа ее руки в своих руках, а она плакала, не в силах сдержать слезы. Обоим хотелось близости… Отвернула лицо от любимого Олена, прижала платок носовой крепко ко рту, чтобы не закашляться случайно…
Расстались молча, и оба не знали, что навсегда.
Вскоре Игоря уведомили его информаторы, что Олену задерживали и допрашивали в райотделе ГБ, но она свою связь с лесом отрицала, ничего не рассказала. Непонятно откуда, но органам госбезопасности было известно об их любви и встречах у тетки. Вскоре пришла весточка через тетку Марину и от самой Олены. Тетка передала устный подробный отчет Джерело о ее задержании и допросе, что допрашивал ее какой-то представитель ГБ из Киева. Обещал вылечить, если она отдаст им Игоря и его хлопцев. Она любит его и никогда не предаст. Сообщила также, что ее мучил начальник Червоненко. Игорю стало спокойно на душе. «Родная Олена, не подвела меня. Выдержала все. А с Червоненко и этим представителем я перед уходом на Запад разделаюсь!»
Историю любви Олены и Игоря сообщил майору Супруну глубоко законспирированный и тщательно оберегаемый от расшифровки надежный агент. Но застать Игоря все не случалось — информация поступала задним числом. Вскоре Игорь порвал все связи в этом селе, а работать с умирающей Оленой было бессмысленно…
Я рвался в бой. Я чувствовал себя охотником, который вот-вот настигнет добычу. Иногда я представлял себе Игоря и его боевиков волчьей стаей, загнанной охотниками в лесок, который по всему периметру обложен флажками. Вожак стаи выйдет к флажкам, понюхает воздух — «Врагами пахнет!» — и вновь уведет стаю в лес. Бывают на такой охоте случаи, когда обложенный со всех сторон опытный и матерый вожак от отчаяния идет напролом, перепрыгивает флажки, кое-кто из стаи следует за ним, но все равно все они попадают под пули многочисленных стрелков, стоявших плотно на линии огня.
Опергруппа шла по следу Игоря, сжимая постепенно кольцо вокруг выявляемых связей бандгруппы. К нам поступили сведения, что люди Игоря прощупывают обстановку и подступают к колхозному зоотехнику в одном из сел, где он в прошлые годы имел агентуру и пособников. Говоря оперативно-жаргонным языком того времени, было принято решение «конспиративно снять» этого колхозного специалиста и, напомнив ему о его принадлежности в прошлом к ОУН и трехлетнем нахождении в бандеровском отряде, осуществить вербовку с целью выхода на Игоря или Шувара. Этот человек вышел с повинной несколько лет назад. Проведенным тогда следствием не было получено данных о его личном участии в конкретных боевых акциях бандеровских бандформирований и в других мероприятиях по ликвидации совпартактива. В общем, жил себе спокойно бывший бандеровец, работал исправно в колхозе, имел добротную хату, достаточно личной домашней скотины и птицы. По его показаниям в прошлом, он и оружия в лесу не имел, кашеварил, был фельдшером, потому что, как он говорил, лечить скотину и людей — одно и то же, — все они одинаково живые существа, требующие ухода и присмотра.
Но как «снять» его конспиративно, незаметно в условиях села? В городе можно в военкомат, райисполком, в домоуправление вызвать. Да и просто на улице, зная маршрут движения, «снять» незаметно от прохожих и в машину — пустяковое дело. А тут как? По согласованию с райкомом партии специально организовали районное двухдневное совещание животноводов, ветеринаров и зоотехников. Этого зоотехника задержали, когда он уже возвращался и подходил к своему селу, — вышли оперработники из кустов, посадили в стоявшую рядом автомашину — «козел» со шторками на окнах и через час беседовали мирно в райотделе. Вел он себя спокойно, на вопросы отвечал охотно. Рассказал и то, что органам не было известно: несколько месяцев назад кто-то из незнакомых ему боевиков приходил от Игоря, с которым он в прошлом был знаком по подполью. Почему не сообщил? Так ведь страшно. И кому он должен был сказать? Пьянице председателю сельсовета? А почему он должен ему верить? Ему жить хочется. Хватит с него и бункеров, и лесных переходов. Оказать помощь органам в захвате или ликвидации Игоря? А как это сделать ему одному? В принципе он согласен на сотрудничество с госбезопасностью, если будет исключен риск.
Взяв у Зоотехника (такой псевдоним ему дали после вербовки) соответствующую подписку о готовности и согласии оказать помощь в ликвидации или захвате Игоря и его боевиков, а также обязательство не разглашать ни сам факт контакта с сотрудниками госбезопасности, ни все ставшее ему известным в ходе этого сотрудничества, договорились, что он, прикрывая свое довольно продолжительное отсутствие личными делами в Ходорове, возвращается на курсы и уже потом вместе с остальным потоком участников совещания едет домой. Обговорили с ним и условия связи. Показали, как пользоваться ампулами спецпрепарата «Нептун-47», как включать аппарат «Тревога», как обращаться с пистолетом ТТ, которого, как он выразился, «в руках не держал, только видел у хлопцев в лесу». Договорились, что на очередной встрече ему вручат «Тревогу», «яд» («Нептун-47»), дадут пистолет и патроны к нему, в лесу проведут тренировочные стрельбы, так как Зоотехник продолжал категорически утверждать, что он никогда не пользовался никаким оружием. Зоотехник оказался на редкость способным «учеником». Если с ампулами он мог обращаться профессионально по своей работе, то с пистолетом он всех удивил необычайно. На глухой старой и заброшенной лесной делянке я расставил три чурки, взятые из штабелей лесозаготовок, по высоте и диаметру близкие к человеческому телу, и, еще раз показав Зоотехнику, как разбирается и собирается пистолет, как снаряжается магазин, поразил три бревна пятью выстрелами с расстояния 3–3,5 метра, промазав при этом дважды. Сказали Зоотехнику, что стрелять он должен только при условии, если в хате будет не больше трех бандитов и никого на дворе. Стрелять в крайнем случае, а самое надежное — дать им в пищу, водку, или воду «яд» из врученных ему ампул. Если боевики будут вместе принимать пищу за столом и при этом дадут попробовать вначале только одному, наблюдая возможную реакцию от препарата из ампулы, выбрать момент и стрелять через 5–7 минут обязательно, как только первый примет пищу. Этот-то первый через 5–7 минут уже безопасен — его палец не нажмет на спусковой крючок.
Каково же было наше удивление, когда Зоотехник привычными движениями рук, разобрал и собрал пистолет и, самое примечательное, — попал точно в середину каждого из трех бревен с первой попытки и с трех выстрелов. Дальнейшее обучение и тренировки в стрельбе отпали за ненадобностью…
* * *
Неприятным для меня были ночные встречи с агентурой в глухих селах и хуторах, куда я добирался вместе с кем-либо из райотделовских сотрудников, как правило, автомашиной, под прикрытием двух — трех солдат. Ночи темные, тихие. Машину оставляли с вооруженным водителем за 1,5–2 километра от места встречи. Далее двигались молча, стараясь не производить шума, особенно в лесу, где все хрустит и шелестит. За сто — сто пятьдесят метров оставляли солдат, проинструктированных заранее. Затем максимально осторожно с пистолетом или автоматом наготове выдвигались к самому месту встречи, где абсолютно невидимый в ночи нас поджидал агент, как правило, обычный сельский вуйко. Он сидел где-нибудь под стогом сена тихо, как мышь, и сердце обрывалось от страха, когда моя рука или нога упиралась или наталкивалась на что-то упругое, живое, человеческое. Садились рядом, тесно прижавшись друг к другу. От вуйки, как от каждого селянина, пахло чем-то кисловатым, как будто перемешались в одно целое запахи сквашенного молока, редко мытого тела, застоялого воздуха хаты, коровника, навоза и крестьянского, выжатого тяжелым трудом пота. Я жалел этих людей, так мало видевших радости и счастья в жизни. Почти все они не по доброй воле были связаны с госбезопасностью. Почти все — бывшие бандеровцы, партизаны лесные, или бандпособники, имевшие в прошлом тесные связи с подпольем ОУН, или повстанцы, оказывавшие в прошлом, а иногда и в настоящем (зачастую и без ведома госбезопасности), помощь своим братьям по классу — вчерашним крестьянам, а ныне подпольщикам, бандеровцам-оуновцам, революционерам, карбонариям[121], не знавшим и не понимавшим смысл этого слова, но слышанным ими от провидныков ОУН, так иногда называвших себя.
Шепотом вели короткие переговоры, типа: «Новости какие-нибудь есть? Хлопцы не приходили? Что слышно в селе?» И, как правило, такой же короткий ответ: «Не-а, ничего не слышно». И очень редко: «Говорили соседи (называлось имя), что в селе «А» на прошлой неделе тетка «У» слыхала на базаре от знакомой, что у такой-то сын в лесу видел вооруженных людей, не похожих на военных. Наверное, хлопцы из леса». На этом встреча заканчивалась. Иногда агенту давали, без расписки конечно, немного денег. Немного, потому что дали бы и больше, да как он эти деньги легализует, когда кругом сплошная бедность и безденежье. Я часто вспоминал двух красавиц сестер в одном из сел Дрогобычской области. Обе были в прошлом любовницами Игоря и обе честно и откровенно дали в свое время показания о нем и закрепили свои отношения с органами, отдав госбезопасности нескольких оуновцев. У этих девчат был свой счет с подпольем. Отца их лучшей подруги, пришедшего с войны с двумя орденами Славы и первым записавшегося в колхоз, повесили бандеровцы во дворе собственного дома. Дядька этот, когда остались сестры без родителей, помогал им выжить в лихое время то хлебом, то куском сала, то дровами, то деньгами. Любили и уважали его, как отца родного. Вот и мстили повстанцам. Правда, выборочно, не всем. Игоря уважали, он тоже когда-то помогал им да и спал с ними по очереди. Сестры не обижались. Мужиков все равно нет, а этот хоть изредка, да приласкает. Сильный мужик был, мог их всю ночь любить, по очереди, обеих.
Я несколько раз встречался с ними, темной ночью постучав условно в окно, вместе с Лихоузовым проходил в хату, и плотно занавесив окна старыми, рваными одеялами, мы вели короткие беседы. Жалко было этих красивых, еще совсем молодых, но уже обездоленных женщин. На голове вместо платков крашенные вафельные солдатские полотенца, вместо пальто ватники, на ногах — сапоги старые, тоже солдатские. От денег и дров отказывались — что соседи подумают, если что-то заметят. Единственная радость для них была — консервы мясные из погранпайка приносили с собой работники. Банки от них сестры глубоко закапывали потом на огороде, с которого в основном и жили. В колхозе на жалкий в те годы трудодень не прожить было.
Передали как-то мне на связь старого и опытного агента, проживавшего на хуторе, недалеко от крупного села. А у соседа его кобель здоровенный рыжий появился. Хозяин псину эту уже взрослым щенком из Львова привез. Собак тогда, по ночам гавкающих, в селах, и тем более по хуторам, почти не было — всему ночному лихому люду, как подполью, так и госбезопасности мешали спокойно работать. Несколько месяцев не проводились встречи с этим агентом. Сбежались накоротке обусловленно в Ходорове, что было небезопасно для него, а он и говорит, что щенок превратился в громадного злого пса, который за километр чует чужого и так лает, что все на хуторе просыпаются. Как быть? Убить бы надо. Я и говорю вознице, чтобы тот пристрелил пса. Возница ни в какую: «Я собак люблю, стрелять не буду, просите другого». Я — к одному из оперработников, убей, мол, собаку. Тот отвечает, да в присутствии других сотрудников, что это не его участок и стреляйте собаку сами. Показалось мне, что смотрят на меня сотрудники насмешливо — что будет делать «представитель» центра. «Ладно, сам пристрелю пса», — сказал я и вышел из комнаты. Велел вознице бричку снарядить и срочно, пока светло, выехать на этот хутор. Поехали. Проезжаем по пыльной дороге рядом с хутором, пес и выскочил. Лает остервенело, мчится за бричкой в клубах пыли, норовит за колесо или подножку брички ухватить зубами. Глаза ярко желтые, злобные, пасть от ярости в пене, клыки здоровенные. Такой порвет до смерти человека чужого. Передернул я затвор своего ППС, почти ко лбу норовившего ухватить меня в бричке пса приставил. Щелкнул звонко выстрел, погашенный огромным вокруг пространством, и пыль поглотила мгновенно замолкнувшую и исчезнувшую в ней собаку. Сейчас, видя на московских улицах больших собак — бомжей, я с болью в сердце вспоминаю эту кому-то преданную псину и сожалею о том выстреле и собачьей, никому не нужной смерти. Боялся, что подумают обо мне коллеги как о мягкотелом работнике, характер нерешительный боялся показать. С тех пор, если найдется в кармане завалявшийся кусочек чего-то, а иногда и специально взятый с собой, дам собаке, особенно большой и рыжей. Бередят старую душевную рану мою многочисленные московские собаки — бомжи, не имеющие ни дома, ни хозяина, но всегда делающие вид, что кому-то принадлежат, что у них тоже есть хозяин, и спешат куда-то по одним им известным собачьи делам…
Возница после этого случая с собакой несколько дней избегал разговоров со мной. Потом отошел.
В начале осени 1953 года в селе Черче на Станиславщине силами Ходоровского мотомехдивизиона проводилась операция по захвату двух связников, следовавших от Шувара к Игорю. Сведения о их появлении поступили в ходоровский райаппарат совершенно неожиданно. Начальник Рогатинского райотдела по телефону сообщил в Ходоров, что один из его агентов задействовал «Тревогу», а это означало, что он применил к посетившим его бандеровцам спецпрепарат «Нептун-47», после чего и включил это устройство. Местные органы были готовы к появлению людей Шувара или Игоря, но кто именно пришел к их человеку и сколько, пока не было известно. Оперативного состава в это время в Рогатине было немного, помощь из Ивано-Франковска явно не успевала. Действовали с Ходоровом по заранее подготовленному плану. Буквально за час оперативная группа и рота солдат были на машинах доставлены в район проведения операции. Боевики проделали большой путь и решили на пару дней остановиться на отдых, как они полагали, у надежных людей, оказавшихся в действительности давно сотрудничавшими с органами госбезопасности. После стыковки в обусловленном месте рядом с селом с оперативниками из рогатинского райаппарата весь состав прибывшей из Ходорова группы выдвинулся к уже известной хате и блокировал ее. С момента поступления сигнала «Тревоги» прошло почти три часа. Действие препарата заканчивалось. Ждали появления хозяина, который должен был, как его ранее инструктировали, выйти из хаты на дорогу и идти в сторону леса. Хозяин не появлялся. Как выяснилось позже, он боялся выйти на улицу и ждал развязки событий у себя в доме. Ни офицеры-войсковики, ни солдаты тем более не были вообще посвящены в применение сильнодействующего на организм человека специального препарата. Парадоксальная ситуация: все местные жители знают, что чекисты используют для захвата живыми оуновцев «отруту», а наши военные спецподразделения не знают, так как это мероприятие являлось сверхсекретным. Во всяком случае никто из участвовавших в данной операции военных не знал об этом. Хата была окружена плотным кольцом автоматчиков, перекрыты все возможные пути отхода, на самых опасных, граничащих с лесом участках установлены пулеметы. В нужных местах расставлены и проинструктированы ракетчики…
Громко стукнула дверь, раздался слышный в ночи стон, и сразу же в небо ушла осветительная ракета, заливая мертвым, голубоватым светом окрестность. Четко высветились от ракеты две согнутые фигуры, стоящие со свисающими с плеч автоматами. Бандиты! Длинная автоматная очередь разодрала тишину ночи. Погасла ракета. Чернильная темнота и свистящий злобный голос офицера солдату: «Ты что наделал, сволочь! У тебя была команда стрелять?» «Я испугался, товарищ капитан». Со всех сторон ударили лучики карманных фонариков. Офицеры-оперативники и войсковики подбежали к лежавшим посредине двора, почти касаясь друг друга, двум мужским телам. Один явно мертв. Несколько пулевых отметин на спине и голове. Второй без признаков ранения лежит на спине, широко раскинув руки и ноги. Он тяжело и надсадно стонет. «Препарат действует, живой, наверное», — думаем мы.
— Заноси обоих в хату, — командует кто-то из офицеров солдатам.
Те берут тела и несут их к хате.
— Этого осторожно, он живой, — продолжает командный голос. — Рацию сюда, и быстро.
Солдаты вносят тела в большую светлую комнату, на голубоватых от синьки стенах — раскрашенные по трафарету листья клена зеленого цвета. В комнате остаются только офицеры и запыхавшийся от быстрого бега военный фельдшер, прибывший на операцию, как и положено, вместе с солдатами. Он поднимает веко одного из лежащих на полу и коротко бросает: «Мертв, можно было и сразу сказать, что мертв, вон сколько в нем дырок, только в голове две». И сразу начинает заниматься раненным. Тот лежит на полу, вытянувшись во весь рост. Здоровенный красивый парень с золотистым, потемневшим от пота кудрявым давно не стриженым чубом. Волосы на затылке намокли от крови. Фельдшер прощупывает голову и говорит, что голова целая ран на ней нет. Откуда же кровь? Он осторожно с помощью офицеров переворачивает тело на живот и разрезает своими ножницами из медицинской сумки грязную и намокшую со спины от крови гимнастерку. Вот оно ранение.
— Пуля прошла по касательной у основания шеи, там, где шейные позвонки переходят в позвоночник. Крови немного, но, видимо, пуля задела позвоночник, зацепила что-то важное. Может быть, разрушила часть позвонка, — говорит фельдшер. — Необходимо срочное хирургическое вмешательство в стационарных условиях, а пока я смогу только перевязать его.
Он ловко и быстро делает раненому укол и перевязку. Связь по рации уже задействована. Об исходе операции сообщили во Львов, Дрогобыч и Ивано-Франковск. Спрашивают, как быть с врачом. Сохранить жизнь, в общем-то, случайно раненному оуновцу крайне важно для выхода на действующий канал связи. Тем более что в кожаном футлярчике старой офицерской портупеи, предназначавшемся для командирского свистка, обнаружен и изъят «грипс» — прошитая белой ниткой и залепленная с концов записка на вощеной бумаге. Пока не ясно, кто именно убит и кто этот оставшийся в живых. Портупея принадлежит раненому, всем понятно, что «грипс» имеет какой-то конечный пункт назначения и без живого «почтальона» заполучить адресат практически невозможно. Запищала рация — это Львов. На связи сам начальник управления — генерал Шевченко. Он говорит, чтобы приняли все меры к сохранению жизни раненого, что через час в село Черче вылетит санитарный четырехместный самолет. По авиационной карте посадка в это время года возможна рядом с селом у реки. Пусть люди проверят еще раз луг на предмет надежности посадки. В самолете будет врач, оперработник и агент — в прошлом один из руководителей СБ, который в лицо должен знать этих двух, если они боевики Шувара. За окнами сереет. Часть офицеров выходит, чтобы организовать прием самолета. Тело убитого выносят и кладут во дворе на брезент. Небо на востоке начинает светлеть и почти сразу же слышен стрекот санитарного «кукурузника». Еще через полчаса в комнату входит врач, сразу же склонившийся над раненым. Он тихо о чем-то переговаривается с фельдшером. Рядом стоят львовский оперработник и агент. Агент, внешне солидный и представительный мужчина с протезом вместо левой руки (позже я узнал, что этот довольно известный в подполье руководитель попал в плен без сознания, с ним долго работали, и в конечном итоге склонили к сотрудничеству, вернув ему за это жизнь и семью из Сибири), наклонился над раненым, который, придя в себя, осматривал из-за полуоткрытых век комнату и столпившихся вокруг него людей.
— Вы узнаете меня, друже Сирко? — спрашивает лежащего на полу раненого агент из Львова.
— Да, узнаю, друже провиднык.
— Кто я и какое у меня псевдо?
— Вы, друже провиднык Дуб, — отвечает раненый оуновец, и лицо его искажается то ли от боли, то ли от подобия улыбки. Он медленно слепым движением поднимает руку, как будто хочет коснуться бывшего «эсбиста», который так же протягивает к нему навстречу руку, пальцы их соприкасаются.
— Да, я узнал вас. Это хорошо, — еле слышным голосом произносит Сирко, и глаза принимают бессмысленное выражение, взгляд становится отсутствующим.
Он снова медленно поднимает руку по направлению к стене:
— Листья, какие зеленые листья, — чуть слышно шепчут его запекшиеся губы, и он вновь впадает в беспамятство.
Дуб пытается что-то еще спросить Сирко, но тот совсем не отвечает и закрывает глаза.
— Я знаю их обоих, — обращаясь к стоящим рядом с ним оперативным работникам, говорит Дуб. — Там во дворе, убитый — Соловей, а это Сирко, оба боевики Шувара.
Не приходящего в сознание Сирко на носилках несут к самолету. В хате остается несколько оперативников Рогатинского райотдела, с ними подъехавший из Ходорова майор Червоненко, старшее начальство ходоровского мотомехдивизиона. Все ждут руководство из Ивано-Франковска. Село Черче — их район, операция проводилась на территории их области. Надо уладить кое-какие формальности с оставшимся во дворе телом, провести работу с хозяевами, их соседями, с жителями села, ставшими очевидцами происшедшего. Главное — залегендировать непричастность хозяев хаты к чекистской операции. Местные оперработники приступают к известной им работе. По сути, произошел провал операции. Речь шла о захвате связников Шувара живыми. Солдат плохо проинструктировали. Здесь была вина и оперработников…
В райотделе меня ждала телефонограмма из Львова — срочно вместе с изъятым у Сирко «грипсом» выехать во Львов, куда через несколько часов из Киева прилетает сам министр Тимофей Амвросиевич Строкач. Дана команда пока «грипс» не вскрывать — это сделают специалисты во Львове, чтобы в случае необходимости, узнав содержимое, вновь так же аккуратно запечатать и проводить нужную оперативную игру. Той же телефонограммой сообщается, что Сирко умер во время полета во Львов.
На мгновение в голове мелькает мысль: «Такой здоровый и красивый хлопец, богатырь, и такая маленькая пулька по касательной. И смерть. Он так был нужен живой. Хорошо, что от него остался этот бандитский «грипс», он, может быть, поможет что-то сделать для захвата или ликвидации банды». Я поглаживаю осторожно пальцами эту таинственную, закатанную в трубочку и слегка сдавленную, чтобы удобнее прошить ниткой, залепленную с обоих концов воском длинную полоску вощеной бумаги. «Что же там написано, кем и кому?» — думаю я и, аккуратно упаковав в конверт записку и положив ее в офицерскую сумку, спускаюсь к ожидающей меня автомашине.
Во Львове все ждут министра. Команда вскрыть захваченный у боевиков Шувара «грипс» уже получена, и специалисты из Львовского ОТО ловко и успешно, не портя, как говорится, документ, делают это. Посвященные в секретное мероприятие читают исполненный химическим карандашом и мелким почерком на вощеной желтоватой бумаге 8х20 см, сложенной в гармошку следующий текст:
«Друже Iгор! Зустрiч з Вами вiдбудеться першого понедiлка кожного мiсяця о 17 годинi за московським часом в горiлому лiсi бiля того бiлого каменi, де в 1948 роцi сл. п.д. Жук забив двох бiльшовикiв.
Шувар[122].Записку фотографируют, чтобы можно было работать с текстом, не прикасаясь к оригиналу. На совещании принимавших участие в этой операции и связанных с ней сотрудников министр делает жесткое замечание по поводу результатов — надо было, как и планировалось, брать только живыми, все условия для этого были, боевики Шувара в момент стрельбы, которая велась на поражение, находились под воздействием спецпрепарата. Почему получился такой непонятный срыв? Почему солдат открыл огонь? Солдаты должны были быть предупреждены, что в данной операции стрелять можно только по команде и не проявлять никакой инициативы. В результате — просчет и недоработка. Ищи-свищи теперь ветра в поле. Конечно, продолжал министр, мы будем с использованием полученного «грипса» проводить комбинацию, имея целью выход на Игоря и Шувара. Министр внимательно обводит взглядом присутствующих, и, обращаясь к начальнику отдела МВД Украины майору Петру Яковлевичу Свердлову, спрашивает:
— Может быть, Петр Яковлевич, дадите пояснения?
Петр Яковлевич Свердлов, самый молодой начальник отдела в системе госбезопасности Советского Союза (так, во всяком случае, утверждали киевские кадровики), невысокого роста, с добрым типично славянским лицом, покрытым веснушками, и рыжеватой копной волос, подстриженных под модный в те годы полубокс, резко поднялся с места.
— Товарищ министр, к сожалению, операцию провели неудачно. Я не снимаю вины с себя и с оперработников, задействованных в ней, тем более операция контролировалась участвовавшими в ней сотрудниками центрального аппарата. Стрельба произошла случайно. Поднятая по тревоге рота ходоровского мотомехдивизиона укомплектована на 80 % солдатами первого года службы. Большинство из них находится в дивизионе не больше двух месяцев. Кроме офицеров никто из них не принимал участия в чекистско-войсковых операциях, живого бандита не видели.
— Вы должны были, товарищ Свердлов, учесть это, тщательно проинструктировать солдат, разъяснить им, что стрелять следует только по команде командира. Почему вы не сделали этого?
— Тимофей Амвросиевич, наши сотрудники, следовавшие вместе с ротой солдат, по дороге дали прямое и строгое указание всему офицерскому и сержантскому составу не стрелять без команды, бандиты нужны живые, что нами все предусмотрено для их захвата. Но у нас даже офицеры-войсковики не посвящены в мероприятия с использованием наших спецпрепаратов. Это сверхсекретная акция. В то же время нам хорошо известно, что население Западной Украины, связанное с оуновским подпольем, от мала до велика не только знает о применении спецпрепаратов, или, как они его называют, «яда», но и способы защиты — пищу пробуют на животных или на хозяевах. На этот счет у бандитов по линии их СБ свои указания имеются. Солдат не виноват. Он не знал о команде «не стрелять», до него командиры этой команды не донесли, мы разбирались и точно установили. Офицеры и младшие командиры и мотомехдивизионе, виновные в этом, наказаны.
— Ладно, Петр Яковлевич, не будем размахивать кулаками после драки. Работать надо лучше. Я дал указание по всем восьми западноукраинским областям искать убитого бандита по кличке Жук, кто из советских людей — военных или гражданских — был убит где-то в «горелом лесу, около белого камня». Пока нет результатов. Бандитов по кличке Жук известно не один десяток, а что касается, как указывает в своей записке Шувар, ликвидации неизвестным нам пока Жуком «двух большевиков», то в 1948 году в боях с УПА и другими бандитскими формированиями погибли сотни советских людей — и по одному, и по двое, и по трое, много погибло. Вряд ли мы найдем именно это место.
Совещались долго, с перерывами. Было принято решение изготовить «грипс» от имени Шувара к Игорю, дать свое место встречи и условия. В распоряжении органов госбезопасности имелось несколько «грипсов», ранее перехваченных от Игоря к Шувару, Уляну, и еще нескольким руководителям оуновского подполья, и от них к Игорю. Последняя оуновская записка от Игоря была всего лишь пару месяцев назад. Обсуждался вопрос выхода на Шувара. Порешили предоставить место встречи его с Игорем на одном из глухих хуторов, где, как нам было известно, проходила встреча командиров УПА в 1948 году, на которой они оба присутствовали.
— У нас есть подготовленные для этой встречи с Игорем люди, которые бы смогли доказать Игорю, что они боевики Шувара? — спросил министр. — Вы все хорошо знаете, что Игорь, направив «грипс» Шувару, выйдет на встречу только с ним и ни с кем другим. Встреча состоится только в светлое время суток, о чем всегда пишет Игорь. Он хорошо знает всех своих адресатов и. если на встречу выйдет неизвестный ему человек станет стрелять. Я не знаю, кто бы из наших людей рискнул пойти на это, да и стоит ли это делать.
— Я сам пойду, товарищ министр, — громко произнес Свердлов и встал со своего места. — Я готов выступить в роли Шувара. Роста я с ним одного, он такого же телосложения, плотный, круглолицый, меня могут специалисты подгримировать под него. У нас есть четкие его фотографии, есть лично знавшие его люди, наша агентура, его бывшие боевики. Все пройдет успешно, я уверен. Я ликвидирую его лично. Дадим Игорю известное ему и Шувару место встречи у заброшенного старого колодца в лесу, рядом с хутором, где мы недавно изъяли бандитский архив. Об этом мероприятии никто не знает. А документы в него в разное время закладывались и Игорем, и Шуваром.
— Мы знаем, что ты, Петр Яковлевич, смелый человек, опытный профессионал. Но разрешить даже тебе такую операцию не имеем права. Игорь будет внимательно просматривать окрестности, организовать нашу засаду, не обнаружив себя при этом, практически невозможно. По правилам подобных встреч он будет сам наблюдать и фиксировать всех людей, подъезжающих или проходящих в сторону хутора. Шувар, как Игорю известно, будет выдвигаться к месту встречи в сопровождении одного-двух боевиков. Подходы к хутору хорошо просматриваются со всех сторон. Входить в контакт с хозяевами хутора в данном случае не имеет права ни та ни другая сторона. Только при этих условиях, хорошо зная лично Шувара, как говорится «в лицо», Игорь выйдет навстречу.
— Тимофей Амвросиевич, — продолжал горячо доказывать Свердлов, — он меня в гриме, в плащ-палатке не признает сразу как подставу, я успею расстрелять его из автомата.
— Нет, Петр Яковлевич, ни тебе, ни твоим людям условия такой дневной встречи, которые диктует Игорь, не подходят. Он не случайно в своих записках предупреждает — встреча только лично с Шуваром и только в светлое время суток. И знаете почему? — спросил министр, обводя всех присутствующих взглядом который, в конце концов, остановил на Свердлове. Все молчали. — У Шувара есть особая примета, известная всем, знающим его в подполье. У него кривые ноги, и это заметно издалека. Они у него аномально кривые, колесом. Уловив неладное, Игорь первым откроет огонь. И нет нашего майора Свердлова. С твоими ногами ты явно не подходишь на роль Шувара, — улыбнувшись, произнес министр.
Все невольно посмотрели на ноги Свердлова — подтянутый, молодцеватый, в полувоенной форме, в новых хромовых офицерских сапогах, его прямые и стройные ноги даже при самом большом воображении и фантазии невозможно было представить кривыми…
Мне поручили срочно выехать в Киев с «грипсом» — оригиналом, чтобы с помощью специалистов точно воспроизвести известный Игорю почерк Шувара и дать свое место встречи. В Киеве я впервые увидел, как работают специалисты по подделке почерков, подписей, любых кем-либо исполненных письменных документов. Их было двое на всю Украину. Большие мастера. Оба бывшие летчики и оба Николаи. И вся хитрость — столик с матовым стеклом, подсвеченный сильной лампой снизу, тонкая, плотная, как папиросная бумага, калька, на которую наносилась точная копия почерка объекта. И все. Остальное — умелые руки и максимум внимания. Такие мастера — от Бога. Никакая графическая экспертиза не выявит подделки. Это точно. В последующие годы, работая за рубежом и в Москве, я неоднократно имел дело с подобными спецами — профессионалами высочайшего класса: например, они могли ловко и быстро вшить в одежду так называемый «спутник»[123], который позволял контролировать самый тихий разговор вне помещения, а затем, проведя соответствующую комбинацию, так же ловко изъять микрофон. Или быстро вскрыть без повреждения сейф, любой кодовый замок…
Через день я возвращался в свою опергруппу, заехав по дороге во Львов для доклада начальству. Новый «грипс» выглядел точно так же, как оригинал, но был уже с другой «начинкой». Игорь получит, если комбинация пройдет успешно, новое место встречи, где и будет ждать его чекистская пуля…
* * *
В актовом зале Львовского управления госбезопасности проходило расширенное совещание начальников райотделов в Западной Украине. Повестка дня одна — уничтожение полковника УПА Васыля Кука, взявшего на себя, после ликвидации в 1950 году генерала Тараса Чупринки, все полномочия и всю власть в руководстве агонирующего, но все еще опасного оуновского вооруженного сопротивления. Найти Лемиша во что бы то ни стало, не считаясь ни с чем. Таково указание Москвы и Киева. Руководство было увер, что, как только будет захвачен или ликвидирован Кук, все те, кто с оружием в руках продолжает сопротивление, утратив консолидирующую основу, выйдут с повинной или будут уничтожены. Чекисты понимали обреченность этих людей и располагали точными агентурными данными, что сдаваться они не намерены. Не случайно руководители этих маленьких очагов сопротивления искали выходы на Запад, чтобы уйти от уничтожающего удара, хорошо сознавая, что другого пути нет — вокруг была смерть, которую эти последние бандеровские могикане готовы были принять во имя своих националистических идеалов, прочно вбитых в их головы, Донцовым[124], Петлюрой, Бандерой и другими многочисленными идеологами и толкователями украинского вопроса.
ЦК Компартии Украины по команде Москвы не случайно ставил вопрос о захвате Лемиша живым. Потом обрушить на него водопад идеологического воздействия, сломить его политическую волю «самой современной марксистско-ленинской идеологией», заставить поверить в победу коммунизма, советской власти на Украине. А Украина принадлежит не только украинским националистам, но всему украинскому народу, всем трудящимся Советского Союза, так как является составной частью Советского государства, самой крупной советской республикой. Доказать Лемишу, что идеологическая основа его вооруженной борьбы с советской властью несостоятельна и была обречена на провал с самого начала. Лемиш был нужен живым, чтобы заставить его работать на советскую власть. Он сможет под нашим влиянием и, разумеется, с собственного согласия, с нашей помощью написать нужное нам обращение ко всем украинцам, в том числе и к диаспоре за рубежом, в котором не только откажется от националистических идей, публично покается в своих заблуждениях, но и призовет ту часть все еще непокорных украинцев к повиновению советской власти, ибо именно эта власть самая справедливая на Земле, и т. д. и т. п.
Так или приблизительно так рассуждало руководство госбезопасности Украины, составляя планы захвата полковника УПА Васыля Кука живым. В любом случае, живой или мертвый, Лемиш был нужен органам для осуществления ряда широкомасштабных акций, направленных если не на разгром, то на значительное ослабление влияния зарубежных центров ОУН, активно сотрудничавших с американскими и английскими спецслужбами.
Органы ГБ Украины имели надежные источники в Мюнхене и располагали самой свежей и точной информацией о действиях ЗЧ ОУН и ЗП УГВР. Почти все каналы связи с Мюнхеном были перехвачены, успешно велись оперативные радиоигры от имени легендированных органами госбезопасности оуновского подполья и групп, якобы все еще действующих на территории Западной Украины. В любом случае органы ГБ планировали использовать имя полковника Васыля Кука даже в случае его гибели. Вот почему, спустя длительное время после захвата Лемиша в мае 1954 года, все еще продолжались его поиски с привлечением крупных пограничных и войсковых частей, проводились крупномасштабные чекистско-войсковые операции. О задержании и аресте Кука и его жены Уляны знало только несколько десятков чекистов, строго предупрежденных о неразглашении факта захвата этого бандеровского лидера. Насколько мне было известно, из числа гражданских властей о захвате Лемиша знали только три человека — секретарь ЦК Компартии Украины А. И. Кириченко, секретарь по пропаганде ЦК и генеральный прокурор Украины Р. А. Руденко. Даже когда тюрьму КГБ посещал прокурор по надзору Генпрокуратуры и производил обход всех камер и помещений тюрьмы, Кука и Уляну под предлогом прогулки срочно выводили в город в сопровождении обычно двух оперработников, что впоследствии вызывало у Василия Степановича ехидный вопрос: не боялись ли чекисты тогда, что он мог сбежать — ведь практически без охраны ходили по городу. Опытный конспиратор, Кук, конечно же, был уверен, что охрану его на улице осуществляют не только открыто приставленные к нему оперработники, но вряд ли он догадывался о масштабности охранных мероприятий. Подобные вынужденные «прогулки» тщательно обставлялись надлежащим сопровождением и охраной минимум двумя бригадами (а это до двадцати человек) наружного наблюдения, которое, конечно же, и понятия не имело, каких важных «птичек» оно охраняет…
Тогда, в начале 50-х годов проводился ряд агентурно-оперативных комбинаций по захвату Лемиша.
С помощью легендированной бандбоевки в оуновское подполье по действующим его каналам был внедрен агент Партизан, которому удалось установить связь с боевиками Лемиша, полностью войти к ним в доверие. Была проведена остроумная комбинация. Партизан с двумя агентами из числа бывших бандеровцев, действуя от имени легендированного оуновского подполья на территории Хмельницкой области, несколько раз встречался с настоящими подпольщиками. Это были боевики Лемиша, известные госбезопасности, Чумак и Карпо, которые по заданию Лемиша разыскивали одного из командиров УПА с Волыни. К этому времени разыскиваемый Лемишем провиднык вместе со своей боевкой был уничтожен спецподразделением госбезопасности, и органы ГБ, сознательно скрывая факт его гибели с целью проведения планируемой операции, инсценировали благополучный выход из боя, отрыв с двумя также «уцелевшими» боевиками от преследовавших их чекистов и отход по надежным маршрутам к старым связям на территории Хмельницкой области. Лемишу и раньше было известно, что этот человек поддерживал контакты с несколькими оуновскими группами в восточных регионах, но он эти связи не знал, проверить их не имел возможности, как и не мог знать, у кого именно тот укрывается. Партизан якобы лично знал провидныка и его боевиков в Хмельницкой области и так точно, в деталях описал внешность этих людей, так увлекательно и убежденно пересказывал Чумаку и Карпу некоторые, в общем-то, известные в подполье истории из жизни этих подпольщиков, что у Лемиша, которого Чумак подробно информировал о встречах с Партизаном, не осталось и тени сомнения, что он имеет дело с настоящим подпольщиком, а не с подставой госбезопасности. И все же что-то настораживало Лемиша, останавливало его от принятия решения лично встретиться с Партизаном. Перепроверить Партизана с помощью СБ у Лемиша не было возможностей — времена были уже не те, да и аппарата оуновской СБ больше не существовало. Все было разгромлено чекистами. Но даже если бы Лемиш и принял тогда решение встретиться с Партизаном, захватить живым его для ГБ было бы нереально. В этом случае Лемиша можно было только ликвидировать руками того же Партизана. Время шло. По вопросам Чумака Партизану было понятно, что его проверяют и что даваемая Чумаку линия поведения с ним разрабатывается самим Лемишем. Вначале Партизану показалось, что Чумак ведет себя настороженно и не доверяет ему. Однако через некоторое время он рассказал Партизану, что имеет указание своего провидныка выйти с помощью Партизана на руководителей подполья в Хмельницкой области. Лемиш принял решение пока на встречу с Партизаном не выходить, попытаться как-то еще раз проверить его искренность, для чего, не посвящая в суть вопроса Чумака, передать через него Партизану, что он, Лемиш просит отправить боевиков Партизана в Хмельницкую область, а самому Партизану ждать встречи с ним. Лемиш планировал предпринять, как ему казалось, последнюю, более или менее действенную проверку Партизана: он затянет встречу с ним, сейчас глубокая осень, скоро выпадет снег, придет время укрыться в бункере. Он передаст через Чумака предложение Партизану перенести встречу с ним до весны, а самому Партизану вместе с Чумаком и Карпом перезимовать в надежном бункере. Если Партизан не связан с госбезопасностью, он подчинится указанию Лемиша и проведет зиму вместе с его людьми в бункере, на что, и в этом Лемиш был уверен, агент ГБ никогда не пойдет, не имея санкции своих начальников. Вскоре Чумак докладывал провидныку, что Партизан воспринимает Лемиша как единственного после смерти Чупринки руководителя всего вооруженного подполья и готов беспрекословно подчиняться ему.
Партизан и его оперативные начальники были убеждены, что сам Лемиш на связь с легендированным подпольем ОУН в Хмельницкой области, по крайней мере сейчас, не пойдет, а направит туда своих надежных боевиков. Смешно было бы полагать иначе, зная конспиративность, осторожность, многолетний опыт в подполье Лемиша, применяемые им хитроумные и многократные уходы от органов ГБ и его агентуры. Самого Лемиша на конспиративной квартире органов госбезопасности, роль которой исполняла обычная сельская специально оборудованная для захвата хата, конечно же, не ждали. Но получить живыми оуновцев, связанных с самим Лемишем, — уже означало огромный успех. Этого ждали и на это надеялись. А там — кто знает, как начнут разворачиваться события. Ждать надо. Ждать терпеливо и долго. Печальный опыт, когда нетерпение и жажда успеха, получения наград, повышений и поощрений превышали разумный уровень, у органов имелся предостаточный. Я вспоминаю историю с эмиссаром ЗП УГВР Охримовичем, заброшенным в Западную Украину.
За два года до описываемых событий в мае 1951 года над территорией Западной Украины появился английский военно-транспортный самолет, который на парашютах выбросил под Ровно группу «посланцев» ЗЧ ОУН из Мюнхена, возглавлявшуюся руководителем службы безопасности ОУН Мироном Матвиейко. Внедренный в зарубежные центры ОУН агент КГБ успел сообщить о точной дате вылета и вся группа была без труда захвачена чекистами на конспиративной квартире легендированного подполья.
Захват Матвиейко («Усмiха»)[125] осуществлял опытный чекист капитан Иван Константиновича Бабаенко, который руководил легендированной бандбоевкой.
Приземление Матвиейко в заданный район, где его ожидали «боевики», прошло успешно. Сразу же после короткого взаимного представления, знакомства и марш-броска в другой район расположились на отдых. Матвиейко, в нарушение свято соблюдавшихся в оуновском подполье правил конспирации, подробно рассказал о себе, о своих «подвигах» в службе безопасности и руководителях ОУН в Мюнхене. Он откровенно ругал Степана Бандеру, называя его пьяницей, бабником, жуликом. Утверждал, что Бандера присваивает деньги организации, опустился и практически отошел от руководства борьбой в Крае. Авторитет его в оуновских кругах за рубежом к настоящему времени упал. Высказывания Матвиейко в адрес «вождя» Бандеры были настолько грязны и откровенны, что вызвали у присутствующих при этом боевиков-агентов КГБ плохо скрываемое недоумение. Позже они назвали его подонком и трусом. Бабенко представил, как именно Усмiх, руководитель СБ ЗЧ ОУН лично зверски пытал, а затем задушил «удавкой» пять человек нашей агентуры, посланной за кордон в разное время от имени легендированного подполья ОУН. Больше всего при проведении этой операции Иван боялся, что Матвиейко — Усмiх заподозрит в нем подставу, так как его украинский язык отличался от разговора боевиков-галичан. У «опытного» конспиратора» Матвиейко это не вызвало подозрений. Однако интересы дела требовали склонить к сотрудничеству с нами Усмiха и это было важнее человеческих эмоций. Органам ГБ удалось склонить Матвиейко к сотрудничеству и заставить работать на советскую разведку. О захвате Матвиейко долгие годы на Западе не знали. С помощью Матвиейко и его людей длительное время с противником успешно велась оперативная радиоигра[126].
Советской госбезопасности было известно и о подготовке к заброске в Западную Украину эмиссара ЗП УГВР Василя Охримовича с несколькими радистами. Однако чекисты не получили вовремя сообщения от своей зарубежной агентуры о точном дне вылета и условиях выброски. Через несколько дней после захвата Матвиейко группа Охримовича благополучно десантировалась с парашютами, но уже американским самолетом и в другом районе.
К слову сказать, в период «холодной войны» на территорию Советского Союза систематически забрасывалась агентура противника. Особенно часто американские и английские самолеты нарушали воздушное пространство Советского Союза над территорией Западной Украины, осуществляя именно в этих районах выброску на парашютах оуновцев, прошедших подготовку в разведшколах на Западе. Для оуновского подполья выбрасывались и грузы, прежле всего с оружием, боеприпасами, медикаментами и т. п., поддерживая тем самым вооруженное оуновское подполье в Западной Украине. Отдельные самолеты с парашютистами фиксировались советской контрразведкой и после 1954 года.
Хорошо помню, как спустя два дня после воздушного парада в Тушине 18 августа 1954 года, американцы осуществили так называемый «звездный» налет несколькими военными самолетами на Москву, Ленинград, Киев, с выходом на ряд других городов. Самолеты врага проникли в воздушное пространство СССР из Западной Европы и безнаказанно вернулись разными направлениями на свои базы. Единственное воинское подразделение Советской Армии в системе ПВО — дивизион зенитных орудий Киевского военного округа без команды «свыше» открыл заградительный огонь, прикрыв столицу Украины — Киев. Тогда, в 1954 году, за плохую работу был снят с должности командующий войсками ПВО страны маршал авиации К. А. Вершинин…
Не знал бедолага Охримович, что украинским чекистам было многое известно о его, Охримовича, жизни за границей, в Мюнхене, включая и интимные детали. Дело в том, что Охримович дал свое согласие на этот полет, да, собственно, и выступил инициатором рискованного и опасного предприятия, имея главной целью не только выполнение задания организации и американцев, но и свой личный интерес. Разумеется, он был не просто членом Центрального провода ОУН, крупным руководителем вооруженной борьбы бандеровцев в Западной Украине. Охримович являлся ярым ультранационалистом, убежденным борцом «за освобождение Украины от ига москалей и большевиков», люто ненавидевшим все советское, русское. Идейно сломать его было невозможно, если бы не одно интимное обстоятельство…
Еще находясь на территории Советской Украины, в западных областях, действуя в составе УПА, Охримович пережил самое острое в жизни любого мужчины чувство любви к женщине, которая ответила ему взаимностью. Он ушел на Запад вместе с последними отрядами УПА в 1948 году по решению и указанию самого Бандеры, знавшего его лично. Бандере нужны были такие опытные и интеллектуальные кадры для организации и руководства вооруженной борьбой на Западе, там, на «Рiдних Теренах». Охримович был идеальной фигурой для этого. Успел-таки Охримович заскочить в Яворов, где жила его коханна, обвенчались тайно у подпольного униатского священника, провели последнюю, жаркую, запомнившуюся ему на всю оставшуюся жизнь ночь и расстались. Оба были уверены, что жить им вместе всегда и везде — так любили друг друга. Через тайных оуновских курьеров поддерживал Охримович связь, обещал забрать к себе в Германию, но все тяжелее и сложнее становились выходы курьеров на родные земли, все чаще следовали провалы. Чекисты последовательно, один за другим перехватывали каналы связи, некоторые использовали сами в своих комбинациях, завязывали игры, выводя на себя курьеров для захвата почты, или посылая свои «пакеты» по действующим каналам. Вскрыл оуновец такой пакет — и разорвало его на куски «сюрпризом». Боялся за свою Зоряну Охримович. Потерять ее — лучше и не жить. Знал, что живет его Зорянка на нелегальном положении, под чужим именем, по переданным ей курьерами из Мюнхена изготовленным американцами документам. За несколько месяцев до вылета узнал Охримович, что агенты КГБ Зоряну выдали. Устроили чекисты во львовской квартире Зоряны засаду, да добрые люди предупредили, и ушла она в лес.
Очередные курьеры принесли Охримовичу добрую весточку — к старым друзьям попала она, сообщили и точное место, где будет ждать его Зоряна. Знал Охримович Зорянин бункер, его боевики в свое время этот бункер строили. Надежный был схрон. Знал Охримович и другие места встреч со своей коханной. Когда прошел у американцев подготовку и готов был к вылету, надеялся сразу же встретиться с Зоряной. И та знала, что увидится скоро со своим нареченным…
Темной майской ночью прыгал первым Охримович, прыгал по давно отработанной и проверенной схеме. Трое опытных подпольщиков-радистов последовали за ним и груз сразу же выбросили. Пилот был бывалым, не раз летал по этому маршруту. Он точно вывел самолет в заданную точку — это был район Майданского леса, недалеко от Дрогобыча. Высота маленькая, 250 метров, рывок и через несколько десятков секунд удар о землю. Охримович, перевернувшись через голову, тут же оттренированным движением вскочил на ноги, первым делом отстегнул тихо щелкнувший карабин, крепивший к заплечным ремням автомат, и снял предохранитель. На всякий случай. Живым он в руки врага теперь не попадет. Кругом звенящая тишина. Самолет уже не слышно. Охримович потер ушибленное колено и начал «восьмеркой» стягивать стропы парашюта, внимательно вслушиваясь в ночь. «Погасил» начавшийся было наполняться воздухом камуфляжный шелк купола парашюта, собрал его пластами и умял руками в извлеченную из нагрудных ремней подвесной системы парашютную сумку. Все. Сердце гулко стучало в груди. Но тревожного чувства не возникало. «Своя земля помогает», — подумалось Охримовичу. Он освободился от подвесной системы, присел у куста на парашютную сумку и стал ждать подхода товарищей. Еще в самолете Охримович мечтал, что через несколько дней он увидит свою Зоряну. Сердце теплом наполнялось. Все это время в Мюнхене, как только попал туда в 1948 году, беспрестанно думал о Зоряне, жил только одной мыслью — во что бы то ни стало вытащить ее сюда, в Германию. Только из-за этого и решился на такой шаг — стать эмиссаром ЗП УГВР. Весной следующего года он решит некоторые организационные вопросы и вместе с группой боевиков, определенных руководством ЗП УГВР для работы в зарубежном центре, отправит Зоряну на Запад через Чехословакию по одному из самых секретных, не расшифрованных ГБ каналов, используемых крайне редко и тщательно оберегаемых. Сам же он пока останется в Крае[127] и продолжит работу. Он был уверен, что свою миссию выполнит успешно.
Вот почти рядом мигнул синеватым лучиком фонарик. Все как условлено: длинный, два коротких. Свои. Мак, Рубан и Осип. Только сейчас снял палец Охримович со спускового крючка автомата. Те уже нашли груз, сброшенный следом за Охримовичем. Два тяжелых больших брезентовых мешка нести за специальные ручки двоим надо, килограммов 60 весом. Как положено по инструкции, разобрали грузовые мешки на четыре упаковки-рюкзака и, сориентировавшись на местности, быстро направились к опушке леса. Шли, как всегда в таких случаях, ходко, шаг в шаг. Роса начала выпадать, следов утром не найдешь. Вот и опушка, короткий отдых. Все молчат. Следует команда — все начинают движение по лесной просеке. Их четверо. Двигаются быстро, умело и почти бесшумно. Еще один короткий привал. В лесу уже светло, можно различить лица друг друга, блестящие от пота. Все тяжело дышат. На сердце спокойно. Надо как можно дальше уйти от места выброски. Если полет самолета был обнаружен, скоро в районе десантирования начнется облава. Кажется, все вокруг спокойно. С первыми лучами солнца группа укрывается в глухой чаще леса. Спят и дежурят по очереди. С наступлением темноты вновь быстрое движение в сторону нужного пункта — в село, где должны быть известные Охримовичу связи, имеющие контакт с подпольем.
Как и договаривались в Мюнхене, Охримович вышел на своих знакомых из числа местной подпольной организации, оставив под их охраной радистов. Сам же попытался с помощью этих подпольщиков найти Зоряну Кубрак и установить контакт с находившимися в том районе членами провода Полтавой и Максимом. Ему удалось и первое и второе.
Местные повстанцы доставили ему Зоряну. Встреча любимых была короткой, но, наверное, самой яркой в их жизни. Только два дня было им отпущено судьбой. Но какие это были дни и ночи! Приютившие Василя и Зоряну добрые люди сами радовались их счастью. Все они успели обговорить. Со всем была она согласна, кроме одного. Уходить одна на Запад без Василя не согласилась, так и заявила:
— Либо с тобой здесь вместе погибнем, либо вдвоем будем счастливы в новой жизни. Если надо будет быть в Крае долго, не один год, я согласна. Но только с тобой. Я еще молодая, успею родить тебе и сына, и дочь. Будут у нас с тобой наши любимые дети — Адриан и Улянка. Я так хочу.
Сколько ни уговаривал ее Василь, стояла на своем Зоряна. Отговорить ее от принятого решения, и он знал это, — невозможно. На том и порешили: он продолжает свою работу. Она не будет ему обузой. Пока, на первых порах. Выполнит он свою работу, будут они снова вместе, но уже навсегда. Договорились, что Зоряна возвращается к своим надежным людям. С ней двое хлопцев, которых он знает. Они будут ждать его сигнала о выходе на встречу. Бункер, где они укроются зимой, ему известен.
Последние часы, последние объятия и жаркие поцелуи, и Зоряна со связными уходит в ночь на свои терены, унося в сердце надежду на скорую встречу со своим единственным…
Торопится Охримович, очень торопится скорее завершить свои дела. Пока вокруг него все спокойно. Радисты коротко и из другого района дали весточку о себе: «Все в порядке». Не понял еще Василь, что не та уже Украина, и люди не те, и подполье так поредело, что найти нужного человека — проблема. Но вывели же его связные на членов провода Полтаву и Максима. Правда, только после предварительной и долгой переписки по организационной линии связи смог попасть Охримович к новому председателю провода ОУН, главнокомандующему УПА и председателю генерального секретариата УГВР Васылю Куку. Ни Полтава, ни Максим, ни сам Кук не могли похвастаться успехами подполья. Все было совсем не так, как представлял Охримович и руководство ЗП УГВР и ЗЧ ОУН в Мюнхене. Руководящих кадров в подполье практически не осталось. Наступление на подполье усиливалось систематически и неуклонно росло. Украинская госбезопасность после небольшого перерыва, связанного со смертью Сталина, а затем арестом и расстрелом Берии, снова активно стала арестовывать пособников, симпатиков, пытаясь вербовать их для захвата или уничтожения действующих подпольщиков. Работать в подполье становилось все тяжелее. Надо было искать новые методы борьбы, выводить людей из-под ударов госбезопасности. Вопросов и дел разных навалилось на Охримовича такое количество и в таком объеме, появилось столько нового и непонятного, что все это заставило мысли о Зоряне и их будущем отойти на задний план.
Радостной и вселяющей уверенность в успехе была встреча с полковником УПА и его тезкой Васылем Куком. Они не виделись несколько лет, и внешний вид Кука расстроил Охримовича. Несмотря на то что он был, как всегда привыкли видеть его окружающие, подтянут и выбрит, глаза Кука, желтизна лица, почти все выпавшие от цинги зубы выдавали в нем тяжелобольного человека. Внутренне он был какой-то весь напряженный, много курил, хотя курить ему было нельзя из-за мучавшей его долгие годы язвы желудка. Охримович сразу же спросил Кука, почему так долго шла переписка, ведь можно было встретиться и раньше. На это Кук ответил, что условия работы стали сложными, госбезопасность применяет все новые и новые методы, подполье несет потери, поэтому любая торопливость исключается. В сложившейся ситуации необходимы, и это должно стать правилом, исключительные осторожность и конспирация.
Охримович ознакомил Кука с обширной почтой, доставленной им из Мюнхена, они детально обсудили положение в подполье здесь, в Крае, и обстановку в зарубежных центрах. Многие дни и часы они говорили, в общем-то, на одну тему, из-за которой и прибыл на Украину посланец центра: кто должен быть основным в определении стратегии и тактики борьбы? Зарубежные центры — ЗЧ ОУН или ЗП УГВР, находящиеся далеко за пределами воюющей Украины и не имеющие в силу этого полного представления о положении дел в Западной Украине, или руководство ОУН в самом Крае, которое организует и ведет на месте эту борьбу? Времени для обсуждения конфликтной ситуации, давно существовавшей в зарубежных центрах ОУН, у Охримовича и Кука было предостаточно. Зиму 1951/52 года они провели вместе, в одном бункере. Но они так и не смогли на своем уровне договориться по вопросу опасного для националистического движения конфликта и намечающегося в связи с этим раскола. Необходимо было более широкое обсуждение с участием других членов провода ОУН и самого Охримовича. В то же время они оба подтвердили полномочия ЗП УГВР, полученные еще в 1944 году, — представлять интересы воюющей Украины. Было ясно одно — конфликт между ЗЧ ОУН и ЗП УГВР и проводом ОУН в Западной Украине крайне нежелателен, так как мешал Сопротивлению…
Как только сошел снег, Охримович двинулся в путь к своим радистам, чтобы как можно скорее сообщить в Мюнхен по рации о положении в Крае. Уже по дороге в район нахождения радистов он узнал о гибели «идеологической головы» подполья, заместителя председателя генерального секретариата УГВР, члена провода, майора УПА Полтавы (Петра Федуна) и вместе с ним известного в подполье провидныка Максима (Романа Кравчука). Блокированные в бункере госбезопасностью, оба застрелились.
За длительное время отсутствия Охримовича его радисты были захвачены и перевербованы. У чекистов было время для работы с радистами. Это они помогли взять Охримовича живым на встрече с руководством местного, но уже легендированного госбезопасностью подполья.
Вот как представляется мне картина ареста Охримовича, собранная в памяти по крупицам из рассказов принимавших участие в этой операции товарищей. Задержание эмиссара произошло в бункере, куда он был доставлен для встречи…
Вот он бункер. Осторожно спускают частями в открывшийся люк принесенные рацию и сумки с батареями. Туда же передают оружие Охримовича — новенький американский автомат, некоторое снаряжение. Кем-то поддерживаемый снизу, Охримович спускается по отвесной лестнице в бункер. Этот старый бункер строился специально для командного состава УПА и был надежным и хорошо оборудованным убежищем. «Но что это? Почему бункер так ярко освещен? Почему такой просторный?» — подумалось Охримовичу, и в тот же миг, не успев ничего понять, он ощутил на своих плечах и руках тяжелый груз чужих рук, цепко схвативщих его. Эти руки натренированным движением резко запрокинули голову, от чего потемнело в глазах. «Предательство! Я не сумею даже покончить с собой. Что будет с Зоряной?» — мелькнуло в голове, и он услыхал чей-то резкий и напряженно громкий голос, произнесший по-русски: «Товарищ майор! Ампулы в воротничке нет. Руки сзади в наручниках». Все это произошло за какие-то несколько секунд. У Охримовича были изъяты пистолет, нож, гранаты, компас и десятки других нужных для подпольной жизни мелочей. В голове помутилось. От страшного стресса у Охримовича началась икота и позывы на рвоту.
— Ну что вы, друже эмиссар, возьмите себя в руки и успокойтесь, вы среди ваших новых друзей, — сказал ему человек, к которому кто-то из скрутивших Охримовича людей сзади него обратился как к майору. В полувоенной форме, высокого роста и крепкого телосложения мужчина, с умными, слегка насмешливыми глазами, породистым лицом, четко очерченными жесткой линией губами, стоял перед Охримовичем, слегка покачиваясь на носках, тоже, наверное, волнуясь. Рядом с ним Охримович как в тумане увидел уже знакомого ему местного боевика, смотревшего на него, как показалось Охримовичу, с некоторым состраданием.
— Мы не причиним вам зла. Для начала хочу сообщить, что вы находитесь в руках госбезопасности Украины. Встречал вас вместе с вашим радистом наш оперативный работник, капитан по званию. Я рад, что все обошлось благополучно. А главное — вы успели, кстати по нашему плану, выйти в эфир. Алексей, все прошло успешно? — обратился высокий мужчина к «местному боевику».
— Так точно, товарищ майор, все как должно быть по плану, — ответил Алексей и дружески улыбнулся Охримовичу.
— Позовите врача. Дайте успокоительное. Подготовьте его к поездке, — вновь сказал майор, обращаясь к своим подчиненным.
Унизительная процедура тщательного обыска продолжалась довольно долго, для чего Охримовича раздели догола, прощупав каждый участок его тела и одежды. В обыске участвовал врач-профессионал. Некоторые из сотрудников говорили по-русски. Это зафиксировал Охримович. После успокоительного укола Охримовичем овладели апатия и безразличие ко всему происходящему. Однако голова его оставалась ясной, мысль работала четко. Когда Охримовича по отвесной лестнице подняли наверх, солнце стояло высоко, было по-осеннему влажно и зябко в этой части глухого леса. Рядом с бункером стояли и молча смотрели на Охримовича несколько вооруженных людей. Окружив захваченного эмиссара плотным кольцом, группа чекистов прошла через небольшой участок густого лесного кустарника, вышла на просеку, в конце которой рядом со старой лесной дорогой стояло две грузовых автомашины и советский «виллис» — ГАЗ-69, в который и погрузили Охримовича с охраной. Два часа езды — и они на военном аэродроме областного города. Их ждал специальный самолет. Еще пару часов и машина въехала во внутренний двор большого серого здания в центре Киева — госбезопасность Украины. Охримович отказывается от предложенной пищи. Первый официальный допрос. Он ведется на хорошем украинском языке. Допрашивает его один из заместителей министра — красивый высокий полковник. Здесь же уже знакомый Охримовичу майор.
— Николай Иванович[128], — обращается полковник к майору, — надеюсь, вы ничем не обидели нашего столь долгожданного гостя? — И повернувшись к Охримовичу. — Знаете, мы не просто ждали вас, вы нам очень нужны. Скажем вам сразу же еще больше — нам известна истинная причина вашего появления здесь, на Украине. Но нам хотелось бы услышать все это от вас и успеть выйти на очередной сеанс связи через 10 дней, хотя бы на запасной еще через неделю.
— Я не буду отвечать на ваши вопросы. Смерть мне не страшна, я ее много раз видел. Сейчас у меня раскалывается голова, дайте мне отдохнуть, — неожиданно заявляет Охримович.
— Хорошо, — отвечает на это полковник.
У Oхримовича снова закружилась голова от охватившего его ужаса: «Откуда им известно, что очередной сеанс связи через 10 дней, запасной — плюс неделя? Об этом знал очень узкий круг лиц в ЗЧ ОУН, не считая американцев. Об этом не знали даже мои радисты. Они наверняка имеют агентуру у американцев, наши — исключено». Все, кто знал об этом из руководства ОУН — проверенные в тяжелых испытаниях подполья и боях люди. Он не верит в предательство своих соратников. Это просто невозможно. Он стал жертвой игры советской контрразведки, сумевшей выйти на этот канал связи. Игра идет уже несколько месяцев, судя по той обстановке, которая ему сейчас стала известна. «Что делать? Главное — не подставить Зоряну. Место ее укрытия они наверняка не знают», — лихорадочно бились мысли в голове.
— Я хочу отдохнуть, — вновь произнес Охримович в сторону полковника, не глядя на него.
— Николай Иванович, распорядитесь обеспечить нашего гостя приличными условиями, но, к сожалению, — и полковник повернулся к Охримовичу, — пока в нашей тюремной камере. И не делайте глупостей, за вами будет вестись беспрерывное наблюдение, — закончил полковник и кивнул головой Охримовичу. Охрана увела арестованного.
Заместитель министра госбезопасности Украины полковник Николай Тихонович Мороз внимательно посмотрел на сидевшего перед ним начальника отдела, руководившего операцией по захвату Охримовича, и впервые за последние две недели подготовки, ожидания и проведения этой крайне важной операции улыбнулся майору:
— Что скажешь, Николай Иванович? Здорово поработали твои ребята. Особенно хорош Алексей. Сработано чисто, аккуратно. Так сработать под местного жителя — надо уметь.
— Алексей в конце войны — стал пояснять майор, — был командиром взвода дивизионной разведки, а взвод его состоял почти целиком из мобилизованных в прифронтовой полосе западных украинцев. Эту публику проверяли не запросами и опросами, а в бою. Дрались эти молодые хлопцы, кстати, отчаянно — то ли вину за нахождение в оккупации смывали, то ли за какие-то другие грехи, может быть, и за связь с оуновским подпольем или нахождение в УПА, у каждого было свое. С тех пор Алексей и не «расставался» со ставшим ему родным галичанским. В общем, знает свое дело. Правда, все еще только начальник отделения, но вы же знаете его слабость, — закончил начотдела.
— Да, Николай Иванович, это здорово мешает, и не только одному Алексею, многим водка карьеру испортила. Но пьет он, говорят, лихо, как воду, и не пьянеет, — и Мороз посмотрел на майора.
— Не знаю, с ним не пил, но разговаривал много по этому вопросу. Обещал, если не прекратить вообще, то значительно сократить, — закончил неприятный для него разговор майор.
— Еще раз к нашему главному вопросу, Николай Иванович. Как думаешь, сломается Охримович, когда мы ему про жену выложим?
— Я бы, Николай Тихонович, пару дней, во всяком случае, вплоть до самого последнего дня перед выходом в эфир с его участием, не выкладывал Охримовичу наш главный козырь. Санкция Москвы на работу с ним получена. Давить на него будем до разумного предела. Указы о смертной казни и о его помиловании у нас имеются. Посмотрим, как дела пойдут…
На следующий день работа с Охримовичем возобновилась с раннего утра. От ответов на поставленные вопросы он уходил. Связей своих не давал, о встречах с Полтавой, Максимом и Лемишем не рассказал. О Зоряне тоже ни слова. Прошло десять дней. Охримовичу объяснили, что радиоигра с Мюнхеном уже проводится от его имени и что это будет продолжаться независимо от его согласия. Если он будет и дальше сопротивляться, органы госбезопасности будут вынуждены сообщить по радиоканалу через его бывших радистов, что он погиб в бою, и продолжат радиоигру без его участия. Он должен рассказать о своих намерениях, целях и задачах, поставленных перед ним американской разведкой, раскрыть канал связи с Лемишем. На это эмиссар отвечал, что с американской разведкой он не сотрудничал, что прибыл на Украину как член центрального провода ОУН, все известное ему о работе оуновских центров в Мюнхене умрет вместе с ним и на дачу показаний, как и на сотрудничество с госбезопасностью просит не рассчитывать. Да, он встречался с Полтавой, Максимом и Лемишем, но открывать линию связи не намерен. Вел себя Охримович вызывающе, часто на вопросы вообще не отвечал. Учитывая, что дальнейшая работа с ним теряла всякий смысл, было принято решение показать Охримовичу Указы Президиума Верховного Совета Украины — один о расстреле за содеянное им в период действий УПА в 1942–1948 годах на территории Западной Украины, а другой — о помиловании и освобождении из-под стражи, исходя из чистосердечного раскаяния, оказания следствию всесторонней помощи и согласия сотрудничать с органами ГБ Украины. Охримовичу было разъяснено, что указ о помиловании возможен только в случае его откровенных и чистосердечных показаний, при этом имелось в виду прежде всего его добровольное согласие на сотрудничество с госбезопасностью Украины и активное участие в оперативной радиоигре. Охримович спокойно выслушал чекистов и… ответил отказом.
Захвату Охримовича и возможности его использования в оперативных играх Москвой и Киевом придавалось огромное значение. И вот тогда, получив его отказ и не имея больше шансов на согласие оказать помощь органам ГБ, проводившие работу с Охримовичем чекисты по разрешению руководства рассказали все известное им о жизни и деятельности Охримовича в Мюнхене, о его подготовке к длительному оседанию в Советской Украине, учебе в американском разведцентре, о таких деталях работы ЗЧ ОУН и всего бандеровского актива за кордоном, которые знал лишь узкий круг друзей и близких Охримовича. Конечно же, он сразу понял, что органы госбезопасности располагают в зарубежных оуновских центрах великолепной агентурой, и что это они говорят только ему, потому что он обречен и унесет эту тайну с собой в могилу. Ему рассказали и об истинной причине его ночного и смертельно опасного прыжка с парашютом и показали фотографию Зоряны Кубрак, ради которой он вернулся в родные пенаты. Ему даже назвали, правда приблизительно, район ее укрытия, о чем знал самый узкий круг посвященных в его заброску в леса Западной Украины.
— Мы обращаемся за помощью и предложением оказать содействие органам госбезопасности, зная о любви вашей к Зоряне Кубрак, с тем чтобы спасти жизнь и ей, и вам. Вот район ее базирования, — и Николай Иванович, мрачно посмотрев на Охримовича, накрыл указательным пальцем правой руки то самое место на карте, где в бункере, известном только Охримовичу и двум-трем его самым надежным друзьям, должна была ждать встречи с ним Зоряна, она же Птаха, Надия, Очерет[129]. Последние два псевдо Зоряны, названные Николаем Ивановичем, знали только Охримович и высшее руководство ОУН.
Дать согласие на сотрудничество с чекистами, выйти по их заданию в эфир, послав обусловленный сигнал, что работает под контролем? Это ничего не даст. Радисты, наверное, давно сотрудничают с ними. У них там есть кто-то в самом руководстве или из близкого окружения. Проклятые зрадники! Нет, надо все сделать иначе. Его главная задача сейчас перехитрить чекистов, выйти живым, спасти Зоряну. Он готов сотрудничать хоть с самим чертом, хоть с сатаной, только бы вывести из бункера Зоряну, уйти с ней на Запад. Выявить и уничтожить предателей. Он договорится с чекистами, с этим Николаем Ивановичем, с его, наверное, большим начальником, Николаем Тихоновичем. Он попросит встречу с кем угодно, кто даст ему гарантии уйти на Запад с Зоряной. Зоряна ничего не должна знать. Это будет его условие чекистам. Он договорится с «энкэвэдистами» об использовании Зоряны втемную. Если она узнает о его предательстве, пусть и временном, в данной ситуации просто необходимом, она убьет и его, и себя. Он знает Зоряну. За эту беспредельную преданность идее и ему любит сам ее до конца дней своих, — лихорадочно думал Охримович.
Из тяжелых, метущихся мыслей его вывел спокойный и холодный голос Николая Ивановича:
— Приняли решение? Решайтесь. Учтите, что нам вместе еще надо успеть подготовиться к выходу на очередной сеанс связи. Затяжка времени не в ваших интересах. Если дадите согласие, докажите нам свою искренность чистосердечными показаниями, а вы, я уверен, убедились, что нам многое известно, и мы можем проверить вашу правдивость, мы тоже кое в чем откроемся. Не скрываю, мы хотим с помощью легендированного подполья полностью пресечь подрывную работу оуновских центров за рубежом против Советской Украины, остановить братоубийственную и никому не нужную борьбу, прекратить использование в своих целях ЗЧ ОУН и ЗП УГВР американскими и английскими спецслужбами, пытающихся, в том числе и с вашей помощью, Охримович, проникать на территорию Советского Союза. Подумайте, жизнь и судьба ваша и Зоряны только в ваших руках.
Николай Иванович поднялся, обошел стол и встал рядом с сидящим на стуле Охримовичем. Человек в погонах капитана в углу комнаты за маленьким столиком что-то быстро записывал на стандартных листах бумаги, стопкой лежавшей перед ним.
— Если хотите, обед вам принесут сюда. Нет, идите в камеру. Через два часа вас приведут снова сюда, и это будет наша последняя встреча. В случае отказа вы нам не нужны. О расстреле ваши друзья узнают из официальной прессы, — и Николай Иванович, кивнув промолчавшему и никак не отреагировавшему на его предложение Охримовичу, направился к выходу, бросив на ходу: — Вызывайте охрану, через два часа приведите его сюда же.
Стоявший в углу комнаты капитан медленно подошел к дверям, еще раз внимательно посмотрел на все еще сидевшего на табурете и смотревшего куда-то в сторону безразличным взглядом Охримовича, открыл дверь и нарочито громко произнес:
— Дежурный, конвойных сюда, отведите арестованного в камеру, накормите и через два часа доставьте назад.
Охримович тяжело поднялся. Глаза его встретились с глазами капитана. Сторонний наблюдатель мог бы увидеть лютую ненависть в глазах этих двух людей приблизительно одного возраста. Глаза капитана, казалось, говорили: «Моя бы власть, я бы тебя еще там, когда ты шел по линии связи, в расход пустил, не стал нянькаться с тобой. Будь ты проклят, бандеровский эмиссар».
Капитан Борис Птушко имел свои счеты с оуновцами. В 1949 году в одном из ночных боев с отрядом окружного провидныка Севера погибло двое его друзей, а сам он был тяжело ранен осколками разорвавшейся рядом с ним оуновской гранаты. Почти год лечили Бориса, чуть не демобилизовали, но молодой организм взял свое, оклемался. Хорошо — не уволили. Куда тогда ему идти? Без специальности, без образования. Только и знал еще с войны, как надо убивать. Умел делать это без страха и сожаления — перед тобой враг, и ты должен его уничтожить, либо он тебя, если более ловкий, достанет. Вспомнилось, наверное, в этот момент Борису, как в 1950 году он едва унес ноги от преследовавших его в лесу оуновцев, расстреляв два диска своего ППШ и выбросив две гранаты. Не уйти ему, если бы не догадался сбросить тяжелые сапоги и босиком задать такого стрекоча, что, наверное, побил собственный рекорд по бегу с препятствиями поставленный им перед самой войной, в шестнадцать лет. Жена Бориса — красавица-узбечка. Еще с войны девочкой-подростком посылала на фронт курагу и письма: «лучшему бойцу или командиру Красной Армии от комсомолки Зухры». Так и познакомились. Спустя два года, уже после окончания войны, приехал Борис в Ташкент и увез с собой молодую жену в Западную Украину. Потом Киев, работа в центральном аппарате. Родила ему Зухра трех мальчишек, черноглазых, смугловатых, как сама, но белобрысых, как Борис, чем он особенно гордился. Горяч не в меру был Борис, как его запорожские предки-казаки. На грубость мог ответить вдвойне, а то и ударить обидчика, кем бы тот ни был. Не в мать свою пошел — степенную русскую женщину с Урала. Только и взял от нее светлые глаза да русые волосы. Жили с Зухрой, которая не могла работать из-за маленьких детей, дружно, счастливо, в любви. Раз в месяц в день зарплаты ходили вдвоем в ресторан «Динамо», считавшийся в те годы в Киеве самым хорошим по кухне и обслуживанию. На красавицу-узбечку с европейскими манерами мужчины обращали внимание. Как-то был он вместе с женой в ресторане. К столику на двоих подошел молодой грузин и пригласил Зухру на танец, спросив согласия у Бориса. Тот разрешил. Грузин подошел еще и еще. Тогда Борис отказал, заявив, что пришел с женой отдыхать и просит оставить их в покое. Хорошо подогретый вином и компанией соплеменников, что-то говорившей ему громко со смехом на родном языке, грузин закатил сидевшему за столом Борису пощечину. Надо было знать Бориса Птушко. Невысокого роста, коренастый и крепкий физически Борис, не вставая, схватил левой рукой грузина за грудь, пригнул к себе и, выхватив из подмышечной кобуры «Маузер», сильно прижал дуло пистолета к голове молодого человека, оставив на его лбу кровавую ссадину.
— На колени, подонок, мозги вышибу. На колени, целуй ноги, чтобы все видели. Целуй! Ну! — озверело хрипел Борис, все больше развозя кровавую ссадину на голове грузина.
Грузинская компания за столом, как и все в ресторане застыла. Гремевшая до того музыка смолкла, и в зале воцарилась гробовая тишина, которую нарушал хрип Бориса:
— Целуй ноги, сволочь!
Грузин с вытаращенными от ужаса глазами, с залитым кровью от ссадины на лбу лицом, нервно всхлипывая, опустился на колени и, не спуская глаз с уставленного на него маленького черного смертельного отверстия, поцеловал поочередно протянутые к его лицу носки ботинок Бориса.
— А теперь, мразь, уходи, не то убью. Официант, счет!
Сунув подбежавшему официанту деньги и взяв под руку жену, он вышел из зала и подошел к гардеробу. Они не успели одеться, когда их окружили несколько милиционеров. Проверив документы и, убедившись, что перед ними сотрудник госбезопасности, имеющий право на ношение оружия, они тем не менее задержали Бориса и передали его подъехавшему военному патрулю. Дело было улажено в военной комендатуре. К счастью для Бориса, имелось немало свидетелей, показавших, что молодой человек оскорбительно вел себя, первым ударил Бориса. В общем, обошлось, но случай дошел до руководства и остался в анналах кадров. Позднее ему вспомнилось и это.
Но это будет потом. А сейчас, в следственном корпусе госбезопасности Украины капитан Птушко с ненавистью смотрел на эмиссара-парашютиста Охримовича и видел в нем прежде всего своего личного врага.
Охримович не отвел глаза от ненавидящего взгляда офицера. Он тоже с не меньшей ненавистью смотрел в глаза своего врага и думал: «Попадись ты мне, большевик проклятый, раньше, чем я тебе, я бы из тебя все кишки выпустил и лично бы вздернул на мотузке. И такое приятное дело не доверил бы даже своим хлопцам из СБ. Я бы с тобой сам расправился. Но спасибо тебе, капитан. Теперь я знаю, что делать. Я дам согласие на сотрудничество, чтобы обмануть вас, встретиться с Зоряной, увести ее, мою любимую, от вас, вернуться с ней на Запад и найти там агента-предателя…»
Охримович отказался от обеда. Он тщательно продумал свои действия. Он все расскажет чекистам, все равно они наверняка все или почти все знают. Он поставит им свои условия — Зоряну он будет использовать вместе с чекистами втемную. Она ничего не должна знать, иначе всему конец. Он должен убедить в этом руководство советской «безпеки». Этих начальников — Николая Тихоновича и Николая Ивановича. Он постепенно сам втянет их в свою игру, добьется их доверия и постарается выйти уже с их помощью на провокаторов в закордонных центрах ОУН. А главное — встреча с Зоряной и возвращение на Запад. Они не знают его возвратного маршрута. Он понял это — не знают. И он использует это обстоятельство…
Через несколько часов, доставив самолетом Охримовича сначала во Львов, а затем машиной в нужный район, чекисты Украины с помощью, как им казалось, завербованного сверхценного агента, эмиссара-парашютиста Охримовича продолжили начатую много месяцев назад от имени легендированного оуновского подполья оперативную радиоигру, выйдя в положенное время в эфир. Сообщение Охримовича ушло в центр без сигнала о работе под контролем. Жизнь продолжалась…
Охримовичу сменили камеру. Новое тюремное помещение было более удобным для жизни. Приличная кровать, стулья, рабочий письменный стол, какое-то подобие, пусть и примитивного, но уюта. Охримовичу объяснили, что ждут от него откровенных и обширных письменных показаний — и он пошел на это. Ему удалось уговорить чекистов сразу же после контрольного выхода в эфир не встречаться с Зоряной, хотя было время до ее укрытия в бункере, снег еще не выпал. Он мотивировал это тем, что нецелесообразно посвящать сейчас Зоряну в его начавшееся сотрудничество с органами ГБ, что он просит руководство ГБ Украины вообще исключить ее из игры, пусть она ничего не знает, и Николай Тихонович, и Николай Иванович, эти непосредственные его «покровители», казалось, поверили ему и согласились с его доводами…
Выпал первый снег, Зоряна точно уже находилась в бункере. В первых же беседах с Охримовичем руководителей ГБ Украины и оперативных работников, они просили его сообщить точное место, где находится бункер Зоряны, то есть речь шла не о том районе, куда в свое время «лег» палец Николая Ивановича, а точные ориентиры схрона — это обычно особо выделяющееся на местности дерево, камень или иная лесная примета, по которой можно было бы определить, где расположены люк и вентиляционное отверстие, а не проводить тщательный и наверняка успешный, но шумный, сразу же обнаруживаемый укрывающимися в бункере поиск. Охримович уклонялся от ответа, поясняя каждый раз, что всему свое время, что, как только наступит весна и Зоряна выйдет из бункера, он под контролем ГБ свяжется с ней и договорится о совместных действиях по уходу на Запад. Чекисты на время оставили этот вопрос. За зиму в Мюнхен было направлено несколько шифрованных радиограмм с нужным госбезопасности текстом. Обе стороны — американцы и советская контррразведка с нетерпением ждали начала весны, когда Охримович и его люди должны были приступить к дальнейшему выполнению задания.
Охримович все время находился в камере и после принятия им решения о сотрудничестве с ГБ не расслаблялся. Он ежедневно делал зарядку, держал себя в форме. Через месяц стало заметно и его моральное спокойствие. Он стал проявлять интерес к пище. Иногда не отказывался и от рюмки коньяка. Выводили его несколько раз в театр, но под гримом, на всякий случай, мало ли кто мог его увидеть. Вывозили в Москву, в несколько крупных городов восточной Украины. Заметной реакции в его идеологических настроениях выявлено не было. Вел себя Охримович спокойно, уверенно, казалось бы, откровенно, и все-таки у оперативников складывалось впечатление, что он далеко не все «отдал» при так называемом его согласии сотрудничать с органами. Позже, уже после захвата Лемиша, станет известно, что Охримовичу все же удалось нас перехитрить. В своих записках, направленных под контролем госбезопасности Куку, он осторожно дал знать, что находится в руках КГБ. К этому выводу мы пришли позднее, после тщательного анализа материалов переписки, попавших в руки чекистов с арестом Кука…
Любил эмиссар хорошо и сытно покушать. Во внутренней тюрьме ГБ тюремной «баланды» не было, да и не могло быть. Пищу для таких арестованных, как Охримович, положено было брать из столовой своего учреждения, то есть качественную и сытную, но, разумеется, без разносолов и выбора в широком ассортименте, а так, что дают или что порекомендует оперработник. Время шло. С Охримовичем работали ежедневно и по многу часов. Постепенно устанавливались с ним и человеческие отношения, что совершенно не исключало идеологическую разницу между чекистом и эмиссаром ОУН. Каждая из сторон четко представляла, что они враги, объединившиеся во временный союз, вызванный каким-то общим интересом. Каким же? Мы были заинтересованы путем проведения оперативной игры локализовать действия враждебных зарубежных оуновских центров и выявить действующие на территории западных областей Украины остатки бандоуновского подполья, а эмиссар оуновского центра и член центрального провода ОУН, американский разведчик Охримович — получить с нашей помощью свою коханку, увести ее на Запад, имея при этом какие-то, еще не ясные для нас цели. У чекистов была мысль после захвата Зоряны не выпускать ее на Запад, оставить в качестве заложницы, временно, вместе с Охримовичем, на Украине, а в Мюнхен направить одного из завербованных радистов и курьера от него, желательно втемную, из числа рядовых членов, оуновского подполья, закрепив, таким образом, авторитет легендированного подполья, и проводить дальнейшую работу с помощью Охримовича, пообещав ему за это Зоряну и благополучную жизнь в Советской Украине после выполнения задания и завершения всей операции. Что замышлял в действительности Охримович, чекисты узнали позже.
Часто бывает между палачом и жертвой, разными по всем своим социально-идеологическим и духовным состояниям, устанавливаются порой чисто человеческие, почти товарищеские отношения. Вспомним хотя бы ту же историю из «Репортажа с петлей на шее» знаменитого Юлиуса Фучика, когда гестаповец пил с ним кофе в милых и уютных ресторанчиках Праги. Или отношения арестованного в Англии за атомный шпионаж и приговоренного к четырнадцати годам тюрьмы немецкого антифашиста Фукса и майора британской контрразведки, который его разрабатывал и доказал причастность Фукса к советской разведке. Он систематически посещал Фукса в тюрьме в течение всех долгих девяти лет (срок, который, по мнению британских специалистов, был достаточным для любого ученого-физика, чтобы больше никогда не догнать своих коллег по науке) просто так, поиграть в гольф или выпить кофе вместе.
Время лечит любые раны и последствия, даже самые неприятные. Во всяком случае, Охримович, казалось, полностью пришел в себя, даже внешне изменился в лучшую сторону, прибавил в весе от хорошего питания и, наверное, успокоившейся совести. Николай Иванович, лично проводивший с ним беседы, в том числе и неоперативного характера, а просто так, по-человечески, даже не стараясь «подыгрывать» Охримовичу, как-то сказал: «Жаль, что такие сильные личности не в наших рядах, не вместе с нами. Крепкий вы человек, достойный уважения противник». Вскоре после таких нескольких душевных встреч Николай Иванович дал команду улучшить питание эмиссару, заказывая ему обеды в расположенном напротив служебного здания ресторане «Киiв» по переданному Охримовичу ресторанному меню. Последний воспринял этот жест с благодарностью и пониманием. Кроме этого Николай Иванович распорядился включать в меню обеда Охримовича только что появившуюся в Киеве раннюю болгарскую клубнику с невероятно вкусной сметаной, купленной на базаре, что, как выяснилось, было самым любимым лакомством эмиссара. Через пару недель после такого усиленного питания оперработники Слава Чубак и Борис Птушко неожиданно появились в кабинете Николая Ивановича. Лица у обоих были злорадны, а в глазах мелькали искорки непонятного пока их начальнику веселья. В глазах Бориса Птушко мелькало еще и удовлетворенное самолюбие, и чувство мести. Кстати, зная отношение Птушко к Охримовичу, Николай Иванович снял его (без обиды для Бориса) с работы по Охримовичу.
— Николай Иванович, — начал Чубак, — у нас важное сообщение по Охримовичу, — и оба почему-то как-то блудливо заулыбались.
— Что случилось? Вы оба так выглядите, как будто выиграли на спор каждый по окладу. Что такое?
— Мы только что из тюрьмы. Коридорная нам сообщила, что объект Охримович, эмиссар-парашютист ЗП УГВР, член провода, по вечерам занимается онанизмом, — почему-то радостно, подчеркнуто смакуя «титулы» Охримовича, произнес Слава Чубак, и они с Борисом весело захихикали.
Вот так, тихо посмеиваясь, стояли оба чекиста перед Николаем Ивановичем, который почему-то, как он обычно делал, не пригласил их сесть за приставной столик, а молча выслушал веселый говорок своих подчиненных, серьезно рассматривая их обоих, переводя поочередно глаза с одного радостного лица на другое.
— У вас все? — спросил Николай Иванович, по-прежнему строго и даже сурово глядя на подчиненных. Обычно приветливые и почти всегда с веселой искоркой глаза начальника были холодны и непроницаемы.
— Да, Николай Иванович, нам казалось, что это тоже может быть важная деталь в разработке, мы думали… — начал Слава и осекся, поймав строгий взгляд начальника. Лица обоих сразу же стали серьезными.
— Плохо вам казалось. За сообщение спасибо. Забывать не надо, что эмиссар тоже человек. Ступайте, я приму меры.
После ухода ребят Николай Иванович долго смотрел прямо перед собой, о чем-то думал. Потом посмотрел на присутствовавшего при разговоре начальника отделения Василия Ивановича Педченко:
— А меры действительно принять надо. Набрав по телефону номер своего зама, начальник сказал трубку, — Николай Степанович, скажи хлопцам, чтобы прекратили давать Охримовичу клубнику со сметаной.
Николай Иванович отпустил Педченко и долго сидел в стоявшем в углу кабинета большом кожаном кресле, о чем-то думая.
Затем пошел в отдел.
Увидев входившего начальника, находившиеся в комнате оперативные работники встали, приветствуя своего руководителя, и сразу же сели после взмаха руки шефа.
Николай Иванович, облокотившись костяшками кулаков на рабочий стол Чубака, внимательно посмотрел на сидевшего перед ним оперработника.
— Слава, подготовь мне к завтрашнему дню, я думаю, ты успеешь, справку на Охримовича по всем его родственникам, включая родственников Кубрак, — Николай Иванович сделал паузу и, повернувшись к сидевшему за соседним столом Птушко, продолжил: — А тебе, Борис, тоже на завтра представить подробный отчет о работе с объектом за последний месяц. Без интимных подробностей, разумеется.
Никто в комнате не прореагировал на последние слова шефа.
«Знают, черти, мою реакцию. Наверняка и Славка, и Борис уже проболтались».
Николай Иванович высоко ценил деловые качества и капитана Птушко, и старшего лейтенанта Чубака. Оба они были старшими оперуполномоченными, могли хоть завтра возглавить отделения, да вакантных руководящих должностей в отделе не было.
Особенно внимательно и с симпатией Николай Иванович относился к Чубаку. Слава Чубак был не только, как тогда говорили, оперативно грамотным сотрудником, но всегда вносил в работу на своем участке элемент творчества и изобретательности. Именно он доказал руководству целесообразность включения во все проводившиеся мероприятия «ЛБ» оперативного работника, даже в тех случаях, когда под рукой не было чекистов, владевших украинским языком с местным диалектом. Он в свое время на свой страх и риск заменил сломавшего ногу при ночном переходе в лесу оперработника, замотав шею грязным бинтом, что давало ему возможность при контакте с местным населением не разговаривать, а невнятно сипеть, ссылаясь на болезнь горла, что тут же подтверждалось работавшими под его началом боевиками. Таким образом, отводились все подозрения и осуществлялся контроль и руководство на месте. Он был большим знатоком агентурной работы и любил ее. За его плечами, несмотря на то, что работал в органах всего несколько лет, было до десятка боевых операций, в которых он лично участвовал. Он стрелял и убивал. Стреляли и в него и тоже могли убить. В органы пошел по желанию после окончания средней школы и киевских годичных чекистско-оперативных курсов. Сразу же был направлен в Западную Украину, где и работал первые два года. В одной из чекистско-войсковых операций его приметил Николай Иванович и взял к себе в отдел.
Были у Славы и срывы в работе, в том числе и серьезные. К таким можно отнести его неудачную работу в оперативном особняке госбезопасности во Львове с упоминавшимся выше Матвиейко.
После захвата Матвиейко с ним какое-то время работали в Москве и в Киеве, и после согласия выйти в эфир под нашим контролем поселили в оперативный особняк во Львов, где и продолжили работу. О работе с Матвиейко было известно узкому кругу сотрудников и только тем, кто имел к этому делу непосредственное отношение. В целях конспирации Матвиейко именовался в кругу посвященных под псевдонимом «Четвертый» (по номеру камеры внутренней тюрьмы). Так вот, приставленный для идеологического перевоспитания, надзора и работы с эмиcсаром-парашютистом оуновского закордонного центра в числе еще двух чекистов Слава Чубак принял такой тон, который сразу же вызвал бурю негодования в душе этого человека.
Во-первых, он считал себя превосходным игроком в шахматы, о чем поделился с оперработником, который по его просьбе, — а надо сказать, что любые пожелания «Четвертого» незамедлительно выполнялись, — приобрел шахматы. Они тут же сели играть, и Славка несколько раз подряд выиграл с блеском, продемонстрировав явное превосходство над партнером. Мало этого, он с ехидной усмешкой заметил, что если такие высокие руководители подполья, эмиссары ОУН, так плохо играют в шахматы, то теперь ему понятно, почему ОУН потерпела крах. Слава не обратил внимания, что «Четвертый» не просто внешне расстроился, но отказался от обеда и несколько дней находился в пресквернейшем настроении.
Спустя короткое время «Четвертому» по его желанию приобрели несколько модных костюмов и дорогую украинскую вышиванку[130]. Объект удовлетворенно осмотрел себя в зеркале и сразу же предложил Чубаку пройтись по центру, по знаменитой львовской «стометровке». (Так львовяне называют короткий отрезок улицы, ведущей к оперному театру.) В общем, показаться народу. Пошли. «Четвертый», поймав брошенный в его сторону женский взгляд, сказал Чубаку:
— Вы видели, Слава, как эта женщина посмотрела на меня?
Слава мгновенно отреагировал:
— Да смотреть-то не на что. Тоже мне красавец. Домой приедете, посмотрите еще раз на себя в зеркало.
И что-то еще в этом роде.
Для «Четвертого», считавшего себя неотразимым мужчиной, такое заявление оперработника было похоже на удар ниже пояса на боксерском ринге.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения «Четвертого», явился случай с козлом во дворе особняка.
За год до появления объекта в этом особняке солдаты поймали в Карпатах молодого козленка, и офицеры оставили его для забавы в особняке, пристроив козленку в углу сада закрытую от дождя выгородку. Хозяйка особняка выходила это серенькое и симпатичное существо, превратившееся через год в молодого и бодливого козла, привыкшего к людям и вечно норовившего боднуть рогами каждого.
Рядом с домом, во дворе, находился небольшой неглубокий бассейн, служивший декоративным садовым украшением и запасом воды на случай пожара, куда на лето запускались золотые рыбки, караси и другая водяная живность. «Четвертый», находясь в самом радушном послеобеденном настроении и под впечатлением только что закончившейся с ним беседы высокого руководства, вышел во двор, проводил начальство и со счастливой улыбкой всем довольного человека подошел к бассейну и наклонился к воде, рассматривая рыбок. И надо же такому случиться! Как только козел заметил торчащий перед краем бассейна зад эмиссара, он тут же принял боевую стойку и ринулся к вожделенной цели. Удар! Раскинув руки и ойкнув, «Четвертый» под сумасшедший хохот Славы рухнул в воду, подняв фонтаны брызг.
Когда, устав от хохота и держась за живот, Чубак поднялся по мокрой лестнице в комнату объекта, он увидел трясущиеся от ярости губы «Четвертого», его покрытое от ненависти красными пятнами лицо, дрожащие руки, срывающие с себя мокрые одежды, но и тут не придал значения случившемуся и продолжал осмеивать несчастного Матвиейку:
— Это надо же такому случиться! И таких эмиссаров-радистов направляют в подполье!
Вот тут-то Матвиейко и принял решение убить Чубака, а самому бежать. Задолго до случившегося он нашел в саду автоматный патрон и, как опытный и осторожный подпольщик, спрятал его между досок забора. Так, на всякий случай.
Через несколько дней после инцидента с козлом, сделав вид, что не придает происшедшему никакого значения, «Четвертый» ласково разговорился с Чубаком и обратился к нему с просьбой купить металлический конструктор. Свое желание он пояснил намерением развлечься этой юношеской, но интересной забавой, создавая различные конструкции, чего был лишен в юности.
Прокомментировав просьбу объекта насмешливыми замечаниями, Слава с «Четвертым» выбрал самый дорогой конструктор, который и отвечал тайным замыслам Матвиейко.
Подобрать под калибр патрона трубку в завалах металлического хлама в светлом и уютном подвале особняка, где «Четвертый» расположился со своим конструктором, не представило особого труда.
Он действительно какое-то время возился с конструктором, что-то моделировал под насмешливым взглядом и замечаниями оперработника, который все чаще оставлял «Четвертого» одного в подвале.
Наконец, Матвиейко сконструировал свой пистолет. Ударное приспособление он изготовил с помощью толстой резинки. Бродя по саду и тщательно всматриваясь в траву, он нашел еще два пистолетных патрона, потерянных при чистке оружия охраной. Вытащив пулю и освободив гильзу от пороха, он под прикрытием шума радиоприемника испытал свое приспособление и получил удовлетворительный результат. Ударное приспособление легко разбивало капсюль.
Он дождался своего часа. Ненависть распирала его. И он окончательно решил бежать, используя невыданные им госбезопасности связи, перейти на нелегальное положение и продолжить борьбу…
«Четвертый» поднялся с кровати и прислушался. Дом спал. Где-то наверху в мансарде спала хозяйка. Она не услышит выстрела. Он специально проверил проникаемость звука в ее помещение, зайдя к ней и включив внизу на полную мощность приемник. Чубак же ничего не услышит, получив пулю в висок. Дверь в комнату Чубака он плотно прикроет, на пистолет набросит полотенце, как его учили англичане. Звук выстрела будет надежно заглушен. Кроме того, по улице иногда проходят автомашины.
«Четвертый» осторожно тронул дверь своей комнаты, находившейся рядом с комнатой операботника. Дверь бесшумно открылась. Дверные петли дверей он заранее смазал. Прокрался в прихожую, где слабо светил ночник и, стараясь не шуметь, надел на себя висевшие на вешалке плащ и шляпу. Медленно приблизился к двери и приоткрыл ее, вглядываясь в темноту комнаты.
Кровать Чубака стояла изголовьем к окну, через которое в комнату проникал слабый свет с улицы. Издали послышался шум приближающегося автомобиля. «Четвертый», мягко ступая на носках, бесшумно приблизился к изголовью и наклонился над спящим.
Шум машины усиливался. «Наверное, грузовик, тем лучше», — мелькнуло в голове. Гулко билось сердце. Его удары, казалось, заглушали все остальные звуки. «Четвертый», чуть шевеля губами, шептал молитву. «Да что это я не решаюсь? Вот его голова, висок. Сейчас я приставлю к голове пистолет и выстрелю».
Он набросил на пистолет взятое у себя в комнате полотенце и стал медленно подносить его к виску сладко посапывающего чекиста. Машина, глухо урча мотором, почти поравнялась с домом.
От успокаивающих слов молитвы сердце Четвертого перестало выбиваться из грудной клетки. Матвиейко не раз убивал людей в бою и совершал казни. Почему я не могу выстрелить? Сейчас машина пройдет мимо дома, и стрелять будет рискованно. Что это со мной?» — беспорядочно крутились в его голове мысли.
Он продолжал внимательно всматриваться в лицо спящего и уже обреченного на смерть человека. Вспомнил, как в минуты душевной близости, — а такие бывали между ними, — Чубак рассказывал ему о своей семье, родителях, у которых он был единственным сыном, о любимой жене, о тяжелой своей военной юности, о детях. Их у него было двое и они ждали третьего.
«Дурак ты, Славка. Живи, дурень, пожалел я тебя», — мелькнуло последнее в сознании Матвиейко и он отвел пистолет от головы оперативника. Так же бесшумно отступил к двери, не отводя пистолета от лежавшего на кровати. За окном слышался затихающий гул удаляющегося грузовика.
«Четвертый», уже стоя в холле, мягко отпустил тугую резинку. Положил выпирающее углами и внешне напоминающее пистолет металлическое сооружение в карман плаща и вытер струившийся со лба пот[131]. Надел ботинки-мокасины, легко повернул ключ входной двери и вышел на освещенное крыльцо. Стараясь не торопиться, спустился на дорожку, ведущую к калитке, и медленно пошел по ней. Стоявший в будке у калитки часовой-автоматчик азиатской национальности вытянулся перед ним, как и положено по уставу.
Несшее охрану особняка воинское подразделение из львовской дивизии МГБ не было посвящено в оперативные секреты работавших в особняке чекистов. Они только видели, что с живущим в этом доме человеком общается высокое начальство и обращение с ним самое почтительное, а посему принимали его самого за одного из руководителей МГБ.
«Четвертый» не знал, что в другом особняке напротив круглосуточно находится команда из нескольких человек, сотрудников 7-й службы (наружное наблюдение), готовая по сигналу Чубака от нажатия только ему известной и замаскированной в кровати кнопки сразу же прийти на помощь…
Славка проснулся как от непонятного толчка. Что-то встревожило его. Последующий разбор дела показал, что он проснулся через двадцать минут после исчезновения «Четвертого».
Как будто какая-то неведомая сила сбросила его с кровати. Он выбежал в холл, включил большой свет. На полу полотенце «Четвертого», на вешалке нет его плаща и шляпы. Комната объекта пуста, как пуст и весь первый жилой этаж. Рывок по лестнице наверх. Сестра-хозяйка мирно спит в своей постели. Разбуженная толчком Чубака, она испуганно смотрит на перекосившееся от волнения и охватившего его страха лицо Чубака.
Убедившись, что «Четвертый» сбежал, Чубак вернулся в свою комнату, нажал кнопку тревоги и стал лихорадочно одеваться. Через несколько минут поднятые Чубаком по тревоге находившиеся в доме напротив и пропущенные часовым по паролю сотрудники вбежали в особняк.
Старшему команды все стало ясно из последних слов, произнесенных Чубаком в телефонном разговоре с начальником управления ГБ генералом Шевченко. Все действовали по разработанной на подобный случай инструкции. Поднятая тревога взметнула все управление госбезопасности Львова и подчиненные ему войсковые части. Охранная дивизия, школа ГБ, милиции, весь состав управления ГБ и милиции рассредоточились по заранее определенным местам. Город в течение нескольких часов был полностью блокирован. Все выходы из города, включая железнодорожный и автобусный вокзалы, аэропорт были перекрыты оперработниками, снабженными фотокарточками «Четвертого», или знающими его в лицо сотрудниками. Контролировались все выходящие из Львова железнодорожные составы и автомашины. Там, где не было выездов из города, плотным кольцом стояли солдаты и курсанты военных училищ, готовые задержать любого, кто попадет в поле их зрения, а в случае неповиновения открыть огонь на поражение.
Об этом эпизоде с плотным блокированием Львова мы вспоминали позднее в Германии с моим другом. Стоявший тогда в оцеплении с автоматом в руках и готовый стрелять в не подчинившегося его окрику человека курсант Львовской школы МГБ В. Д. Клементьев впоследствии стал резидентом советской разведки в Западном Берлине.
По прошествии нескольких десятилетий мои мысли нет-нет да и возвращаются к той блокаде Львова сравнительно небольшими войсковыми силами, сравнивая много раз проводившуюся в нынешней чеченской войне блокаду Грозного. Во Львове тогда мышь не проскочила бы из города.
Оказавшись на свободе, «Четвертый» сразу же направился на вокзал. Деньги на билет у него были. Был ночной перерыв. Ближайшие пригородные и дальнего следования поезда отходили только через два часа. Он хорошо ориентировался в этом городе и быстро направился в сторону автовокзала. Когда Матвиейко приблизился к освещенному зданию автовокзала, он заметил в группе пассажиров знакомого ему оперработника.
«Неужели они обнаружили мой уход, это невозможно. Смена караула еще не наступила, Славко спит. Наверное, мне показалось, но рисковать не буду. Вернусь на железнодорожный вокзал», — подумал «Четвертый».
Ему удалось поймать автомашину и договориться с частным водителем подвезти его к аэропорту. «Если есть ночной самолет — улечу». У въезда в аэропорт он заметил проводившийся милицией контроль автомашин и, ничего не объясняя, казалось, о чем-то догадывавшемуся водителю, симпатичному молодому парню, попросил развернуться и привезти его обратно в центр города. Выйдя из машины, он пошел в противоположную от железнодорожного вокзала сторону, чтобы это видел водитель. Как только машина исчезла из виду, он бегом направился к вокзалу. Занял удобную позицию для наблюдения за главным входом в здание и с ужасом обнаружил выходивших покурить на крыльцо молодых людей, среди которых он четко узнал хорошо известного ему офицера госбезопасности. Сомнений больше не было. Его бегство обнаружено.
Решение уходить из города пешком пришло сразу же. Надо было с самого начала выходить из города пешком. Но кто мог знать, что советы среагируют так быстро. Село, где у него имелись не отданные чекистам связи — в сорока километрах от Львова. Топать туда пешком тяжеловато и по времени долго, могли выставить заслоны. Он дважды пытался выйти из города, вначале через Лычаковское кладбище, а затем почти с противоположной стороны Львова, в Подзамче, и везде натыкался на заслоны.
Ранним утром, смертельно устав, он пришел к своему старому знакомому, не связанному в прошлом с ОУН, сказав ему, что работает сейчас в Москве и во Львов приехал в командировку. Пробыв в квартире знакомого два дня, он принял окончательное решение — позвонить в особняк и сдаться, что и было им сделано.
После добровольной явки «Четвертого» последовала команда руководства ГБ Украины арестовать всех сотрудников, имевших отношение к работе с объектом. Неожиданное бегство Матвиейко принесло неприятности не только тем, кто непосредственно работал с «Четвертым»…
В одном из рабочих кабинетов управления ГБ, где работали находящиеся под арестом сотрудники, раздался телефонный звонок:
— Говорит Мирослава[132]. У меня сегодня встреча с Владимиром Борисовичем[133], а он почему-то не пришел. Телефон его не отвечает. Что-нибудь с ним случилось? — спросила она у знакомого оперработника.
Тот возьми, да и пошути:
— Ты что, Мирослава, не знаешь, что он арестован?
По телефону долгая пауза. Затем Марийка спросила:
— А за что? Почему?
Вновь насмешливый ответ работника:
— Из-за тебя, наверное, — и на другом конце провода положили трубку.
Мирослава тут же набрала номер известного ей руководителя, имея на это данное ей в свое время право.
— Говорит Мирослава! Только что мне сообщили, что арестован из-за меня Володя Демеденко. Григорий Васильевич! Это я виновата. Только я одна. Володя не виноват. Я прошу встречи.
Опытный чекист не стал успокаивать и расспрашивать по телефону агента. Он сразу же провел встречу на явочной квартире. То, что узнал руководитель, глубоко взволновало его, но изменить что-либо в случившемся он не имел ни права, ни возможностей.
Встревоженная Мирослава рассказала, что после ее захвата и длительной работы чекистов с ней она пришла к решению о сотрудничестве не потому, что ее переубедили чекисты-коммунисты. Не потому, что ей в случае отказа пришлось бы долгие годы, до старости сидеть в лагере. Когда спустя несколько недель строгой изоляции в одиночной камере у нее впервые появился Володя Демеденко и они увидели друг друга, оба поняли, что сама судьба, Господь Бог свели их вместе. Что они созданы друг для друга, независимо от их идеологических убеждений. Молодые люди смотрели друг на друг и тонули в глазах один у другого. Володя молча стоял перед сидевшей и смотревшей на него девушкой. Потом она встала и сделала шаг навстречу… Она почувствовала непреодолимую тягу к этому хлопцу, представившемуся ей капитаном Демеденко, уполномоченным руководством продолжить с ней пока не увенчавшуюся успехом у других чекистов работу. До этой, такой роковой для обоих встречи Мирославу водили к начальникам из Киева. Ни с кем из них Мирослава в контакт не вступала, показаний не давала, данных о себе, зарубежных лидерах и о подполье не сообщала.
Буквально через день Володя вывез ее автомашиной в город, долго и увлеченно говорил с ней об истории этого города. Они оба, хорошо знавшие Львов, Галицию, Волынь, вообще всю Западную Украину, даже горячо поспорили. Мирослава впервые за эти недели рассмеялась и уже в камере вместе с Володей также впервые плотно и сытно поела. Она впервые спокойно уснула. Ей казалось, что с ней произошло что-то невероятное и необъяснимое.
А еще через пару дней Володя перевез Мирославу в особняк, где ее разместили в отдельной комнате с изолированным и охраняемым выходом, с мощной решеткой на окнах. Но все же это была не тюрьма, а нормальные человеческие условия.
Много часов провели Володя и Мирослава в этой комнате. О чем только они не переговорили, оставаясь вдвоем. Оба хорошо знали историю и литературу Украины. Оба увлекались поэзией и искусством. Оба любили Украину. Однако, каждый по-своему, со своих позиций, убежденно и искренне доказывал исторический путь своей Родины — Украины. В общем, оба с нетерпением ждали и искали встреч.
Случилось то, что должно было случиться между молодыми людьми. Они стали близки. Никто из них не играл друг с другом. Мирослава по-прежнему оставалась убежденной оуновкой и секретов не выдавала, а Володя — убежденным коммунистом, честно выполнявшим свой чекистский долг и пытавшийся склонить Мирославу к сотрудничеству. Делал он это, однако, в открытой форме, не скрывал своей конечной цели и однажды заявил, что считает ее своей женой и не видит иного выхода для того, чтобы остаться вместе, как ее согласие на сотрудничество с госбезопасностью. Он не лукавил и не действовал по заданию своего начальства. Он любил ее, но не мог отступить от своих коммунистических идеалов.
Мирослава предложила ему бежать вместе, заявив, что у нее есть каналы ухода на Запад. Чекист Демеденко на это ответил, что-либо она сейчас же отдаст им не только этот канал, но и все известное ей о подполье и ее работе в ОУН, либо они расстанутся навсегда.
Мирослава видела открытый честный взгляд Володи, его страдающие, как от физической боли, глаза и не выдержала. Рыдая и захлебываясь слезами, она прижималась к груди любимого и говорила ему, чтобы только не бросал ее одну в этом мире чужих и ненавистных ей людей, что она готова на все.
Здесь же Мирослава рассказала Володе все, что ей было известно, о работе в ОУН и отдала то, что навсегда закрывало ей дорогу в прошлое, — линии связи, людей, пароли, тайники.
Почти два года им удавалось скрывать свои отношения, маскируя это все новыми и новыми данными, получаемыми с помощью Мирославы капитаном Демеденко. Все было бы хорошо, если бы не побег «Четвертого» и неудачная шутка другого сотрудника по поводу агента — что соответствовало действительности — Володи.
Начальник внимательно и с сожалением смотрел на Мирославу. Знал он и предстоящую судьбу чекиста Демеденко. Запомнил он на всю жизнь последние слова Мирославы:
— Если бы не моя любовь к Володе и не наша любовь, не было бы у вас ни линии связи, ни отданных мною курьеров, ни полученных с моей помощью из-за кордона денег, золота, оружия и людей. Я все отдала вам за него!
Капитан Демеденко был исключен из партии и уволен из органов, которые лишились опытного чекиста и мастера оперативных комбинаций. Спустя какое-то время ему удалось восстановиться в партии, он стал работать парторгом МТС. Партия обязала его расстаться с Мирославой. Говорят, он так и не женился, навсегда сохранив свое чувство к одной женщине.
* * *
В конце января наступившего нового года Москва потребовала решительных мер по закреплению отношений с Охримовичем. Одной из таких мер было требование московского руководства получить от эмиссара точное местонахождение бункера с Зоряной, имея в виду захват ее живьем с помощью спецпрепарата «Тайфун»[134]. Вначале Киев под различными предлогами уклонялся от требований Центра, ссылаясь на сложность отношений с Охримовичем и его тяжелый, взрывной характер. Москва настаивала на своем, и Киев сдался. Николай Тихонович Мороз и Николай Иванович, на которых возлагалась личная ответственность перед высшим руководством страны за результаты этой операции, ворчали: «Кому-то там, наверху, ордена нужны. Ведь провалим дело, мало ли что может случиться. Да и куда эмиссару деться от нас, даже если он и не до конца искренен». Уговорили киевские начальники Охримовича назвать приметы бункера при условии, что на Зоряну он будет выходить сам по весне, а назвать бункер надо, чтобы окончательно убедиться в его открытости госбезопасности. И слово чекистское дали Охримовичу, что не будут «подлезать» к бункеру. И конечно же, выполняя волю московского начальства, «полезли» и все произошло так, как в случае с применением новой системы ПВО на вершине закарпатской горы Говерлы при попытке сбить американский самолет с парашютистами. Посвященные в ту операцию чекисты-весельчаки так и «окрестили» ее: «Осветить и сбить».
В начале февраля специально подготовленная группа под прикрытием якобы проводимых лесозаготовок выдвинулась в район бункера Зоряны. Двигались осторожно, соблюдая максимальную тишину. Как и положено в зимних условиях, операцию начали ранним утром в солнечный и ясный день, чтобы легче было обнаружить на восходе (или закате, на худой конец) солнца еле заметную даже в солнечный день струйку колеблющегося на морозе теплого воздуха, что струится из бункера по вентиляционной трубочке вверх в более холодный воздух. Заметили эту струйку. По ней определили возможное нахождение люка. Блокировали его. Вставили в найденное вентиляционное устройство гибкий шланг и открыли вентиль баллона. Раздался резкий, громкий, с оглушительным хлопком звук, что и услыхали находившиеся в бункере. Поняли, что обнаружили их чекисты. Пока мешкались с запасным баллоном, зашевелился снег в нескольких метрах от вентиляционного отверстия, и в приоткрытый люк высунулась рука с зажатой в ней гранатой. Заработал ручной пулемет с фиксированным сектором обстрела в сторону люка. Выкатившаяся из перебитой руки граната по счастливой случайности не взорвалась. Пулемет бил беспрерывно короткими очередями, не давая оуновцам показаться. Засвистел запасной баллон с газом и почти одновременно в короткой паузе между пулеметными очередями внизу, под землей, прозвучало почти сразу же три хлопка. Это ушли из жизни три обитателя бункера и среди них так нужная чекистам Зоряна Кубрак.
Претензий Москвы к чекистам Украины не могло быть, потому что, во-первых, баллон был московского производства, и кроме того имелась оперативная переписка Киева с Москвой, в которой чекисты Украины категорически высказывали свое мнение не проводить операцию по Зоряне с использованием спецпрепарата, а ждать весны, нормального и естественного развития событий.
Вплоть до мая текущего года с Охримовичем под разными предлогами уходили от разговоров на тему связи с Зоряной, о чем договаривались в самом начале контакта его с ГБ Украины. Но шло время, и скрывать от него гибель Зоряны становилось бессмысленным и опасным. Решили провести наконец эту сложную и неприятную беседу…
Выслушав длительные и, казалось, логичные объяснения Николая Тихоновича Мороза и Николая Ивановича, Охримович опустил голову и долго молчал.
Потом он поднял глаза и внимательно посмотрел сначала почему-то не на Мороза, а в глаза Николая Ивановича, который спокойно реагировал на это. Глаза Охримовича, казалось, говорили: «Что же ты так поступил? Я же просил тебя по-человечески. Ты ведь тоже из той же плоти, что и я. Как же ты мог так? Я ведь верил тебе. Ты же тоже любил, знаешь, что это такое». Как рассказывал потом Николай Иванович, в глазах Охримовича были мука и боль. Охримович перевел глаза, налившиеся яростью и ненавистью в сторону Мороза. Николай Тихонович не смотрел в глаза Охримовичу.
— Я не верю вам, вы проводите очередную «энкэвэдистскую» комбинацию. Докажите мне, что Зоряна и ее два боевика мертвы».
Охримович долго рассматривал положенные перед ним на стол многочисленные фотографии мертвой Зоряны и ее боевиков. Он внимательно, очень внимательно всматривался в лицо застрелившейся Зоряны. Посмотрел и на мертвых известных ему боевиков, у одного из которых висела на сухожильях перебитая несколькими пулями кисть руки, тоже четко отображенная на фотографии. Сомнений у него больше не оставалось. Зоряна, его любовь и жизнь, была мертва.
— Я вас всех ненавижу. Жалею только об одном — не сумел сохранить жизнь Зоряны. Мало, очень мало убивал я вас, надо было больше. Разве вы люди? А я, хоть и не полностью, но поверил вам. А вы, большевики, как всегда, обманули. Не радуйтесь, я не все рассказал вам и вашим людям. Если бы Зоряна осталась жива, я бы перехитрил вас. Вашу агентуру мои друзья в Мюнхене все равно найдут. Все зрадники кончают смертью, рано или поздно. Игре вашей без меня конец. Смертью меня не запугаешь. Больше я ничего не скажу.
Охримович больше не разговаривал и отказался от еды, которую ему неоднократно пытались ввести зондом. Эмиссара ЗП УГВР, агента ЦРУ Охримовича в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УССР расстреляли спустя два месяца. Смерть он принял спокойно.
Прояви чекисты больше терпения, не поторопись с захватом Зоряны, может быть, и получилось что-нибудь стоящее. Правда, большинство работавших с Охримовичем чекистов было уверено, что такие оуновцы, как Охримович, никогда не переходят на сторону советской власти. В лучшем случае такие люди используют этот вынужденный вследствие неудачно сложившихся для них обстоятельств контакт с советской госбезопасностью сугубо в интересах своей организации, чтобы и здесь, с этих позиций нанести ущерб советской власти. Подобные Охримовичу оуновские лидеры даже свою смерть использовали только в интересах подполья…
* * *
Московское и киевское начальство торопило отдел Николая Ивановича с захватом или, на худой конец, ликвидацией Лемиша. Получив очередной нагоняй и жесткое указание руководства, Николай Иванович собирал отдел и, мрачно и внимательно всматриваясь в лица сидевших перед ним людей, медленно произносил всегда одни и те же слова:
— Когда вы покончите с этим безобразием. Мне надоело отвечать перед руководством за вашу медлительность, недоработки и промахи. Вот вы, — и он поворачивался в сторону начальника отделения Б., — до сего времени не установили связь с Партизаном. Что с ним? Может быть, разоблачен СБ и уничтожен?
Горячий и вспыльчивый Б. тут же вскакивал с места и резко отвечал начальнику отдела примерно так:
— Николай Иванович! Нам-то всем понятно, почему до сих пор нет связи с Партизаном. Вы тоже это знаете, не время ему еще выходить на связь. Возьмите меня на беседу с начальством — я объясню им в доступной форме азы агентурно-оперативной работы и особенности проводимой комбинации. Я удивляюсь такому нетерпению и Москвы, и нашего начальства. Пусть сами попробуют на месте поработать с агентурой, по лесу ночью с автоматом походить. Легко в кабинете рассуждать да стружку с подчиненных по телефону снимать.
Обычно в той части диалога, когда разговор заходил о действиях и поведении руководства, Николай Иванович движением руки и словами: «Ну хватит, поговорили» — прерывал говорившего, сажал его на место и поворачивался к очередному ответственному начальнику отделения. Это были не менее горячие и предельно принципиальные в рабочих вопросах Василий Иванович, Иван Константинович, или Алексей Р. Те резали правду-матку своим начальникам в глаза:
— Вы же знаете, Николай Иванович, мы в Киеве с семьями бываем по два-три дня в месяц, а то и в два-три месяца. Все время проводим в командировках. Делаем все возможное. Мы имеем дело с самым опытным из оставшихся в живых руководителей подполья. Казалось бы, все знаем о Лемише, все его связи, места явок и встреч, и ничего не получается, каждый раз уходит от нас. Все перекрыто, осталось немного подождать. Скажите начальству, чтобы нас не торопили. Постараемся добыть им живого Лемиша.
И как только вновь затрагивалось руководство, Николай Иванович каждый раз перебивал говоривших и просил их быть конкретными, высказываться по существу.
Наконец, была получена весточка от Партизана, который сообщал, что проводившаяся по плану и договоренности с ним масштабная чекистско-войсковая операция, имитировавшая поиск оуновских банд в районе его встреч с боевиками Лемиша, прошла успешно и закрепила его позиции как действительного представителя подполья в Хмельницкой области, и что он движется вместе с известным связным Лемиша Чумаком из бункера в Гурбенском лесу в сторону Хмельницкой области по заданию самого Лемиша для связи с легендированным подпольем ОУН. Забрезжила надежда выхода на Лемиша. Главное сейчас — захватить живым Чумака, с его помощью его напарника Карпа и уже через них организовать захват или ликвидацию самого Лемиша. Органам был известен маршрут движения Партизана с Чумаком, места их дневок, так как двигаться они могли только ночью, чтобы не обращать на себя внимания местных жителей. Партизан дважды прорабатывал хорошо известный ему маршрут, точно запомнил места закладки записок или обусловленных сигналов оперработникам.
Группа сотрудников, участвовавших в проведении операции и осуществлявших прикрытие перехода Партизана и Чумака и захват последнего, незамедлительно выехала в районы движения своего агента с оуновцем…
Глава четвертая
…Бункер не был приспособлен для длительного пребывания в нем. Высота не превышала полутора метров, длина и ширина — чуть больше двух. Он был рассчитан на двух человек и предназначался для кратковременного укрытия — на день-два, не больше. Их же было трое здоровенных хлопцев и сидеть в бункере пришлось больше недели. Несколько раз до них доносился лай чекистских овчарок, и слышно было наверху движение людей. Все трое были готовы ко всему. Молчали. Автоматы и гранаты держали наготове. Почти не спали, делали это изредка, по очереди, чутко слушая происходящее там, над люком. Последние два дня совсем стало невмоготу — пространство настолько маленькое, что с трудом можно было вытянуть ноги, развести руки. Дышалось с трудом. Маленькое вентиляционное отверстие не обеспечивало нужное поступление свежего воздуха. От недостатка кислорода кружилась голова. Зажигаемая ими время от времени свеча тут же гасла. Наконец, раздался долгожданный звук удара палки о росшую рядом с люком высокую ель — свой человек из села условно сообщал, что опасности нет.
Партизан, Чумак и Карпо вылезли из бункера, с трудом удерживаясь на ногах.
Партизан знал, что прикрывая выполнение задачи и как бы подтверждая его легенду, органы ГБ могут проводить в этом районе широкомасштабную чекистско-войсковую операцию по поиску оуновцев. Лемиш и его боевики понимали, что чекисты не будут проводить подобных операций с риском потерять своего агента. Во избежание возможных накладок и точно зная расположение бункера, о чем Партизан сумел сообщить через своих боевиков работавшему с его группой оперработнику, сотрудники ГБ, принимавшие участие в этой акции, как бы «блокировали» на узком участке люк и подходы к этому схрону, на всякий случай прикрыв этот участок леса от проходивших мимо солдат с шупами[135] и собаками. Офицерам-войсковикам и солдатам не было известно, что проводимая операция изначально призвана лишь имитировать поиск оуновских убежищ.
Хлопцы долго лежали на вынесеных из схрона подстилках из овчины, жадно, до боли в легких вдыхая пьянящий лесной воздух. Кружилась и болела голова. Ломило суставы, казалось, все кости в теле наполнились ноющей тупой болью. Все трое закурили и тут же закашлялись — легкие не воспринимали табак. Первым с земли после долгого лежания поднялся на ноги и двинулся в сторону развесистого дуба Чумак и тут же рухнул на землю — ноги не держали его. Лежавшие на земле Партизан и Карпо рассмеялись:
— Что же это вы, друже Чумак, такой здоровый и крепкий, а падаете как куль с мукой?
— Да будет вам, друзи, сами попробуйте, нечего смеяться, — беззлобно ощерился беззубой улыбкой Чумак, повернув в сторону лежавших свое бледное заросшее темно-рыжей бородой лицо с широко открытым и хватающим воздух как рыба ртом с бледно-розовыми деснами.
Зубы Чумак потерял давно от многолетних зимовок в бункере. Цинга съела его зубы. Несколько месяцев без движения, отсутствие солнца, дневного света, нормальной пищи, свежей воды, спертый и тяжелый воздух от плохо вентилируемого тесного подземного помещения, запах биологического распада человеческих отходов, — находясь в таких условиях, человек в течение нескольких часов, а иногда и дней, выйдя из убежища, не мог двигаться, приходил в себя постепенно. Потом эти тяжелые часы и дни забывались. Лесной воздух, активные движения, длительные и многочисленные переходы, здоровая сельская пища, получаемая из рук сердобольных селян, молодой и здоровый организм делали свое дело, и человек забывал, что всего пару недель назад он был больным, почти калекой. И так до очередной зимовки, которые с каждым годом становились все тяжелее и тяжелее — сжималось кольцо госбезопасности, сокращалась снабженческая база, почти прекратилась поставка медикаментов, боеприпасов, керосина, необходимого для освещения и приготовления хотя бы раз в сутки горячей пищи на керосинке или на треноге, в середине которой ставилась обычная керосиновая лампа. Каша на такой «установке» варилась в течение трех часов, чай — около двух. Положенные по норме 60–75 граммов сала или домашней колбасы, хранившихся в закопанных в пол бункера алюминиевых бидонах, и пара сухарей первые недели создавали иллюзию более или менее сносного питания. Потом наступали неприятности. Кишечник отказывался нормально функционировать. Правда, умелые хлопцы запасались в селах изрядным количеством самогона и целебных трав. Выпивать можно было, впрочем как и делать все остальное, только по разрешению провидныка или коменданта бункера, назначаемого провидныком старшим по бункеру. В случае окружения бункера решение на прорыв или самоликвидацию принимали только провиднык или комендант. Самоуничтожение проводилось тоже только ими. Укрывавшиеся в схронах боевики становились лицом к стене и их по очереди выстрелом в затылок убивал провиднык, кончавший с собой последним. Чтобы сомнений не оставалось ни у кого…
Все трое долго лежали, разогретые жарким летним солнцем. К вечеру полегчало. Закурили. В лесу быстро темнело, потянуло сыростью. В бункер лезть не хотелось, но надо было, мало ли что может статься в лесу. А вдруг снова «энкэвэдисты» начнут прочесывать лес. Все же решили спать с открытым люком, замаскировав его ветками кустарника.
— Хорошо, что с нами в бункере девчат не было, — серьезно произнес Карпо, — а то бы еще тяжелее было всем нам. Помню, в прошлые два года подряд бункеровался с двумя связными, такие хорошие девчата были. Жаль, обеих арестовали. Живые ли, не знаю. Вот тяжело-то было с ними. И вот каждые две-три недели так тяжко дышать было в схроне, хоть плачь, и наверх никак нельзя — солдаты с собаками нас искали.
В подполье неохотно брали в бункера женщин. Разве что нужда заставляла. Ежемесячные биологические женские циклы заставляли мучиться всех в бункере — кровь разлагается мгновенно, заполняя небольшое пространство тяжелым запахом гниения…
На следующий день первым вызвался идти в село Карпо. Он ушел к вечеру и вернулся под утро, пахнущий свежим мылом. Принес молока, еще теплой картошки и такого безумно желанного, тоже еще теплого хлеба, самой вкусной на Земле для человека еды.
Через неделю Партизан знал две явки Лемиша. Он, однако, в обусловленное время на связь не вышел, прислал своего связного, которого знал Чумак. Связной сообщил, что у провидныка тяжело заболела жена, он даст знать позже о встрече. Чумак через связного передал Лемишу о наладившемся контакте с представителем провода в Хмельницкой области Партизаном, который по его, Лемиша, указанию согласен зимовать с ними в бункере и уже отправил своих боевиков в Хмельницкую область; судя по всему человек он надежный, хорошо знает известного Лемишу провидныка и готов идти вместе с Лемишем на связь с действующим подпольем в любое время. Чумак также сообщил о проводившейся в их районе чекистской акции, о том, как они вместе укрывались в бункере и были готовы при обнаружении принять смерть. Ответ от Лемиша пришел через две недели. Он сообщал, что будет готов к переходу не раньше весны следующего года, и дал указание Чумаку и Партизану самим выходить на связь с руководством подполья в Хмельницкой области и, если не успеют вернуться на его, Лемиша, линию связи до зимы, сообщить ему об этом по известным каналам связи. Дал он и условия связи на следующий год.
Еще несколько дней находился Партизан у своих новых «друзей», сумев за это время принять курьера из Хмельницка, присланного к нему на связь от легендированного подполья. Роль курьера выполнял оперативный сотрудник. Он устно передал Партизану инструкцию руководства ГБ Украины о маршруте движения, имея конечной целью явку госбезопасности в одном из примыкающих к Хмельницку сел, конспиративная хата которой была подготовлена для захвата Чумака и сопровождающих (такое тоже предусматривалось) его боевиков живыми. Руководство также обращалось к Партизану с просьбой сделать все необходимое, чтобы осуществить захват Чумака только живым. В конце связник добавил: «Ну а если станет невмоготу, заметишь, почувствуешь, что тебя подозревают, даже если это случится на маршруте движения, то, Миша, режь их обоих или одного из автомата. Но это в самом крайнем случае тебе разрешается. Очень нужны эти хлопцы живыми». Партизан знал, что речь в конечном итоге идет о захвате или ликвидации Лемиша, что без помощи Чумака или Карпа выход на провидныка исключен и пообещал сделать все от него зависящее.
Два дня подготовки, по нескольку килограммов в вещмешке у каждого продуктов — сало, хлеб, картошка, пшено, припасенных заботливым Карпо, — и оба, Партизан и Чумак, готовы к длительному переходу на восток — в Хмельницкую область.
Солнце садилось. Отдохнувшие за день на свежем воздухе хлопцы попрощались с Карпо, обговорили условия связи, проверили и смазали автоматы и двинулись по уже потемневшему лесу туда, на восток, где каждого из них ожидали надежда, успех или смерть. По территории Ровенской области, по широко раскинувшемуся Гурбенскому лесу одному ему известными тропами, первым шел Чумак. Шел как лось — быстро, ходко, размашисто и осторожно как рысь — мягко ступая, не издавая ни звука, видя все в темноте, угадывая каким-то шестым чувством возникающую на пути преграду — дерево, яму, завал, ручей. Останавливался так же неожиданно, как и начинал движение. Внезапно, не предупреждая сзади идущего, зная, что этот такой же, как и он, повстанец — подпольщик. Если бы знал Чумак настоящую жизнь своего нового напарника, жить бы тому оставались секунды. Но и Партизан за долгие годы советской партизанки и работы по заданию органов ГБ в оуновском подполье стал таким же ловким, умелым, смелым и находчивым, как Чумак. Шли долго, преодолевая километр за километром. Засерело, потом засветлело на востоке, подернулась чуть оранжевая заревая полоска, когда старший на этом отрезке маршрута Чумак повернул к Партизану взмокшее от пота лицо и сказал: «Место на дневку надо выбирать, где-то через час солнце встанет, светло будет, укрываться надо». Улыбнулся Партизану и повел его дальше в молодой подлесок, где и укрылись на день. Быстро, до начала полного рассвета, развели огонек, который в это время начинающегося дня еще не видно, а запах костерка и дымок поглощаются утренним туманом, и не угадаешь его за пару сот метров. Налил Чумак из фляги воды в маленький медный чайничек, поставил на разведенный в несколько минут с помощью подобранного по дороге хвороста огонек. Наскоро выпив по кружке чаю и плотно поев, легли спина к спине, укрывшись плащ-палатками. С расстояния десяти-пятнадцати шагов не угадать, что здесь лежат два здоровенных вооруженных хлопца. Один из них, как и положено по правилам партизанки, не спал, сторожа сон товарища, которого через час разбудит, чтобы сменил его и дал отдохнуть.
Первые несколько дней старшим был Чумак на своих теренах, а потом его сменил Партизан. Уверенно повел Чумака по известному ему маршруту. Обусловленным знаком в обговоренном с оперативниками месте он передал, что движется с одним Чумаком. Сейчас условия дневок и передвижения ночью диктовал Партизан. Он так же, как и ранее Чумак, уверенно и быстро вел его по знакомой местности, обходя в целях конспирации встречавшиеся по дороге села и хутора. Чем дальше на восток углублялись они, тем оживленнее становились дороги, чаще, чем на Волыни, встречались села и люди. Разговаривали мало, все было сотни раз обговорено-переговорено за длинные дни и ночи в бункере. Больше молчали, изредка перебрасываясь крайне нужными в обиходе фразами. И чем ближе к востоку, тем настороженнее становилось, так, во всяком случае, казалось, поведение Чумака. Партизан часто ловил на себе чересчур внимательный взгляд оуновца. Особенно эту возникшую между ними еле уловимую напряженность Партизан чувствовал на дневках, когда ранним утром они сидели возле маленького огонька и пили чай. Чумак никогда, впрочем, как и Партизан, не расставался со своим ППС. Положив автомат на колени, он сидел у костра и изучающе смотрел на сидевшего напротив Партизана. От своего руководства Партизан знал прошлое Чумака. Знал, что тот все время до недавнего прошлого был в оуновской СБ, ликвидировал десятки приговоренных к смертной казни оуновским руководством советских людей, вешая их на мотузке, всегда болтавшемся у него на поясе. С этим мотком видавшей виды веревки, через которую прошли многие шеи, Чумак шел сегодня на восток, не подозревая, что его ждет в конце пути. Может быть, смерть, если ему даже удастся выскользнуть из цепких рук чекистов, которые живым не дадут ему уйти.
В подполье Чумак с 1942 года, было ему тогда двадцать лет. В Красную Армию, появившуюся в его краях в 1939 году, призвать его не успели, уходить на восток вместе с отступавшими частями Красной Армии, как это сделали несколько молодых парней из его села, он не захотел, а уезжать на работу в Германию по призыву немецких оккупационных властей — тем более. От немецких облав отсиживался на хуторе у тетки, где и познакомился с хлопцами и девчатами, укрывавшимися, как и он, от немцев в лесу. Эти молодые люди были связаны с местной ОУН, в которую и вовлекли такого же молодого тогда Николая — Чумака. Был он в те годы рослым здоровым красивым хлопцем, русоголовым, со светло-серыми с голубизной добрыми глазами и чарующей белозубой улыбкой. Как и все молодые хлопцы, влюбился Николай в самую красивую, как ему казалось, дивчину, да угнали ее вскорости немцы на работу в Германию. Не повезло и со второй любовью — погибла в оуновской партизанке в одном из боев с частями НКВД в 1946 году. В одном с ним отряде УПА была его Надия. Еще живую, раненную разрывной пулей в живот нес на себе дивчину Чумак. Усталости не чувствовал. Торопился к знакомому фельдшеру в село. Только раз остановился, чтобы перевязать ее. Разрезал на ней юбку, блузку и увидел на животе рваную рану с вываливающимися из нее синеватыми кишками. Сорвал рубаху с себя, наложил сверху. Завыл как смертельно раненный зверь, размазывая по лицу свои слезы с кровью нареченной. На руках у Мыколы умерла Надия. И попрощаться не успели. Без сознания была дивчина. Плоским немецким штыком-тесаком, срывая ногти, выкопал Чумак неглубокую могилу и похоронил вторую и последнюю любовь свою. По указанию провидныков немало казнил он врагов Украины. Не сожалел об этом. Ему казалось, что лишая жизни людей по решению и указанию СБ, он совершал правосудие за смерть Надии от большевистской пули, совсем молодой умершей в нечеловеческих муках, за смерть своих боевых товарищей по партизанке и подполью, за сосланных в Сибирь родителей, брата и сестру. От страшной, кровавой и тяжелой жизни подполья, проходившей в беспрерывных боях и соприкосновении со смертельной опасностью, от нечеловеческого ужаса проводимых с участием Чумака карательных оуновских акций, от многочисленных полуголодных зимовок в схронах под землей зачерствела душа хлопца, потускнели когда-то светлые и ласковые глаза, взгляд стал тяжелым, свинцовым. Смотрел на людей волком, исподлобья. В каждом видел врага. Так учили его провидныки — никому не доверять, если не знаешь человека лично и давно. Постепенно у Чумака повыпадали от цинги зубы. Исчезла его белозубая улыбка, так пленявшая в былые годы девчат. Улыбался он все реже и реже. То ли стеснялся показывать свой беззубый рот, то ли не было у него больше причин радоваться жизни на этом свете. Когда-то статный, с широким разворотом могучих плеч он за последние годы ссутулился, голова его была опущена вниз. Вот такое описание Чумака давали ранее захваченные госбезопасностью оуновцы, знавшие Мыколу по подполью. За свою преданность идее, которую он сам смутно представлял и с позиции двухклассного образования сельской школы не мог уяснить себе тонкости национального вопроса, за беспрекословные выполнения любых самых опасных заданий подполья, за личное мужество, отвагу в боях и кровавую свою работу палача в СБ заслужил Чумак высокое доверие руководства оуновского подполья. Руководство ОУН и провидныки всех уровней, с которыми работал Чумак, знали — он живым в руки врага не попадет, а если и захватят его чекисты, под страшными пытками он не выдаст товарищей. В числе самых преданных подполью и проверенных в боях оуновцев Чумак несколько месяцев был в охране командира УПА генерала Чупринки, многие месяцы обеспечивал линию связи между Чупринкой и его заместителем Лемишем. Полковник Коваль лично знал Чумака и был уверен в нем как в самом себе…
Партизана тянуло в сон. Гудели от ночного перехода натруженные ноги. Он снял сапоги, размотал портянки, разложил их для просушки на траве и лег на еще прохладную от ночи землю, с наслаждением вытянув босые ноги. Вот уже второй день он спит, как говорят, «вполглаза», все время находится в каком-то необъяснимом напряжении. Отчего это, что происходит с ним, всегда таким спокойным? Конечно же, это все Чумак. Вот и сейчас Мишка поймал тяжелый исподлобья взгляд Чумака и отвернулся, чтобы не видеть этих мрачных, свинцовых глаз оуновца. «Неужели, не выдержу и порежу его из автомата? — мелькнуло в голове. — А как же указание руководства? Николай Иванович, любимый Мишкин оперативный начальник, сам неоднократно инструктировал его и просил сделать все возможное и, как в таких случаях говорил, невозможное, но доставить на конспиративную хату Чумака живым. Только с его помощью есть шанс выйти на Лемиша. Но ведь я имею право при подозрительных моментах ликвидировать Чумака, — билась мысль в Мишкиной голове. — Что же Чумак так смотрит на меня, как будто в чем-то подозревает? Если бы у Чумака и Карпо были бы хоть малейшие подозрения, Чумак не пошел бы со мной в Хмельницкую область, а Лемиш в таком случае приказал бы Чумаку ликвидировать меня. Плохо у Лемиша с надежными связями, он вынужден искать выходы на еще действующие группы ОУН. Один, без людей, без выполняющих его указания подпольщиков он, Лемиш, — никто. Он вынужден довериться в общем-то случайному человеку, правда, на надежном, как Лемишу казалось, канале связи. А в чем собственно они могут меня подозревать? — думалось Партизану. — Все сработано как надо. Все продумано. Здесь и комар носа не подточит. Чекисты успели и такую специально шумную операцию провести, дав нам возможность укрыться в лесном бункере. Это, конечно же, убедило Лемиша в том, что я действительно член организации из подполья Хмельницкой области».
Мишка повернулся в сторону Чумака и вновь поймал его волчий взгляд. «Шляк бы тобi трафив!»[136]— в сердцах мысленно выругался Мишка и, подтянув к себе автомат, уселся на корточки перед затухающим костерком, взяв из рук Чумака протянутую ему кружку горячего чая. Не выдержал, спросил Чумака:
— Друже Чумак, что это ты так строго и зло смотришь на меня, как будто перед тобой не заслуженный повстанец-подпольщик, а большевик?
Чумак неожиданно улыбнулся беззубым ртом, обнажив десны с торчащими кое-где остатками зубов, и спокойно так произнес:
— Что вы, что вы, друже, я к вам хорошо отношусь. Вы человек грамотный, образованный. Мне многие товарищи по подполью говорили о моем тяжелом взгляде. Это у меня уже давно. Раньше не было. Не знаю, мне кажется, я по-доброму смотрю на вас.
«Надо же, — вновь забилось в голове у Партизана. — Еще пару таких тяжелых взглядов Чумака, и порезал бы я его из автомата. Жаль дурака, из него еще может получиться хороший человек, хотя и закоренелый и убежденный бандеровец. А что он видел в своей жизни, кроме тяжелого оуновского подполья? Конечно, забили ему голову своими идеями о незалежной Украине его батьки-провидныки. Что сегодня может быть незалежного? — думалось Мишке. — Да ничего не может быть независимого, все зависит друг от друга. Вон Россия какая огромная махина. Что и кто может устоять перед такой силой, как СССР? Америка и та боится. А тут какой-то Степан Бандера. Да стоило бы Сталину захотеть, он всю Западную Украину в Сибирь бы выселил. И был бы прав. До сих пор стреляют, убивают людей оуновцы. До сих пор орудуют зарубежные центры, не дают покоя людям».
Мишка вспомнил, как в советской партизанке он участвовал в нескольких боях с отрядами УПА, видел убитых бандеровцев и удивлялся: такие же, как и советские партизаны, хлопцы, такое же разнообразное вооружение и так же хорошо воюют. Бывало по-разному: то они нас, то мы их. Местное же население страдало от обеих сторон — поборы были как с той, так и с другой стороны. Есть хотелось партизанам как советским, так и бандеровским — вот и конфисковывали скотину, сало, хлеб, картошку, сено. Все, что надо было голодным людям и коням. Бандеровцы хоть давали селянам вместо денег отпечатанные на гектографе бумажки с изображением повстанца с поднятым в правой руке автоматом и указанной денежной суммой — 5, 10, 15, 25 карбованцев, которые после победы, как они заявляли, можно будет обменять на деньги новой Украины, а наши в лучшем случае расписку. Бандеровцы называли свои «денежные» бумажки «Боевым фондом» или «Бифономи», чекисты прозвали их «андитским фондом».
Партизан улыбнулся своим мыслям и тут услыхал голос Чумака, по-прежнему внимательно наблюдавшего за ним:
— Чего это вы улыбаетесь, друже Партизан?
«Вот гад, — сразу же мысленно, но уже беззлобно среагировал Партизан, — ну беспрерывно смотрит на меня».
— Да так, Мыкола, — впервые назвав Чумака по имени, ответил Михаил и в свою очередь внимательно посмотрел на оуновца. Тот радостно улыбнулся ему беззубым ртом. — Скоро придем к своим, отдохнем, выспимся, вот я и радуюсь, — продолжал Партизан.
— Вы поспите, друже Партизан, я посторожу. Вам первым идти, на это больше сил уходит. Поспите.
Партизан промолчал и впервые за все дни их совместной жизни почувствовал себя почему-то спокойно, повернулся на бок и крепко заснул.
До заветной хаты оставался один переход и Партизан решил подготовить Чумака чисто психологически. Он провел его поздним, но все еще по-летнему теплым вечером по главной улице большого села, хорошо освещенной, хотя и редкими уличными фонарями на высоких, поставленных недавно самими же селянами столбах. Рядом с сельским клубом на установленном таком же высоком столбе висел громкоговоритель, из которого в исполнении солиста Государственного украинского ансамбля лилась одна из любимых Чумаком песен. Пока они подходили к клубу и обошли его слегка стороной, известная Чумаку песенная мелодия сменилась танцевальной музыкой, и стоявшие возле клуба на площадке, утоптанной множеством юных ног, молодые хлопцы и девчата стали танцевать. Это явление настолько поразило Чумака, что он остановился и стал смотреть в сторону танцующих молодых людей, попросив на это разрешение у Партизана:
— Я много лет не видел танцев. Давайте посмотрим, друже Партизан.
Но тот ответил, что не стоит привлекать к себе внимание и следует двигаться дальше. Чумака поразил электрический свет на улице села, сельский молодежный клуб, яркий свет электрических ламп в окнах сельских домов, танцующие и смеющиеся молодые люди. Удивителен был для него и лай многочисленных собак, когда они оставляли село и двинулись по дороге к темному пятну леса на горизонте. Оружие и почти опустевшие вещмешки были прикрыты наброшенными на руки плащ-палатками, которые тогда среди селян были не в диковинку. Сами они остались в ватниках. Да и шли они по темной стороне сельской улицы, стараясь не обращать на себя внимания. Углубились в лес, остановились покурить, подогнали поудобнее автоматы, чтобы не мешали при быстром движении, и только тогда, совершенно ошарашенный увиденным, Чумак произнес:
— Друже Партизан, я как в сказке побывал. Я и думать не мог, что такое чудо увижу — так много электрического света, радио громкое, танцы. А тут еще и собаки лают. Чудеса да и только, — говорил Чумак и продолжал с сомнением, только ему понятном, покачивать головой.
— То ли еще на этих восточных теренах увидишь, друже Чумак, — отвечал ему Партизан, — мы тебе и город Хмельницкий, дай бог, покажем.
И радовался Партизан, что так удачно подготовил оуновца к приходу в еще большее село под областным центром, где их ждали его товарищи и друзья по оружию. Только бы не сорвалось, только бы удалось захватить живым этого дурня», — продолжал думать Партизан. От мысли о скором конце этой так тщательно и долго проводимой комбинации по захвату связников Лемиша ноги Партизана с удвоенной силой несли его и увлекаемого им Чумака к заветной цели, такой разной для них обоих.
Короткий осенний день их последней дневки быстро подошел к концу, и вот они оба проходят последние километры. Вчера была суббота. Поздний воскресный вечер в украинском селе, несмотря на осеннюю пору, все еще будоражит окрестности. Молодежь гуляет. Танцы в клубе закончились, и влюбленные парочки разошлись по темным и уютным закуткам. На улицах села с разных сторон слышны Чумаку такие приятные для его сердца и такие любимые и родные, хорошо знакомые с детства украинские песни. Их спивают[137] молодые, звенящие упруго голоса. И его очерствевшая от этой проклятой подпольной жизни душа, и ожесточившееся от пролитой им крови сердце матерого оуновца обволакиваются какой-то непонятной и неизвестной еще ему тихой грустью. Он весь во власти этого неизведанного им в жизни ощущения ярко освещенной улицы, веселых, а иногда и печальных так любимых им украинских песен, открыто и громко звучащих на улицах села. Как сомнамбула бредет он за Партизаном, пока тот не подает ему знак рукой остановиться у какой-то большой хаты, крытой, на удивление Чумака, не соломой, как почти все хаты на его Волыни, а железом. Партизан шепчет Чумаку:
— Друже Чумак, мы пришли к нашим, подождите меня здесь у калитки, я сейчас вернусь, — и исчезает за плотным и высоким тыном, окружавшим хату.
Возвращается он через несколько минут и, толкнув в бок Чумака, делает знак рукой следовать за ним. Партизан первым подходит к темному пятну двери, открывает ее и тянет за край плащ-палатки Чумака в открывшуюся, как зев зверя, черную дыру. Партизан успокоительно шепчет почти в ухо Чумаку:
— Не бойся, Мыкола, здесь все свои, нас ждут, — и закрыв первую дверь помещения, где зимой в морозы обычно находится скотина, открывает дверь в собственно хату, подталкивая первым Чумака.
Яркий свет электрической лампочки, свисающей без абажура на коротком электрошнуре с низкого потолка, бьет в глаза. Чумак видит прямо перед собой темную на фоне яркого света фигуру крупного вуйки с седой бородой и, как ему показалось в первые секунды, молодыми глазами. «героям слава», — произносит этот вуйко и протягивает для рукопожатия правую руку Чумаку. Тот от обилия потрясших его, неизведанных ранее в жизни впечатлений — ярко освещенные электрическим светом улицы крупных сел, электрический свет в каждом доме, даже в доме простого колхозника, веселье и такие близкие и родные украинские песни, распеваемые гуляющей после работы сельской молодежью, весело работающие на еще не везде убранных громадных колхозных полях крестьяне, сытые и крупные, неизвестной ему породы колхозные коровы — совершенно внутренне растерялся и потерял бдительность, поселившуюся, казалось бы, навсегда в бывалом подпольщике. Он забыл о строгой последней инструкции своих провидныков — никогда не здороваться за руку с незнакомым человеком. Это опасно, так как создает благоприятную обстановку для врага — правая рука может быть блокирована. Его душу охватила внезапно нахлынувшая радость от встречи с чем-то новым и значимым. Он чувствовал себя удовлетворенным от уже выполненного задания провидныка — Партизан и он достигли такой желанной для них встречи. Чумак расслабился и полностью потерял чувство контроля за окружающей его обстановкой. Подталкиваемый в спину следовавшим за ним Партизаном, Чумак сделал шаг вперед, протянул свою правую руку навстречу, наверное, хозяину хаты, который крепко сжал протянутую для приветствия руку. Все еще улыбающимися от радости встречи губами Чумак успел только произнести ответное, да и то не до конца: «Слава Укра…» и ощутил крепко сжатую, как в капкане свою руку в могучей руке хозяина с одновременным обхватом его сзади за поясницу Партизаном. Бросившиеся на него откуда-то слева и справа несколько человек рассчитанными и профессионально умелыми движениями повисли на плечах и руках. Кто-то тяжелый и сильный сдавил его горло рушником, запрокидывая голову Чумака назад. Как загнанный дикий вепрь, увешанный вцепившимися в него со всех сторон охотничьими псами, захрипел Мыкола и поволок всю свору в глубь хаты, пытаясь сбросить с себя хоть кого-нибудь, освободить руку и рвануть за сыромятный ремешок кольцо закрепленной на портупее под ватником «лимонки». В эти секунды нечеловеческого напряжения билась только одна мысль: «Успеть рвануть гранату, только это успеть сделать». Боролись молча, тяжело дыша. Из сдавленного рушником горла Чумака вырывался звериный хрип. Выкатившиеся из орбит глаза с выражением боли, ужаса и безумия, казалось, смотрели в одну точку. Чей-то громкий голос из-за укрытия за большой русской печью, занимавшей чуть ли не треть хаты, коротко пролаял: «Кончайте скорей с ним, не то рванет». Нападавшим в этот миг удалось свалить Чумака на пол и еще сильней сжать голову и горло. Они знали, эти бывшие и бывалые, как и Чумак, оуновцы, чего он хочет, сами когда-то были в таком же или аналогичном положении, понимали, чем сейчас все может кончиться.
Теряя сознание от боли и чудовищного напряжения, лежа на полу под грудой тел, Мыкола продолжал тянуться покрытым пеной ртом к заветному ремешку.
— Макогоном его по голове, макогоном[138], — вскричал кто-то из навалившихся на него, и миг спустя тяжелый удар деревянной ступой по голове погрузил Чумака в темноту и безмолвие…
…Он очнулся, лежа на животе. Повернутая набок голова щекой касалась чего-то мокрого и твердого. Приоткрыл глаза и увидел носки чьих-то сапог, кирпичный пол, мокрый от вылитой на него воды. Ватника, гимнастерки, сапог и галифе на нем не было. Оставшееся на теле заношенное и грязное нижнее белье пропиталось водой и прилипло к телу. Руки заведены за спину, кисти больно перехвачены чем-то металлическим. «Наручники, я в тюрьме у «энкэвэдистов», Партизан — чекист», — подумал Чумак и тяжело застонал от разрывающей голову боли.
— Живой еще, собака, — произнес кто-то из стоявших рядом людей и больно ударил Чумака в бок ногой.
— Прекрати, Петро, дай человеку в себя прийти, — послышался другой голос, и сказавший наклонился и посмотрел в лицо Чумака, который сразу же закрыл глаза. «Как же ты можешь меня называть собакой, — подумал Чумак. — Ведь ты был еще вчера таким же, как и я». Чумак не сомневался, что захватившие его чекисты — это ранее попавшие в руки госбезопасности такие же, как и он, оуновцы, перешедшие на службу советской власти. Правда, Чумак так никогда и не узнал, что «хозяином» хаты выступал загримированный под старика начальник отделения ГБ Корзун, сам много раз принимавший участие в легендированных бандбоевках, внедрявшийся в националистическое подполье, обладавший недюжинной физической силой и имевший опыт захвата оуновцев живыми.
Их было в камере несколько человек — пятеро бывших оуновцев и один оперработник. Мыкола правильно определил их по поведению, разговорам и особым, присущим таким, как и он, подпольщикам, интуитивным чутьем. В голове у Чумака только одна мысль: «Как уйти из жизни, чтобы тем самым обезопасить своих товарищей по подполью и любимого провидныка Лемиша?» Он чувствовал свою вину перед оставшимися на Волыни товарищами. Это он предал их, не разгадав в Партизане подставу. Были у него подозрения, но эти мысли не выходили за пределы его обычных, положенных при первых контактах с незнакомым подпольщиком. Как он мог видеть в Партизане предателя, когда Партизан и два его товарища-боевика, пришедших на Волынь вместе с ним из Хмельницкой области, не раз имели возможность ликвидировать Чумака и Карпо без всякого для них риска. И как мог он, Чумак, сомневаться в правдоподобности рассказов о себе и поведении Партизана, если сам видел его бледное и решительное лицо готового ко всему человека, когда они втроем сидели, сжавшись в комок в бункере, ежеминутно ожидая обнаружения их чекистами, прочесывавшими лес с собаками. Он, Партизан, как и Чумак и Карпо, вогнал патрон в патронник своего автомата и пистолета, подготовил гранаты и готов был, как и они, вступить в бой, принять смерть, если будут обнаружены чекистами. Голова кругом шла у Чумака от всех этих мыслей. Он никак не мог думать о Партизане как агенте органов — такими естественными были его действия на переходе с Волыни в Хмельницкую область. Но факт оставался фактом. Партизан — чекист и специально привел его сюда. Зачем?
У Чумака раскалывалась от боли голова, кровоточила рассеченная ударом макогона по голове рана, перевязанная чекистами. Неожиданно страшная догадка обожгла его сознание — Партизан специально не убил его и Карпа, он вошел в доверие к боевикам — связным Лемиша, чтобы захватить их живыми, для чего и увел его сюда, в Хмельницкую область, к якобы ожидавшим их прихода местным подпольщикам. В действительности он, как и Карпо, нужен чекистам живой, чтобы затем с их помощью заманить Лемиша и убить его. Нет, ничего не выйдет у чекистов. Чумак не станет предателем. Он убьет себя, он не хочет больше жить. Сил физических, чтобы совершить казнь над собой — разбежаться и с силой удариться головой о чугунную батарею центрального отопления, которые торчали на стенах камеры, у него не было. Повеситься на скрученных в жгут лоскутах нижнего белья, оставшегося на нем? Прыгнуть на чекистов и вцепиться в них остатками зубов? Не получится, потому что и сохранившиеся во рту зубы в этом деле не помогут, а крепкие чекисты исколотят его и скрутят. Он знает, они не спустят теперь с него глаз и будут круглые сутки наблюдать за ним. Наверное, его большевики расстреляют, ведь он не будет их агентом. Им, конечно же, известно многое о нем и его делах в подполье. Он был долго в СБ, сам казнил большевиков.
Нет, не смерти боялся Чумак и не пыток НКВД. Боль не пугала его. Он хотел умереть так, как учили его провидныки, как ушли из жизни многие знакомые ему повстанцы. Одни стрелялись, другие подрывали себя. Он не может сделать ни того ни другого — нечем, оружия у него больше никогда в жизни, которой и осталось, наверное, чуть-чуть, не будет. Ах, как до боли в пальцах, которые он сжал в кулаки, ему захотелось ощутить рубчатое металлическое тело «лимонки». Он бы на глазах чекистов разжал пальцы, отпустившие скобу запала, и держал на открытой ладони смертельное зеленое яйцо, глядя на искаженные от ужаса и страха морды ненавистных ему чекистов-большевиков. Они ничего не успели бы сделать за такие короткие и самые длинные и прекрасные для него, Мыколы, последние в его жизни секунды. Их всего три-четыре, которые стали бы для него самым лучшим отсчетом времени в этой жизни. Мыкола перекрестился, сидя на полу, подполз к углу камеры, прислонился спиной к стене, подтянул к подбородку колени и, уткнув в них кудлатую, давно не мытую, перевязанную широким бинтом с проступающими пятнами крови голову, беззвучно зарыдал, содрогаясь всем телом. Еще какое-то время до наблюдавшего за ним через глазок коридорного доносились рыдания, отрывки молитв и причитаний, вырывавшихся из запекшихся, в багрово-синих кровоподтеках губ. Сломленный свалившимся на него таким страшным событием и нечеловеческим напряжением всех своих физических и духовных сил, Чумак вскоре затих и погрузился в тяжелый сон, который, однако, принес ему бодрость. Вошедшие в камеру люди в военной форме без оружия принесли ему матрац, подушку и одеяло, молча положив все это около угла, где все еще продолжал сидеть проснувшийся Чумак. Молодость брала свое. Мыкола долго смотрел на лежавшие около его босых ног вещи, потом поднялся, разложил тюфяк вдоль стены, положил голову (впервые за много месяцев) на настоящую перьевую подушку, накрылся теплым шерстяным одеялом и тут же провалился в требуемый его смертельно уставшему организму сон. Молодость особенно примечательна тем, что даже самые потрясающие человеческое существо события, может быть, самые страшные, сравнимые только со смертью, мировым катаклизмом, всеобщей трагедией, катастрофой, отступают на задний план и вспоминаются как страшный сон, фантасмагория, которых кажется и вовсе не было в твоей жизни, если ты хорошо выспался и, открыв глаза, ощутил себя здоровым и бодрым каждой клеточкой молодого тела, чувствуешь, что руки-ноги на положенном им месте, а голова ясная и способна совершенно по-новому оценить происшедшее с тобой, все, что осталось по ту линию страшного сна…
Он проснулся от звука открываемых железных засовов. В камере появилось сразу несколько человек. Почти все в военной или полувоенной одежде. Впереди молодой широкоплечий мужчина с красивым смугловатым лицом с синеватым шрамом на щеке. Весь облик этого энергично вошедшего в камеру человека, его движения и манера говорить вызывали симпатию, несмотря на бросающиеся в глаза оттопыренные уши, что делало его лицо еще более симпатичным и привлекательным.
— Так вот какой вы, друже Чумак, — весело и приветливо, подмигнув ему как давнишнему знакомому, произнес вошедший, и Мыколе показалось, что он уже где-то слышал этот голос.
Чумак не поднялся с тюфяка и продолжал лежать, натянув под подбородок одеяло, мрачно смотря на вошедших. Шествие замыкал Партизан в щегольски сидевшем на нем новеньком габардиновом макинтоше. Такие же новые желтого цвета модные полуботинки, светло-серый коверкотовый костюм и темно-серого цвета мягкая фетровая шляпа в руке делали его для Чумака незнакомым человеком из потустороннего, фантастического, нереального мира. Партизан, как и вошедший первым в камеру симпатичный, явно начальствующего вида мужчина, на правах старого знакомого дружески подмигнул Чумаку, сказав одновременно:
— Доброе утро, Мыкола. Как спалось на новом месте? Хочу, чтобы у тебя не было злости на меня. Я желал и желаю тебе, как и твоим друзьям по подполью, только добра.
Он подошел к все еще лежащему и укрытому до подбородка одеялом Чумаку и, слегка наклонившись, протянул ему руку — то ли приветствуя оуновца, то ли предлагая ему с помощью протянутой руки подняться с пола. Чумак тяжело засопел, но руки Партизану не подал и, зло посмотрев в лицо своего вчерашнего попутчика в тяжелом переходе, отвел глаза.
— Жаль, что ты меня так встречаешь, друже Чумак, — продолжал Партизан, обращаясь с серьезным видом к Чумаку, как принято в подполье, по его конспиративному псевдониму, — я тебе, дураку, жизнь сохранил, помочь хочу человеком стать, а ты даже руки не подал.
И Партизан, как будто совершенно искренне обидевшись, повернулся к симпатичному ушастому в полувоенной форме:
— Василий Иванович, в дополнение к уже рассказанному о Чумаке, хочу сообщить, что человек он отзывчивый и хороший. Исключительно дисциплинирован. Службу хорошо знает.
Партизан снова повернулся в сторону Чумака:
— Это Василий Иванович, непосредственный руководитель операции по твоему захвату. Ты ему, Мыкола, как и мне, жизнью обязан. Умереть, как ты пытался сделать это с помощью гранаты, и дурак сумеет, а ты выживи сам, друзьям помоги сохранить жизнь, не сделав при этом ненужных глупостей, — это, друже Чумак, уметь надо. Можешь быть уверен, умереть мы тебе не дадим. Ты нам живым очень нужен. Что же ты отвернулся?
Далее продолжал начатый Партизаном монолог Василий Иванович:
— Мыкола, сейчас тебя наши хлопцы помоют в душе, дадут чистое белье, новые гимнастерку, брюки и сапоги. Ремень тебе пока не положен — ты у нас в арестованных значишься. Потом врач обработает рану на голове, перевязку сделает, покормим и поведем тебя к высокому начальству. С тобой хочет побеседовать начальник Хмельницкого управления госбезопасности. Вообще бы тебе лучше встать, когда с тобой разговаривают офицеры госбезопасности.
Чумак сбросил с себя одеяло и медленно поднялся с пола. Он был выше присутствовавших в камере на голову. Чумак наконец-то вспомнил, где он уже слышал голос Василия Ивановича. Именно этот голос, и без радостных интонаций, как сейчас в камере, а нервно-возбужденный, раздался тогда в хате, когда он пытался подорвать себя гранатой: «Кончайте скорей с ним, не то рванет».
Через час помытого в душе, гладко выбритого, одетого в чистое белье и одежду Мыколу с перевязанной чистым бинтом головой быстро покормили показавшимся ему невероятно вкусным завтраком в одном из рабочих кабинетов в служебном здании областной госбезопасности и, не дав опомниться, ввели в кабинет начальника. Начальник управления поднялся навстречу входящим вместе с Чумаком в кабинет оперработникам. Чумак с удивлением смотрел на стоявшего перед ним руководителя областной госбезопасности. Он еще больше удивился, когда этот начальник заговорил с ним на родном украинском, да так чисто, красиво и по-доброму, как разговаривали с ним провидныки, за которых он готов был, не колеблясь, отдать жизнь. Если бы не генеральская форма на этом большевике, и не знал бы Чумак, где находится, показалось бы ему, что с ним говорят свои провидныки, что он среди своих. Областной начальник госбезопасности был пожилой мужчина с седой головой и большими седеющими усами, какие носят обычно простые сельские вуйки. Часть пальцев правой руки была изуродована. «Наверное, ранен был», — подумал Чумак. Генерал протянул Мыколе для приветствия левую руку. Чумак, сам не ожидая этого от себя, ответил на приветствие генерала, пожав ему руку.
— Садитесь, Мыкола, вот сюда, — и генерал показал Чумаку на кресло, стоявшее рядом с рабочим столом генерала-вуйки», как «окрестил» этого «энкэвэдиста» Чумак. — Вот что я скажу вам, Мыкола, — начал полковник. — Мы не будем вербовать вас и просить оказать нам помощь в захвате или ликвидации Лемиша. Мы покажем вам нашу Советскую Украину. Ее заводы, шахты, колхозы. Нашу Советскую Армию, наш Черноморский флот. Мы покажем наших советских людей, украинцев, честных советских тружеников, которые строят новое коммунистическое общество, общество счастливых людей. Эти советские люди говорят на родном им украинском языке. Мы покажем в наших театрах спектакли на украинском языке. Вы увидите счастливые лица советских людей, которым оуновское подполье мешает строить новую жизнь. Мы не будем агитировать за советскую власть. Вы увидите ее в жизни, в действии. Вы убедитесь в том, что мы, органы госбезопасности, выполняя волю партии и правительства, делаем все возможное, чтобы вывести из подполья еще скрывающихся от нас вооруженных оуновцев. Вернуть их, заблудших сынов Украины, к мирной жизни…
Так или почти так говорил генерал тихим убеждающим и проникающим в душу Чумака голосом, все больше и больше располагая его к себе. Он напоминал Чумаку его старого учителя в школе, который любил Мыколу и заставил тогда еще мальчишкой ходить по воскресеньям в местную просвиту, когда Мыкола перестал посещать школу.
Чумак многого не понимал в речи генерала, но всем своим существом чувствовал, что этот усатый вуйко с генеральскими погонами желает ему добра, ничего пока не требуя взамен. «Пока не требует», — подумал Чумак.
Мысль уйти из жизни не оставляла его. Он понимал, что будет под жестким контролем, что он должен перехитрить чекистов. А может быть, ему удастся бежать? Такие мысли мелькали в голове Чумака. Он с напряжением ловил новые для него слова генерала и внимательно следил за ходом его мыслей.
— Я договорился с нашим министром показать тебе Украину, чтобы ты сам убедился, с кем и против кого и чего вы воюете, — перейдя на «ты», закончил почти двухчасовую беседу с ним генерал.
Чумака не удивляло, что этот большой чекистский начальник говорит ему «ты», чего не услышишь в подполье от провидныков. Дисциплина, соблюдение определенной дистанции между командиром и подчиненным, вежливое обращение на «вы», «друже Чумак» соблюдались в оуновском подполье неукоснительно. Но почему-то Чумак, сам удивляясь себе, спокойно реагировал на это москальское «ты», а тихий проникновенный и успокаивающий его мятежную душу голос генерала доходил до самого сердца. Он поднял опущенную до того голову и впервые за несколько часов посмотрел в добрые глаза чекиста. «Точно, как мой отец смотрит», — подумал Чумак и вспомнил отца своего, едового в артиллерийской упряжке батареи Войска Польского, погибшего в 1939 году от прямого попадания немецкой бомбы. Ничего, даже клочка одежды не осталось от отца и лошади, на которой он сидел, яростно колотя ее плеткой, пытаясь выскочить вместе с орудием из-под бомбовых ударов немецких штурмовиков. Смерть его видел односельчанин Филипп Орлик, вернувшийся из немецкого плена калекой в 1945 году. Он рассказал Чумаку об этой страшной картине смерти на войне, когда все превращается в ничто, испепеленное и расщепленное несколькими десятками килограммов тринитротолуола, коротко и ласково именуемое специалистами от войны — тол. Мыкола хорошо помнил эту душную и темную летнюю ночь, когда пришел из леса повидаться с матерью, сестрой и братом. Вскоре их депортировали в Сибирь, как семью активного бандеровца. Он остался один на всем белом свете. Отца он любил, помнил его крепкие крестьянские руки и большой шрам от пули, полученной им от польского жовнира[139] в 1919 году в бытность его воякой УГА[140] при отступлении украинских стрельцов под натиском польской армии генерала Галлера. Поляки тогда под началом этого генерала разгромили УГА и хорошо поколотили украинцев. Помнил Мыкола и шрамы от польских шомполов на спине отца после избиения его в жандармерии в 1929 году за выступления селян против польских маетчиков[141]. Малиновые рубцы от шомполов навсегда врезались в Мыколину память. Отца мобилизовали в Войско Польское, когда в 1939 году германский вермахт взломал государственную границу Польши и Польская держава за две недели была раздавлена германской военной машиной. Тот же солдат — калека Филип Орлик рассказывал Мыколе, как храбро воевал его отец и как много немецких танков подбила его батарея…
На прощанье генерал сказал Чумаку:
— Мыкола, этот человек, который привел тебя к нам, — при этом он сделал знак рукой Партизану подойти к нему и стать рядом, — мог убить тебя при малейшем подозрении. Он имел на это право, как и просьбу руководства доставить тебя живым. Он сделал все, чтобы ты был живой, рискуя своей жизнью. Мне бы хотелось, чтобы вы стали друзьями. Партизан будет сопровождать тебя в поездках по Украине вместе с другими оперработниками. Вы сегодня же выедете в Киев автомашиной. До встречи.
И Чумак, снова не думая, что перед ним враг, как завороженный, протянул руку генералу. В голове его был сумбур от нахлынувших мыслей. Перед глазами мелькали какие-то люди в военном, в штатском. Все они обращались к генералу по-украински, и речь шла о нем, Чумаке, которого эти входившие и выходившие из кабинета «энкэвэдисты» готовили для поездки в Киев…
Обедали в маленькой комнатке рядом с чекистской столовой, из которой доносилась русская речь обедавших сотрудников управления госбезопасности, стук столовых приборов, тот, пока ему еще незнакомый, приглушенный шум, присущий ресторанам, столовым, другим местам общественного питания, в которых изрядное количество людей занимаются только одним делом — приемом пищи. Кроме Чумака и Партизана было еще двое — уже знакомый ушастый начальник Василий Иванович и новый для Чумака чекист, к которому ушастый обращался на «ты» по имени Иван, а Партизан уважительно Иван Константинович, с красивым лицом и обворожительной, пленяющей собеседника белозубой улыбкой. Новый чекист, как и Василий Иванович, по определению Чумака, были украинцами, не просто в совершенстве владеющими родным языком, но и говорившими так же красиво и просто, как запомнившиеся Мыколе с детства и на всю жизнь учителя в его сельской школе и в просвите. В комнатку для обеда Чумака провели через какой-то изолированный от сотрудников управления коридорчик прямо из кабинета усатого генерала с изуродованной рукой, и Чумак догадался, что его специально берегут от посторонних глаз непосвященных чекистов. «Вот это конспирация, — думал Чумак, — похлеще, чем у нас, в СБ». Он вспомнил, как несколько лет назад к тогдашнему руководителю ПЗУЗ[142] Смоку прибыли курьеры из восточных областей Украины, молодые мужчина и женщина. Напарница курьера, как позже слыхал от хлопцев Чумак, через несколько дней стала секретарем-машинисткой при самом Смоке и одновременно его любовницей. Еще через несколько дней в страшных пытках в руках СБ умер пришедший с ней с востока в Гурбенский лес молодой хлопец. Как по секрету рассказывали Чумаку его друзья — «эсбисты» из службы безопасности Смока, в действительности был он офицером-чекистом, засланным большевиками на Волынь от имени легендированного чекистами провода ОУН в Киеве. Предала и разоблачила забитого в СБ чекиста его напарница. Красивая черноглазая дивчина. Все улыбалась хлопцам, когда ходила по их лесному лагерю. Глаза как омут — так и затягивают. Взгляд хоть и тяжелый, а так и хочется посмотреть ей в глаза и утонуть в них. Брови дугой изогнуты, как будто чему-то удивляется. Все в ней было красиво, и лицо с чуть вздернутым совершенной формы носом (такие, слегка кирпатые[143] носы имеют только чистопородные украинки), коралловым ртом, сквозь приоткрытые полные губы которого виднелся жемчуг зубов, и голова с уложенной на затылке короткой тяжелой темно-русой косой, красу которой не портили пока еще не вымытые керосином гниды; и стройная ее фигура, и даже угадываемые под грязным и засаленным старым ватником, наверное, изумительной формы еще девичьи бедра, плавно переходящие в ту нижнюю часть спины, которая обычно больше всего возбуждает мужчин; и так волнующая молодых хлопцев легкая женственная походка длинных крепких ног в стоптанных кирзовых солдатских сапогах. Зная характер Смока, хлопцы молча смотрели вслед этому так неожиданно объявившемуся у них в лесу природному чуду — самому прекрасному из всего живого на Земле и, наверное, каждый из них по-мужски завидовал своему провидныку. Да и сам Смок был хорош собой … Если бы не эта проклятая жизнь, эта беспрерывная война, какие бы здоровые и породистые дети были у этих красивых мужчины и женщины.
Кто она была в действительности, Чумак не знал. Псевдо у нее в подполье было Оксана. Куда она девалась после гибели Смока, было ему неведомо. А вспомнил Мыкола эту историю с засланными чекистами, потому что еще тогда поразился стойкости и мужеству замученного в СБ хлопца. Так и умер, не сказав ни слова о своем задании, чекист…
Захваченные в августе 1955 года архивы подполья ОУН пролили свет на историю пропавших в лесах Волыни в 1946–1947 годах офицера госбезопасности и его помощницы, агента ГБ Апрельской[144], выведенных на Волынь с целью проникновения в оуновское подполье от имени легендированной ОУН в Киеве…
Они попали к руководителю ПЗУЗ Мыколе Козаку, он же Смок, он же Вивчар. Окружной провиднык Смок, будучи исключительно сильной личностью, сумел оказать на Апрельскую такое психологическое и идеологическое воздействие, что буквально через несколько дней, став его любовницей, она предала органы госбезопасности. Офицер-чекист умер под страшными пытками, не назвав ни своего настоящего имени, ни целей прихода на Волынь, ни своих товарищей в Киеве. Об этом свидетельствовали оуновские протоколы допросов СБ. Сама Апрельская до гибели Смока была его секретарем-машинисткой.
Тогда, в 1955 году КГБ Украины на основании этих документов установил судьбу двадцати офицеров-чекистов, исчезнувших в разное время в боевых действиях в Западной Украине за период 1944–1954 годов при неизвестных обстоятельствах. Все они считались пропавшими без вести, а посему оставшиеся семьи не получали ни пенсий, ни пособий. Составленное КГБ Украины письмо в ЦК Компартии нашло положительное решение — справедливость восторжествовала. Родные и близкие замученных чекистов наконец-то узнали о судьбе своих родных и получили официально положенные им пенсии…
Покровитель и любовник Оксаны Смок-Вивчар погиб зимой 1949 года. Вскоре у Апрельской-Оксаны появился новый поклонник, которым она увлеклась настолько серьезно, что тот, получив разрешение своего руководства, обвенчался с Оксаной. Этим человеком был окружной провиднык Ат. Вспыхнувшее между ними чувство настолько увлекло молодых людей, что они не мыслили жизни друг без друга.
Апрельская — Оксана, будучи уже женой Ата, ушла из жизни осенью 1950 года. Сам Ат, тяжело переживая смерть любимой женщины, погиб в 1952 году от взрыва чекистского «сюрприза», разорвавшего его на куски.
Вот что рассказывали мне старшие товарищи о смерти неизвестной оуновки глубокой осенью 1950 года.
Группа курьеров ОУН нарвалась на чекистскую засаду. Началось преследование с боем. Пущенных по следу собак оуновцы вскоре перестреляли. Группа боевиков-оуновцев вместе с курьерами в составе шести человек пыталась оторваться от преследования, дважды оставляя для своего прикрытия боевиков-смертников…
Их оставалось трое, продиравшихся через густые заросли леса. Тяжело раненный оуновец был пристрелен последними двумя, продолжавшими движение и отвечавшими огнем автоматов на чекистские выстрелы. По брошенным при погоне вещам стало ясно, что люди шли из-за кордона. Кроме оружия и националистической литературы, группа наверняка доставляла что-то важное в их почте.
Чекисты хорошо видели в бинокли на заросших кустами и елями скалистых холмах две мелькавшие фигурки в комбинезонах защитного цвета. Потом одного из них ранили. Какое-то время было видно маленькую фигурку, пытавшуюся тащить за собой раненого спутника. Затем фигурка уже одна замелькала среди елей, изредка отвечая на огонь чекистов.
Когда оперативники подбежали к лежавшему на земле телу, то увидели возле добитого выстрелом в голову раненого вещмешок с националистической литературой, листовками, бланками советских паспортов, деньгами. Стало понятно, что последний курьер уходит налегке.
Опергруппа продолжила преследование, ведя огонь по предполагаемым местам движения оуновца. Он был ранен, о чем говорили следы крови на траве и остатки индивидуального пакета. Наконец, впереди что-то мелькнуло в густых кустах. Присмотревшись, чекисты увидели лежавшего и производившего непонятные движения руками, в которых не было оружия. Кольцо солдат медленно сжималось вокруг кустов.
Раздавшийся еле слышный и приглушенный расстоянием хлопок бросил окружавших на землю. Сработал гранатный запал. Прогремевший вслед за этим взрыв разбросал кусты, траву и куски белой бумаги. На одного из солдат упал сгусток человеческой крови. Граната взорвалась в руках лежавшего человека. Он взорвал себя гранатой, приложив ее к голове. Лицо, часть головы и кисть левой руки у человека отсутствовали. Мощный взрыв изуродовал человека до неузнаваемости и разбросал вокруг клочки уничтоженных и оставшихся тайной каких-то документов.
Даже не специалисту было ясно, что произвести туалет трупа с последующим фотографированием и опознанием было невозможно — все разбросало взрывом…
Когда чекисты, стараясь не запачкаться кровью, осторожно расстегнули пуговицы комбинезона и попытались обнажить верхнюю часть тела, руки их натолкнулись на еще теплую женскую грудь. Это было подобно шоку. Проводившие обыск поднялись с колен и встали полукругом вокруг тела. Молодые мужчины смотрели на призывно зовущие по-девичьи торчащие, еще не успевшие налиться желтизной смерти холмики с темными кружочками сосков. Лица их выражали недоумение, стыд и растерянность: несколько десятков здоровых мужиков так долго не могли догнать эту небольшого роста, хрупкую молодую женщину, с такой красивой грудью, созданной для любви и продолжения рода. Такой женской груди не должны касаться грубые солдатские руки. Они могут принадлежать только губам младенца или любимого мужчины.
— Товарищ капитан, — обратился один из чекистов к старшему по званию, — нам бы не хотелось раздевать ее дальше. Пусть в райцентре это сделает врач в нашем присутствии. Там и одежду просмотрим. В карманах на ощупь никаких документов и записей, только компас, индивидуальные пакеты и носовой платок. Остальные личные вещи в сумке при ней и брошенном ранее рюкзаке. Вот он.
— Ну чего уставились? Мертвой бабы не видели? Отойти от тела, — необычно для знавших капитана по работе резко и громко прозвучал его голос. Он так сказал нарочито грубо, скрывая охватившее его, как и других, чувство стыда.
Смущенные увиденным, солдаты и офицеры-войсковики послушно отошли в сторону.
Солдаты, чертыхаясь, тащили, продираясь сквозь кусты, завернутое в плащ-палатки тело женщины в камуфляже до ближайшей проезжей дороги. Вызванные по рации машины были на подходе.
Позже врач-эксперт констатировал, что погибшая — молодая женщина 28–30 лет, нерожавшая…
Только спустя годы стало известно, что этой женщиной была Апрельская — Оксана[145].
* * *
Мыкола молча и внимательно изучал лица сидевших вместе с ним чекистов и думал: неужели эти, наверное, его ровесники, «энкэвэдисты», такие же стойкие и крепкие как тот, погибший тогда в Гурбенском лесу в СБ чекист? Нет, не все. Он вспомнил, как некоторые умоляли оставить им жизнь. Захваченные после боя в лесу раненые чекисты трусливо умирали, когда их добивали хлопцы. «Я тоже должен умереть, — вертелось у него в голове, — сейчас схвачу со стола нож и ударю себя в грудь или полосну по горлу». Он протянул, стараясь сделать это незаметно, руку к столовому ножу и потрогал пальцем лезвие. «Нет, таким ножом ни себя, ни врага не заколешь».
Чумак никак не мог сориентироваться, как вести себя с этими людьми. Поглощенный своими мыслями, он не вслушивался в их оживленный разговор, но понимал, что это делается специально для него, чтобы успокоить, втянуть в беседу. Тот, которого звали Иваном Константиновичем, чекист с белозубой улыбкой, рассказывал смешную историю, которая случилась с ним на фронте в январе 1943 года, когда он, двадцатилетний старшина артиллерийской батареи, самостоятельно вступил в переговоры с румынскими солдатами на Сталинградском фронте за две недели до капитуляции 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Он рассказывал, что солдаты его батареи, почувствовав запах хорошего табака с румынской стороны, предложили румынам обменяться на махорку. В переговоры с румынами вступил этот белозубый, с румынской стороны кто-то говоривший по-русски, и старшина вопреки всем правилам войны, договорился прийти к румынам в окопы. Встал и пошел, взяв с собой пару пачек махорки. И действительно, румыны мирно приняли его, обменялись табаком, и тут неожиданно появился румынский офицер и, увидев советского солдата, схватился за пистолет. Однако солдаты обезоружили своего офицера.
— Все же на прощание, уже поднимаясь на бруствер, я сказал им: вы самое главное в своей жизни сделаете, если сегодня или завтра в плен нам сдадитесь, иначе все будете мертвыми.
Из дальнейшего рассказа белозубого Ивана Константиновича, Чумак понял, что за этот «поход» к румынам его чуть было не арестовали люди из НКВД, а спасло то, что, когда его пришли арестовывать за «уход к противнику» по доносу кого-то из его солдат, в это время вся румынская часть с оружием и развернутым белым флагом перешла к русским прямо на их участке, заявив через своего старшего офицера, что их уговорил сдаться в плен приходивший к ним вчера «Иван».
— Я еще и медаль за это получил, — закончил, смеясь, Иван Константинович.
«Смелый человек, — подумалось Чумаку. — Тот ушастый командовал моим захватом. Тоже смелый. Рисковал, если бы я рванул гранату. Этот к румынам на фронте не побоялся сходить. Нет, эти, наверное, такие же, как и тот, который погиб в муках, а дела своего не предал. А как же моя клятва, моя присяга воина УПА? Я найду возможность что-то сделать, уйти из жизни. Надо немного подождать, набраться сил. Я ведь им ничего не сказал. А ведь только я и Карпо знаем место и условия встречи с Лемишем. Этого я ни под какими пытками не скажу «энкэвэдистам».
Мыколе не стало легче от этих мыслей. Он чувствовал, что совершает предательство по отношению к оставшимся в подполье боевым друзьям. Вспомнил он и о своем решении, принятом им несколько месяцев назад, — с повинной не выходить, большевикам не сдаваться. Лемиш должен найти выход, объединить оставшихся еще в живых подпольщиков и уйти на Запад. Полковник Васыль Кук — Лемиш опытный командир. Он сумеет найти выход. Они еще повоюют. Чумак знал, что «энкэвэдисты» в плен «эсбистов» не берут. Он, Чумак, столько крови советской пролил, он живой Советам не нужен, его расстреляют. Об этом говорил ему Лемиш и другие провидныки, они говорили, что такие верные сыны Украины, как он, Чумак, испытанный и проверенный в боях член ОУН, должен до конца выполнить свой долг, убить как можно больше врагов Украины, биться с ними до конца, а если будет безвыходное положение, погибнуть достойно, как подобает воину за освобождение украинского народа от проклятых оккупантов-москалей. Он до конца выполнит свой долг. Жалеет об одном — мало поубивал немцев, поляков, предателей, москалей. Не отомстил до конца за невесту свою, за родных, высланных в Сибирь. И тут же у Чумака мелькнуло: «А что будет после моей смерти с родными в Сибири? Оставят ли их жить большевики?»
Чумак, как и подобает настоящему повстанцу, носил на поясе и пистолет ТТ, и наган. Откажет пистолет, всегда сработает самый надежный револьвер. Ну а если руки не смогут нажать на курок, остатками зубов вытянет чеку гранаты. Ничего не получилось у него. Перехитрили его чекисты.
— Ешь, Мыкола, ешь, — донесся до него голос Партизана. — Тебе силы нужно набирать. Харчи здесь хорошие, а работа у нас с тобой предстоит тяжелая и сложная.
«О какой работе говорит Партизан? — снова мелькнуло в голове. — Что он имеет в виду? — Кровь ударила Мыколе в голову. — Они думают, что я дам согласие стать предателем, их агентом. Я вам еще покажу. Я сейчас поем. Окрепну, залечится рана на голове. Я вам потом всем покажу, кто такой Чумак». Мыкола, растянув губы в подобие улыбки, взял ложку и опустил ее в пахнущий до одурения самый любимый им из всей еды — украинский борщ. Мыкола никогда еще в жизни не ел украинский борщ с пампушками и чесночной подливой. Он мгновенно опустошил тарелку и подумал, что мама его варила борщ не хуже, а может быть, и лучше, только пампушек по бедности никогда не было. Съел он и вторую тарелку борща и, наверное, несметное количество вареников с картоплей и сыром[146], сдобренных свиными шкварками со сметаной. Он не мог вспомнить, когда и где за последние месяцы так вкусно и плотно ел. Наскоро выпив компот, чем-то напомнивший Чумаку родной сельский грушевый взвар, все четверо, поторапливаемые посланцем от генерала, прошли длинным и темным коридором во двор областного управления госбезопасности. Туалет, куда попросился Чумак, оказался с не закрывающейся дверью, за которой стояли и ждали его двое сопровождающих. «Боятся, что убегу, даже в сортире охраняют, — мрачно усмехнулся про себя Чумак. — Посмотрим, что дальше будет…»
На двух больших легковых машинах выехали на широкое и хорошо асфальтированное шоссе. По бокам у Чумака уже знакомые ему чекисты. Мыкола поймал себя на мысли, что с удовольствием сидит и чувствует себя так же удобно, как когда-то подростком в кресле богатого польского маетчика, куда послал отец отдавать взятые в долг несколько злотых, а он, оставшись в комнате поляка один, решил попробовать, как люди чувствуют себя в кресле. Очень понравилось тогда Мыколе сидеть в таком мягком и удобном кресле.
Никогда в своей жизни не видел Мыкола так много машин на дороге, такого количества людей в поселках, селах и небольших городках, через которые проходила их дорога на Киев. Машины шли на большой скорости. Сопровождающие его о чем-то беспрерывно говорили, пытались и его вовлечь в их беседы, но Чумак либо молча улыбался им, иногда кивал головой, или закрывал глаза, погружаясь в дрему. Будущее не волновало его. Решение он принял. Он убьет себя.
Вот и Днепр. Блестят от заходящего солнца купола лавры. Забилось сердце Чумака. Когда-то говорил ему Лемиш, что будут они принимать парад своих войск в Киеве — столице независимой соборной державной Украины. А везут его сюда как пленника. Он в машине вместе с врагами своими. Он знает, почему они так ласково с ним обходятся — им Лемиш нужен. Если он встанет на путь предательства, они получат Лемиша, а потом убьют и Васыля Кука, и его, Чумака. Он это точно знает. Много лет учили и доказывали его командиры, поясняя на самых живых примерах, не верить большевикам, не поддаваться на провокации чекистов. В голову лезли мысли о захвативших его таких же, как и он, в прошлом бойцах УПА, подпольщиках, а ныне на службе у чекистов, хлопцах. И снова вспомнилось навсегда оставшееся в памяти: «Живой еще, собака». И удар сапогом в бок. Слезы стали душить Чумака. Это заметил сидевший слева от него Василий Иванович:
— Ну-ка, Мыкола, давай выпьем за приезд в Киев. Много не дам, а грамм по сто можно. — И ушастый, достав откуда-то из-под себя флягу и два стаканчика, ловко налил Мыколе и белозубому, чокнувшись с ними флягой, из которой сделал большой глоток.
Дорога, по которой машины поднимались от Днепра в гору, чем-то напоминала Мыколе въезды в известные ему города Дрогобыч, Ровно, Луцк, Львов — такая же ровная брусчатка. Мыкола никогда не был ни в Дрогобыче, ни во Львове, ни в других больших городах Западной Украины, но много раз по заданию своих командиров подходил совсем близко к предместьям и ему очень нравились эти ведущие в город брусчатые широкие дороги, построенные еще в прошлом веке австрийским императором Францем-Иосифом специально для всех видов транспорта, чтобы грязь и глину на колесах в город не вносили.
«Как много в Киеве деревьев, — подумал Чумак, — как в лесу».
Машины выскочили на широкий проспект, также покрытый брусчаткой, и Мыкола увидел слева громаднейший серый дом с колоннами. Ничего подобного он в жизни еще не видел, и, то ли от выпитой водки, то ли от только что увиденного и переживаемого им, пришел в невообразимое волнение. «Какое вокруг богатство, — мелькнуло у него в голове, — как красиво и добротно одеты люди. Какие красивые женщины».
А вот и сам Крещатик с изумительно красивыми новой постройки домами. Резкий подъем по брусчатой же улице, поворот направо, и машины въезжают во внутренний двор Короленко, 33 — центральное здание госбезопасности Украины. Их ждали. В одном из рабочих кабинетов на втором этаже накрытый белой скатертью стол, красиво сервированный на шесть человек. К уже известной Чумаку компании добавляются два человека — высокий, с залысинами и умным приветливым лицом Николай Иванович, украинец, это угадывается по его украинскому языку без русского акцента, и тезка ушастого — тоже Василий Иванович[147]. Этот, маленького роста, с почти лысым черепом и крупными чертами славянского и хитрющего лица явно русский, хотя пытается говорить по-украински. Чувствуется по всему, что эти новые лица — большие начальники. Прислуживают два сотрудника в штатском. Чумаку дают умыться. Во время всей личной гигиены рядом находятся Партизан и Василий Иванович, тот, ушастый. Наконец, все собираются за столом. Николай Иванович поднимает рюмку с водкой и говорит, что наконец-то он встретился с давно ожидаемым здесь Чумаком и рассчитывает на его благоразумие и здравый смысл, на оказание помощи в вопросе захвата последнего на Украине крупного бандеровского командира и руководителя подполья Васыля Кука — Лемиша. При этом Николай Иванович замечает, что, если эту помощь органам не окажет Чумак, ее окажут другие бывшие участники подполья, и эта заслуга зачтется им при вынесении наказания советским судом. В случае захвата Лемиша живым все совершенные против советской власти преступления участникам этой операции будут прощены и они станут свободными гражданами Советской Украины.
— Подумайте, Мыкола, — закончил Николай Иванович, — мы знаем многое, наверное, почти все о вас. Неужели вам хочется умереть? Вы так молоды. У вас еще будет семья, дети. Мы обучим вас выбранному вами же ремеслу. Вы будете нормально, как все люди, жить. Да, мы знаем, что вы «эсбист», что много раз приводили в исполнение приговоры вашей службы, казнили советских людей. Советская власть умеет быть благородной. Отдайте нам Лемиша. Мы в ближайшее время не будем говорить с вами на эту тему. Нам известно, что вы с восемнадцати лет в подполье, все время в лесу. Вы не знаете настоящей Украины. Не видели ее во всей красоте и могуществе. Это вторая по величине и значимости советская республика в СССР. Мы не будем вам предлагать — или — или. Мы покажем вам Украину, ее людей. Решайте сами. Повторяю: если не вы, это за вас сделают другие. Не скрою, Васыль Кук нам нужен живой. Именно это мы пока можем сделать только с вашей помощью. Если нет, он будет в ближайшем будущем ликвидирован нашими войсками или агентурой. Живым Лемиш не сдастся, как и вы не сдались бы живым, друже Чумак (при этом Николай Иванович произнес иронически друже Чумак, как принято обращаться друг к другу в оуновском подполье), но мы сделали все, чтобы захватить вас только живым. Вы еще убедитесь, что мы, поступая именно так, были правы. После ужина отдохнете пока в тюремной камере и под нашим присмотром. Завтра наш врач посмотрит и обработает вашу рану, и, наверное, завтра же с Партизаном и Василием Ивановичем (взгляд в сторону ушастого) вылетите в Крым. Там, на южном берегу, в ноябре еще тепло. Посмотрите советские здравницы, попробуете произрастающие только в этой части земного шара знаменитые сорта винограда, попьете крымских вин, наберетесь сил. После Крыма через десять дней вам покажут наш Донбасс, шахты и шахтеров, Днепропетровск, Запорожье — сердце украинской промышленности. Потом поговорим. Кстати, Мыкола, вы когда-нибудь ели виноград? — спросил Николай Иванович.
Мыкола отрицательно покачал головой.
— Ну вот видите. А еще украинец. Это же все ваше, здесь, на Украине, в той же Закарпатской области. Конечно, если бы вы уходили вместе с остатками разбитой нами УПА в 1947–1948 годах через Чехословакию на Запад, то вино виноградное попробовали бы. Насколько нам известно, вы на Запад не уходили и в рейдах в тех районах не участвовали, — и Николай Иванович пристально и спокойно посмотрел на Чумака.
Тот вновь отрицательно покачал головой.
— За наше здоровье вы, Мыкола, конечно же, пока пить не будете, — засмеялся Николай Иванович, — но хотя бы просто выпейте с нами.
Чумак, подчиняясь какой-то необъяснимой силе и воздействию, исходящими от этого рассудительно и медленно говорящего начальника, протянул свою рюмку и чокнулся с ним.
В течение ближайших двух часов за столом не было сказано ни слова о работе, об оуновском подполье, о захвате Чумака, о его переходе вместе с Партизаном в Хмельницкую область, ни о том, что он чудом остался жить. Компания за столом напоминала добрых знакомых, собравшихся только для того, чтобы поговорить о вкусной пище, тех диковинных закусках, что были на столе, предполагаемом большом урожае, о планах выполнения хлебо- и других заготовок, о новых кинокартинах, о прошедших ноябрьских торжествах…
Сломленный физически и духовно напряжением последних дней, Чумак после обеда мгновенно заснул. Его разбудили через десять часов сна. Перед ним стояли Василий Иванович и Иван Константинович, рядом с ними женщина в белом халате — врач. Крупная, высокая, статная, с ярко выраженными семитскими чертами красивого лица, она прикоснулась прохладной и ласковой ладонью ко лбу Мыколы и мягким, таким приятным грудным голосом сказала:
— Температуры у него нет, а голову мы сейчас обработаем.
Мыкола быстро привел себя в порядок. Его обмерили для покупки цивильного костюма и обуви. Размеров своих он не знал. Вскоре симпатичная врач обработала рану и наложила свежую повязку. После завтрака здесь же, в камере, Чумак принял показавшийся ему чудом природы теплый душ и переоделся в принесенное новое белье и гражданское платье. Перед обедом в одном из киевских ресторанов в отдельном кабинете Чумака завезли в модное ателье, чтобы купить легкое пальто по сезону или плащ. И тут Мыкола заметил то, что он уже видел дважды в своей жизни на одном из польских панов и на Партизане в тюремной камере, — габардиновый макинтош. На вопрос оперработника, что бы он хотел иметь, Мыкола молча протянул руку в сторону этого чуда. Как по мановению волшебной палочки макинтош оказался на его плечах. Уже после такого же сытного и богатого обеда, как и в прошлый раз, Мыкола, сидя в машине, по дороге в аэропорт незаметно для окружающих щупал ласкающий руку атлас подкладки плаща. Мысль покончить с собой сегодня почему-то не пришла ему в голову.
После нескольких дней в Крыму, где из головы его не выходили библейские сюжеты о красочном Вифлееме и райских садах, о чудесных теплых и далеких морях, в воды одного из которых он с таким наслаждением погрузил свое многострадальное тело, он больше не вспоминал о самоубийстве, и страшное и кровавое его прошлое казалось нереальным кошмарным сном. Донбасс и сталелитейные заводы Днепропетровска вообще покорили его. Не зная, кто он такой, но в сопровождении высоких чинов из местной госбезопасности, его принимали на самом высоком уровне. Питались они в директорских столовых, но показали ему столовую и для рабочих, где была дешевая, грубоватая, но вкусная и калорийная пища, а борщом и жареным мясом пахло так замечательно, как в родном селе по праздникам. Через две недели они были в Киеве, и Чумак впервые в жизни попал в руки стоматолога, который за несколько дней привел в порядок его беззубый рот. В камере у него появилось зеркало, и он мог долго рассматривать свое, казавшееся ему совершенно новым до неузнаваемости лицо. Он широко открывал рот и смотрел на свои металлические зубы, прикасался к модно остриженной голове и гладко выбритому лицу. Мог целый час стоять перед зеркалом в красивом костюме (их, костюмов, у него уже было три), или в заветном макинтоше. А чего стоила такая красивая велюровая и сногсшибательно модная шляпа. С помощью Партизана, ставшего к этому времени для него просто незаменимым спутником, который все знал и понимал, Чумак научился повязывать галстук и иногда менял их в день по нескольку раз. Разговоры о работе, о подполье с ним не вели. В конце своих поездок по Украине сопровождавшим Чумака людям все же удалось «разговорить» его, и они получили от Чумака массу вопросов, на некоторые из которых отвечали не так, как ему хотелось бы. Например, они как-то невнятно объясняли отсутствие на Украине украинского национального флага, украинских эмблем, большое количество русскоговорящих людей в восточных регионах Украины.
Самым потрясающим открытием для Чумака были украинские оперные театры в Киеве, Одессе, Харькове. Украинские драматические театры, и такая же, как в Западной Украине, любовь народа к своему кобзарю — Тарасу Шевченко.
Но вот наступило время для окончательного разговора с ним Николая Ивановича. Вначале Чумак с восторгом рассказывал этому начальнику о своих впечатлениях об увиденном и услышанном, а потом, насупив брови и глядя в пол, угрюмо произнес:
— Я знал, что за все в жизни надо платить, но я не хочу это сделать ценой предательства. Я давал клятву и присягу как воин УПА. Я не знаю, как мне быть.
Он поднял глаза и посмотрел на Николая Ивановича. Они были вдвоем в кабинете. Николай Иванович ответил Мыколе долгим серьезным и пытливым взглядом. Он мерил шагами свой большой рабочий кабинет и, неожиданно остановившись перед Чумаком, придвинул к нему стул, сел на него и, положив руку на плечо хлопца, сказал:
— Мыкола, ты не будешь изменять своим командирам и последнему своему провидныку полковнику УПА Васылю Куку. Ты примешь новую, нашу присягу, дашь новую клятву во имя сохранения нужной Украине жизни Васыля Кука, оставшихся в подполье твоих товарищей. Ты с нашей помощью сохранишь им жизнь. Ты видел свою Украину, эту могучую часть советской державы. Она, как ты убедился, принадлежит украинскому народу, равноправному члену всей советской большой семьи. Мы, коммунисты, боремся за счастье и свободу всех народов на Земле. Давайте же вместе строить это счастье. Ты видел нашу мощь. Разве можно победить такую силу? Должен тебе сказать, Мыкола, что в наших руках находится твой друг Карпо. Мы захватили его через несколько дней после твоего пленения. Он, как и ты, мужественно вел себя после захвата. Но, хлопцы мои дорогие, вы же не знаете Украину. Вам знакома только одна треть республики, да и то ее небольшая западная часть. Вы же получали информацию только от ваших командиров-провидныков. Мы показали тебе, Мыкола, тоже не всю Украину, а только маленькую часть ее. Ты убедишься, что и другая часть — по-настоящему процветающие места, где довольный своей жизнью народ. Чего же вы хотите? Какой независимости? От кого? От коммунистов? От наших братьев славян, от русских. Тебя никто не неволит. Если ты и тебе подобные будут с оружием в руках выступать против советской власти, против советского правительства и таким образом нарушать наши советские законы, мы будем вас уничтожать, что и делали много лет. Ты сам убедился, что от вашей УПА ничего не осталось. Тот же, кто еще с оружием в руках решил продолжить борьбу против нас, будет уничтожен. Я не буду скрывать от тебя наших целей. Да, ты был нам нужен живой, как и твой друг Карпо, чтобы с вашей помощью захватить Васыля Кука. Я говорю — захватить, а не убить. Он тоже нужен нам живой, чтобы и ему показать нашу советскую, новую Украину. Лемиш своими глазами, как и ты, Мыкола, увидит, во что превратилась Советская Украина. Мы хотим, чтобы все вы, бывшие бандеровцы, бойцы УПА, убедились, что советская власть на Украине — народная, что во главе Коммунистической партии Украины, Украинского правительства стоят украинцы, которые, как и ты, говорят на украинском языке. В этом ты сам смог убедиться.
Николай Иванович замолчал. Молчал и Мыкола. Наконец, он посмотрел на Николая Ивановича и сказал:
— Я хочу встретиться с Карпо. Я хочу увидеть и услышать его. Что он скажет мне, что думает он.
— Хорошо, через несколько дней мы дадим тебе встречу с твоим другом, а сейчас отправляйся в камеру, отдохни и хорошенько подумай о своем будущем. Тебе еще долго жить…
Николай Иванович сдержал свое слово. Чумак встретился с Карпо. До этой встречи где-то в глубине души у Мыколы теплилась надежда, что чекисты его обманывают, завлекают в ловушку, что Карпо не попался им в руки, он по-прежнему там, в лесу, в бункере. Мыкола не называл чекистам места укрытия Карпо, пароли, явки и связанных с ними по подполью людей. Как же они смогут захватить его? «Этого не может быть», — твердил Мыколе внутренний голос. Но вот же он, Карпо, живой и невредимый, и с целой, не разбитой тяжелым макогоном головой, сидит в кабинете у чекистского начальника и, как-то смущенно улыбаясь, смотрит на вошедшего в сопровождении оперативника Чумака.
— Поздоровайтесь друг с другом, хлопцы, — произнес Николай Иванович.
Карпо поднялся навстречу Чумаку и впервые в своей лесной жизни они не обратились один к другому принятым в подполье приветствием: «Слава Героям!», а молча и смущенно, как будто совершая что-то неестественное, непривычное и неприятное, но почему-то подчиняясь воле чекистского начальника, протянули друг другу руки…
Генерал Строкач принял их во Львове и долго беседовал в одном из оперативных чекистских особняков. Он долго и обстоятельно, со знанием дела расспрашивал Чумака и Карпо об их жизни в подполье, их товарищах живых и мертвых. Они поняли, что чекисты располагают почти всей известной им информацией, и убедились, что большевики действительно хотят взять последнего руководителя ОУН на ридных землях только живым. Их потрясла беседа с министром. Он, как и тот начальник областного управления госбезопасности в Хмельницком, усатый и степенный пожилой генерал с изуродованной рукой, был похож на простого человека, в котором однако угадывался командир. Он напоминал им руководителей провода ОУН, которых Чумак и Карпо не один раз сопровождали по линиям связи, слушали их выступления перед бойцами и командирами УПА. Генерал Строкач, как и известные хлопцам руководители оуновского подполья, так же убежденно и доказательно, доходчиво и просто говорил. Мог, как и те провидныки, не только общими словами, но яркими и образными картинами из жизни показать правдивость своих рассуждений. В общем, они оба, как загипнотизированные, слушали этого большого чекистского генерала и соглашались с его убедительными и логичными доводами. Генерал, как и работавшие с Чумаком и Карпом до этого чекисты, не вспоминал о тех людях, кого они лишили жизни по линии СБ, о тех акциях и боях с армейскими и спецчастями госбезопасности, в которых они участвовали. Они, эти чекисты и их генерал, просто говорили с ними на равных о прошлой жизни до подполья, вооруженной борьбе в оуновской партизанке и об их будущем. Они даже не допрашивали их официально, хотя и записывали все сказанное на магнитофон и делали беспрерывно какие-то отметки в блокнотах или на картах. Чумак и Карпо знали по читавшемуся у них в подполье курсу о работе советской госбезопасности, что чекисты принуждают к сотрудничеству и склоняют к предательству, прибегая к запугиванию повстанцев их кровавыми делами, связанными с ликвидацией коммунистов, совпартактива, поджогами, взрывами, с разгромом магазинов, нападением на автотранспорт или другими подобными актами диверсий или террора. Ничего этого они в беседах с оперативниками, чекистскими начальниками и самим генералом-министром не нашли. Им вообще не говорили о секретном сотрудничестве с органами госбезопасности, не требовали письменных показаний и даже, когда они дали свое согласие, подписку о секретном сотрудничестве с ГБ. От них под разными вариантами многочасовых бесед требовали одно и подводили каждый раз к этому единственному пункту — захватить Лемиша.
— Если вы, хлопцы, захватите Лемиша живым, — закончил свой разговор с ними генерал, — я гарантирую вам обоим Героев Советского Союза и квартиры на Крещатике.
И хлопцы сдались. Находясь во Львове после встречи с Т. А. Строкачом, они уже не ночевали в тюрьме. Они жили в нормальных условиях, но в помещении чекистского оперативного особняка и, разумеется, под неусыпным оком постоянной охраны. Их окончательно сразило и то, что им полностью чекисты доверяли. Им выдали их же оружие с настоящими боевыми патронами и они, Чумак и Карпо, по очереди вместе с двумя оперативниками обошли свои связи, пытаясь до зимы выйти на Васыля Кука. Но вот-вот должен был лечь снег, а место бункеровки или другого укрытия Лемиша и его жены им было неизвестно. Искать же провидныка через общие каналы, не имея на это договоренности с ним, было небезопасно. Опытный и осторожный Лемиш мог заметить неладное — они ведь имели определенные условия связи на весну — лето следующего года. Время было упущено.
Чувствовалось, что чекисты поверили Чумаку и Карпу. Их поместили в Киеве в особняк, как им казалось, без охраны. С ними постоянно находился кто-либо из оперативников, уделяя Чумаку и Карпу не только служебное, но и большое чисто человеческое внимание. Хлопцы с удовольствием посещали киевские магазины. Они в своей короткой жизни, проведенной летом в походах, рейдах, боях и лесных партизанских лагерях, а зимой в схронах, спрятанных в лесных чащобах, ни разу не видели такого обилия продуктов. Их приводило в восторг вот так просто подойти к кассе центрального гастронома на углу Крещатика и улицы имени Ленина и выбить чек на украинскую домашнюю колбасу, вкус которой так остро напоминал им свои родные места. Нравилась им и знаменитая в те годы киевская «любительская», запах которой приятно щекотал ноздри и свидетельствовал о ее исключительной свежести. А дарницкий балык, а сухая «московская», название которой сразу же вызывало желание ощутить на вкус «вражескую» колбасу. «Хороша «Московская» копченая. С такой колбасой, — думал Чумак, — можно спокойно и сытно зимовать в бункере».
Нравилось хлопцам перекусить в «Вареничной» на Крещатике. Вкусные варенички в столице Украины. Но оба они утверждали, что хозяйка особняка, где они жили, лучше и вкуснее готовит знаменитые украинские вареники. Иногда вечерами, посмотрев «чудо техники» — телевизор, выпивали под специально купленную для этого случая закуску — невиданные и не пробованные до сего времени хлопцами шпроты, сардины и, конечно же, купленное и выбранное ими же на бессарабском центральном киевском рынке сало. До чего же хороши были эти вечера! Хлопцы, выпив водки, запевали свои любимые песни. Пели тихо, душевно, вполголоса, как когда-то там, у себя в селе. Им так же тихо подпевали оперативники. Эти песни и чекистам, работавшим с Чумаком и Карпом, были такими же близкими и родными. Участвуя в этих вечерних и таких приятных мероприятиях, я, глядя на присутствующих, думал: «Ну разве отличишь вот сейчас их друг от друга. Как душевно и проникновенно поют. А ведь только вчера они были по разные стороны идеологической баррикады и были готовы стрелять друг в друга».
Чекисты проявили заботу и о их здоровье — они прошли тщательное медицинское обследование. Их подлечили, они прибавили в весе и внешне изменились, лица их округлились, глаза посветлели, добрее, что ли, стали. Хлопцы нравились мне рассудительностью, знанием не только своих теренов, но и тех огромных районов Волыни, Полесья, Львовщины и Прикарпатья, где им приходилось бывать в партизанских рейдах или работать на линии связи. Нравилось и то, что они с почтением и уважением говорили о своих оуновских командирах и провидныках. Позже, когда мои встречи с Чумаком и Карпом стали чаще и между нами установился человеческий контакт, они несколько раз подчеркивали в разговорах, что дали согласие захватить Лемиша только при одном условии — он должен остаться живым.
По привычке подпольной жизни они сразу же присвоили мне свою кличку — «опер Григорий». Я никак не мог понять, почему они именно так называли меня вначале за глаза, а потом это имя превратилось в официальное обращение не только у Чумака и Карпа, но и у других бывших оуновцев, подключавшихся в разное время к оперативной орбите чекистской группы, работавшей с Чумаком и Карпом.
Спустя много лет я тепло вспоминаю этих людей, смелых, простых и открытых сельских парней, сменивших в одночасье под страшным идеологическим прессом свою веру, честно и откровенно служивших своим новым командирам. Они в буквальном смысле слова кровью искупали свою вину перед советским государством, не подозревая, что их по капризу кого-либо из могущественных политиков Советского Союза могли в любое время расстрелять, не нарушая при этом принципов социалистической законности, ибо законных оснований для расстрела было предостаточно — руки у этих бывших эмиссаров, членов провода, провидныков разных рангов и положений, «эсбистов» любой категории, активных бойцов УПА и членов оуновского подполья, матерых пособников были по локоть в крови советских людей. Но эти бывшие, как тогда их официально называли в советских органах власти, бандиты, были нужны органам госбезопасности. Без них она была бессильна до конца ликвидировать «остатки бандоуновского подполья, искоренить дух ультраукраинского национализма. Мы всеми силами, используя мощный пропагандистский аппарат, там, где надо, применяя силу, старались как можно быстрее заставить жителей Западной Украины повернуться лицом к социализму, убедить их в правильности социалистического строительства, с полной отдачей работать в совхозах и колхозах, поддерживать на местах все начинания советской власти, отдавать свои голоса блоку коммунистов и беспартийных, укреплять здоровыми силами ряды КПСС, честно служить в Советской Армии и Флоте и быть готовыми отдать жизнь, защищая интересы социалистического Отечества.
Я помню, как однажды по необъяснимой ошибке Дрогобычского облвоенкомата призывавшийся в Советскую Армию житель одного из примыкавших к Ходорову сел вместо стройбатальона, куда в те годы обычно направляли служить призывников из западных областей Украины, попал на флот. Да еще на один из самых лучших — Балтийский, в береговую оборону Кронштадта. Семья этого хлопца была в прошлые годы тесно связана с подпольем. Старшая сестра Стефания была любовницей одного из членов группы Игоря. Их отец был убит в 1949 году в УПА. Старший брат был арестован в 1951 году за принадлежность к ОУН, осужден на длительный срок и находился в сибирских лагерях. Сам же он несколько раз конспиративно доставлялся в райотдел, но от правдивых показаний уклонялся, хотя чекистам было известно от надежных источников, что он имел связь с Игорем, знал пароли и места встреч. Я видел его в райотделе — рослый крепкий молодой человек с открытой улыбкой и чуть насмешливыми, озорными глазами. Отделывался каждый раз шуточками, отговорками. В общем, вербовочной беседы не получалось. Он закончил 10 классов, был смышлен и явно кем-то хорошо и умело подготовлен к беседам в райотделе. С учетом имевшихся на эту семью данных переписка их стояла на ПК. Часто из заключения писал брат, приходили письма от родственников из Польши и Львова. Интересная семейка для агентурно-оперативного наблюдения. О том, что он попал на флот, стало известно из его письма к сестре, перехваченного органами по ПК.
Я запомнил текст письма, написанного по-русски, почти наизусть. Вот что писал хлопец: «Дорогая сестренка Стефцю! Не мог отправить тебе письмо из Львова, где у нас был сборный пункт, поэтому пишу тебе из знаменитой морской крепости Кронштадта. Ты не можешь себе представить, что я увидел по дороге к своему конечному пункту назначения — город Ленинград. Попал я сюда на службу в береговую артиллерию. Это называется береговая оборона. Пушки такие громадные, что ты не можешь себе даже представить… За Львов писать тебе не буду, мы с тобой были здесь. В Киеве нас только провезли по городу и показали его из автобуса. Скажу тебе, что такой красоты не можно себе и представить. Очень хорошо и вкусно по дороге кормили. В Москве после Киева был второй сборный пункт, где я узнал, что направляюсь в Ленинград — Кронштадт. В Москве нам показали главную картинную галерею, называется Третьяковская. Я никогда не был в таких местах и скажу тебе, что это так красиво, что я могу целыми днями смотреть на эти картины. Я еще не видел моря, но уже полюбил его, когда увидел здесь, в Москве это чудо на больших картинах. Всех нас привезли поездом из Москвы в Ленинград, а оттуда пароходом — военным транспортом прямо в Кронштадт. Я тебе потом напишу отдельно, что такое Ленинград — это настоящее неземное чудо. Раньше, как мы и учили в школе, здесь жили русские цари — императоры, и сам Петр Первый, создавший Российский Флот. Я не мог даже заснуть в первую ночь после того, что я увидел в Ленинграде. Мне кажется, что я живу во сне, такое все вокруг большое и красивое. Мне стыдно говорить тебе и обижать маму, но то, что я впервые в жизни ел в экипаже (так у нас называют учебный отряд), такой вкусный настоящий краснофлотский борщ, я не мог и подумать, что могут быть у русских такие вкусные борщи. Давали нам и макароны по-флотски. Я спросил у кока (так называют у нас на флоте повара), как готовят такие макароны. Он обещал рассказать, я напишу тебе потом. Очень вкусно. Потом дали компот. Тоже по-флотски, из сухофруктов. Я ничего подобного в жизни не ел. Кормят так хорошо и много, что я никому не поверил, если бы сам не видел и не ел всего этого. Выдали нам красивую морскую форму. Ты бы, Стефцю, меня не узнала. В следующем письме я пришлю фотографию. Я не мог себе даже и представить, что Советский Союз — это такая огромная сила. Здесь стоят такие военные корабли, которых мы и на картинках не видели. Линкоры и крейсера. Нас тут в экипаже много с Украины, из Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Полтавы. Много и русских из Москвы и с Урала. Есть армяне, азербайджанцы, даже казахи и один туркмен. Все хорошо говорят по-русски. Пишу тебе тоже по-русски, хотя и много ошибок. Надо выучить русский язык. Наших из Львова, Волыни, Дрогобыча никого нет. Но мне здесь хорошо. Я дружу здесь с одним хлопцем из Москвы — Василием. Он здоровее меня и легко поднимает меня на руки. Штангу выжимает такую, которую я и приподнять не могу. Стефцю! Это такая сила здесь на флоте. Большое счастье, что я здесь буду служить. Я даже не представлял, что Россия такая великая и большая. Я тебя очень прошу, как только получишь это письмо, сразу иди к майору Червоному[148] и расскажи ему все за хлопцев, все, что знаешь. Отдай ему хлопцев, их все равно перебьют. Если увидишь хлопцев, за меня им ничего не рассказывай, говори, что в армии, а где, не знаешь и писем пока не получала»…
Майор Червоненко так и не дождался прихода Стефании к нему по просьбе брата. Под наблюдением эта семья еще какое-то время оставалась, хотя органам было хорошо известно, что, как правило, оуновцы прекращали контакты с теми, родственники которых призывались на военную службу или выезжали с насиженных мест в неизвестном направлении. Майор Червоненко поступил оперативно грамотно и по-человечески понятно. По существовавшему в те годы положению он должен был ориентировать соответствующее подразделение Министерства обороны, с тем чтобы этот военнослужащий, призванный из Западной Украины, был откомандирован в другую, не престижную и менее значимую войсковую часть. Однако Червоненко пожалел хлопца. Он заручился поддержкой РК КПСС и направил информацию не в Министерство обороны, а в особый отдел Кронштадта с просьбой привлечь молодого краснофлотца к сотрудничеству с ГБ, имея в виду в будущем по заданию органов направить в отпуск домой и попытаться с его помощью выйти на Игоря или его доверительные связи. Пока шла переписка между территориальным органом и особым отделом Кронштадта, согласовывались различные вопросы, прошло несколько месяцев. Игорь, узнав, что парня призвали в армию, как и ожидали оперработники, прекратил контакты со Стефанией. Действовал, как положено подпольщику, знающему правила конспирации. Мало ли что могло случиться в далекой России с ее братом. Прав был Игорь. Хлопчик-краснофлотец под воздействием вновь увиденного и познанного им настолько изменился идеологически и нравственно, что, прослужив несколько месяцев и пожелав вступить в комсомол, сам нашел особиста и рассказал ему все известное о своих связях с подпольем и «хлопцами из леса». Материалы были направлены в Ходоров, но оказались устарелыми, а посему невостребованными в оперативном плане. Снова пошла переписка и переговоры о направлении краснофлотца в краткосрочный отпуск для работы по банде Игоря, и снова прошло несколько месяцев. Тем временем ГБ удалось выйти на другие связи Игоря и необходимость в проведении комбинации с участием морячка вообще отпала…
Я позже спрашивал Червоненко, что сталось с краснофлотцем. Оказалось, что он охотно пошел на вербовку. Служил не только во флотском экипаже на берегу, но как надежный агент органов ГБ был переведен в плавсостав, участвовал в боевых походах крупных кораблей, выполнял успешно разные задания особистов. Отслужил свои четыре года на флоте и вернулся домой убежденным советским человеком. Хороший пример воздействия наглядной агитации и пропаганды на психику молодых людей, проживших свое детство и юность в ограниченном пространстве родного хутора или села.
В этом смысле характерен и пример Чумака. Спустя какое-то время после захвата Лемиша Мыкола был привлечен к исполнению определенной роли в одной из проводившихся органами крупномасштабных оперативных радиоигр. По роду этой работы Чумак много и часто встречался со мной. Приходилось по многу часов, а иногда и несколько дней быть вместе с группой агентуры, выступавших в роли боевиков в «ЛБ», в том числе и с Чумаком, в бункере, специально оборудованном для использования в оперативных играх. Я часто оставался вдвоем с Чумаком, и тогда начинались по-настоящему задушевные разговоры о житье-бытье. Много бесед было о тяжелой жизни в подполье, о колоссальном физическом и духовном напряжении при тяжелых походах и рейдах, особенно в период 1945–1949 годов. О любви, женщинах, о всякой всячине, которая всегда интересна молодым людям.
Чумак по натуре своей своеобразный, замкнутый, мрачно-угрюмый человек, но мне без особого труда удавалось расшевелить Мыколу. Мы уже давно знали друг друга, отношения были как бы товарищескими, но дистанция оперативного начальника и подчиненного строго соблюдалась. Чумак по любой мелочи всегда испрашивал разрешения, обращаясь ко мне каждый раз исключительно вежливо, почти с придыханием: «Опер Григорий, разрешите спросить… обратиться… можно выйти… и т. п.»
Меня буквально потрясал почти каждый рассказ Чумака о своей семье, прошлой жизни до УПА, в период его лихих рейдов и боев. Так, он однажды рассказал мне, что никогда до захвата его органами не имел денег, как таковых. Ни «За Польшi», когда денежной единицей был «злотый», ни во времена прихода Красной Армии, ни в период немецкой оккупации. Закончил он в одиннадцать лет два класса сельской школы. Умел плохо читать и еще хуже писать по-украински. Учиться в школе дальше не мог — надо было работать в поле, помогать отцу с матерью. Жили так бедно, что есть хотелось всегда. Как утверждал Чумак, он был в детстве сытым только в «Велик День»[149]. Часто ходил в церковь, где пел в церковном хоре, получая иногда от регента по жалости бутерброд с салом за хорошее пение. Каждое лето до глубокой осени пас гусей богатого польского пана-помещика, а зимой возил на поле этому же пану навоз. За эту работу пан расплачивался с отцом Мыколы. Хорошо, что любил его местный сельский учитель, он же возглавлял у них в селе просвиту, запрещенную польской властью. Просвиту Мыкола посещал тайно с тринадцати лет, там и продолжил свое образование. Любимый им учитель в просвите только в тринадцать-пятнадцать лет познакомил с такими понятиями, как география, история, украинская литература. Там он впервые прочитал великого кобзаря и плакал от счастья, что может читать Тараса Шевченко, такие его поэмы как «Наймычка», «Гайдамаки». И плакал от горя за свой народ, читая их. Такие стихи Кобзаря как «Заповiд», «Неофiти» да много и других знал наизусть. Просвита, тайное посещение ее и учеба, как и сама жизнь под польскими панами, навсегда породили в нем лютую ненависть к Польше, полякам.
Незадолго до сентября 1939 года, когда пришла к ним Красная Армия, освободительница, как тогда ее называли, играл он со сверстниками в карты и выиграл два злотых. Мыкола ни разу в жизни не был в кино, не ел мороженого, о чем только знал по рассказам других односельчан. А еще у него была мечта не только сходить в кино и попробовать мороженого, но и еще хотелось съездить во Львов и посмотреть громадный город, о котором так много и красиво рассказывали те, кто там побывал. А кроме всего этого хотелось Мыколе иметь собственную дуду[150], мечтал о ней с детства. Подбили его дружки дальше играть, а вдруг выиграет еще больше. Проиграл Мыкола свои честно выигранные два злотых, и на том история с деньгами закончилась. Больше он никогда и никаких денег в руках не держал. Запомнил Мыкола на всю жизнь, как приехали в их село красноармейцы с киноустановкой и показали народу фильм «Чапаев». Мыкола до этого дня и не слыхал о таком красном командире Гражданской войны в России. Фильм запал ему в душу навсегда. Русские мужики напоминали ему своих украинских селян, такие же крестьяне, только говорят по-русски.
Вскоре в село приехали какие-то военные с особыми знаками отличия и в фуражках с голубым верхом. НКВД! Арестовали военные любимого Мыколиного учителя, что заведовал у них росвитой. Непонятно было хлопцу, за что арестовали простого и доброго человека, который всего только и учил сельских детей грамоте в школе и в просвите на украинском языке, разучивал песни украинские и о литературе и истории Украины рассказывал. Любили учителя в селе и дети и взрослые. Непонятно все это было семнадцатилетнему подростку, за одно это невзлюбил он русских и НКВД. Через год вернулся из тюрьмы аж из самого Киева учитель и сказал хлопцу: «Никогда не верь этим людям. Они такие же оккупанты, как и поляки. Мы украинцы, это наша исконная земля, и ни полякам, ни русским здесь нечего делать». Поверил Мыкола, жаль было ему похудевшего и изможденного тюрьмой учителя.
Большинство бедных селян, в том числе и мать Мыколы, получили от новой советской власти земельный надел, и государство выделило им кое-какую сельхозтехнику, самую примитивную, конечно. Стали поговаривать об объединении крестьян в колхоз. Учитель, с кем селяне всегда советовались, был категорически против. Он говорил: «Вы же помните великий голодомор 1932–1933 годов. Крестьяне в Советской Украине и России человечину ели, миллионы умерли с голоду. Вы этого хотите? Это все от колхозов. Коммунисты это придумали. Землю вам дали. Это правильно. Трудитесь на ней, а в колхозы не идите». Приезжали прибывшие с восточных областей Украины колхозные агитаторы. Красиво говорили, уговаривали. Селяне молчали, вопросов почти не задавали, но с агитаторами были не согласны. Учителя своего слушались и священника униатского. Тот тоже был добрым человеком, особенно для бедных, часто помогал селянам и их детям. Любили в селе священника, особенно дети всегда с нетерпением ждали Пасхи, чтобы получить в церкви пару, а то и больше, оплаток[151].
Вновь появились люди из НКВД в селе и арестовали священника, а церковь закрыли ко всеобщему недовольству селян. Через пару недель исчез неизвестно куда и учитель. Никто не знал, где он. Одни говорили, что снова арестован, другие — что связался с борцами за свободную и независимую Украину. Кто эти борцы, Мыкола не знал.
Быстро пролетел целый год, а ему так и не посчастливилось съездить во Львов. Все время работал вместе с матерью и братом в поле. Попросил как-то председатель Мыколу с его однолетками прийти к определенному часу в сельсовет. Председатель был человек новый у них в селе. Говорили селяне, что он коммунист из Восточной Украины. В сельсовете с ними побеседовал какой-то пожилой военный из Львовского военкомата. Он всем хлопцам выдал бумажки, которые назвал повестками. Там был обозначен день приезда во Львов, где следовало пройти медкомиссию, а после получить еще одну повестку для сбора во Львове же и направления в Красную Армию. Им объявили, что в назначенный день в село приедет грузовик и повезет всех в город. В тот же день вечером в селе появился учитель, собрал у себя в хате всех хлопцев, что были в сельсовете, и объявил им, что в Красную Армию идти не надо, так как это означает, что пошлют их служить на край света, где Украины и не слышно, и не видно, а что им следует всем попрятаться у родственников на глухих хуторах и в других селах.
Был апрель 1941 года, а в конце июня немцы уже были во Львове. Пришел Мыкола домой к родителям с хутора от тетки — сестры матери. Отступающие части Красной Армии и немецкие войска стороной прошли, бои глухо гремели где-то далеко на востоке. Немцы прошли раз через село и больше не появлялись. Вскоре в селе объявился его любимый учитель. Он пришел с несколькими молодыми вооруженными людьми и собрал всех, кого смог, из числа хлопцев — активистов просвиты. Учитель доходчиво и просто рассказал хлопцам об ОУН — что это, ее цели и задачи. Так впервые Мыкола узнал, что существует центр вооруженной борьбы за освобождение Украины от всех своих угнетателей — поляков, венгров, румын, русских. Немцев пока учитель не называл. Он назвал их оккупантами позже, когда Гитлер отверг идею создания независимого Украинского государства и посадил в тюрьму все руководство ОУН во главе с Бандерой. Но это было намного позже. А сейчас учитель призывал молодежь овладевать оружием и готовиться к войне за независимость Украины. Так в конце 1942 года в свои двадцать лет Мыкола стал бойцом УПА с первых дней ее образования, чем и гордился. По рекомендации учителя, которого с тех пор называл хлопец «друже провиднык», направили Мыколу — уже оуновца Чумака в первую старшинскую[152] школу УПА, что в 1944 году дислоцировалась в лесах Львовщины. Курсанты целый месяц тщательно изучали военное дело, топографию, правила ведения партизанской войны, подрывное дело. Получали навыки сбора разведывательной информации, учились работать с информаторами, разоблачать агентуру госбезопасности. Но не пришлось Мыколе самому стать провидныком. Малограмотен был. Всего-то два класса сельской школы. Это потом, занимаясь самообразованием в длинные ночи при свете свечи или керосиновой лампы в бункере под руководством своих учителей-провидныков, не только историю Украины, борьбы за идеалы великих украинцев — Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки изучал, но сам много читал. На всю жизнь запомнил Мыкола слова Великого Пророка Украины Тараса Шевченко:
Свою Украiну любiть Любiть ii … Во время люте, В останнюю тяжкую мiнуту, За неi Господа молiть.И считал себя Мыкола «святым рыцарем», борцом за счастье Украины, стреляя во врагов Украины — поляков, немцев, русских. Уверен был, что про таких, как он, говорил Шевченко:
Хвала Вам, душi молодие! Хвала Вам, лицарi святие! Во вiки — вiки похвала!..Родных Чумака — мать, сестру и брата — мы обещали вернуть из Сибири после захвата Лемиша. Иначе нельзя, вся комбинация расшифруется. Все чаще по ночам думал Мыкола о матери, погибшем отце, о сестре. Хотелось прижать к себе мать и сестру, почувствовать родное тепло. С болью в сердце думал Мыкола о заброшенной в родном селе родительской хате, наверное, сдохли его любимая чернявка Маруська и красавец кот Тришка. Любил всякую домашнюю живность Мыкола. С радостью ухаживал за коровой, с удовольствием прижимаясь к ее теплым и пахучим бокам. Вспомнил, как однажды, уже парубком, загулялся до поздней ночи. Пришел, а хата заперта. Пробрался Мыкола через лаз в стене в коровник, привалился к теплому коровьему боку и заснул самым крепким юношеским сном. Проснулся от чего-то мокрого и теплого, проникшего до самого тела. Боже ты мой! Это корова, выспавшись рядом со своим молодым хозяином, опорожнила на него весь свой емкий мочевой пузырь. Долго потом стирал и сушился хлопец, а мать смеялась:
— Будешь парубковаты[153], до ночи не давать маты спати, так корова ще и насереть на тебе.
Долго смеялись над хлопцем отец с матерью и сестра с братом, но история за пределы семьи не выходила. А то ведь как в селе — засмеют и обязательно прилипчивую кличку дадут на всю жизнь, что-нибудь похожее на «зассанец», или что-то в этом роде.
Стали все чаще сниться Мыколе мать, сестра и брат, теплая печь посреди хаты и он на ней с любимой мурлыкающей Маруськой. Чувствовал Чумак, что зачерствелая душа его постепенно мягчеет. Спать стал спокойнее, и складывающаяся вокруг него жизнь все больше и больше захватывала и нравилась ему.
Знал бы Чумак, что операция по захвату Лемиша контролировалась лично Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но он никогда не узнает этого, как и то, что тот же Никита Сергеевич после завершения этой крайне важной для органов ГБ операции распорядится расстрелять Лемиша и тех участников ее, без которых захват последнего лидера вооруженной борьбы на территории Западной Украины был бы просто невозможен. То есть не квартиры на Крещатике Чумаку и Карпу и звание Героев Советского Союза, а расстрел. И никакого нарушения закона, на законном основании. Приказ этот поддержал и тогдашний руководитель КГБ Иван Александрович Серов, Герой Советского Союза, получивший это высокое звание в 1944 году за «блестящую», решительную и молниеносную операцию по выселению народов Северного Кавказа. Иван Александрович особенно настаивал на расстреле Лемиша, с просьбами о его помиловании просил руководство тогда Четвертого управления КГБ к нему не заходить. Он вообще был очень осторожный председатель. Лучше перестраховаться на всякий случай. Мало ли что может статься в будущем, а тут тем более есть указ о расстреле еще до захвата Васыля Кука. Все законно, он не в ответе. Как говорится: «С глаз долой, из сердца вон».
Я вспоминаю рассказанное одним московским сотрудником, впоследствии добрым моим товарищем, имя которого и сегодня называть нежелательно, об одной из резолюций И. А. Серова. Ребята написали рапорт о денежном поощрении ценного зарубежного агента в размере тысячи долларов. Агент того стоил. Председатель наложил на рапорте резолюцию: «Согласен. Выдайте 500, больше дать нельзя, иначе убежит».
Не все в Москве были за расстрел сдавшихся оцновцев. В этом случае под угрозу срыва ставился целый ряд агентурно-оперативных мероприятий по проникновению агентов в зарубежные центры — ЗЧ ОУН и ЗП УГВР, активизации оперативных радиоигр. Была бы нарушена разрабытывавшаяся годами система пропагандистских акций, направленных на ослабление так называемого буржуазного национализма на территории западных областей Украины, укрепление в тех районах влияния советской власти. Далеко не все в центральном аппарате КГБ в Москве были сторонниками таких жестких мер, наносящих сложившейся к тому времени политической обстановке в стране больше вреда, чем пользы. Резко против расстрела выступало руководство Украины. Пожалуй, все работники, имевшие отношение к этому делу, возмущались пока еще предварительным решением Москвы. Я помню горячие переговоры руководства по аппарату «высокой частоты» («ВЧ») и переписку, где Украина доказывала нецелесообразность этого шага. Доказали. Хотя и рисковали многим. Впоследствии Николай Иванович рассказывал мне, что он был свидетелем нескольких разговоров по «ВЧ» генерала Строкача с Хрущевым, руководством КГБ в Москве. Хрущев лично знал Строкача и уважал его. Строкач доказывал Москве, что расстрелять Лемиша и других, попавших живыми в руки органов оуновцев, всегда успеется. Но пока-то они все нужны живыми. Строкач говорил Николаю Ивановичу:
— Я не понимаю Москву. Ведь ликвидация этих людей после захвата их живыми нанесет прежде всего пропагандистский ущерб и непоправимый оперативный. Я говорил Никите Сергеевичу, что обещал этим людям не только свободу, но и нормальную жизнь советского человека. Обещал им высокие правительственные награды. А он мне отвечает: «Мало ли чего мы ради нашего дела, наших целей обещаем. Сам понимать должен, что и Лемиш, и все, кто связан с ним заклятые враги Советской Украины, по ним веревка плачет, а ты просишь их помиловать». Я ему говорю: «Никита Сергеевич, так ведь за ним, Лемишем, стоят тысячи его политических единоверцев, с ними же работать надо». А он мне: «Ну ладно, мы еще посоветуемся, подумаем». Может быть, я его и не уговорил бы, да уверен, что наш украинский ЦК Компартии повлиял на решение Москвы. Наш секретарь Алексей Илларионович Кириченко горячо поддержал идею использовать захват Лемиша в пропагандистских целях. Он и помог сохранить Лемишу жизнь.
Спустя годы от своих украинских руководящих товарищей я узнал, что противниками решения Н. С. Хрущева были и многие оперативные работники Москвы, в том числе некоторые руководители, имевшие прямое отношение к ликвидации остатков бандоуновского подполья. Особенно запомнился мне тогда начальник отделения, позже отдела, ныне покойный полковник А. Д. Малофеев. Среди тех московских работников, кто был вообще против физического устранения идеологических врагов советской власти как средства политической борьбы в период расширения и укрепления мировой системы социализма, следует назвать тогда майора, а ныне генерал-майора в отставке А. А. Фабричникова. Он, так же как и упоминавшийся ранее полковник А. Д., считал, что значительно утративший к тому времени политический авторитет в среде украинской эмиграции вождь ОУН Бандера с «помощью» КГБ вновь реанимируется. Превратится в «страдальца и мученика», укрепив тем самым позиции бандеровщины в кругах украинской эмиграции.
Фабричников был одним из моих старших начальников, уже когда я работал в Москве. Как руководителя, его по сравнению с некоторыми другими отличали высочайший профессионализм, умение находить нужное зерно в деле, острая логичность мышления и то, что сегодня называют логистикой, то есть четкий расчет и целесообразность любой чекистской «задумки». Отличала его и исключительная скромность.
В 1941 году после окончания школы, где учился Фабричников, мальчишки их класса, все до единого, добровольно ушли на войну[154]. Осенью 1941-го защищали Москву. В 1943 году во время ночного боя пуля ударила Фабричникову в живот и вышла, зацепив позвоночник. Многие месяцы лечения в госпитале не сломили его волю. Он вновь в строю. На этот раз в чекистском.
Аркадий всегда удивлял собеседника и достойного оппонента эрудицией и образованностью, никогда не хвастаясь и не щеголяя попусту своими знаниями В тяжелые послевоенные годы, снимая квартиру с семьей за пределами Москвы, он тратил на дорогу несколько часов, используя время в транспорте на тщательное изучение Библии.
Он — книжник, в самом лучшем смысле этого слова. В его доме несколько тысяч книг. И это не книжные шкафы, где за стеклом рядами стоят не тронутые рукой владельца красивые корешки томов. Все, что имелось в его библиотеке — все читалось хозяином.
Пока позволяло здоровье, он был на самых активных участках тяжелого чекистского труда. Потом он передавал свой опыт будущим разведчикам и контрразведчикам в Академии ФСБ России.
Журналист по образованию, контрразведчик по призванию, он был мастером своего дела. Не случайно поэтому генерал С. А. Кондрашев в одной из своих книг назвал Аркадия Фабричникова лучшим специалистом по эмиграции (так в те годы мы называли антисоветские эмигрантские организации за рубежом).
Что касается получения Чумаком и Карпом квартир в Киеве, ну не на Крещатике, а где-нибудь, хотя бы в Святошине, на Соломенке или Шулявке, то КГБ смог лишь оплачивать, да и то поначалу, снимаемые ими углы. Через год после захвата Лемиша Чумак, как и положено молодому мужчине, влюбился. Его избранница оказалась на редкость «удачным» для ГБ Украины человеком. Звучит, конечно, странно — удачным для ГБ человеком. Но тем не менее это было именно так. Вероника, так звали невесту Мыколы, девочкой была в партизанском отряде. Имела ранение и боевую награду. После войны закончила Высшую профсоюзную школу в Киеве и работала преподавателем в ФЗУ. Вероника была членом КПСС. Чумак в нарушение всех норм конспирации сам рассказал ей свою историю. Девушка поняла Мыколу. Чумак жил в Киеве под другой фамилией и другим анкетным данным. Паспорт, естественно, выдавался в КГБ, как и военный билет и другие нужные обычному советскому человеку документы. Сыграли свадьбу. Я по поручению начальства «поработал» с Вероникой, рассказал в рамках допустимого о ее муже. Посоветовал, как с ним вести себя.
Вероника была беременна, до родов оставалось совсем немного, когда неожиданно позвонил Чумак.
— Опер Григорий! Мне нужно срочно вас видеть. Немедленно, сейчас же. — Чумак тяжело сопел в трубку, и, хорошо зная Мыколу, я понял, что произошло что-то чрезвычайное и неприятное.
Через полчаса мы встретились на явочной квартире. Он бы крайне возбужден и напоминал ощетинившегося матерого волка, изготовившегося к последнему смертельному прыжку.
Мыкола мрачно поздоровался со мной и так же мрачно произнес:
— Опер Григорий, если мне начальство не даст квартиру, я завтра взорву дом вместе с хозяйкой.
Выяснилось, что квартирная хозяйка, у которой снимали комнату Мыкола и Вероника, создавала им, невыносимые бытовые условия. Она буквально терроризировала молодоженов — до поздней ночи включала громко музыку, стучала ночью молотком в стену, бранилась. В общем, создала скандальную ситуацию, грозящую вот-вот перейти в драку. Она требовала немедленно освободить комнату и денег при этом, проплаченных за несколько месяцев вперед, не возвращала. Я, как мог, успокоил Чумака, при нем, прямо с явочной квартиры позвонил на работу Веронике и договорился с ее начальством, что завтра они постараются вопрос закрыть. После встречи с Чумаком я направился к начальнику отдела.
— Николай Иванович! Беда! Чумак на грани срыва, — и рассказал о случившемся.
К счастью, в распоряжении председателя оказалась малогабаритная квартира «за выездом». Руководство вызвало счастливчика, который вот-вот должен был получить ордер (он его уже оформлял), и попросил его подождать пару месяцев. Что значит вызвать к председателю сотрудника-получателя нового жилья для своей семьи и попросить его повременить с переездом, учитывая неожиданно возникшую сложную ситуацию? Конечно, сотрудник сразу же «согласился». Справедливости ради, надо сказать, что все стороны в результате остались довольны. Опер Григорий избежал крупного скандала. Начальство нашло выход и успокоилось, а отдавший ордер на квартиру сотрудник получил через несколько месяцев лучшую квартиру в центре Киева. Главное же, был успокоен Чумак — человек с тяжелым и кровавым прошлым действительно мог что угодно сделать, доведенный до отчаяния.
Судьба Чумака была более или менее счастливой. После выполнения им в течение длительного периода нескольких специальных заданий органов ГБ, самым важным из которых был захват Лемиша, он был полностью реабилитирован советской властью, благодаря чему родственники были возвращены из Сибири в родное село. Сестра еще в Сибири вышла замуж за такого же, как и она, сосланного. Вернулась вместе с мужем в свое село. Оба трудились в колхозе. Брат работал трактористом. Сам Чумак после завершения сотрудничества с ГБ окончил профтехучилище, работал слесарем-наладчиком на одном крупном киевском заводе. Неоднократно отмечался за хорошую работу. Вероника родила ему двух сыновей, и оба надеялись, что этим хлопцам не придется никогда брать в руки оружие, хотя бы против своих же.
У Карпа сложилась жизнь иначе. Он дважды неудачно обзаводился семьей. Много пил. Органы пытались повлиять на него, несколько раз организовывали лечение от алкоголизма, но он по выходе из медучреждения каждый раз срывался и все начиналось сначала. Тяжело и подолгу болел. Через несколько лет умер в доме своих родственников на Волыни, куда ему после выполнения заданий разрешили вернуться.
Через призму прошедших лет нет-нет да и возвращаюсь в мыслях в те уже далекие годы.
Перебирая в памяти их всех: Чумака, Карпова, Борисова, Грамадянинова, Матросова, Андреева, Мариека, Катруся, Кобзаря, Модестова и других агентов КГБ из числа бывших оуновцев, свято поверивших органам и честно и самоотверженно работавших на советскую власть, я с чувством большой симпатии думаю об этих людях. «Простодырые вы хлопцы, по нынешним временам, могли бы кучу всяких льгот и еще кое-чего нужного людям получить за помощь советской власти, — думается мне. — Но время было такое — хорошо, что живыми остались».
* * *
…Надсадно ревут моторы больших с брезентовым покрытием военных грузовиков Ходоровского мотомехдивизиона, набитых солдатами и собаками. Они выдвигаются в район села Княгиничи, что на границе Тернопольской области, чтобы затем резко изменить маршрут, — таким образом совершался обманный маневр. По полученным агентурным данным, Игорь и его боевики временно укрылись в селе Вербица (это уже Дрогобычская область и недалеко от Княгиничей), где произведут заготовку продуктов, а затем все перейдут с началом зимы, которая уже не за горами, в район небольшого, в несколько хат, хутора, где метрах в двухстах от строений ими оборудован новый схрон. Точное местонахождение боевиков Игоря в Вербице неизвестно. Данные перекрываются и другой агентурой, у которой они были и собирали провиант на зиму. Места эти малозаселенные, пустынные.
В штаб ходоровского дивизиона срочно прибывают на совещание начальники трех управлений ГБ Костенко, Гриценко, Стехов, зам. командующего погранвойсками Украины полковник Волков, начальник оперативной группы Лихоузов, представитель Киева, начальники некоторых райотделов, начальник штаба и командиры подразделений дивизиона. Срочно разрабатывается план операции. Он носит звучное кодовое название «Западня». Суть плана сводится к следующему. Дивизион вместе с сотрудниками трех областных управлений и подразделением погранвойск блокирует село Вербица двойным кольцом. Дальние подступы и возможные пути отхода боевиков перекрываются пограничниками полковника Волкова. Всего будет задействовано восемьсот человек. Операция начнется до рассвета, затемно. Каждое подразделение по команде рассредоточившись, займет свой участок, установив связь с соседом. После окружения села, что подтверждается по рации, по сигналу красной ракеты начнется медленное и одновременное движение к селу. Будет блокирована каждая хата, каждая постройка или погреб, колодцы, все подозрительное. Поиск надо вести грубо, демонстративно шумно, с применением собак. При этом северная часть села, составляющая его большую половину, пока не трогается. В той части образуется как бы своеобразный выход из села в сторону хутора, до которого около пяти километров. Игорь, услышав, а возможно, и увидев начавшийся поиск, не будет, естественно, принимать боя, а постарается выскользнуть незамеченным из села через пока еще незанятую войсками его северную оконечность. Ему дадут уйти. Село скученное, в случае боя возможны потери не только солдат, но и местных жителей. Уходить Игорь может только в одном направлении — на север, к своему бункеру в районе хутора. Войска, производя активный поиск и спалив несколько второстепенных хозяйственных построек, не только вытеснят тем самым Игоря из Вербицы, но и продемонстрируют, что об его укрытии на хуторе чекистам неизвестно.
Через несколько часов по сигналу зеленой ракеты операция прекращается, чекистско-войсковые группы быстро подтягиваются в места сбора, грузятся в машины и перебрасываются в район известного хутора, который «прорабатывают» вместе с примыкающей местностью самым тщательным образом, с применением щупов и собак. Работа ведется на уничтожение группы Игоря.
В штабе табачный дым висит пластами, все громко обсуждают предстоящую чекистско-войсковую операцию. Тон совещанию задают два человека — полковник Волков и начальник одного из управлений ГБ полковник Сергей Трофимович Стехов. Это легендарный чекист. Я вижу полковника впервые, но хорошо знаю его по художественной литературе о Великой Отечественной войне, по документам и рассказам товарищей. Полковник Стехов десантировался со знаменитым партизанским отрядом Медведева, вместе с выдающимся разведчиком Кузнецовым в Ровенскую область в 1942 году. Это было одиннадцать лет назад. Тогда майор Стехов, опытный чекист, был комиссаром отряда Медведева. Я смотрю восхищенно на Стехова. С упоением слушаю каждое его слово. Еще бы! Он, как и Медведев, был посвящен в работу разведчика Кузнецова. Он хорошо знал Кузнецова и работал с ним. Уверенно, убежденно Стехов диктует план операции, составляя его с ходу и профессионально. Затем слово берет полковник Волков, вернувшийся несколько месяцев назад из ГСВГ[155], где он проходил службу. В перерывах он рассказывает о жизни в ГДР. От присутствующих я знаю, что Волков кадровый пограничник, опытный и знающий офицер. Это чувствуется в его выступлении и замечаниях по ходу выступлений других руководителей. Но такого матершинника, как полковник Волков, я ни до, ни после не встречал. Более виртуозного мата я не слышал нигде и никогда, даже на Привозе в Одессе или в Киеве на Подоле в среде подольских евреев-биндюжников, ни даже в Киевской тюрьме на Лукьяновке. Это было что-то невероятно виртуозное с применением и комбинацией таких словечек и оборотов, что даже не возникало ощущения, что человек ругается матом. Это была песня песен матом. Вспоминая некоторые волковские обороты, я и сегодня улыбаюсь этой матерной симфонии, которая только и возможна в России, и только на русском языке…
Подписи под планом «Западня» ставили: начальники трех областных управлений ГБ, заместитель командующего погранвойсками, начальник оперативной группы и представитель Киева. Я поставил подпись последним, как и положено, а потом неуверенно сказал:
— По-моему, совсем недавно вышел новый приказ, запрещающий проводить жесткие акции с местным населением, даже при наличии точных данных об укрытии у них вооруженных оуновцев. А мы планируем провести грубый поиск, сжечь несколько строений, пусть и второстепенных. Это можно было делать еще год назад, но не сегодня. Давайте внесем изменения в план, — и вопросительно обвел глазами сидящих передо мной руководителей.
Кто-то из начальства насмешливо произнес:
— Тоже мне: яйца курицу будут учить. Подписывай, не бойся. С тебя не спросят.
Я подписал и сел на свое место. Операцию назначили на следующий день, решив сегодня же, засветло, конспиративно провести рекогносцировку местности и тщательно подготовиться к ней. После совещания я позвонил в Киев и получил команду срочно выехать для доклада по планируемой операции к полковнику Данилову — начальнику отдела. В Киев приехали ночью. Короткий сон, и я на службе. Полковник Данилов начинал свой рабочий день на час раньше, в 9 часов он уже на работе. Я торопился успеть к завершающему этапу операции, поэтому сразу же зашел к полковнику. Слушая мой доклад, Данилов все больше мрачнел, задал несколько вопросов, а затем, глядя мимо меня, холодно произнес:
— Уезжая из Киева, вы должны были, как положено оперативному работнику, ознакомиться с последними приказами руководства, как московского, так и киевского. Вы что же, не читали последний приказ, категорически запрещающий при проведении чекистско-войсковых операций применение по отношению к местному населению западных областей Украины жестких мер. Запрещается любое проявление насилия, принуждения, разрушение жилищ, хозпостроек, угрозы, если мы не имеем точных данных о нахождении там бандитов, — вы что, не знакомились с этим приказом?
— Знакомился. Но у нас точные данные о нахождении Игоря с боевиками в этом селе, — попытался я возразить. — Мы будем только имитировать применение жестких мер. Договорились, что спалим одну-две старые, не используемые постройки, так, для шума, чтобы направить банду в специально созданный и свободный от войск проход, загнать их на хутор. Дальше им идти некуда. В этом и смысл нашей «Западни».
— «Западня», «Западня»! — насмешливо передразнил меня полковник. — Привлечь такое количество людей для операции! Да такой силой можно каждую хату руками прощупать. У вас же там одних собак несколько десятков. Вы представляете, что вы наделали? — продолжал повышенным тоном Данилов.
— Товарищ полковник, — я еще пытался сопротивляться, — я не один подписывал план. Там было много более опытных начальников.
Я чуть было не назвал Стехова и Волкова — основных инициаторов «Западни», но вовремя остановился.
— Если хоть волосок упадет с головы местного жителя, если в советские партийные органы или госбезопасность поступит хоть одна жалоба на действия военных при проведении операции, вы понесете суровое наказание. Не исключено, что и вас, и других инициаторов отдадут под трибунал.
— Что же мне делать? — упавшим голосом произнес я.
— Когда, вы говорите, началась операция? В шесть утра? Сейчас девять. Пока они развернутся, рассредоточатся, начнут движение, около часа пройдет, а то и больше. Пока опрос хозяев первых хат — еще около часа. То есть операция только-только началась. Еще есть время приостановить ее. Я приму меры, а вы выезжайте немедленно. Исходите из одного — жалоб от жителей села не должно быть. Если бандиты были в селе, они давно уже ушли на свой хутор. Ищите там, самое время. С хутора тоже не должно быть жалоб.
Не подав руки, полковник кивком головы отпустил меня. Рабочий день еще не начался. Это радовало, так как я не хотел видеть своих сослуживцев, не хотелось объяснять причины своего появления в Киеве. Да и вид у меня наверняка был удрученный, что вызвало бы ненужные вопросы. Сразу же позвонил в гараж водителю, чтобы тот быстро подготовил машину, и когда через несколько минут я подходил к гаражу, «ГАЗ-69» уже выезжал из ворот. Машина на скорости берет направление на Житомир, легко преодолевая первую сотню километров, и далее на Дрогобыч. Поздно вечером я подъехал к первому посту, блокирующему выход из села. Еще пару минут — и я у большой добротной хаты, где разместилось руководство. У хаты охрана, несколько солдат с собаками и офицеры. Резко открываю дверь. В глаза бьет яркий свет переносной аккумуляторной лампы. Страшно накурено. Оживленный разговор при моем появлении смолкает. Я не чувствую дорожной усталости, все во мне напряжено до предела. Я весь во власти утреннего разговора с полковником Даниловым. Здороваюсь с высокими чинами и громко говорю прямо с порога:
— Я просил вас внести изменения в план. Есть приказ, запрещающий подобные жесткие акции. Я же говорил вам, — и всматривюсь в обращенные ко мне лица пожилых и солидных офицеров — руководителей местных органов ГБ.
Пауза, которую нарушает сухой и по-прежнему властный голос полковника Стехова:
— Ничего вы не говорили, вы как представитель центра также подписали план операции. Так же, как и все остальные.
Заряженный с утра страхом ответственности, трансформированным длительной и монотонной дорогой в злость, я бросал резко и отрывисто взрослым дядям-полковникам:
— Ладно я, молодой лейтенант, и что с того, что представитель центра. Но вы-то опытные люди… С меня спрашивал полковник Данилов…
Как оказалось, приказ до территориальных органов ГБ в эти регионы еще не дошел.
После длительного и шумного обсуждения случившегося в Киеве, Стехов достал бутылку коньяка, разлил всем присутствующим и примирительно сказал:
— Лейтенант, твое здоровье. За одного битого двух небитых дают.
Все выпили, инцидент был исчерпан. И все же на душе моей было неспокойно: а вдруг кто-нибудь из селян пожалуется. Конечно же, накажут меня, а не заслуженных полковников. Больше всего меня поразила позиция полковника Стехова. В голове колотилась только одна мысль: «Это же его инициатива проведения жесткой акции. Почему он отказался от своих слов. «Тоже мне яйца — курица», — мелькнули в памяти кем-то сказанные слова. Я уже не видел в Стехове своего кумира, и от этой мысли было неприятно и обидно. Нет, во мне не рушились идеалы чекистско-войсковой дружбы и товарищества. Заложенная с юности военная косточка и военная корпоративность остались во мне навсегда, но что-то неприятно смутило душу. Последующие события вытеснили из памяти этот эпизод. Я старался не думать о случившемся тогда, пытался вообще все это забыть. Но нет-нет, да и всплывет в памяти случай с полковником Стеховым — легендарным чекистом, партизаном, разведчиком…
В мое отсутствие операцию начали в восемь утра, с рассветом. День был пасмурный, с утра шел снег с дождем. Сожгли старую клуню, но это вызвало нужную реакцию. Селяне при обысках добровольно сдали три старые винтовки немецкого образца без затворов и патронов к ним. Понятно, почему без затворов и патронов — за такое непригодное оружие-железку не привлекают…
Ранним утром следующего дня по сигналу ракеты дивизион плотно блокировал хутор всего-то в двадцать одну постройку, включая семь жилых домов. В радиусе километра обшарили все подозрительные на наличие бункера места. Как известно, убежища подобного рода строятся в определенных местах, чтобы и отток грунтовых вод был. Место должно быть сухое, иметь небольшой уклон, почва должна быть определенной, ну и т. д. и т. п. Специалисту все это понятно. Искали тщательно и долго. Нашли. Бункер действительно был свежей постройки, не больше года. Зимовали в нем, наверное, один раз. Рассчитан на четверых, от силы на пятерых. Были в нем и свежие запасы продуктов, но явно не полностью на зиму заготовленные. Ящик с салом килограммов на десять. Мешок сухарей, крупа. Но не было основного — ни лампы керосиновой, ни керосина, ни свечей. Создавалось впечатление, что бункер на сей раз не был готов к приему жильцов. Он служил, наверное, промежуточной заготовительной базой. Судя по хранившимся в нем продуктам, нарам-лежакам и стенам, в нем не было людей минимум две-три недели. Неужели Игорь и на этот раз обманул чекистов?
За месяц до этой операции на основании сведений, поступивших от надежных источников, был перекрыт почти весь Николаевский и часть Жидачевского районов Дрогобычской области. Агентура сообщала, что Игорь со своей группой будет ночью (указывалось число) переходить в приблизительно известных агентуре местах из одного района своей дислокации в другой. На расстоянии 100–150 метров друг от друга рассредоточились группы по четыре-пять человек с собакой общей протяженностью до пятнадцати километров. Тогда удалось обнаружить Игоря с боевиками на болотистой местности уже на рассвете. В том районе в полосе до 500 метров была только одна собака. Ракетчик дал неудачно сигнал — первая ракета почему-то быстро погасла, пущенная после этого вторая только ослепила людей. Замелькали на болоте тени, ударили автоматы. Спустили собаку, которая вскоре вернулась, не взяла след. А может быть, и не было людей на болоте? И была ли там вообще банда? Видели одни прыгающие тени под светом ракеты. Огнем боевики Игоря, если это были они, не отвечали. Передали по рации, чтобы перекрыли болото с другой стороны. Вроде бы успели на машинах перебросить солдат с собаками. Но ничего не нашли. Ни людей, ни следов. Как позже выяснилось, переходил все-таки Игорь со своими людьми этот район. Перехитрил чекистов. Ответный огонь не открывал, себя не обнаружил и ушел по болоту быстрее, чем успели посланные на перехват солдаты. Мне запомнилась эта грандиозная засада моросящим холодным дождем, промокшим от болотистой земли и мокрой травы нижним бельем. Плащ-палатка не спасала. И согревающим замерзающее тело был только горячий бок лежавшего рядом с бойцами громадного пограничного пса — овчарки. Замерзнув окончательно, я тогда молча отпихнул прильнувшего к собаке солдата-ракетчика и на правах офицера занял это самое комфортное в тех условиях место. Дрессированный пес лежал между людьми и не издавал ни звука, только тело его иногда пружинилось мускулами, передавая это напряжение проводнику, призывая к вниманию, когда он улавливал в ночи настораживающие его собачий слух звуки. Эти прошедшие специальную дрессировку собаки были натренированы на преследование и захват человека. Работая тогда со спецвойсками и пограничниками, я спросил как-то проводника, как же эти собаки отличают своих от чужих. Солдат со знанием дела ответил, что, конечно же, по запаху.
— От своих казармой, нашим обмундированием, каптеркой и оружием, махоркой, солдатским табаком пахнет, а от чужих, бандитов другой запах идет, землей пахнет, бункером, сельской хатой летом, — пояснил мне невысокий солдат-крепыш с Урала.
Спецвойска ГБ, в частности ходоровский мотомехдивизион, комплектовались в подавляющем большинстве солдатами, призывающимися из России. В основном это были ребята со средним образованием, русские, из больших городов — Москвы, Ленинграда, Свердловска, реже Киева, Харькова (1–2 на роту с украинским языком), все комсомольцы. Кирзовых сапог вообще не было. Все в яловых. Питание — соответственно работе. Норма — пограничная. При операциях выдавался погранпаек — три банки консервов, сахар, колбаса копченая. Все здоровенные, физически крепкие. Легко вгоняют в землю двухметровые стальные щупы — ими обнаруживаются потолок бункера, или люк. На собак смотреть страшно — не только овчарки немецкие или тильзитские, но и типа кавказских волкодавов. Собаки работают молча, лая не услышишь. Лают, когда преследуют…
Перед самыми Октябрьскими праздниками получили информацию о связях жителя села Диброва Григория Мудрого с хлопцами из леса. Мудрый выболтал это по пьяному делу своему приятелю из того же села, агенту КГБ. Хлопцы из леса могли быть только боевики Игоря или сам он, так как других хлопцев в этом районе не было. Следовало провести комбинацию, которая позволила бы получить от Мудрого его связь с оуновцами. Решили подпоить Григория через своего агента и, спровоцировав драку в сельском клубе, арестовать. Повезти его машиной в райотдел милиции, а по дороге с помощью «ЛБ» «отбить» от милиции, «поводить» по лесу километров десять — пятнадцать и допросить нашей СБ в бункере. Так и сделали. Легендированный бункер находился на окраине села Медыничи. Это рядом с Дрогобычем. Мудрого арестовали на следующий день по заявлению участковому милиционеру от нескольких избитых им в драке сельских хлопцев. Участковый, не посвященный в это мероприятие, позвонил в РО МВД, где получил указание допросить свидетелей и ждать автомашину, которая должна доставить арестованного в дрогобычскую тюрьму. К приезду милицейской машины Мудрый и свидетели были уже допрошены участковым, а сам драчун сидел в сельсовете под охраной милиционера. Мудрый был известным в селе драчуном, и изрядно поколоченные им в драке парни с охотой дали показания. Побои были зафиксированы местным фельдшером. У одного из пострадавших была сломана рука, что явилось достаточным основанием для получения санкции прокурора на арест Мудрого. С подбитым глазом и расквашенным носом, но уже протрезвевший Мудрый в наручниках сидел в крытой брезентом грузовой автомашине между двумя милиционерами. В кабине с водителем был еще один милиционер. Те, что в кузове, вооружены автоматами. Поравнявшись с «нужной» хатой, машина остановилась. «Вода закипела», — донеслось из кабины. Ехали по тряской разбитой дороге больше часа, всем захотелось размяться. Вывели из кузова и Григория. Недалеко от дороги виднелась хата с темными окнами. Шофер повозился в моторе, взял ведро и направился к хате.
— Подожди, — остановил его старший, — пойдем все вместе, заодно водички попьем.
Вся группа вместе с Мудрым направилась к дому. Приблизившись к хате, увидели слабую желтоватую полоску света, пробивавшуюся через узкую щель занавешенного изнутри окна. Свет сразу же погас, когда они подошли вплотную к хате, там, наверное, услыхали их шаги. Постучались. Ответа не последовало. Настойчивый стук в окно вызвал ответный голос:
— Кто там, чего надо?
— Милиция, откройте. Нам надо воды для машины.
Длительная пауза. Снова настойчивый стук. Дверь медленно открывается, в проеме хозяин в длинной белой рубахе с керосиновой лампой в руке. Электричество в селе есть, но только до 12 ночи, а сейчас второй час.
— Проходите, гости дорогие, — суетливо двигается в дверях хозяин, пропуская военных в хату.
Старший осматривается и строго спрашивает:
— Где хозяйка? Почему в хате так накурено? Кто у тебя в доме?
— Да никого нет, пан офицер. Хозяйка спит, дети давно не живут с нами.
На столе четыре большие тарелки с остатками еды. Недопитая бутылка самогонки. Горкой лежит скорлупа от съеденных яиц. Григорий Мудрый стоит в глубине комнаты в наручниках. Старик хозяин с испугом смотрит на него. Чуть в стороне два милиционера. Старший поворачивается к одному из них и бросает:
— Ковтун, осмотри хату, посмотри на горище[156] в первую очередь.
Тот, кого назвали Ковтуном, снимает с плеча автомат и направляется к выходу. В это же мгновение дверь распахивается и в проеме вырастает кудлатая фигура человека со вскинутым и изготовленным к стрельбе автоматом ППШ. Судорога перекашивает лицо старшего. Рука дергается к кобуре пистолета. Длинная автоматная очередь бросает его тело навзничь на пол. Этой же очередью стрелявший, чуть дернув стволом автомата в сторону Ковтуна, сваливает его лицом вниз. Следующей, уже короткой очередью человек с автоматом поражает третьего, успевшего сдернуть с плеча автомат и пытавшегося передернуть затвор. Тот опускается сначала на колени и, издав булькающий звук, мягко валится на бок. Все это происходит в какие-то считанные секунды. Водитель успевает выхватить пистолет и передернуть затвор. В то же мгновенье чья-то автоматная очередь из темноты за дверями поражает шофера и он делает нырковое движение головой под стол. Из безжизненной руки вываливается пистолет. Первый стрелявший оуновец, направляет дуло автомата на Мудрого. Раздается сухой щелчок. Осечка.
— Холера ясна! — вскрикивает человек и передергивает затвор. Патрон, вылетевший из автомата, звонко щелкает о стену. Автомат на уровне груди Григория. Только сейчас пришедший в себя от ужаса и осознавший происходящее Мудрый истошно кричит:
— Не стреляйте, я свой. Я из Дибровы, я свой.
— Кто такой? Почему в наручниках? — спрашивает Григория вбежавший в комнату второй стрелявший.
— Меня арестовали за драку в Диброве. Я свой. Я помогаю вам. Я свой. Я знаю хлопцев. Я с ними встречаюсь.
— Разберемся. Забирай его, друже. Плащ-палатку ему на голову и гайда[157], — распоряжается тот, кто стрелял первым.
«Наверное, старший», — думает Мудрый. Он благодарен судьбе, что остался жив. О том, что будет с ним дальше, мыслей у него пока нет.
Придя в себя от только что пережитого им кошмара, Мудрый увидел медленно вытекающую струйку крови изо рта лежавшего на боку милиционера. Из-под упавшего навзничь Ковтуна по полу растекалось темное пятно. Это специальные имитирующие кровь желатиновые шарики, раздавливаемые рукой или во рту. Патроны, разумеется, холостые. Осечка сделана специально, чтобы Мудрый хоть немножко успел прийти в себя. Все продумано чекистами. Что касается оуновцев, то это опытные хлопцы из числа бывших бандеровцев, завербованных госбезопасностью, совершившие на своем, хотя и молодом, веку не одну такую настоящую или инсценированную акцию.
— Вы где, дядько? — кричит один из них.
— Я здесь, хлопцы, — отвечает хозяин хаты и медленно поднимается с пола у печи. — Что же мне делать, куда деваться, что я скажу в селе, властям? — почти рыдает хозяин.
— Скажете, что незнакомые люди из леса были, попросили поесть. Потом посекли из автоматов «энкэкэдистов». Больше ничего не знаешь.
Быстро выворачивают корманы «убитых». Берут документы. Все это вместе с тяжелыми дисками от автоматов, пистолетами и еще какими-то взятыми у «убитых» вещами запихивают в вещмешок. Толкая в бока Мудрого, оуновцы покидают хату, оставляя в ней хнычущего хозяина.
Конечно же, никаких сомнений в достоверности хлопцев у Григория не возникло. С закрученной плащ-палаткой головой и повешенными ему на шею двумя милицейскими автоматами он быстро шел, увлекаемый с двух сторон оуновцами, почти бежал вместе с ними по лесу, продираясь временами сквозь кусты. Так они быстро продвигались по неизвестной и неведомой Григорию местности часа два. В действительности Мудрого водили по хорошо известной окружности вокруг хаты, создавая видимость быстрого движения по лесной и временами труднопроходимой местности. По подсчетам пленника прошли минимум десять километров. Дышать в закрученной на голове плащ-палатке становилось все тяжелее. Силы были на исходе. Еще немного и он упадет, ноги отказывали. «Лишь бы не убили, — думал Мудрый, — я им докажу, что я свой». Наконец, хлопцы пошли медленнее и осторожнее. Григорий понимал и чувствовал их действия.
Сам он в прошлом был два года в действующем отряде УПА, заболел и в 1948 году змельдувався[158], вышел с разрешения сотенного Яремы с повинной. Коротко посидел у большевиков в тюрьме и начал работать в колхозе. Прошлое постепенно стало забываться, но через несколько месяцев пришли люди из леса, и он продолжил контакт с подпольем, став у себя в селе основным информатором и организатором сбора продуктов и носильных вещей. Подполье верило Мудрому, он гордился этим и сам считал себя частью подполья, активным бойцом УПА, продолжая борьбу, только в других условиях. Однако не прошло и полгода, как все боевики да и сам Ярема погибли от пуль чекистов. Только в 1950 году на него вновь вышли боевики Шувара, а потом и Игоря, с которым он встречался по день своего нынешнего ареста за драку. С боевиками Шувара он не виделся уже больше года. Самого Шувара никогда не видел, но знал о таком провидныке от хлопцев. Несколько раз через его руки проходили «грипсы» от Шувара и к Шувару.
Вот хлопцы остановились.
— Возьми ключ[159], Степан, — раздался голос одного из хлопцев.
Вскоре на Мудрого дохнуло знакомым спертым воздухом из бункера.
— Сходи за провидныком, да поскорее, а я пока спущу эту птичку в крыивку. — И, больно ударив Григория по ногам, кто-то произнес: — Спускайся вниз, да щупай ногами драбыну[160], не то свалишься.
— Я знаю, я много раз был в бункере у хлопцев. Я и раньше сам воевал с оружием. Я все расскажу вашему провидныку, — уже уверенным голосом произнес Мудрый.
В ответ молчание и постукивание по голове Григория сапогом сверху. Ноги ощутили поверхность пола, Мудрый сделал шаг в сторону и встал в ожидании. Спустившийся с ним вместе человек размотал с головы Григория чуть не задушившую его плащ-палатку.
— Друже, снимите с меня наручники, — попросил пленник.
В ответ снова молчание и, как показалось ему, нехорошая, злая усмешка. Только сейчас он смог рассмотреть лицо своего спасителя. Заросшее рыжеватой щетиной давно небритое лицо. Холодные, ничего не выражающие глаза, как будто приклеенная кривая усмешка. Одет, как обычно повстанцы, — сапоги поношенные, это и удобнее, чем новые, френч непонятного производства и военной принадлежности, но в хорошем виде, свитер легкий цвета зеленого под горло, опоясан крепкими широкими добротными ремнями, на которых в мешочках две гранаты, пистолет, нож, запасной диск от ППШ. Что-то торчит еще из голенища сапог. За спиной полупустой вещмешок, который тут же сбрасывается на пол и задвигается ногой под нары. Бункер обжит. На стенах висят какие-то пиджаки, гимнастерки, пучки сухих трав, лежаки покрыты овчинами и одеялами. Есть даже подушки. Пахнет чем-то кислым и вонючим. Через несколько минут, как это и бывает всегда, Григорий адаптируется к специфическим запахам бункера. Обычный жилой бункер. Даже опытный глаз бывалого оуновца Мудрого не выявляет ничего подозрительного. Они молча ждут появления провидныка. Тот появляется через час. Тяжело и грузно спускается в бункер, поддерживаемый снизу спутником Григория. Он медленно поворачивается к Григорию. За его спиной в бункер спускаются еще двое, один из них уже знакомый Григорию человек. На провидныке цивильный хорошего покроя темного сукна пиджак. Под пиджаком видна не очень свежая богато вышитая украинская сорочка. На нем армейские цвета хаки шерстяные галифе и почти новые хромовые офицерские советского производства сапоги. Это еще не старый, лет 45 мужчина, высокого роста с грузноватой плотной фигурой, с крупными чертами породистого лица и слегка вьющимися рыжеватыми не очень аккуратно подстриженными волосами. У него начальственный вид, он хорошо выбрит. Руки у него, не как у всех остальных хлопцев, чистые. Сразу видно, что это большой руководитель. Спустившийся следом за ним незнакомый Григорию оуновец держит в руках два автомата, один из них неизвестной Мудрому системы. Как выяснилось позже, это автомат провидныка. Тот делает знак рукой, человек ставит оба автомата в угол бункера, подходит к Григорию и ловко снимает с его рук наручники, открыв замок откуда-то появившимся у него в руке ключом. Кладет их на стол.
— Садись, — произносит провиднык и указывает Григорию место за стоящим на середине бункера столом. Сам садится напротив, рядом с ним размещается пришедший с ним человек, который кладет перед собой толстую большую тетрадь в клеточку в коленкоровом переплете. Извлекает из нагрудного кармана немецкую авторучку (такие ручки — «вечное перо» — Григорий видел во время войны у немецких офицеров и потом в лесу у некоторых провидныков) и делает первую запись наверху в правом углу тетради зелеными чернилами: «Дня 6.11.1953 г. Протокол допроса отбитого от большевиков Григория Мудрого, жителя села Диброва Дрогобычской области, начат в 8 утра по местному времени. Допрос осуществляет провиднык СБ».
И пошло-поехало. Всего за несколько часов было исписано восемнадцать страниц убористым почерком.
Мудрый подробно рассказал о своем пребывании в отряде УПА, легализации по решению подполья, о всех своих встречах с людьми Шувара и Игоря, о местах встреч и условиях этих встреч с боевиками Игоря, в общем обо всем том, что было крайне важно для ГБ. Что-то во время допроса все же показалось Григорию подозрительным и он, повернувшись к подсевшему рядом боевику, подвинулся незаметно к нему и принюхался. От человека исходил запах подземного помещения, а не тот, чужой для подпольщика запах одеколона, русских папирос, туалетного мыла, всех тех запахов, которые пронизывают человека, живущего нормальной жизнью в нормальных человеческих условиях. Нет, все было, как и должно было быть. Григорий продолжал спокойно давать показания. Он действительно оказался своим человеком для подполья и легко доказал это. Операция готовилась тщательно, опыт по этой части имелся предостаточный. Все участники «ЛБ» до запланированного дня проведения операции несколько дней просидели в бункере, вживаясь в нужную обстановку, впитывая в себя запах подземелья. Бункер состоял из двух помещений. Большой комнаты около десяти квадратных метров и маленькой, в два раза меньшей, с узкой дверью, которая была занавешена плащ-палаткой. В ней-то и находились руководитель опергруппы А. Г. Лихоузов и я. Мы внимательно вслушивались в происходящий допрос и по ходу его шепотом обменивались мнениями. Лихоузов считал целесообразным появиться в конце допроса, показать Мудрому удостоверения сотрудников ГБ и этапировать арестованного в Дрогобыч, где и допросить вторично уже официальными сотрудниками управления и в здании ГБ. Протоколы легендированной СБ и мероприятие «ЛБ» к официальному делу не пришьешь и в суде доказательными материалами они быть не могут. Я рекомендовал Александру Герасимовичу передопросить Мудрого тут же, в бункере, и получить подпись Мудрого на этих протоколах, что и явится основанием для получения санкции прокурора на его арест не за хулиганство, а за бандпособничество. А это большой срок и пребывание в лагере строгого режима. Не послушался Александр Герасимович менее опытного коллеги.
Как только мы вышли из своего укрытия и показались Мудрому, тот и не удивился, даже когда ему были предъявлены чекистские удостоверения. Он рассмеялся и совершенно неожиданно заявил:
— Знаю я нашу службу безопасности и ее возможности. Наши хлопцы все могут, все умеют и документы у них какие хочешь имеются. Вы мне не верите, проверяете, я прошу вас верить мне. Хотите, пойдем вместе на встречу с Игорем, и вы убедитесь, что я свой. Мне после убитых милиционеров дорога одна — снова в подполье. Я сам хочу этого.
Мудрого подняли на поверхность лазом из меньшего помещения и он очутился в той же хате, где несколько часов назад на его глазах происходило «убийство» милиционеров. Он увидел этих смеющихся «убитых», связал воедино в своей памяти события страшной ночи. Лицо его побледнело, глаза остекленели. Он был похож на тронутого умом человека. И сейчас еще было не поздно, не давая ему прийти в себя, оформить здесь же, в хате, с тем же стариком хозяином официальный протокол допроса, который бы подтвердил все сказанное им в бункере «СБ». Но дело было решено, на Мудрого вновь надели те же наручники и через час он находился в тюремной камере управления ГБ по Дрогобычской области. Был вечер 6 ноября 1953 года. Завтра праздник Великой Октябрьской социалистической Революции…
Специального следственного помещения в управлении ГБ Дрогобыча не было. Несколько небольших рабочих кабинетов, выделенных для допросов арестованных, не отвечали нужным требованиям. Табуретки к полу не прикручены, на столе тяжелые письменные приборы, в том числе и пресс-папье, чернильницы из знаменитого ходоровского мрамора. Начальство выделило для работы с арестованным местного оперработника старшего лейтенанта Чупова, старше меня на пару лет. Чупов работал в этих краях с 1944 года, свободно владел местным украинским наречием.
Как я и ожидал, Мудрый по дороге в тюрьму и в самой камере пришел в себя и через пару часов на первом же допросе полностью отказался от своих показаний «СБ» в бункере.
— Я испугался, мне хотелось жить, я все врал этим бандитам, никакого Игоря и его боевиков я не знаю. Это я все выдумал. Вы знаете, что я раньше был в ОУН, в лесу, давно вышел с повинной, все, что знал о хлопцах по тому времени, я рассказал следователю, когда несколько месяцев сидел в тюрьме, — повторял беспрерывно одно и то же Григорий.
— Твои показания тех лет никакой пользы органам не принесли — все твои знакомые по подполью были либо убиты, либо их местонахождение тебе было неизвестно. А вот что касается твоих последующих связей с подпольем, особенно сейчас, нам многое известно, но мы хотим, чтобы ты сам рассказал нам об этом и от правдивости и искренности чистосердечных и откровенных показаний зависит твоя судьба. Поможешь нам захватить Игоря, Шувара и их боевиков — советская власть освободит тебя от тюрьмы, не поможешь — осудит за бандпособничество и отправит в лагерь строгого режима, — твердили одно и то же со своей стороны я и Чупов.
Так продолжалось много часов подряд до вечера. После небольшого перерыва допрос возобновился и шел до утра с небольшими перерывами на «перекус» тут же вместе с Мудрым, который и в этой, казалось бы, располагающей ситуации на более откровенный, нужный нам контакт не шел. В коридоре сидели два солдата — автоматчика, сменявшиеся каждые четыре часа. Шли вторые сутки работы с Мудрым, а результаты нулевые. Вечером 7 ноября из дома Чупова сообщили, что его жена срочно прооперированна — внематочная беременность — и в тяжелом состоянии находится в больнице. Конечно же я отпустил своего товарища и остался один на один с Мудрым. Спать хотелось смертельно, засыпал и Григорий. «Нет, я тебе спать не дам, пока не подтвердишь то, что рассказывал нашей «ЛБ». Ты у меня заговоришь», — думал я про себя, с ненавистью глядя на сидевшего в углу на табурете упрямого хлопца. Обе стороны по-прежнему продолжали твердить одно и то же, придерживаясь каждая своей выработанной линии.
Тускло светит лампочка под маленьким металлическим абажуром на длинном электрошнуре, свисая с высокого четырехметрового потолка. Ночная тишина прерывается одними и теми же с разными интонациями вопросами, которые я задаю, сидя за письменным столом с тяжелым чернильным прибором. На мне военная форма с погонами лейтенанта, новенькая портупея с пистолетом ТТ. Я время от времени энергично трясу головой, чтобы прогнать наваливающийся сон. Мне монотонно и однообразно, как попугай, отвечает арестованный:
— Испугался я, в меня стреляли. Не знаю никаких хлопцев из леса, не видел я никогда Игоря. Все я придумал. Жить хотелось.
Он сидит, вцепившись руками в края грубо сколоченного табурета, и по моему требованию смотрит на меня. Белки его глаз покраснели от бессонницы. Веки сами опускаются, скрывая на две-три секунды кровавые глаза его. Тогда кажется, что на меня смотрят два незрячих глаза с бельмами — это закрывшие глаза светлые веки выделяются на потемневшем от грязи и пота небритом лице арестованного. У Мудрого большой с горбинкой тонкий нос и мне в затуманивающемся от усталости сознании арестованный представляется большой нахохлившейся птицей, забившейся в угол. Все плывет перед глазами. Я мучительно, концентрируя всю свою волю, борюсь со сном. «Если я сейчас не закрою хоть на секунду-другую глаза, я полностью отключусь», — думаю я, и не в состоянии удержаться, закрываю, как мне кажется, на две-три секунды слипающиеся веки. «Какое это наслаждение закрыть хоть на секунду глаза», — мелькает в моих уходящих во мглу мыслях. Боль в глазах, как от засыпанного в них песка, постепенно исчезает, и я проваливаюсь в небытие…
Какая-то неведомая, непонятная сила изнутри встряхивает меня. Я с трудом открываю так сладко слипшиеся веки и вижу стоящего перед столом Мудрого. Обе руки Григория лежат ладонями на краю стола. Рядом с тяжелым ходоровского мрамора чернильным прибором. Еще мгновение и он ударил бы меня этой мраморной штуковиной, взял пистолет, уложил автоматчиков в коридоре, а там пару метров по коридору, поворот налево и выход на улицу. Застрелить вахтера на выходе — пара пустяков. Еще пятьдесят метров — и парк, а там — свобода. Ушел бы Мудрый, — как-то совсем безразлично, с полной апатией прокручиваю все это в голове. Появление арестованного перед моим столом с явной угрозой для жизни кажется чем-то нереальным. Я одурел от бессонных двух последних ночей, напряженной работы, поэтому, наверное, не испытываю никакого чувства страха.
— Чего это ты встал и стоишь здесь? Чего хочешь? — спрашиваю я неестественно спокойным голосом.
— Пить хочу.
— Иди в угол, садись там.
Мудрый медленно поворачивается и бредет в свой угол. Я так же медленно поднимаюсь, подхожу к тумбочке, на которой стоит графин с водой и стаканы. Наполняю доверху один из них и протягиваю его к лицу арестованного.
Сколько я спал? Секунду, полчаса? Хорошо, что не опустил голову на стол. Голова гудит от усталости. Мысли путаются. «Еще пару часов, и я упаду», — мелькнуло у меня в голове. Решение приходит мгновенно. Я выглядываю в коридор. Солдаты с автоматами сидят и курят на длинной скамейке, поставленной к стене.
— Вы оба сейчас возьмите еще один письменный стол вот в этом кабинете, он открыт, внесите его ко мне. Сюда же занесите вашу скамью и сидите на ней, пока я посплю на столах. Спать арестованному не давать. Делайте с ним что хотите, но чтобы он не спал.
Не глядя на сидевшего в углу без движения Григория, я бросил на стол два ватника — свой и Чупова — и лег, не снимая сапог и укрывшись полушубком.
— Разбудите меня ровно через два часа, этого, как я сказал, тормошить беспрерывно, чтобы не спал, — бросил солдатам и провалился в сладкую тьму…
— Товарищ лейтенант, вставайте, время вышло. Дали бы вам еще поспать, да с этим вот невозможно дальше бороться. Спит, да и все тут.
Я посмотрел на Мудрого и ужаснулся. Вместо глаз у арестованного было два кровавых, как кусочки свежего мяса, крупных пятна. «Зачем все это? Ты же знаешь, — мысленно говорил я себе, — что этот человек ничего другого не скажет и помогать нам не будет. Тебе же ясно это. Остановись. Да, он бандит. Но и ты сейчас такой же зверь, как и он. Попадись ты ему, а не он тебе, болтался бы ты в петле. Но ведь ты коммунист, чекист. Почему ты мучаешь этого человека? Потому что он враг твоей страны, а значит, и твой враг? А ведь ты нарушаешь свою хваленую соцзаконность. Да, ты тоже мучился вместе с Мудрым, тоже не спал, но это все же пытка, пусть и поделенная на двоих. Твою совесть спасает только то, что ты, как и этот Мудрый, так же мучался. Но все же ты поспал почти два часа. Значит, ты все-таки подлец. Отпусти его в камеру. Пусть им занимается прокуратура, милиция».
— Вот, что я тебе скажу, Мудрый, — медленно процедил я сквозь зубы, стараясь уловить в смотрящих на меня кровавых кусочках вместо глаз хоть какое-то выражение. Солдаты с напряжением смотрели на меня. — Ты нам не нужен. Пусть тобой займется милиция, оформляет на тебя дело за хулиганство и избиение в драке односельчан. Получишь ты срок, обязательно получишь, и направят тебя в лагерь. Минимум три года получишь. Последний раз делаю тебе предложение — поможешь нам поймать банду или нет?
Мудрый молча смотрел на меня, и лицо его ничего не выражало. Он, наверное, сейчас настолько ненавидел меня и все со мной связанное в этом помещении и вокруг него, что был не в состоянии реагировать на слова стоящего перед ним врага.
— Тебя сегодня же переведут в милицию. Ты еще пожалеешь, что не стал помогать нам. Отведите его к дежурному и пусть его отправят в камеру, — и, набрав нужный номер, я попросил по телефону дежурного по управлению вызвать надзирателя тюрьмы, которому солдаты сдадут арестованного.
Больше я с Мудрым никогда не встречался и не интересовался судьбой этого человека, вовлеченного с моей помощью и участием в страшную круговерть, стоившую ему нескольких лет тюрьмы.
Что касается Игоря, то он, безусловно, сразу же был проинформирован своими людьми в Диброве об аресте за хулиганство Мудрого, естественно порвал все контакты, связанные с этим человеком, и, конечно же, ему впоследствии наверняка стало известно о проводившейся в отношении Мудрого этой легендированной под настоящую бандбоевку чекистской операции …
* * *
Работа по розыску Игоря, Шувара, Уляна и других, все еще не выявленных и действующих вооруженных отрядов и групп оуновских подпольщиков продолжалась. Все реже фиксировались переходы из района в район оуновцев, занимавшихся сбором и накоплением продуктов на зиму, все меньше поступало агентурных сигналов о появлении вооруженных людей в селах и на глухих хуторах — приближалась зима, а с ней спад работы и у чекистов, и у бандитов. Вновь наступало временное затишье. До весны. Поэтому особо радостным было появление в конце ноября рано утром в Ходоровском райотделе младшего лейтенанта Виктора Харченко. Виктор буквально ворвался в кабинет Червоненко, у которого проходило совещание, и прямо с порога почти закричал:
— У меня «грипс» от Игоря, я взял его у Зоотехника сегодня на рассвете!
«Грипс» передал Зоотехнику неизвестный ему человек вчера поздно вечером. Он сказал, что записка адресована лично ему, что ответа не надо, что записку принес незнакомый человек, который назвал пароль для связи. Этого связного Игоря наш агент видел впервые, да и всего-то несколько минут, обычный сельский вуйко, лет пятидесяти, роста среднего. В темноте во внешности этого человека Зоотехник ничего особого не заметил, но когда они прощались, выйдя из хаты на улицу, и закуривали, то при свете спички ему показалось, что у связного изуродована левая рука — нет мизинца и половины безымянного пальца. Больше Зоотехник ничего не смог рассказать о нем.
Все это Харченко с присвистом в застуженных легких выложил одним махом, тяжело вздохнул и широко и радостно улыбнулся присутствующим в кабинете Червоненко начальникам. С брезентового плаща Виктора, надетого поверх полушубка и покрытого тающей коркой наледи, сбегала на пол вода. Он тяжело дышал, вытирая платком струящиеся со лба и висков то ли растаявший снег, то ли струйки пота, и плохо гнущимися пальцами с грязными неухоженными ногтями пытался расстегнуть верхнюю пуговицу полушубка. Наконец, это ему удалось. Он размотал обвязанный в несколько слоев вокруг шеи шерстяной шарф и, держа его в одной руке, запустил вторую руку куда-то вглубь и, поковырявшись там, извлек серенького цвета бумажную трубочку — «грипс».
— Вот он, — радостно произнес Харченко и протянул этот бесценный маленький бумажный рулончик старшему здесь по положению и званию начальнику — майору Червоненко.
«Как это ему удалось пробежать за два часа почти двадцать километров в таких огромных валенках с галошами?» — подумал я, глядя с уважением на этого помощника оперуполномоченного, младшего лейтенанта, обслуживающего село, где жил и работал на колхозной ферме агент, находившийся у него на связи.
— Раздевайся, Виктор, садись. Раз записка направлена лично Зоотехнику без передачи по линии связи дальше и курьер не дал ему эту связь, значит «грипс» надо немедленно вскрыть. Кстати, почему ты с агентом не вскрыл там же на месте «грипс»?
— Так ведь, товарищ майор, у нас же было строгое указание Зоотехнику передавать нам «грипс» невскрытым. Такое было условие.
— А если там по тексту есть такое, что надо на месте принимать решение? Условия экстренной связи с агентом имеются? — повернувшись ко все еще стоявшему в луже от сбегавшей с его плаща воды Харченко, спросил майор.
— У меня с ним имеется договоренность на все случаи жизни. Я могу встретиться с Зоотехником в любое время суток, — ответил Харченко.
— Вот и хорошо. Садись на диван, отдыхай.
Харченко повесил на вешалку ППС и, с трудом стягивая с себя брезентовый плащ и полушубок, произнес:
— Товарищ майор, разрешите сначала в туалет, а то я так бежал, что и остановиться времени не было.
Все рассмеялись.
— Ладно, ладно, иди, мы пока займемся «грипсом». Ну, у кого пальцы ловкие? Возьмите ножницы. Наверно, у тебя, Супрун, лучше всех получится.
Заместитель Червоненко майор Супрун взял протянутые ему ножницы, подбросил непонятно зачем бумажную трубочку на ладони и, ловко поддев нитку, разрезал ее и медленно вытянул. Развернув сложенную в гармошку записку, он вопросительно взглянул на Червоненко, как бы молча спрашивая: «Читать или передать вам?»
— Читай вслух.
В коротком тексте «грипса» от Игоря говорилось, что в этом году они с агентом не увидятся, но обязательно встретятся весной следующего, о чем он предупредит заранее. Игорь в этой записке просил агента заготовленное для подполья сало, колбасу и смалец пока припрятать у себя до весны.
— Что будем делать, товарищи? — спросил присутствующих Червоненко и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Я думаю, надо сегодня же вернуть «грипс» адресату, сделать паузу до весны. Искать связника, принесшего записку от Игоря, хотя у него и имеются особые приметы — нет мизинца на левой руке, не будем. Точно засветим агента, упустим и на этот раз Игоря.
Присутствовавшие в кабинете сотрудники согласились с ним. Другого пути не было. Следовало ждать весны. Не сегодня-завтра Игорь засядет в бункер до весны.
— Следует, пожалуй, еще потренировать Зоотехника в стрельбе и в применении спецпрепаратов, — сказал кто-то из сидевших за столом.
— Наверное, это правильно. Харченко, — обратился Червоненко к уже сидевшему на диване Виктору, — организуй агенту нужную тренировку и еще раз проработай с ним срочные способы связи. И надо все-таки дать ему «Тревогу».
Неожиданно для всех майор Супрун мрачно произнес:
— А если Игорь или кто-то из его команды все-таки придет к Зоотехнику не сегодня-завтра или через несколько дней? До бункеровки еще может быть не одна неделя. Пройдет снег стороной, и будет Игорь гулять из села в село. Не исключаю, что этот «грипс» — очередная проверка нашего агента. Вот мы сидим сейчас здесь, а Игорь через людей своих ведет наблюдение за Зоотехником. Надо срочно вернуть ему «грипс» или, во всяком случае, ознакомить с содержанием и обязательно, пока не ляжет снег, организовать в доме агента засаду. Чтобы не было потом обидно за упущенный, пусть даже минимальный, шанс.
В кабинете воцарилось молчание.
— А ведь прав Супрун, — неожиданно для всех произнес обычно редко соглашавшийся с чужим мнением Червоненко. — Бандиты точно могут прийти к Зоотехнику…
…Тихо вокруг. Темнеет рано. Последняя неделя ноября выдалась на диво теплой, необычной для этого времени года и этих лет. Здешние старики говорят — быть скорому снегу. За густыми вишнями с облетевшей листвой, что стоят с фасадной стороны добротной хаты Зоотехника, невысокий тын. Вплотную к этому красивому и мастерски сплетенному сельскому забору стоит широкая и крепкая дубовая скамья. Скамья эта — гордость хозяев. Любят посидеть здесь и сами хозяева и соседи, и те, кто заглянет «на огонек» и живет неподалеку. Зоотехник — личность в селе авторитетная. Люди, зная его доброту и желание помочь при любой хвори, часто идут к нему как к врачу. К местной фельдшерице ходят реже, только разве освобождение от работы по болезни получить. На скамейке несколько человек — хозяин, соседи, всего человек пять. Курят. Говорят редко, перебрасываясь отдельными словами и фразами, но всем понятно, о чем идет речь. Все сидящие здесь на скамейке сельские мужики. Местных балагуров, как обычно бывает на селе, среди них нет. Беседа ведется на только им понятные темы, слова произносятся весомо, солидно, с достоинством, независимо от темы разговора — сугубо местная, колхозная, бытовая, касается событий районного или, как говорится, политико-глобального масштаба. Обычный, мужицкий разговор.
— Ты, Иван, блядюга, робы[161] и не оглядуйся, — произносит один из них, после чего наступает длинная пауза. Сказавший бранное слово — сосед хозяина по имени Иван, как потом мне рассказал Зоотехник, уже пожилой селянин по местному прозвищу «кацап» или «москаль». Никакого отношения ни к тому, ни к другому, он, конечно же, не имеет. Матерные слова появились в изобилии у него в речи после прихода из армии, где он прослужил до 1947 года, попав в нее по мобилизации в 1944 году, а затем по вербовке сразу же уехал работать на Донбасс и вернулся в родные края только через несколько лет. Что касается «кацапа», «москаля», то эти сельские клички его семья носит более сотни лет, когда русский солдат лечился от ран в этом селе во время одного из походов русской армии да и остался навсегда здесь, женившись на украинской дивчине. С тех пор так и говорили в этом селе: рядом с хатой, где живет «москаль» (или «кацап»), спроси у «кацапа». И кстати, предки «москаля» — Ивана происходили якобы из Курской губернии. Вот и жди после этого «зов» крови. Кроме мата в лексиконе Ивана русских слов почти не было…
— Да, я и говорю — робы, Иван, — еще раз произносит вуйко по имени Иван и снова замолкает.
— А евреи будут жить, — после долгой паузы совсем неожиданно произносит кто-то из сидящих, и вновь тишина, которую через несколько минут нарушает хозяин:
— Тут вы не правы, мужики. Михалыч хороший человек, у него все по совести. Он хоть и еврей, а делает все честно. Вон посмотри, как он выбракованную худобу[162] оценивает. И колхозу хорошо, а значит, и державе, и селянину, если тот сдает ему скотину на мясозаготовки. Все по совести оценивает и делает. Не-е-ет, не все евреи погани[163]. Наш Вайсбайн настоящий человек, никогда селянина не обидит…
И снова снаружи тишина. Я догадываюсь, о ком идет речь. Вайсман Соломон Моисеевич — в селах, естественно, его зовут Семеном Михайловичем, работает в конторе «Райзаготскот» и ведет закупку скота для мясокомбината в селах района. Он ничем не отличается от местных жителей — украинцев, даже внешне, его родной язык украинский. Он родился и вырос в соседнем крупном селе, половина которого напоминает еврейское местечко — много там евреев жило. В Западной Украине еврейских погромов практически не было. Ни поляки, ни местные украинцы евреев не обижали. Ну какое село польское или украинское могло быть без корчмы? Только у еврея и можно было выпить с горя или радости в долг что украинцу, что поляку. С приходом немцев в 1941 году, как только прокатилась молва, что забирают немцы евреев в концлагеря и расстреливают, ушли евреи, кто мог, в леса, жили там лагерями, но не партизанили, хотя многие имели оружие для самообороны. Иногда нападали на немецкие продовольственные обозы, но только с целью захвата любого годного провианта. Так и жили в лесах со своим домашним скарбом и коровами, ожидая, чем эта война кончится. Некоторые, особенно молодежь, присоединялись к советским партизанам. Но что самое удивительное, в оуновском подполье тоже было несколько евреев — врачей. Как они туда попали — добровольно, чтобы бороться против Советов за «самостийную, независимую соборную Украину», или были насильно уведены в лес как врачи — никому не известно. Наверное, все-таки больше правды во втором варианте. Но документы того времени свидетельствуют, что при ликвидации оуновцев в трех разных бункерах были обнаружены трое евреев, покончивших с собой вместе с находившимися там же повстанцами, известных местному населению как врачи, поддерживающие связь с оуновским подпольем и оказывавшие раненым бандеровцам медицинскую помощь. Конечно, более логично предполагать, что их ликвидировали вместе с собой окруженные в бункере оуновцы…
На украинском языке, самом близком к русскому, «еврей» — это «жид». Слово это, часто произносимое внизу на скамейке у хаты, коробит мой слух. Для меня слово «жид» звучит оскорбительно и унизительно. Я интернационалист и искренне верю, что все люди братья. Мне безразличен цвет кожи, форма черепа, носа и ушей. Если человек одной с тобой марксистско-ленинской идеологии — он твой друг и брат. Я не представляю жизнь украинцев в Украине без евреев. Я сам вырос вместе с евреями, меня не коробит от контактов и дружбы с ними. Я воспринимаю их как равных себе, ничем не выделяя.
Но я никогда не забывал историю с Радиком Ярошевским, относя ее к дремучему буржуазно-капиталистическому прошлому, как к «родимому пятну проклятого капитализма», и был глубоко убежден, что тогда произошла какая-то ошибка, которую, конечно же, поправят — не более того. Если бы я мог заглянуть в будущее, в 60–80-е годы, меня бы поразил размах антисемитизма в стране коммунистических идеалов. Пожалуй, его следовало бы назвать официальным, тщательно маскируемым демагогическими заявлениями о всеобщем равенстве и братстве. «Нет, Павел Заворотько знал, что он говорит: «Что это вы, хлопцы, за какого-то еврея просите. Вы что, не знаете указания партии?»
«Да какой у нас антисемитизм! У нас в правительстве евреи работают. Товарищ Дымшиц[164], например», — говаривал Никита Сергеевич Хрущев.
Да, письменных указаний как по линии партии, так и правительства наверняка не было. Надо полагать, были устные рекомендации и сложившаяся практика. Уже в отставке, в 80-е годы, я, будучи секретарем парткома солидного академического научного учреждения, столкнулся с безобразным, порочащим коммуниста поступком, когда начальник отдела кадров, тоже, кстати, бывший чекист, просил меня отозвать согласие парткома на оформлявшегося на работу человека только потому, что он еврей. Этого еврея, правда, действительно не приняли на работу, но по причине невостребованности его специальности. Пришлось парторгу прочитать бывшему сотруднику управления кадров КГБ Союза, как ни прискорбно это говорить, поучительную лекцию о евреях Марксе и Свердлове. Этот же коммунист-кадровик имел партийную нагрузку — вел политзанятия с комсомольцами. Приходят как-то несколько девушек комсомолок ко мне с вопросом: «Пал Палыч (указанный выше кадровик) говорил нам на семинаре, что измена мужа жене и наоборот приводит к измене Родине. Нам с этим трудно согласиться. Вы можете нам пояснить как-то слова руководителя семинара?» Пришлось комсомолкам прочесть короткую лекцию со ссылкой на основоположников, показать некоторую, прямо скажем, существенную разницу между этими понятиями измен и защитить, в рамках, руководителя семинара. Он член партии с войны, человек старой закалки, своих убеждений, безусловно, был неудачный политический воспитатель молодежи. Пришлось его «ласково», тихонечко отвести от пропагандистской работы, не делая при этом ненужной, в чем я был уверен, огласки.
Мне было известно, не только по рассказам старых чекистов, но и по документам, что в органах госбезопасности в 30-е и 40-е годы, как и еще раньше, в ЧК работало много евреев. Их и сейчас много в правительстве, в правительственных учреждениях, на других руководящих постах советской и постсоветской власти. Выступление еврейской стороны против браков с другими нациями было мне более или менее понятно: «нас преследуют, топчут, и нечего нам общаться с изгоями». Но я не мог понять русских или украинцев, резко выступавших против браков с евреями. В этой связи я часто вспоминаю историю с Юркой Калиновским, о чем я уже упоминал выше, когда его мать, уважаемый профессор, зав. кафедрой одного из лучших университетов страны, коммунист, проклинала свою невестку — чувашку Зину. Я неоднократно сталкивался с дремучим русским шовинизмом и махровым российским антисемитизмом. Я и сегодня уверен, что это со временем исчезнет само собой…
Ядреный махорочный дым вперемежку с папиросным «Беломором», который курит Зоотехник, идет под соломенную крышу, где на чердаке чекистская засада ждет Игоря. У нас РПД, солдаты ласково называют его «ручником» или «дегтярем», установленный в направлении вероятного появления хлопцев и широкий сектор обстрела, под который попадают все хозяйственные дворовые постройки и большая часть огорода. Именно оттуда и ждут Игоря, со стороны леса. Четыре автомата и две ракетницы лежат рядом со сделанными в соломенной крыше отверстиями, закрываемые на день той же соломой. Чекистов пятеро — два офицера и три опытных солдата. Курить нельзя. Это самое мучительное. «Вот уж действительно уши пухнут», — думаю я. Курить хочется до безумия, до головной боли. У офицеров с собой конфеты-подушечки. Их можно долго каждую сосать и от этого меньше хочется курить. Но это только кажется, потому что курить мне от этих конфет хочется еще больше. Разговариваем шепотом, и то по делу, то есть очень редко. Наблюдение за наружной обстановкой и получением сигнала от хозяев ночью — звук «случайного» удара ногой о ведро — ведется всеми по очереди. Кроме курева есть еще один враг для сидящих в засаде. Туалет — ведро в одном из углов чердака, занавешенное плащ-палаткой. От консервов и колбасы погранпайка, от отсутствия движения на вторые сутки «запирает» напрочь. Все мучаются, но вида не показывают. Я вспоминаю, как однажды вот так же моему товарищу, тужившемуся на ведре через несколько дней засады, опытный старшина — фронтовик протянул за плащ-палатку «бомбочку» из серого солдатского мыла: «Лейтенант, вставь куда надо, все выскочит, мы так на фронте делали». Через пару минут действительно помогло.
Утром хозяйка меняет ведро. Все воспринимается серьезно, как на войне…
Разговоры внизу у мужиков переходят на колхозно-сельскохозяйственные темы. Говорят о низком в этом году урожае, о маленьких трудоднях, на которые без подсобного хозяйства не прожить. Кто-то задает хозяину хаты, недавно выезжавшему к родственникам в Польшу, вопрос, а как там селяне живут. На это Зоотехник отвечает, что в принципе так же, как и здесь, но немного лучше. Там у них в Польше бимбера[165] больше гонят, и он по качеству лучше. Его из сахара делают поляки. Скотины у поляков больше.
Постепенно все приходят к выводу, что везде лучше, чем у нас. Но никаких разъяснений по этому вопросу — что, как и почему именно так — никто не делает. Народ осторожный, лишнего слова не скажет. Меня всегда поражала философская и мудрая направленность мысли этих простых, необразованных сельских вуек. «За что же им, всем этим хлеборобам с изуродованными от тяжкого крестьянского труда руками, муки-то такие, — думаю я. — Когда же мы дадим им настоящую человеческую нормальную жизнь?» Я постепенно засыпаю, угревшись под теплым полушубком, на толстом слое соломы, которую заботливые хозяева специально затащили на чердак. Проснулся от затекшей ноги в неснятом сапоге. С улицы тихо доносятся напеваемые молодыми голосами песни. Одна песня сменяет другую. В чистом и уже начинающем набирать осеннюю прохладу воздухе отчетливо слышны и слова, и мелодии. Вот чей-то чистый, с бархатистым звучанием девичий голос выводит красивую мелодию и такие всем понятные и ласковые слова:
…Мiсяц на небi, зiроньки сяють, Тихо по морю човен пливе. В човнi дiвчина пiсню спиваэ… …Все про кохания, все про любов.Этот же голос начинает вторую песню, такую же красивую и тоже про любовь:
…Нiч яка мiсячна, зоряна ясная, …Я пригорну тебе до свого серденька, А воно палке, мов жар.Мы на чердаке внимательно вслушиваемся в доносящиеся до нас звуки чудесных украинских песен, и неродной язык становится для нас не только понятным, но и близким, родным, потому что песни эти про любовь. После короткой паузы чей-то хорошо поставленный голос начинает веселую песню, ее подхватывает несколько голосов, и она несется над селом, наполняя окрестности чувством радости и спокойной жизни:
…Я прийшов — тебе нема, Пiдманула, пiдвела. Ти ж мене пiдманула, Ти ж мене пiдвела. Ти ж мене, молодого З ума-розума звела!И еще были всякие песни: и про Василько, который «…сiно косить, сiно косить, коню носить». И про Галю, которую казаки «пiдманули и забрали з собою». И такие слова в той песне были: «…Поiдь, Галю, з нами, з нами, козаками, буде тобi лучче, як в рiднойi мами…» Слушали русские парни на чердаке, как «…привязали Галю до сосны косами…» А потом эти казаки, что Галю в темный лес увезли, насобирали там хворосту да и подпалили ту сосну, с привязанной к ней Галей. Горит Галя, кричит, зовет на помощь. И кончается эта красивая песня призывом ко всем матерям: «… А хто дочок маэ, нехай научаэ, темненькоi ночi гулять не пускаэ…»
«Надо же, — думаю я под теплым полушубком, — такая красивая и ласковая песня, а дивчину казаки живьем спалили. Вот тебе и украинская мягкость и лирика, вот тебе и любовь к женщине! А при чем здесь украинцы? — снова мелькает мысль. — Ведь и у русских есть такая же, в общем-то, злая песня, где Стенька Разин, разбойный атаман, насладился пленной дивчиной, красавицей персиянкой, а утром под пьяные и одобрительные крики ватажка своего бросил персидскую княжну в Волгу-речку, «в набежавшую волну», да еще и отметил это безобразие — «грянем песню удалую за помин ее души». Не променял Стенька Разин любовь к княжне на интересы ватаги разбойников. Стойкий, наверное, был казак Разин, как и те украинские казаки, что привязали Галю косами к сосне и сожгли.
На память приходит удивившая меня история, случившаяся недавним летом, когда я ночевал в глухом селе на Тернопольщине как раз в районе Синей Горки, в тех местах, где в 1916 году проходил знаменитый Брусиловский прорыв и где до сих пор сохранились проложенные Брусиловым для прохода артиллерии дороги — гати из бревен через болота. Проснулись мы рано утром с товарищем на печи от звуков песни. Пела женщина, да так чисто по-русски, без акцента пропела всю песню длинную до конца, что показалось это сном. А пела, стирая белье в ночве[166] хозяйка хаты, пожилая женщина: «… Ой да по речке, речке да Таганке, черный да селезень плывет…» Мы и спрашиваем хозяйку:
— Откуда же вы эту песню русскую знаете?
— А у нас здесь в шестнадцатом московские казаки стояли, я и научилась этой песне. Хорошие были хлопцы московские, — улыбаясь чему-то, наверное, очень приятному, ответила эта уже немолодая женщина.
— Сколько ж вам тогда годков-то было?
Да лет семнадцать, может, восемнадцать, — ответила хозяйка и снова улыбнулась той загадочной женской улыбкой, трактовать которую независимо от женского возраста можно по-разному.
«Самое время для девичьей любви», — подумал я и представил себе эту пожилую тетку молодой, статной и красивой, с черной косой до пояса, со сверкающими таинственным блеском глазами, в которых тогда, наверное, бесенята прыгали, в окружении чуть постарше ее, но в общем-то таких же молодых русских парней, которые, я был в этом уверен, не видели разницы между их русскими подружками и украинскими девчатами…
«Какой же все-таки философско-умный народ эти селяне. Как они красиво просто и мудро дают оценки происходящему, как интересно рассуждают. В их словах и мыслях нет фальши, все просто, ясно, ничего наносного. Они искренни, как дети. Конечно, хитринка чувствуется. Говорят, русские мужики-селяне более прямолинейны, грубоватее, что ли. Быть немного с хитрецой, очень даже украшает украинца. Наверное, это национальная черта. Вообще люди, связанные с землей, чище и благороднее рабочего мужика», — думалось мне…
На пятый день засады неожиданно резко похолодало и повалил густой снег, покрывший за ночь всю округу. Снегопад продолжался и днем. Стало ясно, что Игорь по этому адресу не придет…
Работа по поиску группы Игоря продолжалась. Были взяты в активную разработку все его старые связи. На Волыни и Львовщине, во всех тех регионах, где мог укрыться на зиму Игорь со своими людьми, лежал снег. Конечно, он мог быть и в схроне у кого-либо из своих людей в селах непосредственно в хате или любой дворовой постройке. Такое тоже бывало. Но у кого, где? За последние недели не поступило ни одного сообщения от многочисленной агентуры. Ни одной зацепки, ни одного хоть маленького, дающего какую-то надежду, сигнала. Разведовательно-поисковые группы продолжали методично обрабатывать села и хутора, надеясь обнаружить укрытие Игоря. Никаких следов. Ничего. Пусто. Как сквозь землю провалилась банда…
* * *
…В бункере, рассчитанном, в общем-то, на одного человека, от силы — двоих, сидели на низких нарах, тесно прижавшись друг к другу, трое здоровенных молодых хлопцев, упираясь коленями в стол, сколоченный из таких же жердей, что и нары. Все трое сосредоточенно смотрели на дергающееся от недостатка кислорода пламя керосиновой лампы. Молчали. Наконец, один из них, значительно старше по возрасту, сказал:
— Кончаем наши разговоры, подведем итоги, и я объявлю вам свое решение.
Если бы час назад здесь незримо присутствовал сторонний наблюдатель, он стал бы свидетелем горячих споров. Один из молодых людей убежденно доказывал.
— Не можем мы, хлопцы, бросить товарища в беде. Ну и что из того, что он болен. С каждым такое может статься. Может, он выздоровеет, если мы рискнем оставить его на зиму у надежных людей. Может, успеем договориться со старухой Мотрей Федиш, что в Пидднистрянах. Схрон у нее имеется. Хорошая крыивка, сухая. Я там раза два укрывался. Корова у старой есть, даже две козы. Говорят же люди, да и сам от лекаря слыхал, что козье молоко очень даже при туберкулезе помогает. Вдруг выздоровеет наш друг Грицько. Дозвольте, друже провиднык. Я сегодня же, если разрешите, выйду в путь. Успею обернуться за день-два. Договорюсь со старой и Грицька переведу до нее. Дозвольте, — умоляющим голосом закончил свою жаркую речь сидевший еще через одного хлопца от провидныка крепыш с рыжеватым и давно не мытым чубом. Его почерневшие от въевшейся грязи руки с обкусанными ногтями нервно сжимались в кулаки.
«Чего это он так разнервничался, наш друже Стефко?», — подумал тот, к кому обращался рыжеватый крепыш, а тот вновь, повернувшись к старшему, неожиданно произнес:
— Я прошу тебя, Степан, очень прошу все сделать, чтобы спасти Грицька. У него же мать, сестры в Сибири, тетки, вся родына[167] вывезена в другие области Украины. Они же ждут его живого. Ты ведь сам нам всегда говоришь, что скоро, очень скоро американцы пойдут войной на большевиков. Скоро им конец. Может, и мы все живые останемся. Ты же сам учишь нас стойкости и мужеству, драться до конца. Ты сам говорил, что борьба с болезнью, за свое здоровье, это тоже бой с большевиками.
Стефко замолчал, но продолжал смотреть в сторону провидныка. Тот медленно поднял голову и, повернувшись в сторону Стефка, произнес тихо, растянуто и четко:
— Кто тебе дал право, друже Стефко, вот так обращаться ко мне? Ты нарушаешь элементарную дисциплину подполья. Мы ведем официальный разговор о судьбе нашего товарища, а не сидим у костра и балакаем о девчатах. Обратись ко мне как положено.
— Извините, друже провиднык, — мрачно ответил Стефко и отвел глаза от сверлящего и, казалось, пронизывающего насквозь взгляда Игоря.
«Дорого бы я дал, чтобы прочитать мысли Стефка. Что там у него сейчас в голове, о чем думает в действительности, чего хочет этот хлопчик, вдруг проявивший такую настойчивость и участие в судьбе Грицька? Почему он так хлопочет за него? Может быть, только из-за того, что они односельчане?»
Игорь много лет знал Стефка. Был с ним в нескольких рейдах. Видел его, и не раз, в бою. Смелый хлопец. Игорь был очевидцем однажды, когда Стефко подполз под сумасшедшим огнем красных к пулемету и ловким броском гранаты уничтожил его, обеспечив тем самым захват села, где засели большевики. Хорошо запомнил он Стефка и во время допросов предателей и большевиков. Это был преданный подполью боец. Он не знал жалости к врагам, он весь был заряжен украинской национальной идеей, как и сам он, Игорь. Вспомнил Игорь и то, что Стефко дважды бункеровался вместе с Грицьком и другими погибшими в разное время его боевиками. Он, Игорь, знал, как сближают эти долгие зимние месяцы, где день отличается от ночи только светом керосиновой лампы или свечи. Знал по себе, до чего муторно становилось от терзавшей душу могильной тишины, прерываемой чьим-то храпом, стонами или криками от тяжелых и кровавых снов. Он вспомнил, как Стефко внимательно и заботливо относился к заболевшему Грицьку, как просил его помочь в организации поездки во Львов к врачу, и интуитивно почувствовал возникшую опасность для себя и более верного ему, в этом он был уверен, Романа. Он понял и другое: у него не будет моральных сил самому ликвидировать больного Грицька. Решение, как это бывало всегда с Игорем, пришло неожиданно, и он облегченно вздохнул.
— Вот что, друже. Сегодня же пойдешь к старой Мотре и договоришься от моего имени спрятать у нее Грицька и лечить его как положено — покоем, теплом, молоком, медом, травами. Она это умеет. Тебя, друже, я направлю до хаты моего надежного человека, вы его оба знаете. Это Осип Марущак и его жинка Ганна. Оба сына погибли в нашем отряде в бою в 1948 году. Эти люди работают на подполье много лет. Я их хорошо знаю и верю им. Получишь от меня пароль и сегодня же свяжешься с ними. Да ты их знаешь, как и они тебя. Пойдешь к ним после разговора со старухой. Кстати, проверишь у нее состояние схрона. У Марущаков тоже есть схрон, и тоже на одного человека. Я там укрывался несколько раз. Кроме меня это сховище никому не известно. Кто знал, тот давно погиб. Так что все надежно. Скажешь, что я просил укрыть тебя на зиму, но с условием, чтобы Осип или Ганна раз в неделю по очереди и очень осторожно получали информацию о здоровье Грицька. В случае чего сама старая придет к Марущакам. Найдет предлог и возможность. Что касается вас, друже Стефко, — переходя на совсем уже официальный тон, продолжал Игорь, — то вас в Пидднестрянах знают, там у вас родычи живут, поэтому из крыивки у Марущаков носа не высовывать. Иначе конец. В Пидднестрянах почти все жители побывали в руках НКВД. Это очень опасно. Увидят, узнают — донесут. Все село чекисты перевернут.
— Друже провиднык, а как же мне быть с керосином? Наверняка ни у старухи Мотрены, ни у Марущаков керосина нет для бункера. Это подозрительно будет, если они станут для себя больше керосина покупать. Знаете ж, как селяне для себя мало керосина покупают.
— Хорошо, возьми свой бачок, — и Игорь указал на стоявший в углу бункера яркой, красочной раскраски пятилитровый четырехугольный жестяной бидон довоенного польского производства, предназначавшийся для транспортировки и хранения керосина. — Перелей керосин в бутылки, там остатки. Посети сегодня же и наших людей и договорись с ними о керосине. Деньги для Марущаков, Мотри и людям за керосин я тебе дам.
Обговорив некоторые детали предстоящей зимы и способы связи на весну, Стефко стал быстро собираться в дорогу. За оставшиеся десять — двенадцать часов темного времени ему многое предстояло сделать. Игорь строго предупредил его — с Грицьком вместе в бункере не оставаться. Можно заразиться и заболеть.
Все это время сидевший рядом Роман не проронил ни слова, молча наблюдая за лихорадочными сборами Стефка. Вскоре Стефко, снарядив и проверив свой ППШ, взяв запасной диск, пистолет, засунув в карман две гранаты, встал перед Игорем и Романом, как бы испрашивая у своего командира разрешения на выход. Игорь молча кивнул.
Стефко, закинув вместе с автоматом за плечи мешок с нехитрым своим скарбом и держа в руке жестяной, уже пустой бидон, стал подниматься по лестнице из бункера на выход. Вслед за ним поднялись его товарищи. Молча постояли, вслушиваясь в лесные шумы. Вокруг все было спокойно. Осенний лес продолжал жить своей жизнью. Бесшумно падала пожелтевшая листва с уже изрядно потерявших свой покров деревьев, тихо поскрипывали от легкого ветерка могучие стволы высоких сосен, торчащих как сторожевые вышки в окружении своих лиственных собратьев. Когда-то в этой части лес был сплошной сосняк, вырубленный в 20-е годы поляками. Остались нетронутыми выбракованные сосны, буки и грабы, березы и дубки, заполнившие вырубку густым подлеском. Схрон находился у основания высокой сосны с развесистым, как вытянутая человеческая рука, большим суком, который и служил надежным ориентиром. Не ошибешься. Сразу найдешь на незнакомой местности. Зато подходы к бункеру были труднопроходимыми — молодой березняк и дубки создавали надежную защиту от постороннего взгляда. Рядом с люком, находящимся в двух метрах от основания сосны между крупными корневищами, была небольшая лужайка, где можно было, оставаясь незамеченным, отдыхать. Расторопные боевики Игоря пару лет назад выкопали запасной и тщательно замаскированный выход за пределами окружавших сосну березок и дубков, что давало возможность в случае обнаружения бункера прорваться и уйти в лес. Так, во всяком случае, думали и были в этом уверены те, кто строил убежище.
— Ну, добре, — нарушил первым тишину Игорь, — ступай, друже, — и протянул Стефку руку. — До встречи, до весны. Сами дадим о себе знать. Сюда больше не приходи и Грицька не приводи. Пока сам обустроишься, пройдет пару дней. Снег может упасть. Опасно станет переходить. Да и расстояние приличное. Пока дойдешь — три часа. А то и больше. Поэтому договариваемся до весны. Все. Иди.
Совсем неожиданно для своих боевиков и себя Игорь тихо произнес:
— Ты не обижайся на меня, Илько. — Впервые за последнее время он назвал Стефка его настоящим, данным матерью и отцом, именем. — Мы с тобой бойцы УПА, революционеры. У нас должна быть всегда и везде железная дисциплина. Иначе пропадем. Я уверен, ждать осталось недолго. Весь западный мир готов воевать с большевиками. Весной установим связь с Шуваром и все вместе уйдем на Запад. Грицько подлечится, я уверен.
Игорь протянул Стефку руку. Последние лучи заходящего солнца, отбрасывая свет от ярко-желтого ствола сосны, падали на лица стоявших у люка хлопцев. Строгие черты сурового лица провидныка помягчели, жесткие, безжалостные глаза его, чем-то напоминавшие холодные глаза хищной птицы, потеплели. Лицо приняло выражение глубоко уставшего человека. Стоявший перед ним и все еще державший руку Игоря в своей руке Илько-Стефко ответил дрогнувшим голосом:
— Не беспокойтесь, друже Игорь, я все выполню, как вы сказали, — и, повернувшись к Роману, протянул ему руку. Тот безучастно ответил слабым рукопожатием. Четко повернувшись, как перед военным строем, Стефко бесшумно растворился в кустарнике.
Оставшиеся на поляне двое какое-то время стояли у входа в бункер, покурили и медленно, как две могильные тени из преисподней, исчезли в черном зеве плотно закрывшегося за ними люка. На лес опускалась ранняя, осенняя ночь…
* * *
Стефко быстро двигался в полной темноте по лесу, ориентируясь в нем чутьем человека-зверя, привыкшего всегда быть начеку, отовсюду ждать внезапную опасность, исходящую, прежде всего от такого же, как и он, человека-зверя. Он и сам чувствовал себя зверем в лесу, самом надежном для него убежище. Покинув бункер и оставив там товарища и того, кому он еще повиновался — надрайонного провидныка СБ Игоря — он внезапно ощутил чувство какой-то облегченности, не понимая еще, что намерения и действия его были подсознательны. Стефко, с его четырехклассным образованием в сельской школе при поляках, а затем большим перерывом в учебе и последующими двумя годами посещения новой советской школы в 1939 году, не имел никакого представления о психической деятельности человека, об инстинктах самосохранения, о науке логике и вообще о всех тех премудростях образованного человека, которому доступна научно-аргументированная обоснованность его поступков, в том числе и таких, которые четко и ясно ведут к конкретным действиям, направленным на сохранение самого существования человека. Нет, он еще не чувствовал себя предателем идеи и подполья, нарушившим присягу УПА и своего последнего командира — Игоря. Пока он чувствовал непонятное ему облегчение. Он впервые нарушил указание и рекомендации командира. Он не пошел в село, ноги сами несли его в тот район далекого леса, где в бункере умирал единственный оставшийся в его жизни близкий человек — друг его и товарищ по подполью — Грицько. Он еще раньше почувствовал, что Игорь перестал интересоваться Грицьком, не стал доставать ему лекарства, хорошие и так нужные для больного продукты. Последний раз они были у Грицька почти месяц назад. Лето кончалось. Стояли сухие, погожие последние летние дни, и Грицько чувствовал себя намного лучше, чем в весенние дни и в начале лета. Стал меньше кашлять и надеялся на улучшение. Что с ним сейчас? Наступила осень, прошли первые холодные дожди. Бункер у него не для такого больного. А самое страшное — Грицько один. Все это может плохо кончиться. Стефко не мог объяснить себе, почему он так рвется к умирающему Грицьку. Несколько дней назад он случайно подслушал разговор шепотом Игоря с Романом. «…я только тебе это скажу, Иван, дела у Грицька плохие. Я знал таких больных. В такой ситуации мы не можем рисковать и разрешить ему выйти с повинной. Даже при хорошей легенде ему не поверят. Он выдаст нас большевикам. Пусть уж лучше умрет в бункере, а не в тюрьме или лагере. Ты присматривай за Стефком, чтобы он глупостей не наделал. Наше счастье, что Грицько не знает этот бункер. На всякий случай у меня есть еще один схрон, там и продукты имеются на первое время. Надо будет, мы отсюда часть заберем. Есть у меня и надежные люди в селах. Я пока о них не говорил. Это на самый крайний случай. Нам бы до весны продержаться, а там обязательно свяжемся с Шуваром, через него с Лемишем. Уж он-то выведет нас на Запад. Я уверен, Лемиш через эмиссаров и сегодня поддерживает связь с Западом…» И еще уловил Стефко: «Продуктов у нас сейчас маловато, до весны втроем вряд ли продержимся, не хватит запасов. Если будет затяжная весна — придется выходить наверх, в село идти. Дай бог нам раннюю весну…»
Стефко не шел — бежал лесом, так хотелось ему как можно быстрее увидеть Грицька, узнать, что он еще живой. Вот он знакомый ручей. Ласково и успокаивающе журчит. Стефко приседает на корточки, снимает с себя мешок и автомат. Осторожно кладет его рядом с собой, затем почему-то опускается на колени и, вытянув перед собой руки, делает на коленях несколько движений вперед по направлению к журчащей воде. Он не понимает, зачем он это делает. Пить ему не хочется. Вот ладони касаются холодных струй, он погружает их в воду, стряхивает и прикладывает к горящим щекам и лбу. Так он проделывает несколько раз, и возникшее в нем необъяснимое волнение начинает утихать.
«Если Олекса живой, я должен что-то сделать, и немедленно», — билось в голове у Стефка. Он редко называл Грицька его настоящим именем, только когда они оставались вдвоем. Но последние недели, особенно последние несколько дней Грицько не выходил у него из головы. От ручья до бункера с Грицьком минуты две-три ходу, совсем рядом, метров 150–200. Успокоившийся и пришедший в себя Стефко медленно поднимается с колен, вешает ремень автомата на шею и по партизанской привычке внимательно вслушивается в ночь. Сейчас он похож на лося, который готов сделать первый шаг, но как зверь он живет природным инстинктом и чувствует, обязан чувствовать опасность вокруг и, прежде чем сделать первый шаг, должен убедиться, что опасности впереди нет. Все спокойно вокруг. От легкого ветра, уже наполненного осенней сыростью, тихо шелестит еще не облетевшая полностью листва. Лес дышит ночными звуками тихо падающих листьев, никому не понятными лесными еле слышными шорохами, которые не таят в себе опасность. То ли еж, ночной зверь, уютно умащивается в заполненной опавшим листом ямке на зимовку, а может быть, барсук, нагулявший жирок за долгое лето, лезет в свою нору. А может быть, тоже ночная зверушка ласка, обживая свое зимнее жилище, вышла на ночную охоту. Много ночных шорохов лес производит, но эти, принадлежащие только ему, лесу, ночные шумы не должны пугать самого страшного на земле зверя — человека.
Стефко почти бесшумно движется по лесу, раздвигает руками, только чутьем угадывая, ветки кустарника и точно выходит к бункеру. Вот он камень-валун, к которому сразу же прикасаются как к старому другу руки Стефка. Валун влажный от лесного тумана. В трех метрах от валуна в сторону неглубокого оврага люк. Стефко условным стуком рукоятки ножа дает знать Грицьку, что здесь, наверху, свои. Вскоре в ночи звучит свистящий, с хрипотцой шепот друга, приподнявшего люк: «Кто здесь?» «Это я — Илько», — сразу же называет себя Стефко и делает шаг в сторону голоса. Грицько откидывает крышку люка, что слышно по мягкому и глухому звуку, поднимается на поверхность. Оба прикасаются руками друг к другу. Грицько ощупывает своего друга Илько-Стефка. Олекса стоит перед Стефком в одной рубахе, оружия с ним нет. Знает, что свой наверху знак подавал. Но все равно это нарушение правил подполья — оружие всегда нужно иметь при себе, пусть это будет пистолет, но он должен быть обязательно при подпольщике. Илько замечает, что Олексу лихорадит. В лесу холодно и сыро.
— Давай спустимся в крыивку, — первым произносит Илько. — Тебя может продуть здорово здесь, наверху. Не дай бог, хуже станет. Как дела твои?
Олекса не отвечает. Где-то не больше метра от них еле различимое от слабого света свечи желтеющее пятно пробивающегося из-под земли света. Он первым спускается вниз по отвесной короткой лестнице из лесин. За ним следует Стефко, держа автомат над головой. Мягко и неслышно опускает крышку люка. Он вешает автомат на торчащий из обшитой лозой стены прочно вбитый массивный сосновый сучок, медленно снимает вещмешок, развязывает его и извлекает яркую жестянку для керосина, так хорошо знакомую Олексе, ставит ее в угол, а мешок вешает на такой же сучок рядом с автоматом. Таким же медленным движением расстегивает широкий командирский ремень, снятый им пару лет назад с убитого советского офицера. На пряжке красуется ловко выпиленный из латуни хлопцами-умельцами и прикрепленный вместо звезды трезубец. Илько освобождает себя от ремней портупеи, к которой прикреплены с двух сторон по «лимонке» в кожаных чехлах. На ремне пистолет ТТ, большой нож немецкого образца с красивой массивной рукояткой, на которой выгравированно готикой «Gott mit uns»[168].
Илько садится на край лежака и стягивает сапоги, разминая уставшие ноги. От давно не стиранных портянок и немытых ног идет тяжелый запах. Он пробежал почти двадцать километров, а впереди еще минимум десять до Мотри, куда он должен пристроить своего друга Олексу.
— Что молчишь, Олекса? Как себя чувствуешь? — спрашивает Стефко и смотрит на Грицька.
Глаза друга воспалены, он тяжело и с присвистом дышит полуоткрытым ртом. На щеках лихорадочный румянец больного человека. Но в глазах неподдельная радость.
— Я думал, умру тут один. Тяжело одному. Днем, когда солнышко, наверху сижу, там дышать легче, а тут тяжело, ночью почти не сплю, кашель душит. Часы у меня еще остановились. Совсем плохо стало.
И как бы в подтверждение этому он несколько раз ловит ртом воздух и натужно и долго кашляет. Лоб его блестит от выступившего пота. Потом Олекса тяжело вздыхает и, достав из кармана старых с кожаными заплатами суконных галифе аптечный пузырек, отвинчивает пробку и сплевывает туда густую мокроту. С виноватой улыбкой смотрит на своего друга.
— Это меня, помнишь, лекарь так учил, чтобы других не заражать. У меня таких пузырьков несколько, я их потом в ручье мою.
Стефко с участием смотрит на Грицько. «Совсем плох хлопец, — думает он. — Не выживет он здесь, в бункере, правильно говорил Игорь, его надо немедленно к Мотре. Может быть, у нее будет лучше на козьем молоке с топленым салом. Травки лечебные попьет». Он дружески улыбается Олексе и, достав из нагрудного кармана серебряную «Доксу» на серебряной цепочке, протягивает большие карманные часы другу. Тот, зная как дорожит этими часами Стефко, отрицательно качает головой. Оба знают историю этой большой серебряной «луковицы» с боем. В 1945 году их односельчанин вернулся домой из Красной Армии старшим сержантом, получив за год на фронте орден Отечественной войны II степени, знак «Отличнику разведки» и «конфискованные» им у какого-то немецкого бюргера эти часы. У него, пьяного, хлопцы забрали все эти «цацки», но оставили жизнь. Старший сержант в селе больше не появлялся. Так часы достались Стефку. Оба молчат. Грицько неожиданно протягивает руку, берет часы, открывает крышку и слушает бой. Часы вместе с цепочкой опускаются в карман Грицька, который с благодарностью смотрит на Илько.
— Имею приказ провидныка срочно доставить тебя в Пидднестряны к тетке Мотре. Ты знаешь ее. У нее надежное убежище. Сам перезимую в том же селе у других проверенных людей. Ты их тоже знаешь, Марущаки. Связь будем держать через них. Собирайся, Олекса. Уходим сейчас же, пока темно. Успеть надо засветло.
— А может, не пойдем сегодня. Кто его знает, что там, в селе, может, и людей этих нету.
— Нет, Олекса, Игорь имел точную информацию по селу всего-то три дня назад, все там в порядке. И родычи твои — тетка Горпина и дядько Степан живы-здоровы, но до них нельзя — опасно. Их все время «безпека» вызывает, о нас расспрашивает. Все село перетаскали на допросы чекисты. Можно в другие районы уйти, но там нас не знают, близких связей и родственников нет. Да и ты, наверное, не выдержишь перехода, и зима близко — вот-вот снег падет. Связной говорил Игорю, что тату с мамой, и твои, и мои, писали из Сибири, что у них все нормально, работают на поселении в леспромхозе, всем приветы шлют. Там тоже чекисты не оставляют их в покое, требуют еще и еще раз писать нам письма выйти с повинной.
Сказав Олексе эти последние слова «выйти с повинной», он неожиданно для себя замолчал, почувствовав, как заколотилось его сердце и застучало в висках. Кровь прилила к голове. Мысли его спутались. «Что это со мной? — подумал он. — Что это я говорю, о чем думаю? Неужели я способен на измену и предательство? Нет, нет», — говорил сам себе Илько и гнал от себя саму эту мысль, прилипшую к нему как что-то мерзкое и отвратительное. Он был уверен, что, несмотря на обещания советской госбезопасности, прощения ему никогда не будет и не может быть. Много на нем большевистской крови. Многих он убил в бою и многих казнил. Он десять лет ведет беспрерывную борьбу с Советами за свою Украину. «О чем это говорил Игорь тогда ночью в бункере, когда шептался с Романом? — подумал Илько. — Почему я могу наделать глупостей? Каких? Почему Игорь так уверен в смерти Олексы? Почему действительно ему не выйти с повинной, ведь тяжело болен? Почему Игорь перестал доверять Грицьку, а стало быть, и мне? Чего он боится?» Только сейчас, обдумав еще раз разговор Игоря с Романом там, в бункере, шепотом, явно тайком от него, до него дошел полный смысл сказанного провидныком. Игорь отправил его специально к Грицьку, чтобы избавиться от обоих и уйти весной к Шувару или Лемишу только вдвоем. Из них, двух здоровых бойцов — его и Романа, Игорь выбрал этого, никогда не нравившегося ему своей образованностью и грамотностью хлопца.
Олекса сидел рядом со Стефком и, казалось, не слышал сказанного, безучастно уставившись пустым взглядом на противоположную стену бункера. Потом он как будто очнулся и, повернув голову, посмотрел на Стефка.
— Ты чего так задумался? — ворвался в мысли Стефка голос молчавшего и, казалось бы, не реагировавшего на его рассказ Грицька.
— Вот я и думаю, что оставаться здесь даже на один день нам никак нельзя. Пошли. Собирай вещи.
На сборы ушло несколько минут. Хлопцы консервируют бункер — забирают остатки продуктов (их немного, на несколько дней), свечи. Все это могут съесть часто забирающиеся в покинутые бункера лесные зверюшки — ласки, мыши и другие. Оба вещмешка полностью набиты. Первым поднялся Грицько и принял подаваемые ему Стефком мешки и оружие. Стефко плотно придавливает крышку люка и «запирает на ключ», то есть просовывает толстую проволоку через кольца из той же проволоки, которая, когда нужно открыть люк, извлекается с помощью «ключа» — обыкновенного гвоздя. «Ключ» прячется в ямке под волуном, с известной посвященным стороны. Можно двигаться. Стефко закуривает, тщательно прикрывая огонь махорочной цигарки, свернутой из газеты. Он жадно затягивается, стараясь, чтобы дым не шел в сторону все время покашливающего Олексы. Оставшийся в руках окурок он тушит слюной и, сжимая его в кулаке, несет несколько десятков метров и бросит в ручей или выкопает рукой ямку и присыплет его землей. Таков порядок у оуновцев, действующих в подполье. Никаких следов после себя в любых условиях не оставлять. По только им известной кладке из камней переходят ручей и выходят на давно заросшую лесную дорогу, которая ведет в село. Они торопятся. Им надо до захода к Марущакам и к тетке Мотре обязательно найти хлопчика-подростка, который каждые десять — двенадцать дней приносил Грицьку продукты в бункер. Они прошли не более километра, кода Грицько попросил Стефка остановиться и передохнуть, кашель душил его. Он не в состоянии был сдерживать его и почти беспрерывно глухо кашлял, уткнув лицо в распахнутую полу ватника.
— Илько, — обратился он к Стефку, — я не смогу дойти до села, сил нет. Я не донесу свой мешок и автомат. Я сейчас упаду.
— Держись, друг, осталось совсем немного, полчаса ходу, — стараясь поддержать его, говорит Стефко и, подойдя к Грицько, берет у него автомат и мешок. — Пошли дальше. Без груза ты сможешь дойти. Я оставлю тебя с вещами и оружием у села, а сам налегке зайду к Марущакам и тетке Мотре. Договорюсь и назад к тебе. Автоматы и мешки попозже донесу. Мы их пока в кустах спрячем. Пошли.
Два автомата и тяжелые мешки быстро забирают силы и у Стефка. Он тяжело дышит, рубаха и гимнастерка становятся мокрыми. Стефко идет впереди. Сзади плетется Грицько. Его свистящее и частое дыхание хорошо слышно за несколько метров. В руках у него невидимая в темноте ярко раскрашенная пустая польская жестянка. На ремне, как и у Стефка, в старой, протертой до дыр кожаной кобуре пистолет ТТ. Вышли на опушку, и перед ними желтоватыми пятнышками подслеповатых окон замаячило село. Электрика, как называют электричество здесь, в селах, подается до 12 часов ночи. Скоро ее выключат. Хлопцы останавливаются и слушают ночь. Село молчит, только с противоположной околицы доносится собачий лай.
— Откуда взялись собаки? — спрашивает Стефко. — Раньше тут ни одной не было.
— Хлопчик из села говорил, что их уже несколько. Хозяева весной щенков привезли из Дрогобыча. С этой стороны пока нет ни одной.
Спрятав мешки и оружие в кустах, Стефко, обращаясь к Грицько, говорит:
— Ты пока посиди на мешках, чтобы сыростью не прохватило, а я мигом туда и обратно.
Хлопнув друга по плечу, Стефко исчезает в темноте. Вернулся он скоро, успев и хлопчика-подростка найти, и договориться с Марущаками и теткой Мотрей.
— Давай, Олекса, в твой новый дом, — почему-то радостным приглушенным голосом произнес Стефко. — Тетка Мотря тебя ждет. Сало топит для молока. Мед у нее есть. Быстро тебя вылечит.
— Не знаю, что тебе и сказать. Мне кажется, что я не доживу до весны в бункере, даже у тетки Мотри, с ее козьим молоком с салом. Мне врачи нужны, Илько.
И совершенно неожиданно для Стефка добавил после длинной паузы:
— Отпусти меня в район, я сдаваться пойду. Пусть в камере тюремной помру, не хочу заживо сгнить в бункере под землей. Ты прости меня, Илько. Я не предатель. Я чекистам ничего не скажу. Мы договоримся с тобой, что я могу «энкэвэдистам» рассказывать о наших хлопцах. Отдам им тот бункер, который в прошлые облавы нашли. Отдам и свой последний схрон. Тебя не видел все лето. Игоря и Романа тоже. Хлопчика, что из села, и его родычей тоже сдам большевикам. Скажу им, что ведь с повинной вышел, сам пришел, по-доброму, оружие все свое отдам. По их советскому закону никого в тюрьму не сажают и не высылают, если добровольно сдаются. Не верю я им, но мне все равно конец, умру я. О Марущаках и тетке Мотре ни слова не скажу. Бункер, где хлопцы остались, тоже не назову. Не могу я больше, Илько. Сил нет у меня. Лучше застрели меня здесь же и уходи.
Потрясенный Стефко пытался рассмотреть лицо Олексы, но темнота скрывала его. Он только слышал тяжелое и прерывистое дыхание друга. Они долго стояли молча. Наконец Стефко произнес:
— Пойдем в село. Отдохнем у людей. Может, тебе лучше станет, передумаешь сдаваться большевикам. Ты в таком состоянии и до города не дойдешь.
У Стефка и мысли не было ликвидировать своего друга за его слова, а по сути — попытку сдаться врагу. Он знал только одно — он должен помочь Олексе-Грицьку выздороветь, не умереть. Впервые за время подполья он даже не задумался над словами друга. Неожиданно для себя он тронул рукой Грицька и сказал:
— Игорь и Роман нам обоим не доверяют. Я подслушал их разговор в бункере. Они нам не верят, а тебя и живым не считают. Ты для них уже умер. Не хочу оставлять тебя одного. Сейчас пойдем в село. Завтра в ночь я вернусь к Игорю и Роману. Если они в бункере, то, может, мне только кажется, и хлопцы о нас плохо не думают. Может, Игорь что-то придумает с врачом. Я ему расскажу, что тебе стало хуже. Если их там уже нет, — а я такую думку[169] имею, — значит, я прав — нам не верят. Вернусь, и мы вместе решим, что делать дальше. Одному тебе идти никуда нельзя. Я тебя доведу до райцентра в любом случае.
Получив согласие Грицька, Стефко, поддерживая шатающегося от усталости друга, потянул его к дороге. Село спит. Электрика уже отключена. Лишь кое-где в хатах пробивается тусклый свет керосиновой лампы или свечи. Вот и хата тетки Мотри. Условный стук в окно. Тихо скрипит щеколда, старая Мотря открывает дверь и тянет за рукав подталкиваемого в спину Грицька. За ним в дверном проеме появляется Стефко с двумя мешками и автоматами на шее. Хозяйка хаты Мотря протискивается между двумя хлопцами, чтобы закрыть дворовую дверь. Открывает дверь в хату, в которой плотно рядном[170] занавешены окна. На столе керосиновая лампа с прикрученным фитилем. Старой Мотре не больше пятидесяти, но каторжный сельский труд давно сделал из нее старуху. Олекса все же произносит принятые в подполье слова приветствия: «Слава Украине!» Хозяйка не говорит ему в ответ: «Слава героям!», а только машет рукой и бормочет под нос, но хлопцы хорошо слышат сказанное в ответ: «Какая там «Слава», ночь уже на дворе, а вам еще повечеряти[171] надо».
В хате вкусно пахнет топленым молоком и свежим хлебом. У хлопцев сводит скулы от этих запахов. Только сейчас при свете керосиновой лампы Стефко видит лицо Олексы. Оно осунулось, черты его заострились, как у покойника. Только глаза лихорадочно блестят. Он беспрерывно покашливает. Мотря участливо смотрит на него, стоя у печки.
— Раздевайтесь, сынки, — наконец произносит она и делает приглашающий хозяйский жест. — Вот сюда одежку повесьте, руки помойте. — И тычет пальцем в угол, где над ведром висит рукомойник и лежит мыло. — Железяки свои спрячьте куда подальше. Отдохните от них, или не надоело, — произносит Мотря и укоризненно, неодобрительно смотрит на автоматы в руках у Стефка.
Хлопцы прячут автоматы за печь, снимают портупеи со всем прицепленным к ним снаряжением, перекладывают пистолеты в карманы галифе. Нерешительно топчутся посредине хаты.
— Да садитесь, садитесь, хлопцы. Чего топчетесь, небось устали. Я-то знаю, сколько вам приходится по лесам от красных бегать. Я вас еще детьми помню, с родителями вашими с ранних лет знаюсь. Жаль, что повыселяли их в Сибирь за вашу партизанку. Все спрашивают за вас, где вы, да что вы. Так и пишут: «Мотря, как увидишь хлопцев наших, скажи им, чтобы шли в НКВД сдаваться. Хочется живыми их увидеть. Говорит нам здешнее НКВД, что ничего им не будет, если сами придут».
— А где то письмо, — спрашивает Олекса.
— Сейчас дам почитать.
Мотря отходит от печи, где на лучине уже шкварчит яичница, и достает из-за иконы в углу пачку писем, связанных тряпочкой. Из пачки извлекаются письма родителей Олексы и Илька. Оба жадно читают, придвинувшись к столу с лампой. Мотря все еще стоит у печи, ждет, когда яичница будет готова. На старой чугунной сковороде, которая наверняка досталась Мотре по наследству от ее бабки, шкварчат кусочки сала и, может, десяток яиц. Мотря жалобно смотрит на Олексу и Илько. Ей по-матерински жалко этих хлопцев — сама потеряла сына, убитого рядом с родным селом через год после конца страшной войны с немцами. Ее, мать, солдаты тогда привели сына опознать. Похоронить не дали. Увезли в район. Так и не знает Мотря, где сынка родного могила. От этих мыслей Мотре становится совсем плохо. «Должны же они понимать, что нет никакой рации[172] против державы бороться. У них танки, самолеты, солдат с автоматами полно. Собаками хлопцев по лесам шукают[173]. Вот такие уж дурни наши хлопцы. Убьют их не сегодня — завтра».
— Ешьте, хлопчики, а то остынет яичница. А ты, Олекса, совсем больной стал, хоть бы мать пожалел. Она за тобой убивается.
— Ничего, тетка Матрена. Живы будем — не умрем, — бодрым голосом произнес Олекса и тут же зашелся в тяжелом, затяжном кашле, заглушая его прижатым ко рту грязным носовым платком.
Мотря и Илько тревожно переглянулись и, наверное, подумали одно и то же: «Не дай бог, соседи услышат этот кашель. Донести могут. Хорошо хоть, что хата от ближайшего соседа далеко стоит».
— Ты, Олекса, постарайся потише кашлять. Тетка Мотря, дайте ему рушник, пусть лицо им закрывает, — повернувшись к Мотре, говорит Илько.
Та подошла к широкой лавке-кровати и, засунув руку под подушку, извлекла большое расшитое красными петухами крестьянское полотенце.
— Возьми, сынок, лицо закрой, когда кашлять будешь. Поешьте скорее, хлопцы, и забирайтесь на печь, она еще хорошо теплая. Я хлеб пекла. Налить по чарке?
Оба согласно кивнули. Мотря обошла печь и вышла с бутылкой мутноватой жидкости в одной руке и с тремя чарками в другой.
— Сама хочу с вами выпить.
Хлопцы уже успели наскоро проглотить по паре кусков хлеба и «убрать» полсковородки.
— Поешьте, поешьте, хлопчики. Я вам сейчас капустки и огурчиков принесу, — глядя на них, сказала Мотря и, поставив бутылку на стол, снова исчезла, на сей раз в подполе, откуда в хату сразу же потянуло сыростью. Скоро оттуда донесся ее приглушенный землей голос:
— Олекса, Илько, кто-нибудь примите от меня миску.
Илько подошел к открытому люку подпола и взял из протянутой ему руки Мотри миску с квашеной капустой и огурцами. Помог Мотре вылезти из подпола. Все трое устроились наконец-то за столом и Илько, наполнив стопки, предложил выпить за здоровье хозяйки и друга своего Олексы.
— Чего за меня пить, — проглотив свою чарку, поморщившись и не закусив, произнесла Мотря. — Вы лучше за себя выпейте, чтобы живыми остаться. Тебя, Олекса, это особо касается. Говорю тебе, как мать твоя. Не от пули помрешь, так от болезни своей. Чувствую, что я тебя не вылечу. Лекарства мои не для твоей болезни. Чахотку твою в больнице лечить надо. Но ты не волнуйся, и ты, Илько, тоже не переживай. Я все, что могу, сделаю. И травами попою, и настойками полезными, и молоком козьим. Сегодня же и начнем. Но вы, хлопцы, умнее меня, сами понимать должны. Олекса не будет зрадником, если в район пойдет и в милицию позвонит. Скажет так и так. Хлопцы его из-за болезни бросили одного в лесу, деваться ему некуда, пришел сам сдаваться. И ничего не будет тебе, Олекса, ты ведь совсем больной. Чахотка у тебя.
— Что это такое вы, тетка Матрена, говорите? — как-то неуверенно начал Илько. — К чему вы нас призываете? Или кто-то вас просил об этом. Лучше пусть нас убьют, но живыми мы сдаваться советам не намерены. Меня-то они точно в Сибирь сошлют на лесоповал, в лучшем случае, лет на десять.
— Вот что я тебе скажу, Илько, — продолжала слегка захмелевшая, а потому и смелая Мотря, понимая, чем может кончиться начатый ею разговор. «Неужели они меня убить могут, я ведь им, как детям своим, добра желаю, — думала Мотря. — Нет, не посмеют и провидныку они ничего не расскажут, это по ним видно. Дошли хлопцы до полного предела. Чувствуют, что их скоро смерть ждет». — Ничего вам не будет от Советов. В соседнем селе весной вышел с повинной хлопец, я его родычей хорошо знаю. Терещуки их фамилия. Сына Степаном зовут. Через три месяца уже был дома. Сейчас в колхозе работает. Нет, хлопцы, не будьте дурнями. Пока не поздно — выходите с повинной. Что ты смотришь на меня так, Илько, не боюсь я тебя. Я же тебя не выдаю НКВД и не выдам никогда. Мне Олексу жалко. Гибнет хлопец.
— Мне самому его жалко, — как-то вяло произнес Илько.
Чувствовала Мотря, что давно ушло то время, когда хлопцы по доброй сотне стояли у них в селе, когда в хате ночевало сразу до десяти бойцов-повстанцев, когда даже зимой хлопцы передвигались в открытую от села к селу. Помнила Мотрена и то время, когда начали хлопцы в бункерах на зиму ховатися[174] от большевиков, а потом их становилось все меньше и меньше. Последние два года ходили они по четыре — шесть человек, не больше. Одежонка на них поизносилась, с сапогами тоже плохо, да и поборы по селам стали все реже делать, больше по своим родичам ходили. Чужих, малознакомых или не родных селян стали бояться. Тех «бифонов», бумажек с силуэтом повстанца с автоматом, которые хлопцы вместо денег давали селянам за полученные у них продукты и носильные вещи, у каждого хозяина за образами пачки целые. А на что они годятся? Хоть и уверяли хлопцы, что, как власть захватят, большевиков прогонят, деньгами получат селяне за эти бумажки. Где же их власть-то? Вместо власти косточками белыми все леса и поля усеяны. Сколько ж хлопцев молодых побито! Море крови пролито. А сколько народа в Сибирь русскую холодную сослано!
— Не бойтесь меня, хлопцы. Я дело говорю. И я вас не боюсь. Я ж сказала, что все для вас сделаю, помогу и тебе, Илько, и тебе, Олекса. Вы оба можете у меня зимовать, люди помогут, те же Маращуки. Да и другие люди в селе есть, которые помогут продуктами. Схрон у меня хороший. Он под печкой, там сухо. Но вдвоем вам нельзя. Олекса заразит тебя, Илько. Мне не страшно, я уже старая, ко мне не пристанет эта хвороба, а тебе, Илько, очень опасно. Значит, тебе у меня оставаться нельзя. Иди, как ты мне уже говорил, к Маращукам, я буду к тебе приходить и про Олексу рассказывать. Плохо то, что люди наши сельские ко мне — травнице — ходят. Я ведь живу этим — люди кто маслица, кто сала кусок, кто яиц десяток, кто мучицы дают мне. Олекса кашляет, далеко слышно, а в бункере ему плохо будет, ему свежий воздух нужен. Что делать будем, хлопцы? Что скажешь, Олекса?
— Не хочу я в бункер, тетка Матрена.
— Олекса, спать ночью ты в хате на печи будешь. В бункер я тебя прятать буду, когда люди будут приходить ко мне днем. Кашель не слышно будет из крыивки. Это уже проверялось. Я уверена, тебе в больницу надо, а значит, идти с повинной в райцентр. Вы, хлопцы, сами решайте. А сейчас собирайся, Илько, и иди к Маращукам. Завтра вечером, к ночи ближе, приходи.
В хате стало тихо. Все молчали. Первым нарушил тишину Илько:
— Тетка Матрена, помогите нам набрать десять литров керосина для хлопцев в бункере в лесу. Я должен до снега отнести им керосин. Вот с этой банкой две ходки сделать. Чем быстрее я это сделаю, тем лучше.
— У меня бутылки две есть. У соседей можно одолжить до приезда автолавки из района. Лавка будет послезавтра.
Илько извлекает из нагрудного кармана гимнастерки свернутые в трубочку деньги, раскручивает их и, отсчитав половину, протягивает Мотре.
— Это вам за керосин и на продукты Олексе, а может, и на лекарства нужные. Деньги у нас есть, так что не волнуйтесь.
— Спасибо, я бы и без денег вас обоих прокормила. Только вот на керосин и лекарства у меня денег нет. Да и не очень-то верю я в лекарства. Травы вот свои родные знаю. Они нам лучше лекарств помогают.
Стефко поднимается с лавки, подходит к печи, прижимается к ней всем телом, вытянув вверх руки и приложив ладони к еще излучающему тепло шершавому и давно не беленому кирпичному боку. Так он стоит несколько долгих минут. В хате тихо, лишь слышно тяжелое и хриплое дыхание Грицька. Он дышит прерывисто и часто. Его рваные легкие явно лучше ведут себя в сухом и теплом воздухе сельской хаты. Грицько и Мотря напряженно смотрят на широкую спину Стефка. Оба видят в нем единственную свою надежду и опору — какое решение примет он, этот сильный физически и духовно человек. Мотря сказала все, что думала. Стефко явно неохотно отрывает свое тело от уютной и теплой стенки печи, поворачивается к сидящим напротив него Мотре и Грицьку и вдруг, глубоко вздохнув, улыбается им обоим.
— Ничего, мы еще поживем на этом свете, — неожиданно произносит Стефко и извлекает из-за печи свой ватник и автомат, который приставляет к печной стенке. Натянув на себя ватник, он достает из вещмешка старую меховую шапку гражданского покроя, вытягивает из кармана ватника фуражку с трезубцем на околышке и прячет ее в вещмешок.
— Это мне сегодня не понадобится, — говорит он и снова прячет автомат за печь. Перекладывает пистолет из галифе в карман, берет в руки бидон для керосина, куда Мотря уже вылила две бутылки, и обращается к ней:
— Тетка Матрена, выйдете, пожалуйста, во двор, посмотрите, что там делается, дайте знать.
Мотря с накинутым на голову и плечи платком выходит из хаты и тут же возвращается, бросив Ильку:
— Можешь идти к Маращукам, все вокруг спокойно.
Стефко почему-то как-то озорно подмигивает им обоим и быстро выходит из хаты.
Впервые за последние два-три года Грицько спал в уютном и теплом доме. Мотря на ночь напоила его лечебными травами, и он почти не кашлял ночью. Утром Мотря попросила Грицько спуститься в схрон, где он должен будет провести весь день. В бункере было сухо, находился он под домом, рядом с печным фундаментом. Имел два входа — один из хаты, в углублении под подом самой печи, а другой — со стороны той части хаты, где в холодную зиму держат корову с теленком и свиней.
Грицько зажег свечу и беспрерывно смотрел на подаренные ему Стефком часы, стрелки которых, как ему казалось, почти не двигались. Иногда он забывался в коротком и тревожном сне. К вечеру он почувствовал себя плохо, его стало лихорадить. Взятую у Мотри настоянную на травах воду он давно выпил. Разница температур и влажности вызывает у Олексы приступ затяжного кашля. В выплеванной им в бутылочку мокроте видны следы крови.
Временами он впадал в беспамятство и, наверное, бредил, как ему казалось, когда он приходил в сознание. Нависший над ним потолок чудился ему крышкой гроба. Стен он мог коснуться, вытянув руки в обе стороны. Грицько не знал научного слова «клаустрофобия»[175], но на него всегда давили потолок и стены бункера. Он страдал только от одной мысли, что ему придется остаться одному среди давящих со всех сторон стен. От одиночества и этого страшного ощущения он казался себе живым мертвецом. Присутствие в бункере хотя бы еще одного человека всегда как-то успокаивало. Впервые он еще тогда, когда Игорь приказал ему в целях безопасности своих товарищей быть в бункере одному, так как у него открытая форма туберкулеза, почувствовал, что сойдет с ума от охватывавшего его ужаса, от страшной тишины и одиночества. Наконец, он услышал давно ожидаемый им звук открываемого люка и голос Стефка:
— Олекса, ты там живой? Вылезай.
— Плохо мне, Илько, — обращается он к товарищу. — Надо что-то делать. Илько, я не хочу умирать вот так здесь, в бункере. Я хочу увидеть маму мою и тату. Помоги мне.
— Ты можешь, Олекса, потерпеть еще немного? День-два. Я сейчас отнесу жестянку с керосином к хлопцам и вернусь к тебе. Мы с тобой что-нибудь придумаем. Ты продержись до завтрашнего утра. Как-нибудь продержись.
Стефко влез в узкую дыру входа в бункер, куда они вчера спустили вещмешки и оружие, и вскоре выполз оттуда, переодетый в цивильные брюки и рубаху. Взяв у Мотри шматок сала и хлеб для себя в дорогу и набив вещмешок салом, хлебом и крупой, он вышел из хаты в ночь. И снова Стефка гнала через темный лес неведомая ему сила, как будто он торопился закончить какую-то работу, прийти к какому-то концу. «Если Игорь и Роман нам не доверяют, то их в бункере не будет. Уйдут они в другое убежище, о чем тогда шептались ночью. Если это так, то я сразу же возвращаюсь в село, забираю Олексу. Под каким-нибудь предлогом скрою наш уход от Маращуков и Мотри, доведу Олексу в райцентр и позвоню в НКВД[176]». Так думал Илько, быстро продвигаясь в известном ему направлении.
Осенняя ночь была темной, безлунной, но на фоне звездного неба он четко различил высокую сосну и мощный, как вытянутая рука, сук. Условный стук. Бункер не реагирует. Он стучит еще и еще.
Никакого движения в стороне люка. Опытный подпольщик, он готов к любым неожиданностям. «Ключом»-гвоздем он запасся еще у Маращуков. Трясущиеся руки разгребают листву и землю, нащупывают проволочные кольца. Стефко с трудом отдирает люк, плотно вогнанный в рамку, отбрасывает его в сторону и спускается в эту преисподнюю, нащупывая ногами лестницу. Зажигает спичкой оставшийся на столе огарок свечи. «Ушли хлопцы, я так и думал. Что же делать дальше?» Ярость охватывает Илько. Он бьет ногой по лежаку, сбрасывая в сторону доски и ветки. Смотрит в угол, где стояли ящики с запасами на зиму. Они пустые. Нет ни сала, ни пшена. Нет и керосиновой лампы с запасным стеклом. Сухарей тоже нет. А ведь их был целый мешок. Отчего-то в голове мелькает злорадная мысль: «Пуда три на себе унесли, холера ясна. Тяжко им было. Не мне вчера одному. Им еще тяжелее. Ну и пусть. Прощайте, хлопцы, мы больше не увидимся. Вы нас предали. На ваше счастье, не знаем мы, где вы сховались. Но это и наше счастье — мы вас не предали, как вы нас. Мы выйдем завтра же с повинной и будем жить дальше. Совесть у нас чистая. Живите без нас, как хотите».
Илько не вылез — выскочил из бункера. По всем правилам замаскировал вход и еще более быстрым шагом, чем до этого к бункеру, почти бегом направился в сторону села с тяжелым мешком за плечами и полным бидоном керосина в руке. Но даже от быстрого шага и утомительного с тяжелой ношей пути по ночному лесу он так и не пришел в спокойное состояние, продолжая в уме проклинать Игоря и Романа. Уже на подходе к селу он услыхал за спиной шум мотора приближающейся машины. Отойдя поглубже в лес и забравшись в густые заросли, он наблюдал за дорогой. Показался грузовик, крытый брезентом. Медленно прополз по разбитой и ухабистой дороге в сторону села. Явно военная машина с милиционерами, солдатами или с «ястребками»[177]. «Чего это они ночью едут в село? — подумалось Ильку. — Может, кто-то нас видел и выдал. Надо подойти поближе к селу и подождать». Напрасно волновался Илько. Машина проехала село и ушла в сторону хуторов, что были далеко по другую сторону села.
Мотря спрашивает у вошедшего в хату Стефка:
— А чего ж ты с продуктами и бидоном вернулся?
— Машина с солдатами в лесу стояла. Может, облаву делать будут. Пришлось вернуться. И около села, наверное, слыхали, тоже машины военные появились.
— Машину мы слыхали. Правильно сделал, что вернулся.
Стефко посмотрел на друга. В глазах у Грицька стоял немой вопрос: «Что-то ты не то говоришь, Илько. Я тебя хорошо знаю, ты меня не обманешь».
Стефко подошел к Грицьку и, наклонившись к уху, прошептал:
— Выйдем на двор, поговорим.
Мотря не заметила волнения Грицька и не придала значения уходу из хаты хлопцев — мало ли чего им надо, может, по нужде. Они отошли к огороду за клуню. Сели на лежащее у стенки бревно.
— Ты постарайся не кашлять. Услышат, погано[178] может быть. Хлопцы ушли от нас. Бросили нас. Я тебе говорил, они нам не верят. Игорь и Роман хотят твоей смерти, Олекса. Они знают, что мы друзья. Знают, что я тебя не брошу и не оставлю в беде. Я с тобой согласен — надо идти сдаваться Советам. Я предлагаю уйти на рассвете. Оружие, все вещи и собранные Мотрей продукты заберем с собой. Спрячем в лесу. Отсюда пару километров стога сена стоят, там и спрячемся. Я в цивильном пойду в район. Позвоню там в НКВД. Ты не бойся. Мы с тобой вдвоем. Нам не должно быть страшно. Будь что будет.
Илько еще долго рассказывал Олексе, что он и раньше заметил изменившееся к ним отношение Игоря и Романа, что не они предают хлопцев, а те предали их, бросив больного Олексу умирать одного. В ответ ему жарко зашептал Олекса:
— Я знал, что ты не бросишь меня, Илько. Я рад, что так случилось. Ну не такие же в НКВД звери. Конечно, кровь на нас есть. Но и они нас хорошо лупили. Давай сдаваться. С твоим планом я согласен.
Они вернулись в хату и рассказали Мотре о грозившей им опасности в связи с появлением машин с военными. Они не исключают проведение чекистами операции в районе села. Это опасно, им надо уходить. Мотря долго уговаривала их остаться, тем более что Олексе становится все хуже и хуже. Илько и Олекса стояли на своем и на рассвете ушли из села, попросив Мотрю предупредить об этом Маращуков…
Субботний день был по-осеннему холодным, ветреным, но на редкость в этих краях солнечным. По разбитой тяжелыми, груженными сахарной свеклой грузовиками, беспрерывной колонной едущими в сторону Ходоровского сахарокомбината, шел крепкого сложения хлопец в зимней шапке, в изодранном ватнике и потрепанных брюках, заправленных в такие же старые солдатские сапоги. В таком виде ходили многие сельские работяги, занятые в это время года уборкой сахарной свеклы, огромные бурты которой до горизонта виднелись в полях по обе стороны дороги. Этим «работягой» был Стефко. В кишене[179] его ватника лежал пистолет. Взял его Стефко, как он сам уверял себя, на всякий случай — мало ли что в дороге может случиться. Чем ближе Стефко приближался к Ходорову, тем тревожнее становилось на душе. Уставшие от длительных и тяжелых переходов ноги требовали отдыха.
Наконец, он решился остановить грузовик, в кабине которого на этот раз сидел один водитель без напарника. Поднял руку и стал у обочины. Шофер, такой же как и Стефко, молодой парень, оказался восточным украинцем из Донбасса, приехавшим сюда на заработки. Говорил он только по-русски, и как ни старался Стефко, как ни напрягался, у него не получалось отвечать шоферу на русском. Тот, конечно, хорошо понимал местного хлопца, но разговора не получалось. Только и узнал Стефко, что живет шофер в общежитии сахарокомбината, на заработках впервые после армии, дома ждет невеста. Скоро бросит шоферить и уйдет работать на шахту забойщиком. Когда он назвал зарплату шахтеров-забойщиков, Стефко не поверил — речь шла о таких, деньках, что в селе хату можно было купить. Но этот парень с Донбасса так уверенно хвалил шахтерский, хотя и тяжелый, но всеми уважаемый и престижный, труд, что Стефко поверил ему. «Нет, это не большевистская пропаганда, это все-таки правда, что шахтеры получают такие большие деньги и все квартиры имеют».
Час езды — и вот он, Ходоров, знаменитый своим мощным комбинатом по переработке сахарной свеклы и не менее известными ходоровскими мраморными карьерами. Уже на подъезде к городу воздух насыщен вонючим запахом жома сахарной свеклы, который разгрузившиеся на заводе грузовики везут в открытых кузовах в колхозы для закладки в силосные ямы на зимний корм скотине. Вонь страшная, но жители к ней привыкли и не обращают внимания. Комбинат дает работу городу и кормит его. Электростанция при комбинате снабжает городок электрикой. Стефко был в этом райцентре пару лет назад как связник.
Ходоров лежит на стыке четырех областей — Станиславской, Львовской, Тернопольской и Волынской. Здесь, именно в этом районе перекрещивались каналы связи и дороги подполья. В этом смысле — знаменитый районный город и железнодорожный узел. Стефко вышел из кабины грузовика на повороте к комбинату, справа шла дорога в центр города. Ему нужен был городской железнодорожный вокзал. Там, он это точно знает, есть телефон и он сможет через телефонистку связаться с милицией или пожарной охраной. Это все НКВД. Они ему и нужны.
Город Ходоров — маленький райцентр, вокзал с небольшой привокзальной площадью рядом с центром. Вот он уже совсем близко. Стефко останавливается и смотрит на вход в вокзальное помещение — небольшое одноэтажное здание старой постройки из красного кирпича. Из вокзальной двери выходят два милиционера в черной форме железнодорожной милиции и идут вдоль здания в сторону входа в служебное помещение, где размещается милиция. Расстояние между милиционерами и Стефко не больше пятидесяти метров. Один из милиционеров внимательно смотрит в сторону стоящего на углу Стефка. Он держит руку в кармане, сжимая рукоять пистолета. Сердце его тревожно бьется. Перед ним враги. Он колеблется войти в здание вокзала, где около кассы висит телефонный аппарат. Еще немного и он повернет назад к ожидающему его в стоге сена Грицьку. В памяти возникает изможденное смертельной болезнью лицо друга, и он быстрым шагом направляется к двери вокзала и входит в здание. Вот он, телефонный аппарат рядом с кассой. В зале много ожидающих поезда людей. Они услышат его телефонный разговор с милицией. Он вспоминает двух милиционеров, входивших в служебное помещение в этом же вокзальном здании, и, резко повернувшись, выходит на улицу и направляется к двери с надписью «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещен». На миг останавливается перед этой пугающей его дверью, за которой сидит ненавистная ему милиция. Затем решительно открывает дверь и входит в просторное помещение. Слева дверь к начальнику вокзала, справа — в милицию. Прямо перед ним за зарешеченным окном сидит дежурный милиционер, и Стефку кажется, что милиционер с подозрением и настороженно смотрит на него. И все же Стефко подходит к окошку и обращается с просьбой пропустить его к начальнику с важным сообщением. Дежурный требует от него разъяснений и интересуется содержанием этой информации. Между ними возникает спор. При этом оба громко, каждый по-своему объясняют друг другу свои права. На возникший шум выходит сам начальник милиции, неожиданно возникший за спиной дежурного милиционера, выйдя из двери в глубине помещения. Дежурный объясняет начальству просьбу посетителя передать какие-то важные сообщения. Начальник указывает Стефко рукой на дверь с надписью «Милиция».
— Пройди туда, я сейчас открою дверь.
Стефко, продолжая держать правую руку в кармане ватника на рукоятке пистолета, подходит к этой страшной для него двери. Начальник исчезает внутри служебного помещения и вскоре открывает ключом изнутри дверь, пропуская в комнату Стефко. В комнате грязно и накурено. Письменный стол, несколько стульев. Начальник садится за стол и указывает на другой стул Стефко. Получив совершенно неожиданный для милицейского начальника ответ на его вопросы, что он имеет дело с давно разыскиваемым бандитом по кличке Стефко из банды надрайонного провидныка СБ Игоря, начальник районной железнодорожной милиции изумленно смотрит на сидящего перед ним молодого хлопца в потрепанной и грязной одежде. Он продолжает молча смотреть на Стефко, все еще, наверное, не веря, что перед ним тот самый, кого давно ищет все областное управление госбезопасности. Стефко медленным движением вытягивает из кармана ватника пистолет, кладет его на стол перед начальником, который испуганными глазами смотрит на руку хлопца, и опускает голову. Все. Пути назад нет. Он сдался. Он твердит сам себе, что он сдался, чтобы спасти своего больного товарища. Не он предал подполье, а подполье предало его, когда Игорь и Роман бросили его и Олексу. Он поднимает голову, его пистолета на столе уже нет, и ловит взгляд милицейского начальника: в его глазах недоумение и испуг. Перед ним живой бандит, у которого в других карманах может быть оружие. Громким голосом он вызывает дежурного и приказывает ему обыскать задержанного. Это происходит под дулом пистолета начальника. Дежурный докладывает, что ни оружия, ни документов у задержанного нет. У начальника хватает ума удалить из кабинета рядового милиционера и самому связаться с кем-то из руководителей областной госбезопасности. Короткий и непонятный для Илька разговор, но он чувствует, что речь идет именно о нем, как о боевике Игоря, и что милиция, а это заметно по звучанию и тембру голоса, разговаривает с кем-то из высоких начальников «безпеки».
Стефко посадили в угол комнаты на стуле, начальник убрал свой пистолет в кобуру. Оба молчат. Прошло не больше десяти — пятнадцати минут. На улице слышен шум мотора подъезжающего автомобиля, хлопок дверцы машины и сразу же звук открываемой входной двери. В комнату стремительно входят двое. Первым задал вопрос майор Червоненко. Но об этом Стефко узнает позже. Второй, чуть пониже ростом, светлый шатен с тонкими и красивыми чертами лица, майор Супрун, заместитель Червоненко.
— Ты тот самый Стефко, что из банды Игоря?
— Да, тот самый, — отвечает Илько, поднимаясь со стула.
— Сиди, сиди, — громко и приказным тоном говорит высокий.
— А чем докажешь, если у тебя, кроме изъятого пистолета, ничего нет? — вновь спрашивает высокий.
— А вы чем докажете, что вы — «безпека»? — вопросом на вопрос отвечает Илько.
Оба вошедших громко смеются. Им услужливо вторит вставший из-за стола начальник милиции.
— Охрименко, — обращается к начальнику милиции высокий, — будь добр, выйди на минутку из кабинета и принеси плащ-палатку. Кстати, о приходе к тебе этого, — и высокий указывает рукой в угол, где на стуле сидит Стефко, — никому из твоих сотрудников, вообще никому ни слова. Понял?
Начальник милиции, кивнув головой, что означает, что понял и ему все ясно, выходит из комнаты.
— Я начальник райотдела МВД[180], майор Червоненко, — и высокий протягивает к лицу Стефко красную сафьяновую книжицу, где каллиграфическим подчерком удостоверяется, что предъявитель действительно есть майор Червоненко, начальник районного отдела МВД. Написано по-русски, и майор Червоненко разговаривает со Стефком тоже по-русски.
— Ты находишься в здании железнодорожного отделения милиции, есть у нас такая транспортная милиция. Она мне тоже подчиняется, — говорит Червоненко. — А это мой заместитель майор Супрун.
Второй стоит у окна и смотрит на улицу. Неожиданно он, не поворачиваясь к Ильку, произносит на местном галичанском наречии:
— Я предлагаю не терять времени. Со всеми деталями и, как говорится, со всем остальным, мы позже разберемся. Скажи нам сразу же, сейчас же, где укрывается Игорь и еще двое его боевиков — Роман и Грицько, живы ли эти люди и готов ли ты назвать их места укрытия? Скажешь все, как положено, начнем разговор о твоей судьбе, твоем будущем.
Стефко, насупившись и опустив голову, сидел на стуле, напряженно вцепившись пальцами в его края. Он продолжал так сидеть уже после поставленного Супруном вопроса. Прошедшие несколько безответных секунд казались ему бесконечными. Он не знал, что и как ему ответить этим начальникам из страшной и ненавистной ему «безпеки». Наконец, он поднял голову и медленно произнес:
— То, что я Стефко и зовут меня Ильком Иванив, 1925 года рождения, родом из села Пидднестряны[181], так вы это знаете, у вас и фотографии мои есть. Еще при выселении родных моих в 1948 году взяли себе для моего розыска. — Илько замолчал, глядя в лица внимательно слушавших его чекистов. Тяжело вздохнул и продолжил: — Я не один пришел к вам сдаваться. Со мной мой друг, тоже из Пидднестрян — Олекса Звирышин, вы его, как и меня, тоже знаете. Больной он легкими, туберкулез у него. Наверное, умрет скоро. Я, может быть, и не пришел бы сдаваться, знаю, большие грехи у меня перед вами и властью, да мы с Олексой одни из всего села остались. Всех остальных хлопцев, что в УПА с нами были, поубивало в разное время. Устал я жить как волк в лесу. Игорь обманул меня, он бросил и меня, и Олексу. Он сейчас вместе с Романом. Они не доверяли ни мне, ни Олексе.
Червоненко резко перебивает Стефко:
— Ну хорошо, будем иметь время для длительных бесед. Сейчас у нас нет времени. Где Игорь, Роман, Грицько?
— Я же и говорю, не знаю. Ушли оба из схрона. Два дня назад еще были, а сегодня их там уже нет. Ушли. Продукты и керосин унесли. Думаю, что не вернутся они к этому бункеру, не доверяют они ни мне, ни Олексе.
Стук в дверь, и появляется начальник железнодорожной милиции. В руках у него плащ-палатка. Он протягивает ее Червоненко, который разворачивает плащ-палатку и, протягивая Ильку, говорит:
— Накинь на себя, Илько, чтобы люди посторонние тебя не узнали. Кстати, никто тебя в Ходорове не узнал, не видел?
— Да нет, кто ж меня сейчас в таком костюме узнает. Я специально переоделся в цивильное. А так в лесу я ходил в гимнастерке или френче. Фуражка у меня военная с трезубом, оружие. Меня такого люди привыкли видеть. Илько стоял перед чекистами и держал в руках плащ-палатку.
— Накинь и пошли. Оружие все отдал, ничего в карманах не оставил? — спросил Супрун.
— Меня здесь уже обыскивали. Пистолет у начальника.
Чекисты забирают пистолет Илька и попрощавшись с начальником железнодорожной милиции выходят из комнаты. Первым вышел Червоненко, за ним следует Илько, за спиной которого дышит ему в затылок Супрун. Неожиданно в спину уходящим раздается голос милицейского начальника:
— Хоть бы с «крестным» попрощался, «крестничек». Все-таки ко мне пришел, первому. Такое не забывается.
Илько нерешительно топчется на месте. Червоненко и Супрун смеются. Кто-то из них говорит:
— Да подойди, подойди «к крестному», попрощайся.
Илько смущенно поворачивается и подходит к милиционеру. Тот, улыбаясь, протягивает ему руку. Их руки соприкасаются в крепком мужском пожатии. Кажется, оба довольны. Илько не испытывает в эти минуты ни страха, ни робости, ни угрызений совести. Троица выходит на улицу и погружается в стоящий рядом с выходом козел — ГАЗ –69, который через несколько минут останавливается у здания районного отдела МВД. У входа, как и положено, милиционер с автоматом. Милиционер узнает сидящего рядом с шофером Червоненко и, сделав пару шагов в сторону от охраняемого входа, открывает широкие и прочные деревянные ворота. Машина въезжает во внутренний двор райотдела, где в глубине Илько различает ворота в двойной гаражный бокс и рядом открытые ворота конюшни, где пожилой военный, явно не офицер, чистит щеткой лошадь. С левой стороны от гаража четко выделяются два туалетных домика с маленькими вырезами окошечек на дверях. Пожилой военный не обращает внимания на въехавшую во двор машину, продолжает делать свою работу. Все по очереди выходят из машины и гуськом в таком же порядке — Червоненко, Илько, Супрун — ледуют в здание, поднимаются на второй этаж и проходят в маленькую приемную, где за деревянной перегородкой сидит и стучит на пишущей машинке миловидная девушка в аккуратной белой блузке с кружевным воротничком. Она отрывается от работы и смотрит на входящих поразившими Илька красивыми светло-голубыми глазами с выражением еще сохранившейся девичьей наивности. Ее красивая, украшенная светло-коричневым гребнем прическа пышных белокурых волос в сочетании с ослепительно белой, чистой блузкой делают девушку в глазах только что вышедшего с повинной хлопца из леса божественной, сказочной феей из прочитанных им сказок во время зимней учебы в бункере под руководством провидныка. Дивчина с любопытством и мелькнувшим в ее глазах испугом смотрит на хлопца. Взгляды их встречаются. Красивое и мужественное лицо Илька, кудрявый и буйный чуб наверняка чисто по-женски оцениваются дивчиной и в глазах мелькает любопытство, сменив появившееся было чувство испуга.
— Раечка, свяжи меня с Гриценко[182], да поскорее. — И, обращаясь к Супруну. — Михаил Петрович, проведи хлопца пока к себе, там мы с ним и поговорим.
Супрун, подталкивая Илька, открывает дверь в противоположной стороне приемной, и Илько оказывается в небольшой по размеру, но уютной комнате с большим фикусом, стоящим рядом с массивным старинной работы сейфом, на котором в верхней части четко выделялось металлическими литыми буквами название известной в панской Польше фирмы. Супрун сам снимает с плеч Илька плащ-палатку и вешает ее на крючок, прикрученный к стенке. Свое гражданское пальто аккуратно приспосабливает на плечиках, навесив их на стоящую в углу красивую старинной работы деревянную вешалку. «Наверное, из какого-нибудь польского имения», — думает Илько.
— Садись сюда, — и Супрун указывает Ильку на полумягкое кожаное изрядно потертое кресло у рабочего стола. В кабинет входит майор Червоненко. На лице его неподдельная радость. Он садится в кресло напротив Илька и протягивает ему свой портсигар с папиросами «Беломорканал».
— Закуривай, друже Стефко. Отличные папиросы, не просто «Беломор», а ленинградской табачной фабрики имени Клары Цеткин. Считаются самыми лучшими именно этой фабрики.
— Спасибо, — говорит Илько и осторожно берет толстыми плохо гнущимися грязными пальцами папиросу.
Ильку не нравится, что чекистский начальник называет его подпольным псевдонимом. Он смеется над Ильком, и Илько это понял. Но в общем Илько чувствует нормальное, хорошее отношение к себе. Когда они поднялись со двора на второй этаж здания МВД, на нескольких дверях Илько заметил круглые запястья ручных наручников, используемых вместо замков. На него не надели наручники, не били, грубо не разговаривали. Супрун не курил и было заметно, что он плохо переносит табачный дым. Терпел, потому что курил его начальник и в кабинете сидел такой «важный» и неожиданный «»гость», с помощью которого наверняка открывались возможности прямого выхода на разыскиваемого уже несколько лет и по-прежнему неуловимого надрайонного провидныка СБ Игоря, опытного и хитрого бандита. А может быть, кто знает, удастся выйти и на каналы связи, ведущие к Шувару, Уляну, возможно, к самому Лемишу. Илько ловит кончиком папиросы огонек спички, услужливо поднесенной Червоненко, и жадно несколько раз затягивается. От качественного табака голова слегка кружится. Илько привык к махорке, но ему знаком и хороший, настоящий табак, поэтому он с удовольствием выкуривает в несколько длинных затяжек почти всю папиросу.
— Выкладывай, Илько, что тебя заставило явиться к нам с повинной, — начинает первым Червоненко. — Так ты говоришь, Грицько в поле остался, тоже сдаваться хочет, а где Игорь и Роман, ни ты, ни Грицько не знаете?
— Да, это так, — глядя в глаза Червоненко, отвечает Илько.
Он неожиданно для себя начинает откровенно и подробно рассказывать чекистам о своих переживаниях в связи с тяжелой болезнью друга своего Олексы, о недоверии к нему Игоря и Романа, об их неожиданном исчезновении из бункера. Ни он, ни Грицько понятия не имеют, где на зиму могли укрыться Игорь и Роман. Он готов отдать чекистам хлопцев, но клянется всеми святыми, что действительно не знает, как это сделать. Он называет все известные ему и еще не раскрытые чекистами, он в этом уверен, связи Игоря и Романа. Он даже называет Маращуков и тетку Мотрю, лишь бы скоре закончился допрос и они успели бы добраться засветло до Олексы. Наконец, допрос окончен. По топографической карте, которую Супрун расстелил у себя на столе, чекистами сделаны все нужные им отметки по возможным путям переходов Игоря, вероятные места укрытия. Названы села и фамилии помощников бандитов в селах, пароли и клички связных. Илько торопится, он просит чекистов скорее выехать за Олексой. На улице темнеет. В кабинете накурено, некурящий Супрун часто и откровенно кашляет. Наконец, открывает окно. В комнату врывается свежий осенний воздух. Червоненко открывает дверь и просит симпатичную блондинку срочно готовить крытый грузовик и свой автомобиль, а также вызвать весь наличный оперативный состав в свой кабинет. Срок сбора — пять минут. Повернувшись ко все еще сидящим по разные стороны стола Супруну и Ильку, Червоненко коротко бросает:
— Михаил Петрович, подготовь хлопца к операции и спускайтесь оба к моей машине.
Супрун коротко инструктирует Илька, как тому лучше и доходчивее объяснить ситуацию при контакте с Олексой, чтобы тот не наделал глупостей. Вдруг передумает, начнет стрелять, мало ли что может произойти с ним за время отсутствия Илька.
— Да не будет он стрелять, — горячо возражает Илько. — Он первым заговорил о выходе с повинной. Он сильно болен.
Через несколько минут обе машины покидают двор райотдела. Спустя час машины останавливаются в сотне метров от все еще четко виднеющихся в надвигающихся сумерках стогах сена на большом лугу. Со стороны реки надвигается плотная полоса тумана. Все торопятся, скоро станет темно. Илько по команде Супруна выдвигается к указанному им стогу сена. Оперативный состав, включая водителей и нескольких офицеров милиции, охватывает стог широким полукругом, открытым в сторону реки. Супрун поднимает руку и все ложатся на землю, выставив стволы автоматов в сторону стога. В конце правого фланга полукружья устанавливается ручной пулемет, ствол которого направлен к лесу и реке, куда могут бежать бандиты. «Все может быть, — думает про себя майор Супрун, опытный и старый «бандолов», не раз попадавший в немыслимые ситуации за годы работы в Дрогобычской области. — Все надо предусмотреть, коль проводишь операцию. Это не шуточки. У них там в стогу два автомата, гранаты, кто их знает, что им на ум взбредет в последнюю минуту». Вот так или почти так думал Супрун, когда до него донесся крик Илька:
— Идите сюда, Олекса без сознания, помогите его вытащить.
Илько, уже выбравшись из стога, стоит с двумя автоматами, которые кладет на землю к ногам, и смотрит в сторону чекистов. Супрун командой поименно поднимает несколько человек, и они с ним во главе подходят к Ильку. Остальные остаются на месте с оружием наготове. Подошедшие вытягивают из сена безжизненное тело Олексы. Кто-то снимает с себя плащ-палатку, кладут на нее хлопца и несут к машине. Рядом идет Илько. Он пытается помочь несущим его друга, но ему не дают. Он не понимает, почему, но больше помочь не пытается. Олексу грузят в кузов грузовика. Он тяжело и прерывисто дышит. Червоненко приказывает как можно быстрее ехать в мотомехдивизион, где есть своя санчасть и опытный московский военврач, медсестры и все нужные медикаменты. В дивизионе знают машины райотдела и всех оперативников и начальство в лицо. «Газик» с Червоненко следует в направлении дома, где живут офицеры, а грузовичок проезжает широкий плац дивизиона и останавливается у медчасти, из дверей которой выходит дежурная медсестра и видит, что из кузова кого-то спускают на плащ-палатке.
— Раненый, что ли? — громко спрашивает она.
Ей никто не отвечает. Супрун быстро идет ей навстречу и что-то объясняет. Они вместе скрываются в санчасти. Супрун вызывает по телефону врача, а медсестра делает камфорный укол только что внесенному Олексе. Приехавший врач осматривает больного и констатирует:
— Больной в тяжелом состоянии. У него острая сердечная недостаточность как следствие тяжелой формы туберкулеза. Он нетранспортабелен, но и оставлять его здесь, в санчасти дивизиона, не имею права — он инфекционный больной и опасен для окружающих. У него открытая форма туберкулеза.
В санчасть входит высокое начальство — командир мотомехдивизиона и Червоненко. Учитывая исключительно высокую важность попавшего в руки чекистов, пусть и тяжелобольного, разыскивавшегося несколько лет бандита Грицька, начальством принимается решение временно разместить больного в дежурной комнате медсестры, изолированной от остальных помещений санчасти. Перед кроватью наскоро навешивается полог из простыней. Олексу быстро раздевают. Грязное давно не мытое тело протирают спиртом. На голого Олексу жалко смотреть. Он как живой мертвец — ребра дугами выпирают, торчат ключицы, коленные кости как мослы у старого мерина. Кожа на теле похожа на пергаментную бумагу. Сестра с состраданием смотрит на до предела истощенного еще совсем молодого человека. Быстро устанавливает капельницу и также быстро выполняет только медикам понятные распоряжения врача. Олексе делают еще один укол, и он приходит в сознание. Взгляд скользит по лицам стоящих вокруг него военных, в глазах сквозит беспокойство и страх, которые исчезают, когда он видит стоящего среди чужих ему людей Илька. Он улыбается и снова закрывает глаза. Врач просит всех удалиться до утра. Договариваются, что через несколько дней, когда сердце больного придет в норму, его следует этапировать в специализированное медучреждение, где врачи смогут в нужных условиях заняться его легкими. Если это вообще еще возможно. Супрун перед уходом коротко разговаривает с Олексой, успокаивает его, дает сказать несколько слов Олексе и Ильку. Все покидают санчасть и мотомехдивизион, возвращаются в райотдел. В райотделе высокие гости — начальник областного управления МВД полковник Гриценко и находящийся в командировке в Дрогобычской области начальник отдела из Киева полковник П. Г. Полищук. Оба приехали специально для встречи и беседы со Стефком. Пока это только беседы, не допросы. Официальные, строго по форме допросы будут несколько позже, после выполнения стоящей перед чекистами всех уровней основной задачи — захват или уничтожение в первую очередь главарей вооруженного подполья, наиболее активных участников его. Действия чекистов могут быть активизированы, так как в их руках очутился волею случая известный почти во всех районах области бандит ОУН Стефко, он боевик надрайонного провидныка СБ Игоря, поиски которого в надежде выйти на Лемиша ведутся не один год и пока безуспешно.
Ильку дают короткое время на совместную с Супруном еду, доставленную кем-то из сотрудников из привокзального буфета и внесенную в кабинет той же миловидной секретаршей из приемной начальника. Беседа-допрос вновь продолжается уже в кабинете Червоненко. Присутствующие еще двое солидных по возрасту и по внешнему виду мужчин, судя по обращению к ним Супруна и Червоненко, по мнению Илька, большие начальники «безпеки». После длительного и активного разговора солидные «дядьки», как назвал их про себя Илько, приходят к выводу, что шансы выйти на Игоря и Романа с помощью Грицька и Стефка пока минимальны. Но в любом случае чекистам удалось при содействии Стефка установить еще неизвестные органам госбезопасности связи, которые можно использовать втемную для выхода на Игоря и Романа. Но как?
Илька отводят под охраной сотрудника в узкий и темный без окон чулан, где стоит узкая металлическая кровать, заправленная шерстяным солдатским одеялом с плоской подушкой. В углу ведро-параша. В другом углу пустой ящик из-под какой-то гастрономии типа макарон, на котором эмалированный чайник с водой и такая же кружка. На двери вырезан небольшой квадрат, чтобы в чулан проникал свет из освещенного коридора. Супрун сказал ему, что пару дней он будет ночевать в этом темном чулане. Так надо. Если потребуется, рядом с дверью находится охрана. Вызовут дежурного офицера. Перед уходом в камеру-чулан Илько все же говорит Супруну, что у него вши. От них не скроешься, они почти у всех подпольщиков-партизан, кто ночует в селах. Супрун смеется и говорит, что это их не пугает, так как все носильные вещи Илька и постельные принадлежности в камере будут продезинфицированы, а сам Илько завтра же пройдет санобработку в дивизионе, где сейчас в санчасти лежит его друг Олекса…
Гриценко, Полищук, Червоненко и Супрун продолжали обсуждать полученную от Стефка информацию по связям Игоря, его помощникам-пособникам в селах, о каналах связи с другими оуновскими вооруженными группами. Почти все рассказанное Стефком не было известно чекистам. Это была хоть и небольшая, но победа. Полученые данные давали реальную перспективу не только активизировать поиск Игоря с Романом, но и выйти с помощью этих данных на другие банды, а может быть, и на самого Лемиша. Вряд ли чекистам удастся захватить Игоря живым. Он достаточно ими изучен. Вряд ли удастся сломить его идеологически. Он не очень-то политически грамотный фанатик. Но именно такие как Игорь — руководители среднего звена подполья — представляют не меньшую опасность, чем окружные провидныки, члены провода ОУН. Это не рядовой бандит Чумак или Карпо. Таких еще можно сломать. Кроме того, и это, наверное, самое основное, ни Игорь, ни Роман живыми сейчас не нужны. Им много раз предлагалось выйти с повинной, обещалосьт простить их тяжкие преступления перед советской властью. Они не ответили на предложение органов, напротив, Игорь устроил проверку Роману, и тот по его команде расстрелял в упор разведывательно-поисковую группу, убил и ранил нескольких солдат. Делал это осмысленно и не в бою. Почему вышел с повинной Стефко? Он сам сломался психологически от безнадежности своего положения, от недоверия Игоря и Романа к нему и от страха потерять друга своего Олексу. От собачьей жизни в лесах, бункерах, от вечного страха быть в любую минуту убитым.
— Но вы уловили, товарищи, — продолжал рассуждать полковник Полищук, — на основании тех данных, которые нам дал Стефко, ясно, что Игорь очень скоро сможет не только связаться с Шуваром, Уляном, с Лемишем. Он, может быть, даже раньше, чем Лемиш, найдет самостоятельные пути ухода на Запад. И это он сам сказал своим боевикам. Вот ведь мерзавец какой! Как это говорил нам Стефко: Игорь поклялся перед ними: «Ну, хлопцы, Советы долго будут помнить нас. Мы перед уходом на Запад ликвидируем Червоненко, Супруна и приехавшего к ним представителя Киева». Нам еще этого теракта не хватало! Тебя, Михаил Петрович, особо касается, ты уже однажды пережил свою смерть.
Офицеры долго обсуждали полученные от Стефка новые для них данные и пришли к единогласному выводу: оставлять «в живых» явившихся с повинной Грицька и Стефка оперативно нецелесообразно. В «живом» виде они окажут меньшую помощь госбезопасности, так как Игорь не будет в дальнейшем использовать те связи, которые были известны сдавшимся бовикам. Их надо ликвидировать, но как? Надо сделать так, чтобы сохранить им жизнь и в то же время убедительно продемонстрировать их смерть местному населению, от которого Игорь обязательно и скоро получит точную и достоверную информацию о «гибели» в бою своих товарищей — Грицька и Стефка.
Полковник П. Г. Полищук, известный в госбезопасности Украины мастер оперативных комбинаций, предложил остроумную комбинацию, основанную на психологическом эффекте. Он предложил поискать по местным областным моргам трупы молодых мужчин, внешние данные которых могли бы соответствовать Олексе и Ильку. Одеть их во френчи и галифе, фуражки, но без сапог. Сапоги на мертвецов не натянешь. Подгримировать. Да так положить тела на землю, чтобы лица не очень-то просматривались. Время выбрать сумеречное, под вечер. И самое главное — в ногах якобы убитых в бою бандитов поставить известный всему селу керосиновый бачок яркой окраски. Ни Маращуков, ни Мотри, живущих на окраинах села, на опознание решили не приводить. Тем более что никто и никогда из селян добровольно на опознание не идет. Все знают, какое это неприятное мероприятие, и селянину, выгнанному солдатами из хаты, ох как не хочется смотреть на убитых.
Через два дня, имитировав около села бой с бандой, в Пидднестряны чекистами на грузовике были доставлены два трупа «убитых» бандитов для опознания. Их положили рядом с сельсоветом под березами. На улице быстро темнело. Лицо одного из «убитых» было «разбито», залито «кровью». На голове его была зимняя шапка с прикрепленным к ней трезубом. На голове другого — фуражка военного образца и тоже с трезубом. На офицерском советского образца ремне четко виднелся вместо звезды латунный трезубец. В ногах «убитых» стоял, распространяя запах пролившегося из него керосина, вероятно недавно полученного бандитами у жителей этого села, известный на все село, много раз и в разные времена наполнявшийся керосином жестяной бачок, сохранившийся у хлопцев с незапамятных времен. Ни головные уборы «убитых», ни офицерский ремень с пряжкой-трезубом, так хорошо известные селянам, а яркой окраски такой знакомый керосиновый бачок вызвал у селян мгновенную реакцию:
— Они это, они. Наши хлопцы, сельские, Олекса Звирышин и Илько Иванив. И посуда эта ихняя, керосин они у народа брали.
Потревоженных солдатами и оперативниками селян было человек десять из близлежащих хат. А больше и не надо было — все село по своему сельскому телеграфу будет через полчаса оповещено о случившемся, тем более пару часов назад слышны были выстрелы и разрывы гранат. Чекистская операция по «опознанию» прошла блестяще. Теперь можно было спокойно работать по связям Игоря и ждать конкретных результатов…
Не удалось чекистским медикам сохранить жизнь Олексы. Его долго лечили во Львовском окружном военном госпитале, давали ему самые современные противотуберкулезные препараты. Он в течение нескольких месяцев находился в специализированном санатории, что в Крыму, Симеизе, доставляя немало хлопот местным чекистам, на которых возлагалась ответственность за него, организация постоянного агентурного наблюдения. На всякий случай, мало ли чего. Он умер через два года на руках у Илька в выделенной ему КГБ однокомнатной квартире в новостройке на окраине Львова. Врачами по согласованию с КГБ предлагалось Олексе постоянно проживать в Крыму, а не в сыром климате Западной Украины. Не захотел этого Олекса, так и заявил: «Если суждено умереть, так лучше на своих родных землях».
Спустя много лет товарищи мне рассказывали, что Илько какое-то время жил с возвращенными из Сибири родителями в другом селе и под другой фамилией, а потом учился во Львове, женился и работает инженером на одном из львовских предприятий, воспитывает троих детей.
По игре, завязанной с Игорем тогда же осенью 1953 года, когда он и Роман расстались с Грицьком и Стефком, чекистам удалось выйти на ранее неизвестные каналы связи и успешно завершить операцию по уничтожению опасных государственных преступников, бандитов ОУН — надрайонного провидныка СБ Игоря — Степана Иосифовича Климишина, 1923 года рождения, и его верного боевика Романа — Ивана Кашубы, сына Марьи, 1932 года рождения[183].
Это произошло в одном из сел Дрогобычской области глубокой осенью 1954 года, когда они оба пришли передать «грипс» к своей, как им казалось, самой надежной связи в ответ на ранее полученную здесь же записку от уже ликвидированного органами госбезопасности Шувара и его боевиков. Записка была специально изготовлена КГБ, чтобы заманить Игоря с Романом в последнюю для них смертельную западню. Когда Игорь и Роман теплой осенней ночью появились в известное чекистам время во дворе хаты, в небо ушла осветительная ракета, разорвавшая ночь ослепительным белым светом, и одновременно раздался окрик: «Сдавайтесь, бросай оружие». Принимавшие участие в операции чекисты были уверены в бесцельности этих последних услышанных бандитами в их жизни слов. Но все-таки, чем черт не шутит, возьмут да и сдадутся, бросят на землю свои автоматы, поднимут вверх руки. В ответ мгновенно оба ответили огнем. Звонко защелкал «шмайсер», и гулко затрещал ППШ. Они стояли спиной к спине, принимая свой последний бой. Чекисты ударили из восьми стволов, свалив их на землю, порезав тела тяжелыми свинцовыми струями. Для верности дали еще несколько очередей по уже лежащим. Кто их знает, рванет перед смертью гранату. Запрыгали лучики карманных фонариков. Чекисты подошли к посеченным десятками пуль телам. Они лежали друг на друге, широко раскинув руки и ноги.
Как бессмысленно ушла жизнь из молодых и здоровых парней! За какую идею погибли они? Какой им виделась Украина в темной и днем и ночью глубокой и вонючей яме схрона? За что и во имя чего и кого отдали свои жизни эти украинские парни? Могилы их неизвестны, подвиг их остался невостребованным…
Весной 1954 года были захвачены Лемиш — Васыль Кук и его жена — Уляна Крюченко. Несколько раньше член провода ОУН Орлан (он же Зенон) — Василий Галаса и его жена Маричка — Мария Савчин. На свободе оставалось несколько небольших вооруженных групп, а из руководства ОУН — окружной провиднык Улян, чекистская петля вокруг которого затягивалась все туже. Он укрывался где-то в районе Здолбунове, Ровенской области, около Гурбенского леса. Жить ему осталось чуть больше года…
* * *
Из многочисленных сотрудников, окружавших меня во время работы в оперативной группе, более всех запомнился майор Селиванов.
Учитель химии по образованию, он и внешне напоминал учителя. Во всяком случае он никак не походил на боевого офицера-чекиста, ничего героического в его внешнем облике не было. Между тем Анатолий Иванович рассказывал о себе прелюбопытнейшие вещи. Перед самой войной его, только что окончившего химический факультет пединститута, направили на переподготовку в качестве младшего лейтенанта в одну из частей Красной Армии, дислоцированной в Западной Украине, где он принял свой первый бой.
В 1942 году он попал к знаменитому партизанскому командиру Великой Отечественной Сидору Ковпаку. Был начальником конной разведки одного из отрядов соединения. Зимой 1943/44 года оуновцы захватили спящими в селе нескольких ковпаковцев и зверски замучили их. Узнав об этом, Сидор Артемьевич пришел в ярость: «Какие-то там бандеровцы пленных моих хлопцев мучали, пытали, звезды вырезали на груди, языки отрезали. Селиванов! Делай что хочешь, но чтобы больше ни одного случая подобного с моими хлопцами не было!»
Разведка у Селиванова была поставлена на широкую ногу, как и полагалось конной разведке. Почти в каждом селе имелись свои люди. Они и донесли своевременно о заночевавших в селе нескольких оуновцев. Все было сделано один к одному, как и с нашими партизанами. Бойцы Селиванова захватили спящими оуновцев. Те и протрезветь не успели, как их обезоружили, ручки за спиной связали и увели в лес. На большой поляне рядом с селом штаны с них сняли, а в задницы по толовой свече вставили с бикфордовым шнуром в 20 сантиметров. Сами на коней и вскачь от обреченных. Ровно через 20 секунд прогремели взрывы по числу захваченных. На шее одного из казненных таким способом повесили хлопцы Ковпака дощечку с надписью: «Так будет с каждым, кто убивает партизан Ковпака». В этой зоне отрядов Ковпака больше не было случаев зверских расправ УПА с советскими партизанами. Стычки и потери с обеих сторон были, но без прежнего накала с оуновской стороны. «Сила наказала силу, победил сильнейший», — любил повторять Селиванов…
Как-то мы с Селивановым по срочному делу выехали в Рава-Русскую. Городок этот стоит прямо на границе с Польшей. Машина по дороге сломалась напрочь. Помощи ждать неоткуда, а время поджимает — впереди встреча с ценным источником. Пробовали голосовать. Проходящие на скорости мощные грузовики с сахарной свеклой, несмотря на стоящих на обочине с поднятой рукой вооруженных военных, проскакивали, не останавливаясь. И тогда рассвирепевший Анатолий Иванович снял с плеча автомат и дал очередь поверх проезжавшей очередной машины, которая сразу же остановилась. В кабине грузовика, кроме шофера, было еще двое парней, которые по команде Селиванова разместились на свекле в кузове, а мы наконец-то согрелись в теплой кабине. Хоть и были в полушубках, но за час стояния на пронизывающем зимнем ветру промерзли, как говорится, до костей. Селиванов сказал мне позже, что, если бы грузовик, несмотря на выстрелы в воздух, не остановился, он бы бил по колесам.
Влюбленный в чекистское ремесло, Селиванов и мыслить не мог о другой работе и другой жизни. Был он предельно принципиален, честен и строг к себе и подчиненным. Карьеру, однако, не сделал и дорос только до начальника отделения управления. Смелый был чекист. На его личном счету не один оуновец был, многие десятки боевых стычек. Об этом Анатолий Иванович не любил рассказывать, считая, что делает обычную для того времени работу.
Несколько раз он отстранялся от должности и даже арестовывался за превышение служебных полномочий и нарушение соцзаконности. Каждый случай тщательно расследовался специально созданной комиссией, которая ни разу так и не смогла найти в действиях майора нарушения правопорядка. Дело прекращалось военной прокуратурой из-за отсутствия состава преступления. А случаи с Селивановым были крайне интересными. Вот один из них. Как-то летом 1950 года спецподразделение МГБ в составе роты с несколькими собаками обнаружило группу оуновцев из 4 человек и стало их преследовать. Оуновцы сначала перестреляли собак, а потом, чувствуя, что от погони им не уйти, заскочили в одну из хат попавшегося по дороге хутора и дали бой. Дело было к вечеру, надо им было выиграть время и потом попытаться к ночи прорваться. Долго гремели выстрелы на хуторе. Оуновцев было четверо, а огонь велся с семи точек. Ничего не мог поначалу понять Селиванов. И все выяснилось только спустя пару часов, когда у оборонявшихся кончились патроны и гранаты. Солдаты ворвались в хату, где несколько человек было ранено выстрелами из пистолета четырнадцатилетним подростком, лежавшим у окна с перебитыми пулями ногами. Рядом с ним был автомат с пустым диском. Это был последний живой из находившихся там людей. Кроме четверых оуновцев из обнаруженных в хате после боя еще трех автоматов стреляли пожилая женщина, ее дочь и сын-подросток, оставшийся в живых. Вот почему автоматная стрельба велась одновременно с семи точек.
В этом бою Селиванов потерял восемь солдат. Было несколько человек тяжело раненых. Ослепленный яростью майор вытащил мальчишку на улицу и расстрелял его здесь же, у хаты.
Из органов был уволен. Долгое время находился под следствием. Ему удалось доказать свою невиновность — шел бой, рота понесла большие потери. Было доказано, что стреляли не только оуновцы, но и хозяева хаты. Мальчик-подросток в данном случае тоже участвовал в бою и, даже сам раненый, на глазах у Селиванова стрелял в его солдат и ранил нескольких. Селиванов был оправдан и восстановлен на работе.
Спустя несколько лет Селиванова все-таки уволили, но не за нарушение соцзаконности, а за любовь. Партизан-разведчик, опытный чекист, он привык вести конспиративную, скрытную жизнь. Совсем молодым человеком еще во время войны он встретил девушку, которую полюбил, страстно. Трагедия заключалась в том, что его избранницей оказалась дочь униатского священника, который вскоре после войны был арестован и сослан в Сибирь. Дочери с помощью Селиванова удалось перебраться в другую область, легализоваться, закончить пединститут и устроиться на работу в городе, где трудился ее любимый. Вскоре появился ребенок. Тайная жизнь, тайная любовь, тайный брак. Попался все-таки Селиванов. Разоблачили его и уволили, исключив из партии. Семью свою Селиванов не оставил…
* * *
30 декабря 1953 года я был отозван в Киев, где меня ожидали новая работа и неожиданные изменения в моей жизни.
В связи с работой в опергруппе и участием в ряде чекистско-войсковых операций в очередной служебной аттестации было записано (воспроизвожу по памяти): «С августа по декабрь 1953 года находился в служебной командировке в западных областях Украины, где оказывал посильную помощь местным органам МВД в ликвидации остатков бандоуновского подполья».
На всю жизнь остались в моей памяти события тех дней, которые по своему характеру были настолько примечательны и необычны, что позволило мне более или менее точно воспроизвести их.
Глава пятая
…Закололо в боку, что-то неприятное шевельнулось в больном кишечнике. Возникшие одновременно с болью спазмы внизу живота требовательно напомнили о том, что делает ежедневно каждый здоровый человек. Сделать это в тех условиях, в которых оказался Лемиш, было нечеловечески трудно. Он лег на спину и стал смотреть в раскинувшееся над ним беспредельный голубой купол с изредка проплывающими облачками. Там, за ними, на еще большей высоте замерли без движения перистые облака, сдерживающие солнечные лучи уже по-настоящему летнего солнца, медленно продвигавшегося к зениту. Становилось жарко. Был конец мая. Боль от мучившей его язвы желудка не проходила. Во рту отдавало чем-то кислым. Обилие слюны, которую он часто сглатывал, означало приближающуюся рвоту. Это с ним было и раньше, но в последние месяцы желудок и кишечник все больше подводили его. Сказывались многолетние скитания с места на место, отсутствие мало-мальски нормального питания. Условия подполья и железная конспирация не позволяли ему обращаться к врачу. Усмехнувшись про себя, Лемиш подумал: «За все в жизни приходится платить. Ты расплачиваешься здоровьем. Зато и среди врагов ты известен под именем «неуловимый». Он вновь горько усмехнулся: «Если это плата за все те муки, которые я перенес в своей жизни и, кто знает, сколько мне отпущено Создателем, и какие муки и испытания еще придется пережить, — то это слишком низкая цена. Я не добился свободы своему народу. Я не оправдал надежд подчиненных мне командиров, десятков тысяч павших в неравном бою хлопцев, всех, кто еще верил и верит в меня. У меня один путь — сплотить вокруг себя остатки вооруженных бойцов и уйти на Запад. Другого выхода нет. Правда, можно попытаться уйти в восточные области Украины. С помощью подпольных групп на востоке легализоваться, приобрести документы на другое имя и направить связных в Мюнхен. Если им удастся пробиться, то наладить связь и продолжить борьбу, готовить кадры для организации сопротивления. Всеми силами сохранить боевой дух подполья.»
Так думалось Васылю Куку — Лемишу в теплое майское утро, в густой зелени около одиноко торчащего куста ракиты на окраине большого колхозного поля озимой пшеницы, в селе Кругов Подкаменского района. Лемиш отодвинул от себя лежащий у него под боком автомат и скосил глаза на свернувшуюся в клубочек и целиком уместившуюся на ватнике в метре от него женщину.
Они почти не спали эту ночь, как, впрочем, и все остальные пять ночей, ожидая прихода связного и замерзая от ночной сырости, наползавшей к ночи вместе с туманом от заболоченной низины с маленькой безымянной речушкой-ручейком, из которой они брали воду. Двух фляжек им не хватало, потому что приведший их сюда вуйко смог снабдить только двумя буханками хлеба и полуведром хамсы, приобретенной в местном сельпо. Вуйко был настолько беден, что не было у него ни поросенка, ни коровы. Кормились с огорода. Колхозных трудодней едва хватало на хлеб. Они с Уляной пришли к нему ночью по условному стуку в окно и паролю. Вуйко сообщил, что несколько дней назад к нему заходил один из лесных хлопцев. Он его знал и раньше, псевдо у него Чумак. В хату не заходил. Разговаривали на дворе, за клуней. Он так понял, что был Чумак не один, кто-то еще стоял в стороне. Договорились, что придет к нему человек с женщиной и тоже по паролю. Других людей, кто бы ни появился, без пароля не принимать и в разговоры не вступать. Это опасно. Все кругом контролируется НКВД. Чумак просил вуйко привести пришедших к нему по паролю людей вот в это место, к кусту ракиты. Чумак показал вуйке это место, знакомое ему. Это безопаснее, чем укрываться в селе.
Лемиш который раз прокручивал в голове рассказанное ему вуйкой и приходил к выводу, что Чумак все сделал правильно. В селе действительно было опаснее. Сюда, на конец громадного колхозного поля, никто из местных жителей не ходил. Место отдаленное от села и неудобное для свиданий и встреч девчат с хлопцами. И вода рядом. Куст ракиты — надежный ориентир. От луговой тропки тоже далеко. Идеальное место для укрытия.
Но почему так долго нет Чумака? Этот вопрос возникал уже несколько раз у Лемиша, не вызывая, однако, тревожного чувства. «Все как положено по правилам конспирации, — думал Лемиш. — Надо иметь терпение и уметь ждать. Когда все гладко, тем подозрительнее, так и жди неприятностей в виде подставы советской «безпеки». Когда они с Уляной пришли темной ночью к этому вуйке, точно «вычислив» его хату в селе Кругов по описанию связных, понаблюдав предварительно в бинокль за хозяевами и хатой из небольшой рощицы, где они сделали дневку. Сомнений у них не оставалось, что это именно та хата и те господари, которые им нужны. Переход их из бункера около села Куты на Львовщине, где они провели зиму, в сторону Волыни занял больше месяца. И не потому, что и он, и Уляна несколько дней акклиматизировались после изнурительного тяжелого нахождения в схроне, приходя в себя и набираясь сил для длительного перехода у добрых и надежных людей на хуторе рядом с селом Ясенов. А потому, что до обговоренной встречи с Чумаком или Карпом они с Уляной должны были попасть в район горы Высокий Камень, чтобы в известном только им бункере взять золотой запас подполья. Золота было немного, всего-то пару сот граммов лома и драгоценных вещей, но это было все, что осталось для организации работы в восточных регионах Украины, куда они планировали попасть с помощью Партизана и Чумака. Были у них с собой и деньги. Восемь тысяч советских рублей. Это были не их деньги. Как и золото они принадлежали подполью.
Они двигались по известным только им тропам и, сделав короткую дневку в лесу, вышли к вершине Высокого Камня. Бункер обвалился и попасть в него через люк оказалось невозможным. Они с Уляной работали ножами несколько часов, освобождая завал, и наконец смогли пробраться внутрь. Рискуя быть заваленным сыпавшейся сверху землей, Лемиш выкопал в углу схрона жестянку с золотом и выполз наружу. Замаскировав следы своего нахождения здесь, на горе, они благополучно преодолели оставшиеся двадцать километров и, передохнув в лесу и, понаблюдав из леса за хатой, подошли к обусловленной явке.
Господарь явно был напуган их появлением. Это было заметно по его поведению. И именно это обстоятельство мгновенно развеяло всю подозрительность и настороженность Васыля, мастера и знатока конспирации. На этот раз чекисты перехитрили полковника УПА Кука. Расчет их был правильный — явочную хату использовать втемную, хозяина не вербовать, к операции по захвату Лемиша не привлекать. Можно было спугнуть. Чумака хозяин знал в лицо, поэтому решили разговор с ним проводить на улице — а вдруг хозяин хаты увидит во рту агента неизвестным образом появившиеся металлические зубы. Где это мог вставить себе такие зубы хлопец из леса? Ну а как быть с Лемишем? Тот ведь наверняка заметит новые зубы Чумака. Решили организовать встречу в обусловленном месте в ночное время и провести провидныка с женой Уляной в используемый КГБ бункер в нескольких километрах на север от села Кругов. Насчет зубов у Чумака на всякий случай имелась легенда — положение у подпольщиков в Хмельницкой области и далее на востоке такое прочное, что ему в районной больнице сделали эти зубы как жителю одного из тамошних сел. Все там у них налажено…
Лемиш смотрел на пригретую солнцем и крепко уснувшую Уляну. С жалостью и болью видел ее стоптанные хромовые сапожки когда-то сшитые хорошим сапожником, давно утратившие некогда щегольской вид, на разорванные в нескольких местах и грубо заштопанные чулки. Прогоревшая от костров с наложенными сверху заплатами суконная юбка защитного цвета обнажила стройные и красивые ноги женщины. «Оксана[184], моя дорогая, — думал Лемиш. — Подруга ты моя боевая, сколько же тебе приходится страдать из-за меня. Ты лишена возможности не только воспитывать нашего сына, Юрка, но и видеть его. Где он сейчас, наш Юрко?»
В 1952 году через своих людей Лемишу удалось получить сведения о сыне, который в 1949 году двухлетним малышом был забран у его брата Ивана и определен КГБ в не известный ни для кого из подполья детский приют. За укрытие ребенка одного из руководителей ОУН — УПА тогда же, в 1949 году, младший брат Иван, родители — отец и мать — были арестованы за связь с ОУН и осуждены на 10 лет с конфискацией имущества. И имели-то они всего неполных пять га земли собственной, хату с небольшим садочком и пасеку в нем. Коня и корову большевики тоже конфисковали. «Бедная моя Улянка, — думалось Лемишу, — только большая любовь и совместная вера и борьба за будущее нашего народа могут давать силы этой хрупкой женщине, самому любимому для меня существу на земле. Дай бог силы тебе, Уляна. Потерпи немножко. Скоро уйдем на восток. Там все и определится».
Женщина, как бы чувствуя взгляд, зашевелилась, сладко засопела и зачмокала губами, улыбаясь чему-то во сне. На лице ее и шее, давно не видевших воды и мыла, были заметны темные потеки грязи. На ней были надеты старый темно-зеленого цвета свитер и самодельно переделанный из польского армейского френча жакет с претензией на женский. Поверх свитера широкий армейский ремень с кожаной кобурой немецкого «вальтера».
Продолжая глядеть на женщину, Лемиш набросил плащ-палатку на обнажившиеся от задравшейся во сне юбки ноги. Женщина шевельнулась и, сладко потягиваясь, открыла все еще сонные глаза, полные блаженства и покоя. Такое выражение глаз свойственно только женщинам и кошкам. Она повернула голову и улыбнулась Лемишу.
— Лежи спокойно, спи, пока солнышко греет. Ночью опять не спать. Сегодня точно кто-то придет и заберет нас. Чумак надежный человек. Если бы что-то было не так, нас давно бы Советы постреляли или попытались захватить. Все вокруг спокойно, иначе «энкэвэдисты» давно бы были здесь, пять дней назад. Улянка, я тебя очень прошу, послушай меня. Ты имеешь возможность перейти на легальное положение, укрыться по надежным документам у кого-либо из старых друзей в Днепропетровской области, ты оттуда родом. Найдешь там кого-нибудь. Еще лучше, если ты уедешь, ну хотя бы в Одессу. Я потом найду тебя там.
— Ну что ты мне говоришь, Васылько! Какие надежные люди и где эти надежные документы? Все это было в прошлом. Дай нам бог счастья вместе с тобой закрепиться у наших новых связей через Партизана. У них вроде бы все в порядке, если верить Партизану и его людям.
— У меня нет сомнений в искренности и надежности Партизана и его связных. Он был готов провести зиму с моими хлопцами. Они все вместе были в бункере во время операции чекистов в лесу. Все трое были готовы погибнуть в случае их обнаружения. Что еще может быть доказательнее?
— Все это так, но ты же сам учишь не верить никогда и никому и перепроверять всё и всех. Просто у нас с тобой нет возможностей, как раньше, да и выхода другого нет. Я не понимаю, зачем ты говоришь мне то, чего уже не может быть. Мы оба знаем, что сделать надежные документы мы уже давно не можем. У нас почти не осталось связей. Мы остались с тобой практически вдвоем и уже давно живем в пустоте. Почти все твои командиры погибли. Остались Шувар, Улян, но где они? До сих пор ничего не слышно об Орлане. Нам так и не удалось найти ни Орлана, ни его Марички. Они как в воду канули. Это не те люди, которые просто так исчезают. Их либо убили, либо захватили. Ты ведь знаешь этих людей, они не могли сдаться. Они бы погибли в бою, или уничтожили себя. Так где же они? Нет, Васылько, у нас с тобой нет выхода. Я останусь с тобой до конца. И если мы с тобой выйдем через Партизана на наших людей на востоке, может быть, мы должны попытаться с их помощью как-то легализоваться. Хотя чекистам все известно о нас в деталях, даже наши детские фотографии у них есть. Да и приметные мы, не растворимся среди людей.
— Я не понимаю тебя, Улянка, что же ты предлагаешь?
— Ничего делать не надо. Не надо легализовываться. Они тогда нас обязательно поймают. Скорее всего это произойдет неожиданно для нас, мы не успеем даже застрелиться. Ты много лет на нелегальном положении. Ты не можешь иначе. Если это судьба, мы умрем вместе. Я не хочу другого конца. У нас нет иного выхода. Нам больше некуда идти. Остался только выход на восток. К уходу на Запад мы не готовы. Пока мы в подполье, мы имеем оружие и просто так нас не возьмут. Мы умрем в бою.
— Улянка, мне не нравится твое настроение. Ты просто устала. У нас нет даже более менее сносной еды. Я на эту хамсу смотреть не могу. Все кишки болят от нее. Хозяин правильно сделал, что отказался от денег и не захотел покупать в сельпо других продуктов. Не захотел он и сала взять за деньги у соседей. Откуда у этого вуйки появились деньги? Хамсу-то каждый может себе позволить, она копейки стоит. Нет, правильно поступил этот вуйко. Он очень осторожный, и это хороший признак. А то, что он отказался укрывать нас, так это ему Чумак приказал. И это тоже правильно. Помнишь, как он рассказывал о встрече с Чумаком? В селе не все спокойно. В соседней хате поселился новый председатель сельсовета. Военные часто наезжают. То, что Чумак был не один, тоже хороший признак. Если бы Чумак был провокатором и агентом советской «безпеки» — я это конечно же исключаю, — то он бы пришел один либо с кем-то вдвоем. А как говорил вуйко, что был еще кто-то из хлопцев в стороне, значит, все чисто. Как и положено в подполье. Кто-то всегда должен со стороны прикрывать встречу.
— Почему все же этот хозяин явочной хаты не оставил нас у себя? Он ведь видел, что женщина с тобой. Мы с ног валились от усталости, еле дошли потом до этого места. И еды он дал всего-то несколько отварных картофелин да хлеба шматок. Хамсу-то с хлебом принес только на следующую ночь. Не нравится мне все это. Или люди сострадание и жалость потеряли? Раньше такого никогда не было. Что-то здесь не так. Конечно, ты опытный подпольщик, командир, тебе виднее. Может, ты и прав.
— Все правильно, Улянка, потерпи немножко.
Оба долго молчали. Лежали на спине и смотрели на редкие облака, проплывавшие высоко в небе, подставляя себя нежным и ласковым солнечным лучам. Стало основательно припекать. Воды в последней фляжке оставалось на пару глотков, а до темноты еще целый день. Ушедшая было из кишечника боль вновь проявила себя, и Лемиш, перекатываясь в высокой траве, отодвинулся на несколько метров от лежки и оказался по другую сторону скрывшего его от Уляны широкого куста ракиты. Вытянул из ножен старый немецкий армейский нож с широким и острым лезвием и, выкопав неглубокую ямку, скорчился над ней в позе старой больной птицы, стараясь не подниматься выше густой луговой травы. Тщательно прикопав ямку за кустом, он ползком добрался до своего места рядом с Уляной и лег на спину, расслабившись всем телом и наслаждаясь льющимся сверху из небесной голубизны солнечным теплом. Утомленный бессонными ночами и напряженными переходами, ослабленный плохим питанием организм требовал отдыха. Лемиш лежал, бездумно уставившись в никогда не надоедавшее небо. Постепенно боль отпустила его, и он погрузился в приятную дремоту, прерываемую время от времени глубоким сном.
По старой партизанской привычке он спал чутко, как дикий зверь, улавливая настораживающие его внимание посторонние шумы. Вызывающих чувство опасности звуков не было. Находившийся в нескольких сотнях метров лес жил своей жизнью. Опасность оттуда пока не исходила. В случае появления там чего-либо постороннего, людей например, лес моментально прореагировал бы на это своими сигналами, понятными тем, кто долгие годы укрывался в нем, как в родном доме, кому лес, как и хищному зверю, был самым надежным укрытием. Над лесом не летали любопытные сороки, не кричали глупые сойки и не кружили лесные вороны — первые глашатаи опасности. Нет, все в лесу было спокойно. Из-за колхозного поля, где-то совсем в стороне от села, километра за два, а то и больше был слышен рокот двигателя работающего трактора. Звуки эти то усиливались, то временами почти пропадали. Наверное, трактор делал какую-то свою обычную работу, елозя по полю то в одну, то в другую сторону.
Так Лемиш лежал довольно долго, ни о чем не думая, пока разные мысли вновь не потревожили его. Он перевернулся на правый бок спиной к Уляне, которая, кажется, вновь заснула, накрывшись с головой плащ-палаткой. Глаза его наблюдали среди травы, казавшейся ему густым лесом, совсем чужую и непонятную человеку жизнь снующих туда-сюда муравьев, каких-то совсем мелких букашек, которым никакого и дела-то не было до этих двух людей, как звери прячущихся от подобных им двуногих в глухом уголке пшеничного поля. Он ни о чем не сожалел и не задумывался над ожидавшей его судьбой. Он считал, что все, что он в жизни делал, было правильным.
Иногда он вспоминал своих родных — отца и мать, братьев и сестер. Их у матери было восемь. Все чаще в последнее время мать с отцом, братья и сестры стали приходить в его тревожные сны. Он не мог объяснить себе, почему снилась ему умершая еще ребенком маленькая Ганя. Было тогда Васылю всего-то шесть лет, а ведь как будто вчера похоронили. Снились ему братья, рано ушедшие из жизни в разное время. Кто был замучен и расстрелян поляками, кого арестовала уже советская власть за участие в ОУН и укрывательство его сына Юрка. После таких снов Лемиш просыпался с чувством безысходности и ожидания чего-то страшного, неотвратимо надвигающегося на него и Уляну и на душе становилось тревожно. В последнюю зиму в бункере, где они были вдвоем с Уляной, Лемиш почти ежедневно прокручивал в памяти длинную, как лента кинематографа, свою жизнь.
Вспоминал Васыль, как во время польско-советской войны 1920 года, а было ему семь годков, все уже хорошо запомнил, мать кормила раненых советских красноармейцев хлебом и молоком. Каждому давала по стакану и шмоточку, самим не хватало, а доброе мамино сердце не могло поступать иначе. Тогда впервые маленький Васыль услыхал русскую речь и русский мат. Отцу с матерью очень хотелось, чтобы толковый и смышленый Васылько учился в настоящей школе, в гимназии. Платили из последних сил учителям, чтобы подготовить мальчика для гимназии. В гимназии еще подростком руководил молодежной сеткой (секцией) ОУН. Лемиш вспоминал свою работу в ОУН совсем молодым хлопцем, когда он организовывал с помощью молодежи подпольную сеть в селах, а вскоре стал курьером по доставке оружия, нелегальной литературы и взрывчатки из Кракова во Львов. Помнил Васыль допросы в польской тюрьме, как били его польские жандармы. Стойко держался — ни людей, ни паролей, ни явок не выдал. В тюрьме польской сидел два года. Освободили по амнистии. А потом готовил акцию по экспроприации, закончившуюся провалом. Зная, что арестуют, перешел на нелегальное положение и с тех пор жил, выдерживая тяжелый груз самой строгой конспирации. Боевым командиром был Васыль Кук.
На всю жизнь запомнились ему польские тюрьмы и издевательства жандармов, а посему в руки полиции решил больше не попадать, во всяком случае живым. Всегда носил при себе револьвер, а то и два, и гранаты. Мог легко и свободно организовать людей, зажечь их словом и личным примером. Он хорошо понимал, что такое печатное слово и как оно воздействует на людей и умы их, особенно на души молодых. По указанию центрального провода ОУН создал нелегальную и отлаженную для работы типографию, написал популярную брошюру о правилах конспирации, размноженную потом в этой типографии. Вспоминал Васыль, как со своими друзьями-подпольщиками создал мастерскую по изготовлению ручных гранат и взрывных устройств с часовым механизмом. В подполье Васыля считали большим специалистом по организации и проведению взрывов и применению ручных гранат. Он был автором пособия «Обучение гранатному бою», широко пользовавшегося бойцами УПА.
Часто мысли его обращались к тем дням, когда он незадолго до начала войны Германии с Советским Союзом выступил с докладом на известном всем членам и симпатикам ОУН II большом сборе ОУН. Стояли погожие апрельские дни, у всех участников сбора было такое же солнечное настроение. Не за горами то время, когда вот-вот разразится война Германии с Советами. Конечно же, Германия разобьет Красную Армию. Вооруженные оуновские отряды вместе с германскими войсками войдут в Украину и сразу же пойдет процесс восстановления украинской державности. Об этом всему руководству ОУН доверительно сообщил головной провиднык ОУН Бандера. Лемиш получал обширную информацию из Западной Украины, так как именно он, Васыль Кук, организовывал сбор и получение этой информации с помощью созданного и руководимого им аппарата курьеров и связников, действующих по многочисленным каналам связи на территории бывшей панской Польши и далее на восток, вплоть до Житомира, Винницы и Киева. Именно ему проводом ОУН было поручено создать Центральный штаб походных групп для организации на территориях бывшей Советской Украины, освобожденных от большевиков германским вермахтом, государственного аппарата воссозданной Украинской державы. Эти походные группы составляли до пяти и более тысяч человек. В распоряжении Кука были различные вспомогательные службы и даже обученные и снабженные техникой радисты. Степан Бандера знал о работе в подполье Кука по той отчетности, которую систематически получал с родных земель. Но именно после выступления Васыля Кука на больших сборах в апреле 1941 года с докладом о методах ведения партизанской войны, личным распоряжением Бандеры он был введен в состав членов провода ОУН. Как особо доверенному Бандеры, Куку было поручено организационно-техническое обеспечение и доставка специальной группы во главе с Ярославом Стецько[185] в город Львов, где и планировалось провозгласить восстановление украинской державности.
Кук вспоминал тот день, как один из самых радостных дней в своей жизни. «Вот и сбылись вековые мечты украинского народа, а значит, и мои мечты. Не напрасно я боролся за этот сладостный миг свободы», — часто думалось тогда Куку. Сообщение об аресте Стецько и Бандеры застало Кука в небольшом городке Василькове, что недалеко от Киева, где он и его товарищи ожидали разгрома Красной Армии, окруженной немцами, и падения столицы Советской Украины — Киева. Они были уверены, что немцы так же быстро войдут в Киев, как вошли во Львов. Но бои за Киев затянулись до сентября. Нелегально находившуюся в Василькове группу во главе с Куком обнаружили немцы, арестовали ее и этапировали во Львов. По дороге удалось бежать. Позже Кук узнал об истинном положении ОУН на оккупированных немецкой армией территориях, о судьбе Бандеры и Стецько и понял, что немцы их перехитрили, не дали себя использовать в политических играх ОУН, что немцам, тем более в качестве политической силы, направленной на создание «нового», независимого, «самостийного» Украинского государства, они больше не нужны. Он все чаще задумывался над тем, что, выбрав себе в качестве временного союзника немцев, они ошиблись. Конечно, они были уверены, что вермахт быстро одолеет Красную Армию. Но чтобы вот так, в считанные дни дойти почти без сопротивления до Львова и так же быстро подойти к укрепрайонам Киева — никто не ожидал. Опьяненные своими успехами, немецкие политические круги перестали обращать внимание на каких-то там украинцев, объединившихся в какую-то там организацию. Часть руководства ОУН немцы отправили в концлагерь, другую часть привлекли на свою сторону и с их помощью организовали полицейские формирования для охранных и карательных функций под их, немцев, началом.
И все же, несмотря ни на что, УПА существовала и постепенно приобретала четкие формы слаженно действующих войсковых соединений и отрядов, подчиненных единому командованию. Прошедший в 40-е годы в Германии военную подготовку Роман Шухевич в конце 1942 года порвал с немцами, действовал самостоятельно, но некоторые контакты с оккупационными властями сохранил. Игра продолжалась. Только в конце 1944 года немцы освободили Бандеру из-под ареста, рассчитывая на его помощь в вопросах организации диверсионной работы в тылах наступающей Красной Армии.
«Кто бы мог подумать, что красные так расколошматят хваленый вермахт! Все-таки славяне, хочешь не хочешь, а родственники. Это тебе не немецкие бюргеры», — часто говаривал про себя Кук. Он хорошо помнил то время, когда по указанию центрального провода с отрядом УПА зимой 1944 года перешел советско-немецкий фронт и на стремительно освобождавшейся от немецких оккупантов под ударами Красной Армии территории Западной Украины организовывал партизанские отряды, которые действовали против Красной Армии, в тылу у нее, утверждая себя тем самым как новая украинская власть. Позже Кук объяснил сам себе успехи своих отрядов, временное освобождение сел и некоторых райцентров от советской власти не только численностью и достаточным вооружением, смелостью и умением своих бойцов, а в основном благоприятно сложившейся в тот период для ОУН общей обстановкой. Просто Красной Армии было не до них. Она спешила на Запад, туда, где была Германия, ее главный враг…
Томила жажда. Воды во фляжке больше не было. Солнце же как назло только-только начало клониться к западу, медленно погружаясь в сгустившиеся на горизонте, как густой темный туман, облака.
«Быть сегодня ночью дождю с ветром, — мелькнуло в мыслях. — Да и ноги, особенно в коленях, как всегда на непогоду, заломило. Проклятое болото». Он вспомнил, как в 1949 году, обложенный со всех сторон чекистами, сумел выскользнуть из кольца и уйти через болото, известное своей непроходимостью и опасными трясинными ловушками. Шли через болото с местным проводником. Вуйко был инвалидом с детства, сильно хромал от рождения, в армию поэтому его ни в какую — ни в польскую, ни в русскую — не брали, но охотник был замечательный, знал все тропки местные вокруг. Родная земля всегда помогает. Провел Лемиша с Оксаной и тремя его боевиками через страшное для чужого человека болото. Оставил их на крошечном сухом островке среди заполненных водой болотных плешин, а сам ушел, заверив, что вернется, как снимут военные осаду. Несколько дней ждали его. Дожди пошли проливные. Огня разводить нельзя было. Свои плащ-палатку и ватник отдал Васыль начинающей заболевать Уляне. Плащ-палаток больше у них не было. Правда, хлопцы отдали провидныку один ватник, но и он не спасал от дождя и сырости. На островке одни кусты да трава болотная. От дождей вода поднялась, оставался один маленький незатопленный пятачок без воды. Туда положили больную Уляну. Хлопцы вместе с Васылем в воде сидели. Там и заработал себе Кук вечный ревматизм, тревоживший его всегда перед непогодой. «Мой барометр меня не подводит, — любил шутить Кук.
Солнце ушло в темные облачка, а набежавшие с севера тучи заволокли небо. Быстро темнело. Вдали, где-то за селом сверкнуло и спустя короткое время приглушенно грохотнуло.
— Нам еще для полного рая дождя не хватало, — вдруг мрачно произнесла сидевшая до этого согнувшись, чтобы голова не торчала, Уляна. — Шалаша у нас все равно нету.
Васыль промолчал. Когда-то, много лет назад им понравилась русская поговорка «С милым и в шалаше рай», — и с тех пор они шутили по поводу часто служившего им крышей лесного шалаша, сделанного на скорую руку боевиками. «Хорошо, что Уляна не забеременела», подумал про себя Кук. Последний раз они были близки ранней весной в бункере. Благо вдвоем зиму провели. Такое случилось в их партизанской жизни впервые. Обычно вместе с ними были три-четыре боевика-охранника. Тут не до любви.
Глядя на согнувшуюся Уляну, Кук вспоминал те дни, когда они по-молодому пылко и влюбленно соединялись в единое целое, сливаясь со Вселенной и забывая все на свете. Только глаза, блик которых был заметен и в темноте, выдавали выплескивавшийся из них жар любви. После таких минут Васылю становилось не по себе. Он стыдился этого охватывающего его в такие незабываемые в жизни мужчины мгновенья чувства. Ему порой казалось, что как революционер-подпольщик он не должен иметь права на такую любовь, он не должен расслабляться. И все же он каждый раз замечал в себе после этого поднимающееся откуда-то из души чувство успокоенности и уверенности в себе. Улянкина любовь не опустошала, а наполняла его новой силой. Он любил ее, и возникающее в нем каждый раз желание взять ее внешне почти не проявлялось ни в словах, ни в движениях. Он стеснялся этого, как проявления мужской слабости. Он иногда приказывал себе: «Ты руководитель, командир, тебе подчиняются тысячи людей. Ты отвечаешь за их жизни и за ту победу, к которой ведешь этих людей. Ты не имеешь права на сентиментальность и мещанское чувство, придуманное богатенькими и именитыми интеллигентами, называемое любовью». Он никогда не признавался ей в любви, не говорил красивых и ласковых слов. Не отвечал теми же словами, которыми щедрая на любовь и ласку Уляна каждый раз, когда они соединялись, одаривала его.
В сгущавшейся темноте ему хорошо был виден четкий профиль Уляны, ее красивая чуть-чуть повернутая в сторону голова с уложенной пучком на затылке толстой косой. Переполнявшее его чувство любви к единственному самому близкому человеку на Земле, жене своей Уляне, матери их общего ребенка, зачатого в любви, спрятанного КГБ, быть может, навсегда для них, в не известный никому сиротский детский приют, готово было выплеснуться ласковыми словами. Он повернулся к Уляне, протянул к ней руку, коснулся ее плеча и вместо слов признания ей, такой желанной, повинуясь выработанной за многие годы подполья самодисциплине и контролю над своими эмоциями, сказал:
— Пить не хочешь, Улянка? Темно стало, можно незаметно спуститься к ручью.
Уляна, не отвечая Куку, молча протянула ему пустую флягу. Васыль заглянул ей в лицо. Глаза Уляны устремлены в одну, только ей видимую точку. Губы сжаты в одну узкую линию.
— Устала я, Васыль, — произнесла Уляна и снова замолчала.
Молчал и Лемиш.
— Лучше смерть в бою, чем вот такая жизнь в бесконечных бегах. У меня такое чувство, Васыль, что за нами как будто наблюдает невидимый нами глаз, как будто оттуда, с самого неба. И от этого глаза негде спрятаться. — Говоря это, Уляна вытянула руку высоко над головой, тыча указательным пальцем куда-то в небо.
— Ты просто устала, измучилась. Скоро мы встретимся с нашими друзьями на востоке и определим нашу дальнейшую жизнь. Я в ответе за тебя. Верю в нашу счастливую звезду.
— Да не об этом я, Васыль. Самое страшное это потерять веру в людей, а значит, и в дело наше. Вот что меня пугает. Все меньше и меньше остается с нами верных друзей. Народ запуган бесконечными акциями «безпеки». По всем селам ходят группы военных. Нас разыскивают. Помнишь, что рассказывала перед нашим уходом в бункер хозяйка хаты Ганна?
Лемиш молча кивнул. Уляна продолжала:
— Почти все село перетаскала «безпека» на допросы. Все о нас расспрашивают. Люди стали нас боятся. Я это кожей чувствую.
Лемиш вздохнул и тяжело поднялся с земли. Стемнело окончательно и можно было стоять, не рискуя быть обнаруженным посторонними со стороны. Он сумел за день отдохнуть и выспаться. «Не надо показывать Уляне, что мне, как и ей, тоже не очень-то хорошо. Что и меня мучает безызвестность будущего. Сейчас главное — сохранить уверенность в себе и зарядить этой уверенностью Уляну. Не хватало мне еще ее истерик», — думал Лемиш, сбегая по склону холма к тихо журчащему у его подножья родничку, ручеек которого через несколько метров исчезал в заросшем камышом и тиной маленьком болотце, которое весной и осенью разливалось, пробиваясь узкой водной дорожкой куда-то далеко-далеко за поля и холмы, высыхая к лету. Лемиш утолил давно мучившую его жажду и с полными флягами так же быстро поднялся к Уляне. Она ждала его наверху, стоя у куста, и делала гимнастические упражнения, разминая затекшее от долгого дневного лежания тело.
— Ты прости меня, Васылько, — тихо произнесла Уляна и прикоснулась рукой к его щеке. — Все-таки я баба, а не мужик. С нами такое бывает. Не обращай внимания. Я действительно очень устала, но все это уже прошло.
— Я тебя понимаю. Тебе тяжелее, чем мне. Женщине в подполье всегда труднее, и я благодарен судьбе, что послала мне тебя.
Они долго еще стояли у куста ракиты, тесно прижавшись друг к другу и переговариваясь шепотом. Время от времени замолкали и внимательно вслушивались в ночь. Далеко за селом временами все еще глухо перекатывались раскаты грома и изредка вспыхивали синими стрелами молнии. Гроза проходила стороной. Над ними тоже было темное, покрытое сплошной облачностью небо. Отсутствие луны и звезд делало ночь еще более темной. Неожиданно упали первые капли начинающегося дождя и через несколько минут он забарабанил по накинутым на их плечи плащ-палаткам.
Дождь кончился так же неожиданно, как и начался. Посветлело. Сырость и прохлада проникали за одежду. Ноги устали, но ложиться на мокрую землю не хотелось. Внезапно в стороне от их лежки послышался какой-то звук, произведенный, вероятно, человеческой ногой, столкнувшейся с камнем или торчащим из земли корневищем. Они оба молча расстегнули кобуры пистолетов и извлекли свои «Вальтеры». Автомат в такой ситуации пока не годился — надо передергивать затвор, а это было бы слышно в ночной тишине и выдало бы их присутствие. Пистолеты же самовзводные и патрон всегда в патроннике. Снятие с предохранителя производится бесшумно. Они продолжали стоять и, казалось, слышали звуки шумно и часто работающих сердец. Шелест травы от чьих-то шагов послышался справа и туда же сразу вытянулись две руки с пистолетами. Оба знали, что идет человек и что это может быть только приведший их сюда вуйко или связной. Тем не менее они никогда не исключали поджидавшую их опасность. Шаги замерли и они услыхали такое знакомое цоканье языком: 2–1–2 и снова: 2–1–2. Лемиш отодвинулся на несколько метров от Уляны, так, на всякий случай, и ответил таким же цоканьем. И из ночи донесся громкий шепот:
— Друже провиднык, это вы?
Чумак, с которым они расстались осенью прошлого года, стоял перед ними живой и невредимый, держа в руках знакомый им автомат ППС. Субординация не позволяла всем им обняться и расцеловаться, как и подобало бы при таких случаях, как эта затянувшаяся встреча. Но по тому свистящему шепоту, которым Лемиш расспрашивал Чумака о новостях с востока, и по вопросам, которые задавала Уляна, перебивая мужа, было понятно, что радости от этой встречи нет границ. Все в них ликовало. И от прихода связного, и от той информации, что он успел передать у этого так надоевшего им куста ракиты, и от того, что все наконец-то закончилось благополучно, и от завершения той длительной операции по переходу на восток, которую они начали планировать более года назад.
— В село нам нельзя, друже провиднык, — начал после коротких и радостных расспросов Чумак. — Там сегодня военные остановились. Да и вообще там опасная обстановка. Я господаря предупреждал. Он вам это говорил. Тут недалеко, пару километров, есть наша крыивка. Там можно надежно укрыться и спокойно отдохнуть день-два, чтобы двигаться дальше. Переход большой, километров сто. Решайте, друже провиднык. Если вы готовы, мы можем сейчас же двинуться в путь. Я прибыл в этот район вчера на рассвете, день провел в бункере. Со мной два боевика от Партизана, но они присоединятся к нам позже на маршруте. В этом районе мы заметили движение военных на машинах, и появление неизвестной группы людей. Одному мне было легче передвигаться.
— Все правильно, друже Чумак. Мы с Оксаной смертельно устали, не спали несколько ночей. Дни тоже были тревожными. Лучше отдохнуть.
Чумак упаковал в вещмешок остатки хамсы, хлеба, расправил примятую траву. Через несколько минут группа тронулась в путь. Чумак, как всегда, шел быстро, Лемиш и Оксана с трудом за ним поспевали. Наконец, Лемиш попросил идти медленнее. Только по известным одному ему приметам Чумак точно вывел их к бункеру. В темноте ни Лемиш, ни Оксана не сориентировались на местности. Они даже не определили точное место лесного массива, который в общем-то был им известен. Оба смертельно устали. Чумак первым спустился в бункер, помог Уляне и Лемишу, придерживая их на лестнице. Зажег керосиновую лампу, осветившую укрепленные толстыми ветками стены, прочно сколоченные одинарные и достаточные для двоих нары. Дощатый столик рядом со входом у лестницы и два грубо сколоченных табурета. Это был старый и хорошо оборудованный схрон. Чумак сел на один из табуретов и, положив свой автомат на стол, молча смотрел на севших напротив него Лемиша и Оксану-Уляну. Первым нарушил могильную тишину схрона Лемиш:
— Друже Чумак, мы поспим пару часов, сил нет больше бороться со сном. Разберите и смажьте мой автомат. Я его давно не чистил, — и протянул Чумаку американский автомат с обрезанным боевиками-умельцами прикладом.
— Друже провиднык, я не знаю этой системы, не смогу разобрать автомат.
Улыбнувшись, Лемиш ловким и уверенным движением в несколько секунд разобрал автомат, вынув предварительно магазин. Разобранные части оружия лежали перед Чумаком на столе.
Лемиш и Уляна сразу же освободили себя от ремней с пистолетами и сумками и, не снимая сапог, повалились навзничь, мгновенно уснув. Чумак какое-то время внимательно смотрел на лежавших перед ним мужчину и женщину. Увеличил огонь в лампе. Встал и зажег свечу, укрепив ее на противоположной от спящих стороне. «Пусть светлее будет, а вдруг схватка, их все-таки двое, собьют лампу, свеча останется, в темноте мне будет труднее», — думал Чумак. Движения его рук были несколько суетливее, чем обычно. Он волновался, такое с ним случилось, наверное, впервые в жизни. Он никогда не испытывал ни паники, ни страха. И вдруг здесь, в бункере, когда все выстраданное им в прошлом осталось позади, нервы его сдали. Ему стало страшно. И не от того, что эти люди могут сейчас проснуться, прочитать его мысли в голове. Убить его из еще имеющегося у них оружия — вот оно, рядом с ними на снятых с пояса ремнях, в кобурах. Два безотказных «Вальтера». В голове мелькнуло: «Разбудить их? Рассказать, что был захвачен советской «безпекой», что не сумел подорваться вместе с врагами, что стоял до конца. Провиднык поверит и не накажет его. В подполье было твердое правило — сам рассказал, без принуждения, никто тебя пальцем не тронет, тебе все простят и даже подозревать не будут. Но почему ты тогда не сказал о своем предательстве там, в поле, у ракитного куста? Тогда это было бы логично и оправданно». Он почему-то вспомнил слова своего нового начальника Николая Ивановича: «Ты не изменяешь присяге УПА, Мыкола. Ты даешь новую присягу, новой твоей службе и работе. Ты будешь помогать украинскому народу избавиться от крови и боли. Захватить живым их руководителя, чтобы с его помощью вывести из подполья остатки тех, которые все равно рано или поздно будут нами уничтожены. Ты окажешь величайшую услугу и помощь прежде всего многострадальной Украине, ее народу. Ты становишься бойцом за новую Украину, за ее счастье».
Чумак своими глазами убедился в могуществе Советской Украины. Он видел счастливых людей, работающих у станков и у домен, шахтеров и колхозных хлеборобов. Он встречался с ними же в южных санаториях, разговаривал с большими советскими начальниками. Почти все они говорили с ним на украинском языке и были украинцами. Он навсегда запомнил усатого и пожилого генерала с изуродованной рукой в Хмельницком управлении госбезопасности, который так напомнил ему обычного вуйку, надень на него сельский брыль[186]. Нет, он, Мыкола, выбрал новый и единственно правильный путь. Правда, и выбора у него другого не было. Но ведь прав Николай Иванович. Заблуждались они в оуновском подполье. Войну Запад так и не начал. Дураки они, американцы, самим сгореть в этой войне! Вон какая сила Советский Союз! Какая мощная армия! Разбили все-таки они нашу УПА. Не нарушал он присягу. У него сейчас другая присяга, и он будет верным бойцом за ставшую ему родной Советскую Украину.
Чумак решительно встал и повернулся к спящим Лемишу и Оксане. Два шага и он вплотную подошел к нарам. Протянул руки и взял лежавшие рядом с крепко спавшими портупею провидныка с прицепленной к ней гранатой, ножом и пистолетом. Кобура пистолета жены провидныка и часть ремня оказалась у нее под спиной. Чумак осторожно потянул к себе ремень. Женщина не проснулась. Он разрядил пистолеты. Вынул запал из гранаты. Ни Лемиш, ни Оксана не пошевелились. Они продолжали спать. Тогда он приподнял все еще продолжавшего спать Лемиша и посадил его к стене. Провиднык продолжал спать. То же самое он проделал с Оксаной. Она всхрапнула и встрепенулась. Чумак сел за стол. Ствол его автомата был направлен в сторону сидевших на нарах. Женщина проснулась и закричала. Даже тогда, когда он казнил по приказу своих командиров людей, среди них попадались женщины, он не слыхал такого страшного крика, похожего скорее на вой волчицы, угодившей в смертельный капкан. Женщина смотрела на Чумака глазами полными ужаса и недоумения. Лицо ее искажала гримаса отвращения и боли. Проснувшийся после короткого, как беспамятство, сна Лемиш пришел в себя и, повернув голову в сторону Чумака, смотрел на своего уже бывшего связного глазами, выражающими сожаление, горечь и боль от случившегося с ними. Он не впал в истерику, как Уляна. Он пытался найти выход, что-то предпринять и хотел поймать взглядом глаза преданного ему в прошлом человека, никогда не вызывавшего у него и тени подозрения. Чумак явно боялся встретиться взглядом с некогда обожаемым им командиром, а ведь он раньше считал за счастье умереть за своего провидныка. Лемишу так и не удалось посмотреть в глаза своему связному. Чумак сознательно отворачивался от него, смотрел в сторону Уляны. Глаза Уляны горели гневом и ненавистью. Она неожиданно для Мыколы плюнула ему в лицо.
— Сдохнешь вместе с «гэбэшниками», проклятый Иуда, — произнесли шепотом, показавшимся всем троим громким голосом, запекшиеся губы Уляны.
Чумак достал из кармана серую от грязи тряпицу, служившую ему носовым платком, и вытер со щеки плевок. Не спуская с сидевших на нарах глаз, медленно пятясь от них, зашел за лестницу, нащупал в земляной нише «Тревогу» и нажал на кнопку. Раздался еле слышный и короткий щелчок. «Все, назад пути нет», — подумал Чумак и облегченно вздохнул.
Где-то там, в каком-то райотделе ГБ зажглась сигнальная лампа на контрольном щите и раздался звонок, который мгновенно взметнул наверняка дремлющего дежурного офицера, сразу же поднявшего на ноги «тревожную группу»: «Сигнал от Чумака. Лемиш захвачен или убит. Тревога»…
Чумак отодвинулся от включенного им аппарата. В бункере стало тихо. Чумак с автоматом в руках, изготовленным к стрельбе, сидел за столом напротив Лемиша и Оксаны. Он по-прежнему не смотрел в глаза ни Куку, ни Уляне. Взгляд его был где-то посредине между сидевшими на нарах. Наконец, Лемишу удалось поймать взгляд Чумака. Теперь они смотрели друг на друга глаза в глаза. Первым нарушил тишину Лемиш:
— Друже Чумак, мне все ясно и я не требую никаких объяснений. Бог с вами. Он нас когда-нибудь рассудит. Когда здесь будут Советы?
Чумак долго молчал. Было видно, что он хочет как-то ответить на вопрос, но его что-то сдерживало. «Наверное, имеет указание не вступать с нами в разговор», — подумал Лемиш. И вновь обратился к Чумаку:
— Вы хорошо знаете меня, друже. Раз вы дали согласие захватить нас, значит что-то и когда-то я с вами просмотрел. Назад не воротишь. Я не собираюсь уговаривать вас отпустить меня и Оксану. Дело в другом. Мой вопрос «Когда здесь будут Советы?» имеет прямое отношение не ко мне, а к вам, друже. Я знаю, что буду расстрелян большевиками. Я буду убит, как убили генерала Чупринку, а до него других наших командиров. Вы, друже, знаете, что на допросе у чекистов я им ничего не скажу ни о моей работе, ни об оставшихся в подполье связях. Не скажу я им и о том, что хочу сейчас сказать вам. У меня в кожаной сумке, которая лежит на столе, немного золота и восемь тысяч рублей. Возьмите все это себе. Вам пригодится. Вы молодой. Вам еще долго жить. Я не хочу, чтобы деньги подполья достались Советам. Придет время и вы реализуете золото — это всегда те же деньги. Взамен мне ничего не надо. Повторяю — я не хочу, чтобы это попало большевикам. В сумке имеются и документы, отчеты, мои записи. Пусть они все изучают, все равно без меня не разберутся.
Чумак, не отводя направленный в грудь Лемиша ствол автомата, продолжал хранить молчание, угрюмо глядя на провидныка.
— Как хотите, друже. Мне жаль, что деньги и ценности пропадут. Вы смогли бы всем этим воспользоваться, деньги и драгоценности все-таки. Без всякого риска. Жаль.
Снова в бункере нависла гнетущая тишина. Наконец, Чумак мрачным голосом ответил Лемишу:
— Друже провиднык, я не за гроши працюю[187].
Лемиш посмотрел на Чумака с удивлением и спросил:
— А за что же вы працююте, друже?
И неожиданно услышал произнесенный хриплым от волнения голосом:
— Друже провиднык, я працюю за идею, а не за гроши.
Больше разговоров в бункере не было, все напряженно ждали появления чекистов. Еще до того как посадить к стене бункера еще спящих Лемиша и Уляну и включить «Тревогу», Чумак открыл вход в бункер, отбросив далеко в сторону деревянную крышку люка. Спешившим к месту завершения операции сотрудникам госбезопасности легче найти вход в схрон.
С момента включения Чумаком аппарата «Тревога» прошло чуть больше часа, когда наверху раздались торопливые шаги и приглушенные метровым слоем земли голоса, проникающие через отверстие входа в бункер. Перед тем как спуститься в бункер осторожные чекисты все же громко крикнули сверху:
— Мыкола! Ты живой? Что у тебя в бункере происходит?
— Здесь я, хлопцы, здесь, — сразу же среагировал Чумак, узнав по голосу Партизана.
Однако вместо Партизана в бункер торопливо спустились два оперработника. Это были совсем молодые уже знакомые Чумаку по его новой работе сотрудники госбезопасности, к которым он обращался по именам Вадим и Валентин[188]. Оба одеты в новую летнюю полевую форму, хромовые перепачканные мокрой грязью сапоги. Офицерские ремни без портупей. Головных уборов на них нет. В руках пистолеты ТТ и мощные ручные фонари. Впрочем, пистолеты были сразу же убраны в кобуры. Поставленные на стол электрофонари залили ярким белым светом маленькое помещение бункера. Валентин занялся обыском Лемиша и просмотром изъятых у него сумки, оружия и полупустого вещмешка. Более сложное досталось Вадиму — он должен был обыскать Уляну и просмотреть ее вещи в небольшой торбе[189]. Вадим начал с торбы.
Обмылок когда-то ароматного и дорогого туалетного мыла. Полувытертая зубная щетка, несколько носовых платочков, застиранные, неглаженых, но чистых, смены нижнего женского белья, некоторые женские принадлежности, несколько фотографий с сыном, аккуратно перевязанных голубой ленточкой и этой же лентой прикрепленных к небольшому зеркалу, чтобы не мялись. Весь немудреный скарб Оксаны. Вадим чувствовал на себе ненавидящий взгляд жены Лемиша. Ему не хотелось прикасаться к этой женщине, заведомо зная ее внутреннюю реакцию. Он же мужчина, а она молодая и красивая женщина. Ой как не хотелось Вадиму делать то, что на официальном языке называется «произвести личный досмотр и обыск». Он мысленно представил, как будет реагировать на его руки женщина. Но выхода не было. Это спустя много лет в подобной операции должна была бы со стороны чекистов участвовать женщина — сотрудник госбезопасности.
Вадим встретился с ее взглядом. Холодок пробежал по коже — столько ненависти и гнева было в глазах женщины. Лемиш сидел на табурете в углу бункера, опустив голову, и, казалось, оставался безучастным ко всему происходящему вокруг него. Обыскивавший его сотрудник ГБ был плотным, крепкого телосложения молодым парнем с желтыми рысьими глазами, добродушным круглым, покрытым сплошными веснушками лицом и густой шевелюрой рыжевато-темных волос. Второй, обыскивавший Уляну, был такой же молодой, но высокого роста, с красивым, слегка вытянутым лицом с четко очерченными губами, мужественным, с еле заметной ямочкой подбородком и породистым мужской формы носом, который и определял красоту этого рослого офицера. Светло-русые коротко стриженные волосы падали на лоб и он часто и резко отводил их рукой. Высокий красавец блондин приблизился к Уляне и, протянув правую руку, положил ее на плечо женщины.
— Снимите, пожалуйста жакет и свитер, я вынужден вас обыскать.
Уляна подняла голову и, глядя в лицо блондина, произнесла:
— Я женщина, вы не имеете права.
— Для меня вы не женщина, а государственная преступница, жена задержанного и арестованного органами государственной безопасности руководителя бандеровского подполья Лемиша — Кука Василия Степановича. Вы Крюченко Уляна, известная в подполье как Оксана. Раздевайтесь или мы применим силу.
Блондин быстро провел ладонями рук по ее бокам, груди, спине и бедрам. Оружия не было. Ульяна медленно сняла жакет и стянула свитер. Теперь она стояла перед тремя молодыми мужчинами в одной заношенной мужской рубашке, которую носила вместо женского белья. Было заметно, что она была без бюстгальтера. Так ей было, наверное, удобнее в суровых условиях походной жизни. По требовательному жесту руки блондина она так же медленно, как и жакет, стянула через голову юбку и осталась в одних трусах перед чекистами. Руки обыскивающего прошлись по ее животу и ягодицам, медленно и тщательно прощупали резинку в верхней части трусов, снимать которые ни она, ни чекисты не решились. Чумак отвернулся и смотрел в сторону. Все-таки жена его хоть и бывшего, а большого командира. Оба чекиста тоже чувствовали себя неловко, но они делали свое дело и выполняли свой долг. Чекисты прощупали всю одежду задержанных, включая нижнее белье и обувь. Возможно, искали спрятанные в одежде документы, особо секретные записи. Не нашли. Уляна с неиспытанным никогда ранее в ее жизни отвращением чувствовала на своем теле омерзительное прикосновение рук так тщательно обыскивающего ее блондина. Обыск окончен.
Задержанные Лемиш и Оксана с помощью чекистов, поднимаются на поверхность. Там их подхватывают чьи-то руки стоящих вокруг люка людей. В окружении нескольких человек их отводят на несколько метров от люка. Все молчат. Из люка показываются обыскивавшие задержанных чекисты. Последним на поверхность вылезает долговязый Чумак. В руках у него все вещи Лемиша и Оксаны, их оружие. Ствол так и не собранного американского автомата торчит из вещмешка. Среди стоящих у входа в бункер старые знакомые Лемиша — его связной, работавший в паре с Чумаком, Карпо, а рядом с ним наверняка тот, кто был известен провидныку как Партизан. Лемиш не ошибся, это был именно он, Партизан, на которого возлагал свои последние большие надежды Лемиш, не окажись тот подставой советской «безпеки», действовавшей от легендированного чекистами провода ОУН. Плотный чекист с рысьми глазами, обыскивавший Лемиша, тихим, спокойным, но достаточно властным голосом отдает команды, по которым можно сделать вывод, что он здесь старший. Все приходит в движение. Чумак и Карпо закрывают люк, маскируют вход в бункер. Впереди вытянувшейся цепочки из двенадцати человек идут Чумак, Карпо и Партизан, за ними в окружении нескольких чекистов с автоматами наизготовку Лемиш и Оксана. Замыкают шествие те двое, которые обыскивали арестованных. Маленькая колонна движется быстро. Бункер находился на опушке леса, и какое-то время группа идет лесом. Через несколько сот метров открывается большая поляна, которую пересекает лесная дорога. На ней стоит небольшой автобус и два крытых брезентом ГАЗ-69, куда по отдельности помещаются Лемиш и его жена. Все происходит быстро по заранее отработанному четкому плану. Никакой суеты, лишних движений и действий. Лемиш и Оксана в разных машинах плотно прижатые с двух сторон чекистами. Машины медленно с включенными подфарниками, чтобы явно не выдать своего присутствия в лесу, движутся по ухабистой лесной, а затем и полевой дороге и выбираются на шоссе. Теперь уже с включенными фарами мчатся по хорошей дороге и вскоре вьезжают в известный Лемишу и Уляне районный центр Золочев. Короткая остановка в местном райотделе и через несколько минут машины выезжают в сторону Львова. Перед городом сворачивают к военному аэродрому, где арестованных грузят в военно-транспортный самолет, берущий курс на Киев…
* * *
Все те, кто участвовал или имел отношение к захвату Лемиша и Уляны, или по роду службы знал об этом, от шоферов и техперсонала, от рядовых оперработников до руководителей подразделений, дали особую подписку о неразглашении. Захват Лемиша и содержание его с женой во внутренней тюрьме КГБ Украины считалось государственной тайной. Лемиша и Уляну продолжали «разыскивать». Территориальные органы КГБ по-прежнему получали ориентировки и указания по розыску этой пары, тысячи людей оставались задействованными в проведении розыскных мероприятий. Указ Президиума Верховного Совета о расстреле Лемиша имелся давно, как и приговор Верховного суда. Но имелось и решение инстанций о возможном использовании Лемиша в пропагандистском плане в случае его захвата живым, что и произошло. Органы ГБ Украины, действуя по указанию ЦК Компартии, планировали широкомасштабную кампанию по разоблачению оуновского движения, деятельности зарубежных центров ОУН в Западной Украине. Пусть нет больше, как это было раньше, в конце 40 — начале 50-х годов, огневых столкновений с повстанцами при проведении чекистско-войсковых операций, но остались в живых тысячи тех, кто в прошлом участвовал в сопротивлении, вышел с повинной, но, по сути, не изменил своих убеждений, остался сторонником, а может быть, и участником ОУН, глубоко замаскировавшимся, временно затаившимся под видом тихого и мирного гражданина Украины. Тысячи высланных в далекую таежную Сибирь и степи Казахстана бандпособников и симпатиков не расстаются с идеей «самостийной неньки — Украины». Вот почему крайне важно обращение ко всей Украине, ко всем украинцам от такого лидера сопротивления как полковник УПА Васыль Кук.
Ни Москва, ни Киев пока не имели ясного и четкого представления, что делать дальше, как использовать наконец-то попавшего в руки органов этого матерого врага. Расстрелять его было бы слишком простым и оперативно неоправданным решением. Пока он был нужен живым, там будет видно. Может быть, удастся склонить его к сотрудничеству, заставить поработать на советскую власть. Такого уровня лидера ОУН, попавшего живым в руки чекистов, в госбезопасности еще не было. А вдруг Лемиш, убедившись в безысходности своего положения, даст согласие и окажет помощь в широком пропагандистском плане? Эффект был бы огромнейшим. Еще бы, сам Лемиш призывает к сотрудничеству с советской властью непокорных украинцев. Заграничные центры ОУН сразу же практически прекратили бы свое существование. Игра стоила свеч, и органы госбезопасности ничего для этого не жалели. На Запад по каналам госбезопасности ушла информация о продолжающихся активных поисках Лемиша и еще остававшихся на свободе Шуваре, Уляне и некоторых других командирах ОУН. «Проявляло» себя и специально легендированное органами госбезопасности подполье.
Все складывалось как нельзя лучше. Настораживало, однако, пока еще не полностью раскрытое и понятое чекистами поведение Кука. То, что он не все рассказывал, было понятно. «Ничего, — думали чекисты, — придет время и сам заговоришь без вопросов. Поймешь, чем может кончиться твое сопротивление. Не таких обламывали». Вспоминали при этом жесткого, физически и духовно сильного Охримовича, которого, как казалось чекистам, удалось склонить к сотрудничеству, если бы не ошибка при неудачном захвате его невесты Зоряны Кубрак. Других руководителей окружного масштаба, в разное время попавших в руки органов, с помощью которых были проведены различные оперативные мероприятия как по захвату или уничтожению оставшихся на свободе оуновцев, так и по созданию легендированных бандбоевок и подполья, действовавших под контролем госбезопасности.
Никак не могло согласиться большинство работавших с Куком чекистов и почти все руководство КГБ с мнением тех своих сотрудников, которые после первых же бесед с Лемишем уловили в глубине его глаз бесстрашие и мужество. «Такие не только не сдаются и не идут на сотрудничество и вербовку, а пытаются использовать свое положение во вред советской власти. Разумеется, с такими надо работать до конца, имея в виду получение интересующей нас информации, но в конце концов, особо не затягивая, расстрелять с широкой публикацией этого законного и справедливого акта возмездия», — убежденно говорили эти товарищи.
Особую позицию занимал начальник отдела Николай Иванович. Он считал, что в любом случае, при любых ситуациях и при любом исходе дела расстрел Кука нецелесообразен и неоправдан. «Советская власть — сильная власть. Надо показать всему миру, всем проживающим за рубежом украинцам, что мы умеем прощать даже нашим врагам. Они нам не страшны. Мы сильнее их», — так комментировал складывающуюся вокруг Кука ситуацию этот человек. Сейчас вспоминая слова Николая Ивановича, я уверен, что им руководил холодный расчет чекиста и политика. Но надо очень хорошо знать Николая Ивановича — он не исключал и чисто человеческое начало: захвачен, а значит, и обезврежен «последний из могикан», действительно последний руководитель оуновского подполья. У него жена, сын, которого, если это будет возможно, вернут родителям. Сама жизнь на свободе убедит Лемиша в бесплодности вооруженной борьбы. Деятельный, умный и образованный человек, Кук под негласным контролем органов будет безопасен. Лемиш — опытный профессионал-подпольщик и, конечно же, всегда будет знать, что органы госбезопасности будут вести за ним наблюдение до конца его жизни. И от этого ему никогда не уйти. Мертвый он превратится в мученика веры и идеи…
* * *
Кук часами смотрел на узкую полоску небесной голубизны высоко под потолком, просвечивающую сквозь густо зарешеченное и заделанное скошенным деревянным коробом окно, чтобы узнику, даже если ему удастся добраться до верхней части окна, не было бы видно, что происходит снаружи. Стекло окна находилось на таком расстоянии от внутренней решетки, что дотянуться до него рукой было невозможно. Камера просторная, сухая, потолки высокие, больше четырех метров. Заправленная чистым солдатским постельным бельем железная кровать создавала видимость жилого уюта. Под продолговатым окном, начинающимся на высоте двух метров, небольшой деревянный стол, такой же деревянный табурет. В углу фаянсовая чаша туалета. Помещение просматривается через дверной глазок, в котором каждые пятнадцать-двадцать минут мелькает ничего не выражающее человеческое око. Все двадцать четыре часа. Даже когда Лемиш спал. Над туалетом высоко под потолком, куда и не добраться, бачок для смыва. Вместо обычной веревочной или цепочной эврики длинная деревянная палка. «Это, наверно, чтобы не повесился», — подумал Лемиш. Он усмехнулся, увидев в который раз за день бесстрастно наблюдающий за ним в круглую дырочку в двери зрачок человеческого глаза. Мысль убить себя не приходила ему в голову. Лемиш был бойцом и знал, что прикончить себя тоже надо иметь силу воли и мужество. Он никогда не считал это слабостью. Те подпольщики, которые сознательно уходили из жизни, не имея возможности погибнуть в бою, делали это только потому, что сама смерть их наносила ущерб врагу. Он снова горько усмехнулся. Почему судьба не дала ему возможность погибнуть в открытом бою? Это могло случиться в любой день его подпольной жизни. Мог умереть совсем молодым, когда вместе с хлопцами занимался экспроприацией при панской Польше. Его могли замучить польские жандармы, расстрелять немцы. Он мог быть убит при попытке к бегству, когда его, арестованного немцами в 1941 году, везли по железной дороге из Василькова через Киев и Житомир во Львов и ему удалось бежать вместе с другими товарищами-подпольщиками. В 44-м, когда он с боями уводил из Восточной Украины через линию фронта в Западную Украину отряд УПА. Десятки боев, когда он стрелял и в него стреляли. Его сотни раз могли убить случайной пулей или осколком, а ведь даже ни разу не ранило.
Он только сейчас, спустя несколько дней после захвата в бункере, проваливаясь в кошмарные сны в одиночной камере, но все же постепенно отдохнув и придя в себя, понял весь ужас своего положения. Лемиш не боялся смерти, в каком бы виде она ни пришла к нему. Пусть его замучают чекисты. Он готов к этому. Пусть его расстреляют. Он готов и к этому. Его сейчас больше беспокоила судьба Уляны. О сыне он почти не вспоминал. Это было давно и далеко от него. Ему казалось, что сын — это где-то совсем-совсем в другой жизни. Как во сне. И близкое и совсем чужое, не свое. В том, что его должны расстрелять, не было у него никаких сомнений. Скорей бы все это закончилось. Думать ни о чем не хотелось. Но мысли всякие и разные лезли в голову, заполняли его сознание, заставляли вспоминать прошлое, отбрасывая всякое будущее, о котором он вообще и не думал. Зачем? Впереди смерть, вечность. Он полон сознания выполненного долга. Перед собой и перед людьми. Перед теми, кем он руководил. Их были тысячи и тысячи бойцов, которые подчинялись ему и беспрекословно выполняли его приказы. Этих людей нет в живых, почти все они погибли в боях. По чьей вине? Он сам до конца выполнил свой долг перед организацией. Он сам до конца был предан идее. Если организации не удалось достичь своей цели сегодня, она будет достигнута завтра другими людьми, другим поколением. В этом у Лемиша сомнений не было. Нет, уверял себя каждый раз Лемиш в мыслях своих тяжелых, чист он перед Богом, Украиной и людьми. Он все делал как надо. Он готов предстать перед Создателем. И перед Страшным Судом ему не в чем покаяться. Много раз он мысленно молился, но не призывал Бога к помощи, не просил Его о снисхождении у чекистов, не взывал к Нему дать силы остаться верным идее. Он был уверен в своих силах до конца выдержать любые испытания, раз Господь не дал ему умереть в открытом бою. Вера в Бога — единственное оставшееся у него оружие. С этой святой верой умирали миллионы, и он такой же, как все погибшие до него в подполье, и ему не стыдно перед мертвыми, ибо он завтра будет вместе с ними по ту сторону жизни.
Он все время возвращался к мысли, как он, опытный конспиратор и подпольщик дал заманить себя в ловушку, позволил обвести вокруг пальца. Он понимал, что не мог поступить иначе, выхода у него не было. В другой ситуации и в другое время он бы разобрался с Партизаном и его людьми. Да и чекисты — достойные противники. У них тоже огромный опыт и конспирации, и борьбы, как они говорят, «с врагами советской власти». Лемишу иногда казалось, что он попал в руки своих врагов случайно. И никакой здесь логики нет. Впрочем, как там у философов — «необходимое проявляется в случайном». Раз так масштабно за ним охотились, значит, по логике рано или поздно должны были выйти на него и убить. Но почему не убили? Зачем он им живой? Чекистам помог случай. Им удалось на каком-то этапе захватить живым Чумака. Что-то случилось с ним такое, чего ни Чумак, ни он не могли предвидеть.
Лемиш сравнивал себя с Тарасом Бульбой. Того тоже захватили ляхи[190] случайно. Тарас люльку[191] уронил, наклонился с лошади, чтобы люльку подобрать, ляхи этим и воспользовались, набросили на Тараса аркан. Живого Бульбу сожгли поляки, муки страшные он принял за Украину, и он, Васыль Кук, тоже готов муки принять за Украину…
Кончался месяц пребывания Лемиша в тюрьме КГБ в Киеве. Ему дали отдохнуть несколько дней, помыли, провели медицинское обследование и заявили, что здоровье у него плохое, что у него запущенная и опасная язва желудка, имеются серьезные нарушения в желудочно-кишечном тракте, в нервной системе. Сдает сердце. Во рту почти не осталось зубов. Положение со здоровьем настолько тяжелое, что вряд ли он сможет вылечиться в тюремных условиях. Что касается врачебно-санаторного лечения, то это можно сделать только в условиях свободы, которую можно заработать путем честного и откровенного сотрудничества с госбезопасностью, то есть отдать неизвестные пока органам его связи, оставшихся в подполье вооруженных оуновцев и, главное, выступить с обращением в открытой печати к зарубежным центрам ОУН, ко всей украинской диаспоре о поражении ОУН, о бессмысленности продолжать борьбу. Лемишу показали давно знакомые ему неоднократные обращения советской власти к оуновскому вооруженному подполью с призывами «зголоситися»[192], выйти с повинной и быть амнистированными советским правительством. Ему приводились многочисленные примеры, рассказывалось о помощи органам госбезопасности вышедших с повинной. Его просили проявить благоразумие и помочь советской власти. Все это Куком было отвергнуто. Ему дали понять, что дело может кончиться расстрелом. Он ответил, что понимает свое положение и готов к этому. Спросил лишь только проводивших допрос чекистов, что будет с Уляной и что ожидает сына их Юрка. Ему ответили, что Уляне, как и ему, предстоит суд, а затем лагерь и спецпоселение. Сына же она никогда не увидит. Через несколько дней допросы прекратились. Наступила пауза.
Лемиш ждал своей участи в камере. Однако, верный своим привычкам подпольщика, продолжал накапливать физические силы, аккуратно принимал даваемые ему лекарства и однажды попросил принести ему в камеру свежие газеты и некоторую политическую литературу, что и было выполнено.
Лемиш с самого начала обратил внимание на исключительную вежливость и предусмотрительность по отношению к нему работавших с ним чекистов. Ему через пару дней после захвата принесли в камеру гражданский костюм и обувь, от которых он отказался, заявив, что много лет носит военную форму. Через день его одели в новую армейскую летнюю форму, подобрали сапоги, дали новое офицерское белье. Дали все, что положено советскому офицеру к летней форме, кроме поясного офицерского ремня, головного убора и подворотничков с нитками и иголкой. На первом из возобновившихся после длительного перерыва допросов, которые скорее носили характер бесед, ему заявили, что понимают его состояние, не осуждают сделанное им заявление о готовности принять смерть, но просят написать обращение к правительству и ЦК Компартии Украины о помиловании. Лемиш отказался и от этого предложения.
Снова небольшая пауза во встречах с чекистами. И вновь предложение. На этот раз к Лемишу обратились с просьбой помочь разобраться со старыми делами, кое-что выяснить о прошлом подполья, получить справки об уже мертвых, ликвидированных ранее некоторых руководителях ОУН. Такая просьба была обоснована тем, что КГБ Украины изучает историю деятельности ОУН, что это нужно для восполнения многочисленных пробелов, имеющихся в архивах КГБ. Дело прошлое, оперативной ценности не представляет, а для истории Украины это немаловажно. В завязавшейся полемике с Лемишем мы учитывали и чисто психологический аспект — нужно было занять мысли Лемиша чем-то важным для него, втягивая в дальнейшие политические споры. Делать это постепенно и осторожно.
Кук правильно оценил ситуацию. Секретов он не раскроет, органам КГБ этим помощь не окажет, а для истории есть смысл и самому высказаться, и объективно восполнить отсутствующую у чекистов информацию, имеющую для Украины только историческую ценность. В складывающейся вокруг него обстановке он был уверен, что, выполняя эту просьбу чекистов, делает доброе дело для Украины. Кто еще, как не он, знает историю сопротивления.
Мы не принуждали его к сотрудничеству. В весьма вежливой и осторожной форме в процессе бесед выясняли его идеологическую настроенность, перспективы борьбы ОУН с Советской властью и, конечно же, осторожно прощупывали его информированность об обстановке в Центрах ОУН в Мюнхене. Мы понимали, что имеем дело с мастером конспирации. Но нам казалось, что мы в своих беседах-допросах все-таки получаем у Лемиша интересную для КГБ информацию, а Лемиш был уверен, что переигрывает нас и отдает только тот материал, который и после его смерти будет служить интересам «незалежноi, вiльноi вiд москалiв и бiльшовикiв»[193], его Украины. Так продолжалось несколько недель.
День начинался с того, что Лемиша утром двое конвойных отводили в следственный корпус, где в довольно просторной и светлой комнате с большим письменным столом и несколькими стульями вдоль стены его всегда встречал с благожелательной улыбкой светловолосый сотрудник лет тридцати, в полувоенной форме без оружия. Во всяком случае, видимого. Он здоровался за руку с Лемишем и, расписавшись на протянутой ему конвойным бумажке о приеме арестованного, отпускал конвоира и широким гостеприимным жестом приглашал Лемиша занять место на одном из стоявших у стены стульев. Как правило, светловолосый был один. Начальство в первые дни приходило в эту комнату допросов-бесед по два-три человека ежедневно. Через несколько дней его ночью по переходам привели к Председателю КГБ. Им оказался высокий плотного сложения пожилой человек с умными, пытливыми глазами. Он предложил Лемишу чай с лимоном и тот принял это предложение. Другие предложения, сделанные ему самым большим начальником украинских чекистов, Лемишем были отклонены. Все, кроме чая с лимоном. Председатель КГБ, и это приятно удивило Кука, был украинец, родной язык которого был украинский. Но и русским он владел как родным. Он дважды при Лемише говорил по прямой связи с Москвой на русском совершенно без украинского акцента и наоборот.
Прошло еще пару недель. Лемишу казалось, что время остановилось. Он продолжал почти ежедневно спрашивать об Уляне и каждый раз получал один и тот же стандартный ответ: «У нее все в порядке. Все зависит от вас». Что именно зависит от него, Лемиша, было более чем понятно обеим сторонам. Однако эта тема никогда не получала своего так нужного чекистам развития.
Длительное и постоянное общение Лемиша с одним и тем же чекистом, казалось, сделало их друзьями, во всяком случае, хорошо знакомыми людьми: если бы кто-то посторонний мог наблюдать их встречи и разговоры, он бы воспринял это именно так. Но это только могло показаться непосвященному. В действительности между ними продолжался начатый при первом же их свидании поединок. Хотя иногда им обоим представлялось, что они давно знакомы и даже испытывают друг к другу нечто похожее на взаимные симпатии. Лемиш много и охотно рассказывал о своем детстве, отце, многочисленных своих братьях и сестрах. Особенно тепло говорил о матери. Он детально рассказывал о том, что сделало его убежденным, идейным борцом за свободную и независимую Украину. О тяжелой жизни украинского населения в панской Польше. О стремлении польского правительства уничтожить все украинское, об ополячивании украинского народа. О преследованиях его польскими жандармами, арестах, избиениях в польской тюрьме. О своей подпольной работе в панской Польше, при немцах, начиная с 1939 года, а затем во время оккупации немцами Украины. О его тесных личных и деловых связях с высшим руководством ОУН. Как он понимал, многое было известно советской «безпеке», и все же он чувствовал, что многое для чекистов было внове, и он с видимым удовольствием давал характеристики в разное время ушедшим из жизни в боях против советской власти руководителей оуновского вооруженного подполья, особенно таким, как командир УПА Шухевич-Чупринка, Ярослав Стецько, Клим Савур, Иван Клымив, известный в подполье под псевдонимом Легенда, командир УПА Еней, Смок (он же Петр Козак), и многим другим известным органам ГБ оуновским руководителям. Особый интерес вызывали у нас идеологи и вдохновители ОУН Степан Бандера, Ленкавский, Ребет, находившиеся за рубежом, в Мюнхене. Подробно расспрашивали о Петре Полтаве, журналисте и авторе многочисленных брошюр и листовок. Он был ликвидирован советской ГБ в 1951 году. Лемиш рассказывал об этих людях как о героях освободительной войны. Иначе он и не думал. Он отрицал зверства службы безопасности ОУН, пытаясь доказать, что применявшиеся, как он говорил, к врагам украинского народа жестокие меры носили характер возмездия, как ответ на выселение западных украинцев в Сибирь или в другие регионы Украины. По утверждениям Лемиша, не меньшие зверства по отношению к оуновцам или их помощникам из числа местного населения отмечалось и со стороны госбезопасности. У него была своя аргументация. Даже на предъявлявшиеся ему фотодокументы о зверствах бандеровцев он говорил: «Шла кровавая, братоубийственная война, жестокость была с обеих сторон», — и приводил свои примеры. Примеров о жестокости с нашей стороны у Лемиша было предостаточно.
Работавший с Куком сотрудник не называл своего имени. Беседы-допросы они вели на украинском, но этот человек был русский и говорил он с Лемишем на украинском с напряжением, часто делая паузы, явно подыскивая нужные слова. Все остальные встречавшиеся в этой комнате с Куком сотрудники ГБ были явно руководящими личностями. Они умели держать дистанцию, давая одновременно понять, что именно они могут повлиять на его, Лемиша, судьбу, на всю будущую жизнь, если таковая действительно ожидает его. К смерти Кук был подготовлен всей своей многолетней вооруженной борьбой с теми, кто сумел перехитрить его и захватить живым, имея целью, это стало ему вскоре понятно, принудить работать на КГБ, использовать авторитет Лемиша в оуновском подполье, организовать с его помощью масштабную пропагандистскую кампанию.
Он часто задавал себе вопрос, чего же еще ждут от него чекисты? На все поставленные ими исподволь вопросы о сотрудничестве он уже ответил отказом. Лемиш по духу своему был бойцом и поэтому, как он считал, продолжал бой в новых для него условиях, используя, и он в этом был уверен, в интересах подполья свое положение арестованного последнего руководителя ОУН в Западной Украине. Уйти от преследования чекистов на территории Западной Украины, с тем чтобы продолжить борьбу в восточных областях, ему не удалось. А это был его последний шанс, и он знал это. Никаких связей с Западом, с Мюнхеном у него уже давно не было. Он «клюнул» на приманку чекистов о якобы действующем в восточных регионах Украины подполье. И не потому, что он планировал каким-то образом всколыхнуть движение ОУН в тех районах Украины, за которые он отвечал в 1941–1944 годах, а потому, что кожей чувствовал свой близкий конец. Ему нельзя было больше оставаться на своих старых теренах…
Оба молчали. Блондинистый крепыш склонился над топографической картой, делая какие-то ему одному известные отметки цветными карандашами. Отмечал места переходов оуновских отрядов, обычно на стыках районов, линии связи, которые в прошлом использовались подпольем. Эти места подчеркивались синим карандашом. Красным обводились сохранившиеся, по словам Кука, и активно использовавшиеся в прошлые годы схроны, которые госбезопасности предстояло обнаружить, вскрыть и уничтожить. Черные жирные кресты обозначали места встреч с руководителями оуновских партизанских отрядов и связными в разные годы. Однако все это относилось к уже далекому прошлому и оперативного интереса явно не представляло.
Крепыш обратился к сидевшему напротив Куку:
— Мы проверили указанные вами на прошлой неделе старые схроны и нигде не обнаружили ни одного архивного документа ОУН. Я имею в виду переписку штаба УПА с отрядами, отчетность о понесенных потерях, планы действий подполья, директивные указания из Мюнхена. Мы все там перевернули — и ни одной бумажки. Да что там бумажки — даже следов штабной работы не видно. Ни одного типографского издания. Ничего. Как вы можете это объяснить? Вы уверяли, что именно там находились ваши архивы.
— Значит, там были мои люди после 1950 года. У нас еще тогда, после смерти Шухевича был разговор о переносе архива в более надежное место. Эта работа была поручена Шувару и Уляну. Успели ли они перетащить бидоны[194], мне неизвестно. С момента нашей последней встречи прошло почти два года.
Чекист внимательно слушал Кука и в глазах его сквозило явное недоверие. Капитан Борис Птушко, а это был именно он, пригладил обеими руками свои редкие светлые волосы, тяжело вздохнул и протянул руку к лежавшей на столе поверх карты пачке сигарет Львовской табачной фабрики «Высокий замок». Размяв пальцами сигарету, Борис, внимательным взглядом следя за Куком, прикурил от спички и придвинул к себе стеклянную пепельницу.
— Не верю я вам. Чего-то вы недоговариваете. Все указанные вами связи, адреса курьеров существовали в прошлом. Они либо мертвы, либо давно выселены. Мне нечего докладывать руководству. Вы сами ухудшаете свое положение. Я должен вам сообщить, что без вашей помощи нами выявлены два ваших сообщника, которые снажали вас продуктами и укрывали при переходе на Волынь. К сожалению, мы вынуждены изменить режим вашего содержания в тюрьме и отказываем вам в просьбе соединить вас с женой.
Эту тираду капитана Птушко прервал резкий телефонный звонок.
В комнате нависла тишина. Кук опытным глазом психолога уловил по лицу крепыша, что тот разговаривает с кем-то из своих начальников.
— Хорошо, Николай Иванович, — и снова длинная пауза. — Я выхожу, — и положив трубку на рычаг телефонного аппарата, озабоченно обратился к Куку:
— Сейчас подойдет незнакомый вам оперработник, и я вас оставлю на часок. В разговоры он с вами вступать не будет, да и вы не задавайте ему вопросов. Такой порядок.
Не глядя на Кука, он стал выбирать бумаги из лежавшей на краю стола толстой папки. Не успел он докурить сигарету, как в кабинет без стука вошел незнакомый среднего роста сотрудник. По костюму, ладно сидевшему на молодом человеке, можно было определить, что сшит он руками хорошего мастера. На правом лацкане пиджака ярко выделялся бело-синий ромбик значка, свидетельствовавшего, что владелец его имеет высшее университетское образование. На нем была украинская «вышиванка» и добротные черной кожи шевровые ботинки. Светло-пшеничный волнистый чуб с рыжеватым отливом был тщательно зачесан на правую сторону. Круглое, еще юношеское лицо было густо покрыто веснушками, впрочем, заметными только при близком расстоянии, так как над лицом хорошо поработало летнее южное солнышко, о чем говорили выгоревшие брови и выделяющийся крупный облупленный нос явно славянской формы. Такие в народе принято называть «картошкой». Его светло-серые глаза как бы незаметно скользнули по Куку и остановились на крепыше. Все это сразу же зафиксировал Кук, так же незаметно скользнув глазами по вошедшему человеку.
«Небось, военную форму привык носить, — подумалось Куку. Ишь как тянется перед крепышом. И ручки по швам держит. Конечно же, крепыш старше его по званию, да и по возрасту намного старше».
— Я ушел, — сказал Птушко и быстрым шагом вышел в коридор.
Новый сотрудник с важным видом уселся на место ушедшего. В комнате вновь воцарилась гнетущая тишина, прерываемая покашливанием Кука и выдохами табачного дыма закурившего папиросу молодого человека. В комнате было накурено. Дым медленно выходил в открытую форточку. Прошло несколько томительных минут. Они смотрели друг на друга и каждый внимательно изучал своего визави. В сидевшем за столом чекисте все излучало молодость и энергию. Вот он резко встал и, не спуская глаз с сидевшего напротив у стены Кука, стремительно пересек кабинет, подошел к зарешеченному с внутренней стороны большому окну, распахнул его, зафиксировав створки крючками. Так же стремительно вернулся к своему месту. Он явно напускал на себя строгость, стараясь придать лицу соответствующее выражение. Еще не приобретший суровую мужскую строгость рот с припухшими по-юношески губами выдавали в нем весельчака и насмешника. В глазах его, пристально рассматривающих Кука, мелькали озорные искорки. Он с нескрываемым интересом и довольно откровенно рассматривал Кука.
Так, спустя несколько месяцев, описывал нашу встречу в следственном корпусе Лемиш, рассказывая свои первые впечатления обо мне.
Начальник отдела послал меня подменить Бориса Птушко на время вызова его для доклада к руководству. Мне повезло: в этот момент никого из допущенных к работе с Куком не оказалось под рукой.
Я рассматривал сидевшего передо мной Кука и думал, что не окажись в нужный момент в кабинете, подменить Птушко пошел бы другой сотрудник и я не получил бы такой возможности вот так близко, совсем рядом, видеть знаменитого Лемиша, Коваля — Васыля Кука. «Надо же, — думал я, пытаясь поймать его взгляд, — такой малоприметный занимает такое высокое положение в националистическом движении, второе лицо после Степана Бандеры в ОУН. За ним годами охотились тысячи людей, а он так ловко уходил из капканов, расставленных вокруг него органами ГБ. Этот человек, Лемиш, отправлял в бой тысячные массы. Распространяемые им идеи имеют широкое хождение, и не только среди простых крестьян-вуек, поддерживавших его боевиков, но и в студенческой, молодежной среде, интеллигенции».
В конце 40-х Лемиш написал свою знаменитую и сильно действовавшую на умы людей в пропагандистском плане брошюру «Колхозное рабство». В ней на базе многочисленных и действительно имевших место примеров делалась попытка развенчать ленинскую идею социалистической кооперации сельского хозяйства в том виде, в котором она была известна западноукраинскому крестьянству. Пьянство, мздоимство, произвол местных руководителей, расхищение колхозной и социалистической собственности — все это убедительно подавалось автором, вызывая отрицательное отношение к колхозно-кооперативному строю, что серьезно тормозило колхозное строительство в западных областях Украины. Изъятие у населения этих брошюр считалось удачно проведенной операцией. Тем, у кого они обнаруживались, грозили серьезные последствия, а сами брошюры незамедлительно уничтожались.
Лемиш хорошо знал психологию западно-украинского крестьянина и удачно использовал это. В условиях безземелья, жесточайшей нищеты и невиданного национального угнетения крестьяне рассчитывали только на себя, свои силы, свое хозяйство, свою землю и верили только в нее — кормилицу. В силу тяжелых социально-политических условий сотни тысяч украинцев в XIX и в начале ХХ века покидали родные земли и выезжали за океан — в Канаду, США, Южную Америку, Австралию, спасаясь от верной гибели. Именно украинские крестьяне обогатили своим опытом и трудом земледелие этих стран. Знаменитая канадская и американская пшеница были получены не без участия украинских землепашцев…
Наконец, наши взгляды встретились. Я разочарованно продолжал смотреть на Лемиша, ожидая увидеть в глазах врага лютую ненависть, непреодолимую злобу. Вместо этого я увидел в его глазах обыкновенное человеческое любопытство, наверное, в связи с появлением нового лица.
Позже Лемиш мне говорил, что на него произвели впечатление моя молодость и энергия, любознательность и умение понравиться собеседнику…
Мы продолжали смотреть друг на друга и в наших глазах было явное любопытство. Я не выдержал первым.
— Ничего, что я открыл окно? Здесь мы здорово накурили. Насколько я знаю, вы не курите.
— Да, мне это мешает. В камере душновато, прогулки короткие. Я привык к простору, к лесному воздуху. В городе я чувствую себя хуже.
— Конечно, тюрьма — не дом родной, — я вруг заволновался и голос мой сделался хрипловатым. — Но у вас опыт тюремной жизни имеется. Уверен, что условия советской тюрьмы, и именно для вас, намного лучше польской и немецкой, — закончил я «тюремной» темой, давая тем самым понять, что мне известна биография Кука.
— А какая разница, тюрьма, она везде тюрьма. Тем, кто не прошел тюрьму никогда не понять сладость свободы, воли. Вы, я слышу, не украинец, или украинец, хорошо владеющий украинским языком, но родной язык ваш — русский?
— Да, я не украинец, — ответил я, стараясь внешне остаться невозмутимым, — я русский, но, мне кажется, достаточно хорошо владею украинским. Вам не нравится мой украинский, Василий Степанович?
Такая форма обращения понравилась Куку. Как пояснил мне позже Кук, это был первый сотрудник, назвавший его по имени-отчеству. Все, встречавшиеся с ним до этого дня, в том числе и начальство разных рангов, обращались к нему просто на «вы», не называя ни имени, ни тем более отчества.
— Нет, отчего же, вы хорошо владеете украинским, но если вам легче говорить на русском, можете разговаривать со мной на вашем родном языке.
— Мне доставляет удовольствие говорить с вами исключительно на украинском. Я люблю Украину, живущих здесь людей, люблю украинский язык, песни. Они звучат для меня как самые красивые и родные. Я считаю Украину своей родиной. А в общем-то, у нас у всех одна Родина — Советский Союз.
Кук с удивлением посмотрел на меня и, усмехнувшись, неожиданно произнес:
— Я думаю, что у коммунистов, тем более у чекистов тоже имеется родина, где они родились и выросли. Родина — в понимании национальной принадлежности человека. В конечном счете не только кровь матери и отца дают национальность. Главное, где человек родился и сформировался психически, какой язык у него родной, на каком языке он не только говорит, но и мыслит, какую культуру он всосал с молоком матери. Что из человеческих ценностей и культуры являются самым близким и родным. Вот там и родина.
Постепенно начатый диалог превратился в разговор о праве нации на самоопределение. Уловив момент, я попытался перевести вспыхнувший спор на другую тему, а именно — земельный, крестьянский вопрос, и вновь эта тема сразу же стала «колючей» и «горячей». Когда спустя два часа, в кабинет вошли руководители: начальник отдела Николай Иванович, зам. председателя КГБ Украины Николай Тихонович Мороз, зам. начальника управления Василий Иванович и с ними Птушко, Кук и я стояли друг против друга посредине комнаты и, жестикулируя, доказывали каждый свою правоту.
— Вас в коридоре слышно, — почему-то весело улыбаясь, сказал Николай Тихонович, — шумите как на политзанятиях.
Возбужденные спором, с раскрасневшимися лицами мы стояли молча, глядя на вошедших.
— Вы садитесь, — махнул зампред в сторону Кука, — а вы свободны, — и Николай Тихонович показал мне рукой на дверь.
С чувством вины шел я на свое рабочее место. Уверен был, что накажут за нарушение приказа не вступать с арестованным в разговор. Однако то, что произошло спустя пару часов, превзошло все мои ожидания…
— К Николаю Тихоновичу, — услышал я в телефонной трубке голос дежурного офицера в приемной.
Осторожно, как будто это как-то могло повлиять на решение зам. Председателя или, может быть, даже на мою дальнейшую судьбу, я опустил трубку на рычаг и посмотрел на бывших здесь же начальников отделений Васю Педченко и Ивана Бабенко, зашедших к нам, как говорили, пообщаться с народом и перекурить. Они и наши сотрудники Борис Павленко и Дима Жирко уже знали от меня о случившемся в следственном корпусе и пришли к однозначному выводу: я точно получу взыскание и, естественно, запрет на дальнейшее участие в работе с Лемишем. Только начальник отделения Василий Иванович, у которого я работал, сказал уверенно и как-то даже весело:
— Не дрейфь, все обойдется.
Василий Педченко поддержал его:
— Где наша не пропадала. Николай Тихонович сам из оперработников, поймет тебя. Ну поругает для порядка. Возьми, затянись перед заходом, — и Василий Иванович протянул мне свою недокуренную папиросу.
Я жадно затянулся и вышел из кабинета. При вызове к высокому руководству не принято задерживаться и я быстро прошел по коридору, бегом поднялся на четвертый этаж.
Дежурный офицер с перекошенной, как при радикулите фигурой стоял у стола, разговаривая по телефону. Пару лет назад его чуть не убил при задержании разыскиваемый оуновец, нанеся ломом удар по спине, когда офицер входил в хату. Николай Тихонович Мороз, тогда начальник одного из областных управлений МГБ в Западной Украине, высоко ценил этого мужественного и опытного оперработника и сделал все, чтобы офицера оставили в штате госбезопасности. Тот продолжал служить на офицерской должности дежурного при Николае Тихоновиче, который был известен в органах госбезопасности Украины как строгий и требовательный начальник.
Офицер, продолжая разговаривать по телефону, прикрыл ладонью трубку и бросил в мою сторону:
— Заходи, — сделав при этом свободной и плохо повинующейся рукой жест в сторону кабинета Мороза.
Со словами: «Разрешите войти» я распахнул дверь и вошел в просторный кабинет зампреда, не обнаружив в нем, однако, никого. Из приоткрытой двери, примыкавшей к кабинету комнаты отдыха донесся баритон хозяина кабинета:
— Идите сюда.
Я легонько толкнул дверь и очутился в маленьком помещении, всю мебель которого составляли большой кожаный диван, такое же кожаное кресло, холодильник и журнальный столик, где стояли три стакана в подстаканниках с недопитым чаем. Николай Тихонович сидел в кресле, величественно откинувшись на спинку. Красивое породистое лицо зампреда выражало удовлетворение. Я молча стоял у входа и смотрел, как и положено, в глаза старшего начальника. Казалось, Николай Тихонович внимательно и с интересом оглядывал меня, как будто видел впервые.
Мороз внимательно осмотрел меня с головы до ног. Все, кто работал с Морозом, знали, что он не выносит никакой расхлябанности, недисциплинированности, небрежности ни в делах, ни в людях. Первоначальные выводы о работнике он всегда делал по его внешнему виду. Сам Мороз являл собой образец подтянутости и собранности. Высокого роста он внешне был похож на породистого сановника с картин XVIII–XIX веков, хотя сам в прошлом, как и его предки, был простым хлеборобом, что любил при случае подчеркнуть. Украинский язык был для него родным, но он так же свободно владел русским.
Я посмотрел в сторону своих начальников. Лица обоих были спокойны и невозмутимы. Николай Иванович, как он это обычно делал, со смешинкой в глазах скользнул взглядом по мне, и я понял, что пронесло. Наказывать меня не будут.
— У нас родилась мысль поручить вам поработать с Куком, — продолжая смотреть на меня, произнес Мороз. — Птушко пусть осуществляет оперативную часть работы с «трехсотым», получает информацию по связям, людям, контактам, о деятельности бандформирований в прошлом, выясняет нераскрытые «мертвые»[195] пункты связи, возможно известные ему места укрытия бандитов-одиночек. В общем, все оперативные данные по подполью. Вам же предстоит наладить работу с Куком по его политической обработке, оказать на него нужное нам идеологическое воздействие. Как вы смотрите на это, согласны с нашим предложением?
— Благодарю за доверие, конечно, согласен, Николай Тихонович, — бодро ответил я. Меня буквально распирало от счастья: «Мне поручено работать с самим Лемишем!»
Позже Николай Иванович подробно рассказал мне, что Кук на вопрос зампреда, какие у него имеются просьбы и пожелания, ответил, что хотел бы продолжить встречи с тем рыжим хлопцем с университетским значком, который подменял Птушко. Мысль о подключении к работе с Куком оперработников, обладающих нужной подготовкой для идеологического воздействия на Лемиша, высказывалась Морозом и ранее, но толчком для принятия окончательного решения о систематических и частых встречах с объектом в условиях тюрьмы, которые бы носили целенаправленный характер, явилась просьба самого Кука.
Николай Иванович дословно передал мне слова зампреда: «Пусть выделенный нами оперработник ежедневно, а если потребуется, вообще без ограничения времени встречается с Куком и ведет с ним самые откровенные разговоры. Надо будет, мы подключимся, поможем ему. И самое главное, Кук не должен заметить и почувствовать, что новый сотрудник приставлен к нему с целью оказания идеологического воздействия. Делать эту работу надо тонко, исподволь, незаметно. Тогда и результаты будут налицо. Будем продолжать активную работу с Куком.
Долго и детально Николай Иванович вместе с начальником отделения Василием Педченко инструктировали меня, готовя к сложной работе в новом амплуа. Он дал указание тщательно готовиться к встречам с Куком по отдельному плану, который он позже посмотрит. Тогда же мне стало известно, что тюремная камера Кука «плюсовая», то есть прослушивается, и что на состоявшейся встрече зампреда с Куком ему объявлено о переводе в ближайшее время в другую, более удобную для жизни камеру, где он будет находиться вместе с женой Уляной. Естественно, эта приспособленная к нормальной жизни камера, также будет оборудована литером «Т», то есть техникой подслушивания.
— Николай Иванович, лучше бы вы мне этого не говорили, — сразу же среагировал я. — Не получатся у меня доверительные разговоры с Куком. В голове будет торчать мысль, что тебя слушают.
— А ты «отсебятины» не допускай, — ответил Николай Иванович. — Основоположники марксизма-ленинизма четко и понятно дали определения и все свои оценки и суждения и по крестьянскому, и по национальному вопросу. Подкрепляй нашими реалиями, фактами. Просмотри еще раз первоисточники, освежи в памяти. В общем, надо тщательно готовиться. Мы имеем дело с хорошо подготовленным знатоком буржуазно-украинского национализма. С расчетливым, хладнокровным, опаснымм врагом советской власти. Тебе будет тяжело с ним спорить. Я знаю это. Я и Николай Тихонович не один час говорили с ним о колхозном крестьянстве, о нуждах и чаяниях украинского народа не только в историческом, но и в современном плане. Мы пока не уловили каких либо сомнений у Кука в его враждебной нам идеологии. Он остается врагом советского строя. Смело и откровенно для арестованного высказывается о мероприятиях партии и правительства. Странно, но он ни разу не спросил у нас, что его ожидает, каково его будущее. Единственное, о чем он спрашивает — это о судьбе жены. Иногда спрашивает о сыне. Все остальное, кажется, его не интересует.
Николай Иванович сделал паузу, медленно, как будто ему было тяжело это сделать, поднялся с кресла и стал ходить по кабинету. Остановился около нас, сидевших за приставным столиком, изучающе посмотрел и продолжил:
— Странно ведет себя Лемиш. Ведь знает, что его должны расстрелять. Об этом ему было сказано сразу же после захвата и объявлено, что судьба жены, ребенка и его самого зависит от его поведения, откровенных и полных показаний. Мы предложили ему участие в организации под нашим руководством широкомасштабной антиоуновской кампании. В том числе возглавить легендированное подполье, чтобы в последующем полностью разложить и дискредитировать зарубежные центры ОУН, вытянуть из-за границы с его помощью некоторых лидеров ОУН. Я уверен, что он прекрасно понял, о чем идет речь. Мы достаточно откровенно высказали ему свои планы в отношении подполья. Он хорошо представляет нашу точку зрения, что даже физическое устранение руководителей ОУН не будет способствовать полному прекращению борьбы. Он умный человек. Образования военного никакого и в армии ни дня не служил, а почерк действий его отрядов в прошлые годы говорит сам за себя — как будто ими руководил кадровый военный. Он еще в молодые годы изучил минно-подрывное дело и стал настоящим специалистом-подрывником. Не случайно Шухевич определил Кука к себе в заместители. Его знают и в него верят за рубежом. Если нам удастся привлечь Кука к сотрудничеству — мы нанесем чувствительный удар по самой идее украинского национализма.
Николай Иванович вновь сделал паузу, долго смотрел в окно на золотые купола Софии[196], а затем тихо, почти про себя, но присутствующие услышали его, произнес:
— Если такое вообще возможно. Легче давать указания, чем их выполнять.
Подчиненные, понимая начальника, не прореагировали на его последние слова и вопросов не задавали.
— Останься, Василий Иванович, а ты, Георгий, сегодня же составь план работы с «трехсотым» и доложи мне…
* * *
Я подошел к стоявшему у входа в следственный корпус вахтеру и, показывая ему удостоверение, кивнул на видневшуюся за спиной старшины дверь:
— Мне туда, в тюрьму.
Старшина молча взял в руки протянутую ему красную сафьяновую книжицу, раскрыл и, заглянув в нее, извлек из висевшего на стене ящика список сотрудников, допущенных к работе в тюрьме.
— Есть такой в списке, — почему-то растягивая в улыбке губы, сказал старшина, возвращая мне удостоверение. — Оружия туда брать с собой нельзя. Это запрещено инструкцией. Если у вас пистолет с собой, вернитесь в кабинет и оставьте его там.
— У меня нет пистолета. Мне уже говорили товарищи по работе.
— Тогда проходите, — и старшина открыл дверь, ведущую во двор здания.
За время работы в здании КГБ мне ни разу не приходилось проходить этот двор и бывать во внутренней тюрьме, как впрочем и большинству других оперативных сотрудников. Здесь было царство следователей, да и те работали в следственном корпусе. Я волновался от важности задания руководства, от предстоящей встречи с Куком, от еще неизвестной мне необычной обстановки. Я передохнул и нажал на белую кнопку звонка на косяке железной двери. Почти сразу же на двери открылось маленькое оконце и в нем показалось женское лицо с грубыми мужскими чертами. Тонкие плотно сжатые губы раскрылись и хрипловатый голос произнес:
— Предъявите ваше удостоверение.
Я передал в окошечко удостоверение. Окошечко захлопнулось и через короткое время за дверью раздались скрежещущие звуки металла. Дверь распахнулась, и я очутился в длинном коридоре, устланном плотной ковровой дорожкой красного цвета. Передо мной стояла невысокого роста плотного сложения женщина в военной форме с погонами старшего сержанта. Смотрелась она комично в кителе и защитного цвета юбке, в больших тапочках на толстой войлочной подошве. На маленьком столике у стены лежал список допущенных для работы в тюрьме сотрудников. В списке было всего три фамилии. Рядом лежало мое удостоверение, которое женщина спрятала в небольшой сейф, что был под столом. Подошедший младший лейтенант в таких же войлочных тапочках также спросил у меня, имеется ли оружие, и несмотря на отрицательный ответ, быстро провел руками по моим карманам и брючному ремню. «Зачем они в таких странных тапочках? — подумал я. — Ну ясное дело, чтобы шагов не было слышно. Для этого и ковровая дорожка».
Так я впервые познакомился с сотрудниками внутренней тюрьмы, которых оперативники, знавшие тюремные порядки, называли «коридорными». В их обязанности входило конвоирование и наблюдение через глазок за арестованными. Младший лейтенант прошел вместе со мной в конец длинного коридора и мы очутились, наконец, перед свежевыкрашенной белой краской железной дверью, на которой темным цветом выделялись цифры — «300». «Коридорный» отодвинул щиток глазка и заглянул в камеру. Я молча стоял рядом. Откачнувшись от двери, «коридорный» прошелестел:
— Хотите посмотреть?
У меня не возникло желания понаблюдать за Куком через тюремный глазок. Непонятно, но мне почему-то стало неприятно от этого предложения. Я отрицательно мотнул головой и жестом руки дал понять сопровождавшему меня работнику тюрьмы: откройте». Щелкнул дважды замок, заскрипела массивная задвижка, и я вошел в камеру Кука…
* * *
Мы провели вместе много дней, встречаясь сначала один на один в камере, затем вместе с Уляной, с которой Кука то соединяли, то разлучали. Мы хотели «сыграть» на этом. Нам казалось, что еще чуть-чуть и «трехсотый» пойдет на попятную и выложит единственный оставшийся у него козырь — даст согласие на сотрудничество. Забегая вперед, следует сказать, что никто из оперативного состава, работавшего, говоря языком того времени, с объектом, ни руководство КГБ Украины или Москвы, ни даже представители высших партийных инстанций страны, ни сам Алексей Илларионович Кириченко, беседовавший с Куком у себя в кабинете в здании ЦК Компартии Украины, так и не смог договориться об оказании Куком помощи советской власти в деле окончательной ликвидации бандоуновского подполья.
С самого начала работы с Куком всем, кто с ним сталкивался, было понятно, что на прямой разговор, прямое предложение сотрудничества он ответит таким же прямым отказом. Вот почему решили использовать метод постепенного привлечения. Вот почему, убедившись в психологической стойкости Кука, чекисты перешли к длительной «осаде», объясняя ему, что с вооруженным подпольем покончено, что речь идет об оказании воздействия с помощью Кука на ту часть населения Украины, особенно в западной ее части, которая все еще заражена буржуазной националистической идеологией. Особенно важна его помощь в вопросах воспитания украинской молодежи, оказания влияния на интеллигенцию. Кук должен понимать ситуацию, и если Бандера осуществлял политику геноцида украинской нации, кстати, при его же, Кука, активном содействии, то сейчас самое время для него исправлять ошибки прошлого. С помощью КГБ, разумеется.
Рано я обрадовался такому ответственному и важному поручению начальства, да еще и в высшей степени секретному. Я был уверен, что моего университетского, да еще и юридического, образования будет достаточно для идеологического воздействия на Кука.
После первых же встреч с Куком и горячих споров я пришел к выводу, что мне следует еще раз обратиться к первоисточникам. И буквально погрузился в работы украинского историка Грушевского, теоретиков и идеологов украинского национализма Донцова, Винниченко, современных толкователей ОУН — Бандеры, Ребета, Мельника, Полтавы и других. Слава богу, архивных материалов и разных оуновских документов, изъятых у подполья, было предостаточно. За время работы с Куком я перечитал десятки нужных и ненужных объемных книг и брошюр, сотни документов. Я читал и перечитывал Ивана Франко, Лесю Украинку, современных и репрессированных советской властью Леся Курбаса[197], других украинских драматургов и писателей, навсегда исчезнувших в лагерях. Тогда же я познакомился с некоторыми материалами «врагов народа» Н. Скрыпника[198] и П. Любченко[199], проводивших политику украинизации. Именно в период нахождения этих людей у власти была ликвидирована безграмотность сельского населения, стремительно увеличивалось число украинских начальных и средних школ, в несколько раз возросло число украинцев в правительственных учреждениях Украины. Именно Скрыпник предложил реорганизовать Красную Армию на Украине по территориальному принципу, считая, что Красная Армия, сформированная по союзному принципу, несет в себе угрозу русификации. Примечательно, что эту идею Скрыпника поддерживали такие советские военачальники, как Фрунзеи Якир. Первый погиб под ножом хирурга во время операции, второго сожрал молох репрессий. С позиций того времени и Любченко, и Скрыпник, и другие руководители украинского ЦК и правительства и репрессированной советской властью творческой интеллигенции были для меня врагами советского строя. Только спустя десятилетия можно с уверенностью сказать, что мы имели дело с истинными патриотами Советской Украины, настоящими коммунистами-интернационалистами, которых не пощадило сложное, трудное, еще и сегодня до конца непознанное время беспощадной классовой борьбы за счастье простого трудового народа, сбросившего с себя тяжелое и всем опостылевшее ярмо капитала. Вот как характеризует этот период известный украинский историк: «…несмотря на обещание уважать принцип самоопределения нации, которое большевики давали во время гражданской войны, несмотря на создание национальных советских республик… коммунистической партии в первые годы ее правления все еще значительно не хватало поддержки нерусских народов… Поэтому, когда нэп успокоил крестьянство, партия начала кампанию, направленную на расширение поддержки со стороны нерусских народов, на завоевание их симпатий. В 1923 году на XII съезде партии ее руководство провозгласило начало политики широкого привлечения к власти коренного населения. Оно призывало общими усилиями добиться того, чтобы в партию и государственный аппарат шли нерусские, чтобы государство поддерживало культурное и социальное развитие других народов. Украинская разновидность этой политики называлась украинизацией… Первые шаги украинизации имели целью расширить применение украинского языка… Решающей силой украинизации системы просвещения был Н. Скрыпник — народный комиссар просвещения с 1927 по 1933 год… В 1922 году из всех публиковавшихся на Украине книг только 27 % выходили на украинском языке. На этом же языке выходило около 10 газет и журналов. К 1927 году на украинском языке печаталось больше половины книг, а в 1933 году из 426 газет республики 373 выходило на родном языке…»[200]
И конечно же, я снова и снова перечитывал великого Кобзаря, писавшего, кстати, многие вещи на русском языке, — то ли дань своим русским друзьям-демократам, освободившим его от солдатчины, то ли уважение к братскому русскому языку. Кроме любви к своей Украине, ее народу, ее истории, — ничего того, чтобы говорило о ненависти к простому русскому народу. О царских сатрапах — да, о самодержавии — пожалуйста. Но как воспевалась свобода! Даже не свобода — воля народа, терзаемого столетиями со всех сторон и, несмотря ни на что, сохранившего свой язык, свою культуру, литературу и свою историю.
Я обратился даже к работам известного в прошлом видного украинского философа Сковороды, правда, плохо понимая его.
Некоторые вещи произвели на меня большое впечатление, например, «Черная Рада» Кулиша. Сильная вещь, она, как ничто другое, раскрыла мне душу Украины. Эту книгу практически не издавали. Время было сложное, не все знали и понимали чекисты. Спустя много лет, обращаясь в мыслях к делам и событиям того времени, я вспоминал, как один из моих друзей с лейтенантских времен, став к 1960 году начальником отдела, занимавшегося изучением негативных процессов среди украинской интеллигенции, арестовал группу троцкистов, возглавлявшуюся заместиелем заведующего кафедрой философии Киевского университета, кандидатом наук, членом КПСС.
Троцкистская группа успела выпустить и распространить антисоветские листовки и брошюру, содержавшие призывы к свержению советской власти. В их распоряжении была своя множительная техника… Они искали, и не безуспешно, выходы на зарубежные троцкистские центры и НТС. Установили связи с их единомышленниками в Москве, Ленинграде, Харькове и Одессе. Они вовлекали новых членов в свою организацию. Руководством КГБ было принято решение арестовать пятерых самых активных членов группы, а остальных профилактировать, не сообщая общественности о проведенных арестах и профилактических беседах с рядовыми членами разоблаченного «тайного общества». Суд должен был быть закрытым. Никакой информации населению. Исходили из того, что в наше-то время, когда о троцкистах вообще забыли, а тут в Киеве вдруг объявляются троцкисты. Мой друг часто вспоминает этот случай в своей чекистской биографии, как особенный, необычный для офицера политического сыска.
Первые контакты с арестованным руководителем выявили полную несостоятельность оперативников и следователей вести беседы на равных. Кроме работы Троцкого «Уроки Октября» нам в то время ничего другого известно не было. Ограничивались сталинскими работами «Вопросы ленинизма» и «Кратким курсом истории ВКБ(б)». Мы знали одно — партия разгромила троцкизм как идейно-политическое мелкобуржуазное течение в рабочем движении, прикрывающее свою враждебную коммунизму сущность леворадикальными фразами. Мы знали, что Троцкий отрицал победу социализма в Советском Союзе без «перманентной» революции в мировом масштабе, прежде всего в Западной Европе и Северной Америке. В общем, как мы сделали для себя вывод, это были политические авантюристы левого ультрарадикального толка.
Далее вести допросы арестованного троцкиста-руководителя не имело смысла. Был написан рапорт на имя председателя с обоснованием просьбы и получено разрешение на ознакомление со всем имеющимся в наличии в библиотеках литературным наследием Льва Давидовича Бронштейна. Две недели упорного труда с утра до глубокого вечера в публичной библиотеке Академии наук Украины, и мой друг радостный и удовлетворенный поверг в нескрываемое изумление арестованных троцкистов — теперь он разговаривал с ними на равных.
То, что арестованная пятерка ненавидела большевиков-ленинцев и вообще всю партийную элиту КПСС, не скрывая, было ясно. Они симпатизировали, и то в определенной степени, китайским, частично кубинским коммунистам, национально-освободительному движению в бурлящем политическом водовороте Южной Америки, где в ряде стран возникали революционные ситуации и где лидировали троцкисты.
Особые симпатии вызывали у них только возникшие на европейском континенте так называемые «Красные бригады», уже прославившиеся террористическими акциями.
В те годы ни мой товарищ, ни я, ни другие наши чекисты понятия не имели о движущих силах кубинской революции, о пылающих революционным пожаром Эквадоре, Чили, Перу. Особенно Боливии, где позже погиб ставший кумиром молодежи планеты легендарный Че Гевара. Никто из нас тогда не знал, что коммунист Эрнесто Гевара руководствовался в своих действиях, организовывая партизанское движение в странах Южной Америки, именно учением Льва Троцкого.
Сложное было время. Мы верили партии, защищали ее интересы и были готовы умереть за ее идеалы. Это сейчас, по прошествии многих лет мы стали умнее и образованнее. Наверное, правы те, кто утверждает, что человек в своей жизни дважды постигает истины. Первый раз, когда он молод, а второй — когда накопил мудрость, знания и опыт.
«Все течет, все меняется», — это философское определение как никогда понятно стало именно сегодня. Люди — участники протекающих на Земле экономических, политических, социальных процессов могут только ускорять или замедлять их, но не с состоянии остановить беспрерывное движение всех этих процессов, основывающихся на объективно действующих общих для всех законах…
Следствие по делу молодежной троцкистской группы было завершено, все данные, полученные агентурно-оперативным путем, задокументированы. Вот и последняя перед судом встреча.
Мой друг позволил себе (достаточно высокая смелость в те времена) спросить у лидера этой группы:
— Абстрагируемся от сегодняшнего дня. Мы не в тюрьме. Мы свободны. Вы свергли советскую власть, вы пришли к власти. Что бы вы сделали, какие ваши первые шаги?
И неожиданно услыхал:
— Первое, что бы мы сделали, это повесили таких, как вы, вас в первую очередь.
Так закончился диалог коммунистов, один из которых остался убежденным троцкистом. Каждый из них в то время был уверен в своей правоте…
Чекисты с санкции руководства Москвы применили к Куку новый способ воздействия. Они перевели его в просторную и оборудованную под жилую комнату камеру, где он смог находится вместе с Уляной, которую он не видел с момента их задержания и ареста. Я был свидетелем их первого свидания в новой для них обстановке. Мы были с Николаем Ивановичем в камере, уже зная, что сейчас сюда приведут Уляну. Внешне Кук был спокоен. Когда раздался звук отодвигаемых засовов и в дверях появилась Уляна, Кук встал со стула и сделал несколько шагов ей навстречу. Они обнялись и стояли так довольно долго. Потом оба повернулись к наблюдавшим за ними со стороны чекистам.
Николай Иванович имел указание начальства присутствовать при их встрече, поговорить с обоими о дальнейших планах. Проводившаяся до этого работа с Уляной желаемых результатов не дала. Она либо отвечала и давала пояснения по давно известным фактам и событиям, либо ссылалась на мужа, либо молчала. Больше молчала, игнорируя вопросы чекистов.
Внимательно посмотрев на стоявших перед нами Кука и Уляну, Николай Иванович бросил мне:
— Пошли, пусть они побудут вдвоем.
По дороге в рабочее помещение Николай Иванович пояснил свое неожиданное решение, противоречащее указанию руководства, тем, что не смог видеть их лица, лица встретившихся после длительной разлуки двух любящих людей.
— Это противоестественно быть при такой встрече, разговаривать, да еще и спрашивать о чем-то. Надо все-таки оставаться людьми. Кук и Уляна должны понять это и по-человечески оценить наш уход, — говорил он. — Я постараюсь объяснить целесообразность наших действий не только человеческими чувствами, но и оперативной необходимостью — послушаем сегодня же пленку записи их разговоров.
Зампред согласился с доводами начальника отдела.
Полученная поздно вечером первая запись разговоров объектов ничего интересного не дала. Общие темы, обычная человеческая радость встречи. Но следовало отметить оперативную правильность поступка начальника отдела. Кук и Уляна большую часть разговоров провели так, как будто знали, что их могут слушать. Наверное, они что-то шептали друг другу на ухо. Расшифровать их разговор не представлялось возможным. Это и было отмечено в полученной от технического отдела сводке.
К обеду следующего дня поступили вечерняя и ночная сводки. И опять неудача. Они явно разговаривали друг с другом всю ночь, но, как говорится, под одеялом. Усилия девчат, имеющих хорошие уши, ни к чему не привели — не удалось расшифровать ни слова. Не было зафиксировано и интимной близости, так как в этом случае в сводке бы стояли две буквы — п. а.[201] и указывалось бы время фиксации этого.
Я специально сбегал к девчатам и сам прослушал сводку. Ничего интересного, кроме еле слышного среди прочих звуков шепота.
Но каким бы ни был конспиратором Кук, постоянно действующий «литер» приносил оперативную пользу. Сначала прочитав сводку, а потом вслушиваясь в записи, улавливая интонации, я понял, что Кук договаривался с Уляной о дальнейших действиях в работе с чекистами. Более менее стало понятно, что на сотрудничество ни он, ни Уляна не пойдут. Она плакала, но была согласна с его стойкостью и решением пойти на смерть. Ненависти к своим врагам-чекистам не было заметно. Перед Куком был противник, наверное, достойный, потому что перехитрил его. Он много раз повторял Уляне: «Лучше бы нас убили в бою, чем погибать здесь, у большевиков». И она тоже с ним соглашалась.
Шли дни ежедневной работы с Куком. Так уж устроен человек, что он привыкает ко всему, ко всем условиям своего существования, где бы он ни находился. Даже в самых жестких, карцерных условиях тюрьмы.
Арестовав в 1933 году Георгия Димитрова и обвинив его в поджоге рейхстага, германские нацисты изобрели наручники, исключающие возможность держать перо или карандаш, то есть писать, чего они не могли запретить напрямую в то время. Димитров изловчился, приспособился писать и в наручниках. А тут ведь нормальные условия для нормальной человеческой жизни. Даже малюсенький туалетик имелся. Кук получал интересующие его газеты, любую политическую или художественную литературу из библиотеки КГБ по сделанным им заявкам, которые по прошествии времени становились все более разносторонними и объемными.
Постепенно под воздействием складывающихся вокруг него спокойной обстановки и условий Кук частично начал терять чувство осторожности и стал допускать в разговорах и спорах с Уляной некоторые высказывания и выражения, которые в определенной степени после их анализа помогали извлекать по крупицам интересующий нас материал, а самое главное — определять дальнейшее направление работы.
Кука беспрестанно мучили боли в желудке и кишечнике — следствие многолетней и тяжелой партизанской жизни. Было организовано тщательное медицинское обследование, для чего его трижды доставляли в санчасть КГБ на улице Розы Люксембург на Печерске.
Когда ему впервые предложили покинуть камеру, чтобы в стационаре медчасти КГБ пройти обследование у врачей-специалистов, он, как мне показалось, изменился в лице. Что-то промелькнуло в его глазах. Он как-то напрягся и внимательно посмотрел на меня.
Спустя пару месяцев Кук признался, что, когда он очутился в салоне машины, окна которой были наглухо закрыты шторками из черного плотного материала, он подумал, что его везут на расстрел, скрывая это под предлогом медицинского обследования.
Удивительным и необычным выглядели плановые посещения внутренней тюрьмы КГБ помощником генерального прокурора Украины, проводившиеся в так называемом порядке прокурорского надзора. День посещения прокурором тюрьмы был известен заранее. Камере срочно придавался нежилой вид. Убиралось постельное белье, бытовые предметы. Попутно производилась дезинфекция, острый запах которой, кроме устранения возможных инфекций, служил прокурору доказательством, что в этой специальной камере-комнате действительно никто не содержится. Прокурор — это была женщина — появлялась каждый раз в одно и то же время утром и спустя два часа покидала здание КГБ. Супругам в этот день, не раскрывая истинной причины их «выгула», объявлялось, что состоится прогулка по Киеву. За два часа до появления прокурорского надзора Кука и Уляну выводили на улицу. Они в моем и еще одного оперативного работника сопровождении, не обращая на себя внимания прохожих, шли пешком до золотоворотского садика. В хорошую погоду могли посидеть на скамейке в окружении молодых мам с детскими колясками. Затем продолжали свой путь, как правило, до университета, где обязательно подходили, и это стало традицией, к памятнику Кобзаря, склонившего свою величественную голову в сторону возвышающегося напротив красностенного здания Киевского университета его, Кобзаря, имени — Тараса Григорьевича Шевченко.
На Крещатик и другие людные улицы «компания» не выходила из-за опасности потеряться, хотя Уляна и просила завести ее в центральный универмаг на Крещатике.
— Не бойтесь, — говорила она, — мы не сбежим. Документов и денег у нас нет, да и вас тут с нами наверняка больше, только мы их не видим.
Я на слова Уляны только пожимал плечами, давая понять, что их действительно охраняют не «только двое».
В первый выход объектов в город к нам была приставлена бригада сопровождения из десяти работников «НН». В последующем группу сократили, но люди из 7-го отдела КГБ присутствовали всегда, у них была связь и они могли поднять тревогу в случае исчезновения объектов, если бы оперработники упустили их.
В одну из таких прогулок, к счастью рядом со зданием КГБ, когда Уляна держала меня под руку, а Кук шел рядом с другой стороны, мы столкнулись с идущей навстречу моей женой. Алла сделала вид, что не заметила «парочку». Дома вечером меня ожидал не совсем приятный разговор. Я дал жене не раскрывающие секрета пояснения, рассказав о некоторых особенностях своей работы. Все было доложено Николаю Ивановичу, который счел нужным попросить жену встретиться с ним. «Инцидент» был улажен. После этого случая, даже когда я перед предстоящими выездами в западные области Украины приносил с вечера домой завернутые в плащ-палатку предметы экипировки и оружие для работы с легендированной бандбоевкой, здоровенный такой тюк, укладывая все это под кровать, вопросов жена не задавала…
Шло время, и техника фиксировала более откровенные разговоры Кука с Уляной. Бдительность Кука ослабла. Наконец, техникой была установлена интимная близость супругов. Это обрадовало чекистов — объект возвратился к нормальной человеческой жизни. Вскоре снова было сделано вербовочное предложение, но оба ответили категорическим отказом. Тогда они были вновь разведены по разным камерам.
Какое-то время ни руководство, ни Борис Птушко, ни я не работали с Куком. Не встречались с ним и после возвращения обоих в их прежнюю камеру-квартиру. Сделано это было специально. Может быть, полная безвестность повлияет на них.
Техника «выдавала» интересный материал — оба были уверены, что вот сейчас Кука обязательно расстреляют. По ночам были слышны глухие рыдания Уляны и ласково-успокаивающие слова Кука.
В эти-то дни Москва рекомендовала Киеву провести во Львове открытый судебный процесс с привлечением средств массовой информации, использовав материалы процесса в разоблачении врагов украинского народа — вооруженного оуновского подполья, последний лидер которого полковник УПА Васыль Кук — Коваль — Лемиш захвачен органами госбезопасности живым. Разоблачить на этом процессе кровавую сущность бандеровщины, показать населению Западной Украины не только несостоятельность проводившегося оуновцами вооруженного сопротивления в прошлые годы, но и любых попыток зарубежных оуновских центров с помощью западных спецслужб влиять в будущем на политическую жизнь Украины, население которой признает только одну справедливую и народную власть — советскую. По приговору суда Кук должен быть расстрелян.
В ответ КГБ Украины приводил свои аргументы. Во-первых, по мнению Киева, не все было потеряно, еще имелись шансы на вербовку Кука; во-вторых, казнью, пусть и справедливой, мы усиливаем проводимую против нас западную пропаганду о все еще продолжающейся вооруженной борьбе оуновцев в Западной Украине. Это повысит авторитет украинских националистических центров в Мюнхене; в-третьих, мы лишаемся в какой-то степени оперативных возможностей в проводимых КГБ Украины радиооперативных играх с ведущими спецслужбами Запада, успешно осуществляемых советской контрразведкой; в-четвертых, мы можем использовать Васыля Кука «втемную», действуя от имени легендированного подполья ОУН в Западной Украине. Противник верит «нашему» подполью, с помощью которого органы ГБ успешно проводят агентурно-оперативные мероприятия в направлении пресечения враждебных акций и окончательного разложения зарубежных центров ОУН. Приводились и другие аргументы. Украинские чекисты просили Москву не торопить события, пытались доказать, что живой Кук политически выгоднее мертвого.
Судьбой Кука интересовался сам Н. С. Хрущев. Именно от него исходило предложение об организации процесса и расстрела Кука.
Аргументация Киева убедила центр пока воздержаться с процессом над Куком. Сумели повлиять и на Хрущева…
После завершения довольно длительного курса лечения многочисленных болезней Кука, которое шло медленно, потому что поместить его в стационарные больничные условия по оперативным соображениям было невозможно, поступила команда готовить его к встрече с Первым секретарем ЦК Компартии Украины А. И. Кириченко. Готовность — десять — двенадцать дней.
У Кука оставалась одна болячка. Ему нужно было срочно заменить зубы и изготовить вставную челюсть. Для этих целей в распоряжении КГБ был врач-стоматолог, имевший допуск в тюрьму и много лет сотрудничавший с КГБ на этом поприще. Я привел этого врача в камеру к Куку, тот осмотрел зубы и сделал соответствующие замеры. И надо же такому случиться — на следующий день врач неожиданно свалился с высокой температурой. Он был пожилым человеком, и я не стал его беспокоить, будучи уверенным, что время еще есть. А через день звонок из ЦК сообщил — встреча у Кириченко состоится завтра.
Мрачный Николай Иванович вызвал меня.
— Что будем делать? — спросил он. — Показывать секретарю «трехсотого» беззубого, с шамкающим ртом крайне нежелательно. Подумает Алексей Илларионович — тоже мне чекисты, о человеке не могли вовремя побеспокоиться. Не будем же ему объяснять, что у нас постоянный контакт с врачами, что все идет по плану и что с медициной лечение согласовано.
Настроение у Николая Ивановича было — хуже не придумаешь. Все знали крутой характер Кириченко.
Я попросил выделить мне на целый день автомашину и сразу же выехал на Подол, где жил стоматолог.
— Соломон Израилевич, я по вашу душу, — произнес я прямо с порога квартиры, увидев мелькнувшего за спиной открывавшей мне дверь женщины доктора, и только потом произнес: — Здравствуйте, — и низко поклонился пожилой солидной даме, превосходившей своими тучными размерами тщедушного и маленького ростом стоматолога минимум в три раза.
Ею оказалась жена доктора, Софья Абрамовна. Я знал, что это была семья старых большевиков, участников Гражданской войны и имевших большие революционные заслуги. Оба — члены партии с дореволюционным стажем. На этом мне и пришлось сыграть. А что мне еще оставалось делать? Я поначалу обратился к хозяйке, и не ошибся.
— Софья Абрамовна, — торжественно начал я, — в тюрьме КГБ содержится особо опасный государственный преступник, которому завтра предстоит встреча в ЦК Компартии с одним из руководителей. У заключенного нет передних зубов, и вести его в таком виде на беседу к высокому партийному руководству, как вы понимаете, мы не можем.
Софья Абрамовна внимательно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на стоявшего в проеме двери жилой комнаты в стеганом халате с повязанным горлом молчавшего доктора, вновь посмотрела на меня и с готовностью кивнула. Я был уверен, что Софья Абрамовна в курсе всех «тайных» дел врача.
— Сонечка, ты же знаешь, в каких условиях мне там приходится работать. Тюрьма — это не кабинет стоматолога. Под рукой нет нужных инструментов, которые имеются только в кабинете поликлиники. Я успел сделать эту челюсть, но я же должен ее примерить, подточить. Я хочу…
— Я тебя пока не спрашиваю, — перебила мужа на полуслове Софья Абрамовна. — Соля, попроси гостя в комнату. Проходите, пожалуйста, не знаю, как вас назвать, — не дав мужу открыть рта, вновь произнесла Софья Абрамовна, обращаясь ко мне.
Я представился и сказал:
— Я хорошо знаком с вашим мужем, мы с ним уже не раз встречались в здании КГБ. Мы знаем его как одного из лучших стоматологов протезистов Киева, а самое главное — органы госбезопасности полностью доверяют вашей семье.
Софья Абрамовна вновь согласно кивнула.
— Я думаю, Соля, ты должен поехать, если это ненадолго. Он совершенно больной, у него высокая температура, — закончила Софья Абрамовна, вновь повернувшись ко мне.
Я разразился горячей тирадой в связи с выполнением этого важнейшего поручения. Наконец Соломон Израилевич произнес:
— Соня, я думаю, мне следует поехать, если за мной пришлют машину.
— Ты что себе думаешь, без машины я тебя никуда не пущу, — сказала Софья Абрамовна, и они оба посмотрели на меня.
— Да машина здесь, у подъезда. Неужели вы подумали, что я тащил бы больного человека через весь город.
Так я познакомился с замечательной семьей стариков. Позже через мужа я передал Софье Абрамовне большую коробку шоколадных конфет, выпрошенную в буфете для высокого комитетского руководства. Таких конфет в обычных магазинах тогда в Киеве не продавали.
К вечеру в условиях камеры врач кое-как подогнал челюсть Куку. Выглядел он с вставной челюстью довольно комично, но показывать его Кириченко было можно. Челюсть эту потом многократно переделывали и подгоняли.
Я не присутствовал на встрече в ЦК, но от товарищей знал, что Кириченко остался недоволен. Он упрекал чекистов в слабой работе с Куком и возмущался его отказом сотрудничать с госбезопасностью.
К счастью Кириченко понимал, что открытый судебный процесс над Куком нецелесообразен и согласился с чекистами, что торопиться с окончательными выводами по Куку не следует. Высказывал он и свою точку зрения:
— Достойный противник. Жаль, едва ли вы сможете заставить его работать на нас. Таких, как Кук, следовало бы уничтожить намного раньше. Именно такие руководители ОУН очень опасны.
Какое-то время и Кук после встречи с Кириченко был задумчив, малоразговорчив. Ушел, как говорится, в себя. Особо не делился он и с Уляной, а может быть, как это часто бывало, обсуждали они свои проблемы шепотом да еще и под одеялом. Кто их знает, что они говорили друг другу…
Однажды Уляна попросила достать ей карандаши для рисования. О том, что она рисует и любит это дело, нам было известно. Действительно, спустя несколько дней, она показала рисунки, сделанные ею по памяти. Лучше всего у нее получались люди, животные, особенно портреты. Как-то мы разговаривали с Куком, увлеклись, не обращая внимания на сидевшую напротив на кровати Уляну. Разговор с Куком был длинный, как всегда в конце перешли на бесконечный политический спор, который был перед моим уходом прерван Уляной. Она протянула нарисованные на куске ватмана портреты обоих спорщиков. Черты, характерные детали лиц и выражений были схвачены Уляной точно. Уляна по просьбе подарила мне портрет, но по указанию Николая Ивановича его приобщили к делу. Уверен, что в деле Кука в архивах службы безопасности Украины по сей день лежит в канцелярском пакете тот кусок ватмана.
Со временем у меня, наверное, и у Кука исчезла внутренняя напряженность. Я заставил себя полностью отключиться от мысли, что работаю под техникой и каждое неудачно сказанное слово может принести большие неприятности. Когда я впервые доложил Николаю Ивановичу, что с помощью знакомых девчат из ОТО «стер» с пленки неудачно примененные слова, начальник отдела, как часто он делал в подобных случаях, загадочно-хитро прищурился, улыбнулся и бросил:
— Не упускай ни в коем случае ни одной оперативно интересной ситуации. Все остальное не так важно.
Больше мы к этому вопросу не возвращались. Скупой на похвалы Николай Иванович пару раз на совещании похвалил меня за умелую работу с Куком. Это было объективно и заслуженно — свидетельствовала пленка, хладнокровно фиксирующая все встречи с объектом…
* * *
Самыми интересными были беседы с Куком на исторические темы. Историю Украины, ее культуры, громадное литературное наследие, народные традиции, даже музыку Кук знал, наверное, в совершенстве, во всяком случае в большом объемном выражении. Я любил слушать часто увлекающегося Кука, изредка бросая ему, казалось, в нужный момент и в нужное время свои замечания и реплики, не забывая, для чего я приставлен к этому человеку. Мне казалось, я не только делаю крайне нужное для государства дело, но и постепенно оказываю на Кука политическое воздействие. Однако стоило только снова встать на марксистско-ленинские позиции по тому или иному вопросу, как я тут же получал аргументированные и глубокие возражения. Я мог «тягаться» с Куком по философии, земельному и национальному вопросам, мы всегда оставались каждый на своих позициях. Но по истории и литературе Украины я значительно уступал противнику. Как я ни старался превзойти Кука, до конца наших встреч так и не смог достичь этого. Зато я брал реванш в философии, политэкономии, политических учениях. Еще бы, всего лишь два года назад на последнем курсе университета нам читал лекции лучший в стране специалист по политучениям, приехавший специально из Москвы к студентам-юристам, знаменитый своими научными работами академик Покровский. Тот самый, которому резко отвечал Сталин в 11-м томе на 315-й странице.
Много говорили и спорили о работах всемирно известного украинского историка Грушевского, который доказывал, что Украина является частью Восточной Европы, поэтому тяготеет именно к Европе, но никак не к России. Это вызывало у меня горячее возражение.
— Как же так, — возмущался я, — что значит, Украина тяготеет к Восточной Европе, а не к России?
— А я вам доказываю, что именно Украина граничила с Европой, с той же Польшей, Венгрией, Чехией. А это же Европа. В XIV и XV веках и Украина, и Белоруссия находились в составе польско-литовской державы, составляя большую ее часть. Вот почему из этого должно следовать, что Украина более относится к Восточной Европе, а не к России. Кстати, польско-литовская уния в конечном итоге стала называться «Речь Посполита», это в переводе с польского означает «Республика».
— Но позвольте, уважаемый Василий Степанович, — говорил я, стараясь оставаться спокойным и сдерживая поднимающуюся откуда-то изнутри клокочущую ярость, вызываемую таким откровенным попранием марксистско-ленинских исторических положений о возникновении и развитии государств и наций, которые в течение нескольких лет мною старательно изучались и в школе, и в университете. — Правильно, это имело место в XIV и XV веках. Но что было на территории нынешней Украины в IХ — ХI веках? В последующих после XV века столетиях? Что такое Киевская Русь? Что такое сегодняшняя Левобережная Украина? Влияние России настолько велико, что украинское население нынешних Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и других областей этой части Украины говорит в большинстве своем на русском языке.
— Я согласен, налицо влияние граничащей с этой частью Украины России, и от этого никуда не уйдешь. Но здесь и сознательное, силовое заселение этой части Украины русскими, вследствие политики русификации Украины, проводившейся царской Россией а затем так же активно продолженной советской властью. Украина столетиями была между двух огней, между молотом и наковальней. С одной стороны, Запад — Польша, Австрия, Венгрия, Германия, а с Востока — ваша великая Россия. Мы всегда дрались на два фронта.
— Да если бы не Богдан Хмельницкий, который пошел на союз с Россией, чтобы защитить Украину прежде всего от посягательств Речи Посполитой, сегодня вообще Украины, как государства, и не было бы. Нас всегда объединяли три единых кита — православная вера, православное государство и православный народ.
— Согласен, но ярмо, что польское, что русское, всегда одинаково. Порет крестьянина украинского русский боярин, помещик или шляхтич польский — разницы нет.
— А вот Богдан Хмельницкий говорил другое, — горячо возражаю я Куку. — Вы это конечно знаете: «Пусть теми же батогами бьют мужика украинского, но все легче будет — хоть вера одна».
— Тут вы правы. Разве что не так обидно. Вроде бы легче не от поганого ляха плетью получать, а от своего единоверца. Процесс формирования нации идет не только внутри зарождающейся нации, не только в границах будущего государства, создается не только благодаря внутренним материальным и духовным ресурсам, включающими в себя одновременно развивающиеся и язык, и культуру, но и играющими в этом процессе весьма значительную роль внешними факторами. К ним относятся внешние связи с соседями, сила их и взаимное влияние.
В этом смысле благом для развивающейся украинской нации была приличная отдаленность от германских племен, всегда традиционно презрительно относившихся к славянам. Ведь поляки тоже были славяне и служили как бы буфером между тевтонцами и славянскими княжествами на восток от Польши, ибо славяне были язычниками, а немцы стали намного раньше славян христианами. При этом приняли христианство от католического Ватикана. Киевская же Русь значительно позже вошла в лоно христианской церкви, но православного толка, то есть подчинилась Византии. Первой обратилась в христианство киевская княгиня Ольга, и только внук ее, святой Владимир, в 988 году крестился вместе с народом, сбросив с киевских круч языческого бога Перуна в воды Днепра. По преданию, народ Киевской Руси шел к водам как раз с того места, где стоит ныне памятник святому Владимиру с крестом. Шел народ к воде и по долине, получившей название Крещатик.
Расцвет Киевской Руси приходится на конец XII века. Именно в те годы создается могучее политическое объединение, в которое входило десять земель: Киевская, Новгородская, Суздальская, Рязанская, Переяславская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Волынская и Галицкая. Даже после распада Киевской Руси долгие годы оставались прочные и стабильно действовавшие экономические и культурные связи. Всех объединял общий геральдический знак — трезубец. Этот символ государственности имел тогда особую магическую силу…
Кук мог часами рассказывать о становлении и развитии Киевской Руси, ее расцвете и падении. Он считал, что падение Киевского государства началось с междоусобной борьбы за власть среди Рюриковичей, правящих в Киевской Руси. Беспрерывные войны между собой истощали основу тогдашней экономики — сельское хозяйство, тормозили развитие возникающей нации. Он уверял, что все демократические начала в Киевской Руси, в том числе и имевшая там место боярская дума, имели свое происхождение от византийских греков. Византия таким образом способствовала развитию совершенно новых для того времени отношений между властью и народом, между князем и его боярами. Появилась новая форма государственного правления.
Кук любил говорить и спорить о путях развития славянских наций.
— Вы разделяете точку зрения, что Украину и Россию роднит православие?
Я согласно киваю.
— Должен сказать, что первый общинный монастырский устав ввели на Руси в Киево-Печерской лавре в XI веке. Именно в этом монастыре появилась первая летопись. В Киевской Руси было 70 монастырей, 15 епархий. Правда, тогда они все подчинялись Византии, патриарху в Константинополе. Начала разгораться борьба за создание автокефальной церкви. Но даже после того, как киевские князья ослабли и Киевская Русь стала терять свою былую мощь, митрополит Киевский оставался примасом над русскими епископами, включая и те епархии, которые находились на землях Новгородских, Суздальских, Рязанских, Смоленских. Это же территория нынешней России. Да, если бы не татаро-монгольское нашествие, не было бы в вашей нынешней России так называемых «пустыней», где обосновывались бежавшие от татар монахи, забираясь все дальше, «пустыннее», на Север. Шла вынужденная колонизация Севера. Счастьем для России было и то, — продолжал убежденно доказывать Кук, — что татары, подчиняя себе Киевскую Русь, шли по южной стороне Руси, там, где были степи, много зерна. Лошадок надо было кормить. А на вашем Севере, в лесах дремучих лошадок не прокормишь. Татарам легко было одолевать Киевскую Русь, потому что, как известно, единства не было среди князей. Каждый боролся за свой удел. Каждый хотел владеть Киевом. Распадаться княжеский союз начал после Владимира Мономаха, а когда умер его сын Мстислав, рухнуло и Киевское государство. Вот и пошло разъединение Руси. Возникали новые города, которые соперничали друг с другом и с княжествами. Постепенно стала разрушаться этническая общность.
— Но язык-то оставался общим, — прерывая Кука, вмешивался я.
— Правильно, — сразу же реагировал Кук, — пока еще не было особых языковых различий. Но мало-помалу язык, оставаясь пока средством общения, становился символом новых культурных обычаев, традиций. Наступало время формирования украинской и белорусской наций.
— Что-то вы, Василий Степанович, забыли о формировании русского языка. Или он по вашей классификации не имеет ничего общего с украинским и белорусским? — спрашивал я.
— Отчего же, имеет, — отвечал спокойно Кук. — Я о русском языке скажу особо, позже.
— Все же и украинцы, и белорусы, и русские выходцы из одной колыбели — Киевской Руси. В нас во всех больше общего, чем различий. Мы никогда не сможем разъединиться.
— А я и не призываю к разъединению. Я отстаиваю восстановление украинской государственности. Верните нам нашу державность, нашу независимость. Дайте нам самостоятельно строить свое государство. Дайте нам то, что обещал Ленин в 1917 году.
Кук замолчал, подошел к письменному столу в углу камеры, взял в руки том Ленина, открыл отмеченную закладкой страницу и, стараясь придать голосу торжественность, громко зачитал несколько высказываний основоположника, касающихся отношения большевиков к Украине: «… мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны. Если Финляндия, если Польша, если Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Надо сойти с ума, чтобы продолжать политику царя Николая».
Кук бросил взгляд на меня и сказал:
— Это Ленин заявлял на апрельской 1917 года конференции РСДРП(б). А вот уже в другом месте и в другое время, в июне 1917 года в статье «Украина» он вновь повторяет: «… ни один демократ не может также отрицать права Украины на свободное отделение от России…» В другой статье «Украина и поражение правящих партий» он вновь подчеркивает: «Уступите украинцам — это говорит разум, ибо иначе будет хуже, силою украинцев не удержишь, а только озлобишь. Уступите украинцам — вы откроете тогда дорогу к доверию между двумя нациями, к братскому союзу их, как равных!»
Закончив цитировать Ленина, Кук эмоционально произнес:
— Эти заявления Ленин сделал тогда, когда большевики еще не закрепились у власти. Как только ваша партия установила диктатуру пролетариата, прочно взяла власть в свои руки, все эти заявления вождя пролетариата были им забыты. Уже в январе 1918 года Красная Армия взяла Киев и двинулась дальше, к западным границам Украины.
— Не согласен я с вами, — резко возражаю ему. — Вы забыли о январском восстании рабочих завода «Арсенал» в Киеве. Пролетариат Украины, украинские коммунисты обратились за помощью к Москве. Вы, буржуазные украинские националисты, восстановили тогда власть помещиков и капиталистов на Украине. Вы провозгласили власть Центральной Рады[202], привели к власти Петлюру, который начал формировать свою армию и расправляться со всеми теми, кто был против Центральной рады, за союз с Советской Россией. За союз, основанный на братской взаимопомощи, дружбе и уважении. Разве украинские коммунисты выступали против украинского языка, украинской культуры, своих, близких им, народных обычаев? Далеко не вся Украина была против союза с Москвой.
— Ничего я не забыл, — так же резко возражает Кук. — Слабы были большевики тогда на Украине. Вы владели властью в больших городах, да и то не везде. Село же наше украинское не шло никогда за вашей партией. На всеукраинском съезде Советов в декабре 1917 года молодые украинские партии победили, а представители большевиков уехали в Харьков, где и провозгласили Советскую Украинскую Республику, не спросив об этом украинское село, украинский народ. Украинские большевики, не имея поддержки среди населения, обратились за помощью к Москве, спровоцировали восстание рабочих «Арсенала». Красная Армия тогда победила. Много украинских патриотов погибло в боях, многих расстреляла ЧК. Мы никогда не забудем кровавые дела Муравьева[203], войска которого залили кровью Киев, а в боях за город окружили отряд из трехсот киевских студентов и гимназистов, которые не сдались и погибли как истинные украинские национал-патриоты.
Кук замолчал. Я с трудом сдерживал себя и тоже молчал. Наконец, он тихим голосом завершил свою тираду:
Красная Армия наступала на Киев не только по просьбе украинских коммунистов. Просто советская власть не хотела терять такую богатую житницу, как Украина, тем более что Россия большевистская стала преемницей Российской империи, царской России, и, разумеется, никак не хотела расставаться со своими бывшими колониями.
— Ну, это вы уж слишком. При чем здесь Российская империя? Партия большевиков обещала мир народам — и дала его. Обещала крестьянам землю, рабочим заводы — и свое обещание выполнила. — Я сделал шаг к Куку: — Дайте мне этот том Ленина, я тоже вам кое-что зачитаю.
Просмотрев несколько работ Владимира Ильича, я, стараясь сохранить спокойствие и скрыть свою раздраженность по поводу высказываний Кука в адрес святая святых, вождя мирового пролетариата, торжественно зачитал: «…именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и великороссов, за добровольное соединение в одно государство двух народов. Именно безоговорочное признание этого права одно лишь в состоянии разорвать на деле, бесповоротно, до конца, с проклятым царским прошлым, которое все сделало для взаимоотчуждения народов, столь близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории. Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке… Революционная демократия России, если она хочет быть действительно революционной, действительно демократией, должна порвать с этим прошлым, должна вернуть себе, рабочим и крестьянам России, братское доверие рабочих и крестьян Украины. Этого нельзя сделать без полного признания прав Украины, в том числе права на свободное отделение».
Закончив цитату, я вопросительно посмотрел на Кука. Тот с ироническим выражением на лице покачал головой.
Я продолжал:
— Не Красная Армия, а Петлюра залил кровью Украину, подавил восстание арсенальцев в Киеве в январе — феврале 1918 года. Не мы, а Петлюра развязал гражданскую войну на Украине. Красная Армия пришла на помощь своим братьям по классу — украинским рабочим и крестьянам, таким же обездоленным в царские времена, как и российские рабочие и крестьяне.
Кук машет рукой, давая понять, что не хочет говорить на эту тему, и отходит к окну. Несколько минут в камере снова тишина. Первым ее нарушаю я.
— Не будете же вы отрицать ленинский кооперативный план, широко развернувшиеся на Украине ТОЗы[204], которые сплотили сельскую бедноту, показали преимущество общественного коммунистического труда. Были у нас перегибы с социалистическим строительством на селе, но мы успешно преодолевали возникавшие трудности.
Но как только поднимался крестьянский вопрос, переубедить Кука в правильности любых шагов советской власти в отношении крестьянства было вообще невозможно. Обычно яростные споры на эту тему он заканчивал словами:
— Вы даже не смогли правильно и разумно осуществить коллективизацию сельского хозяйства. Вы изначально нарушали ваш же ленинский план кооперации и не только не соблюдали его принцип строгой добровольности, но силой затаскивали крестьян в колхозы, не понимая, что хлеборобы Украины за редким исключением были против коллективизации. Им была нужна собственная земля. Это же крестьяне! Ваш же Ленин писал, что частное крестьянское хозяйство ежеминутно рождает капитализм, против которого выступали коммунисты. Но крестьянскую психологию с ее тысячелетней историей нельзя переделать за несколько десятилетий. Украинские селяне вообще не были подготовлены к коллективизации. Вы разрушили сельское хозяйство Украины. Вы силой загоняли селянина в колхоз. Благодаря нэпу селянин достаточно окреп и сельское хозяйство Украины было в состоянии обеспечить не только население своей республики сельскохозяйственной продукцией, но и снабжать Россию. Но вам нужна была дармовая рабочая сила в городах, рабский труд на лесоповалах. Индустриализация требовала проведения коллективизации сельского хозяйства. Зажиточным крестьянином, то есть, по-вашему, кулаком, считался тот, кто имел нескольких лошадей, коров и овец. А ведь именно эта прослойка работящих селян давала хлеб государству, кормила город. Ваша коллективизация разгромила цвет украинского крестьянства, ликвидировала основного производителя зерна. Крестьяне не хотели вступать в колхозы и резали свой скот. Вы выслали в Сибирь и на Север сотни тысяч селян, не согласных с коллективизацией. Тысячами эти люди, не имея ни хлеба, ни крова, умирали от холода и голода под чужим небом. Ваша политика на селе привела к страшному голоду на Украине в 1932–1933 годах, который по своему размаху и последствиям можно сравнить с геноцидом. Люди ели не только кошек, собак, крыс. Ели человечину. Люди сходили с ума от голода и горя. Миллионы украинских крестьян умерли от голода в те годы.
Я резко возражал Куку, говорил, что он пользуется примерами враждебной нам западной пропаганды. Голод действительно имел место на Украине, но это было связано прежде всего с засухой 1931 года[205].
— Разве вам неизвестны достижения в сельском хозяйстве сегодняшней Украины? — перебивал я Кука. — Вы приводите в своей книге «Колхозное рабство» чудовищные примеры. Многие из них, к сожалению, имели место. Но речь-то шла в вашей книге о Западной Украине, где к тому времени еще не укрепилась колхозная система.
Я приводил Куку цифры и факты успехов украинского сельского хозяйства, но это не оказывало на него никакого воздействия. Кук каждый раз выдвигал свои контраргументы и обязательно связывал крестьянский вопрос с национальным, решение национальных проблем с крестьянской проблемой. Он обычно заканчивал подобные споры такими словами:
— Большевики обидели и российское, и особенно украинское крестьянство. Вам никогда не разрешить национальную проблему без права крестьян свободно владеть своей землей. Украине не нужны колхозы. Испокон веков Украина, особенно Западная, имела хуторское хозяйство. Вы его разрушили.
К общему и взаимопонимаемому знаменателю ни я, ни Кук никогда не приходили. Единственно, в чем обе стороны находили некоторое понимание друг друга, так это в историческом прошлом России и Украины. Вот это я и пытался использовать в работе с Куком. Мы незаметно переходили к истории и увлеченно углублялись в далекое прошлое.
— Конечно, — обычно рассуждал Кук, — и Иван Грозный был из Рюриковичей, как и наш Ярослав Мудрый. Дрались великие князья Рюриковичи между собой сильно. Не поссорься Андрей Боголюбский князь суздальский со своими братьями в Киеве и не уйди на Север, в Суздаль, все могло бы пойти по другому пути. Хитрый и коварный был Андрей Боголюбский. Использовал вражду киевских князей друг с другом и захватил Киев, разграбил город, подчинил себе «мать городов русских». Он вообще был сторонником византийской монархии, добивался абсолютизма и хотел подчинить себе все русские земли. Он даже перенес свою столицу из Суздаля во Владимир, чтобы избавиться от мешавшего ему суздальского вече. Народное правление ему мешало. Подчинил он себе и Новгород. Но покорить всю Русь ему не удалось. Черниговское княжество, Волынь и Галич остались независимыми. А это уже нынешняя Украина.
— И все же в те времена, когда была общая для всех Киевская Русь, не было еще национальных различий и тем более вражды, — говорил я.
— Не скажите, — хитро улыбаясь, возражал Кук. — Шел период зарождения украинской и белорусской наций. Действительно, пока еще не было особых языковых различий. Особо следует выделить известное событие, когда князь московский Юрий Долгорукий привез править в Киев суздальских бояр. Киевское население резко выступило против этих уже тогда для них чужеземцев. Это было, пожалуй, одним из первых проявлений русско-украинского соперничества. Потом в Киеве стали ухудшаться торговые отношения с Византией, которая направила свои торговые усилия на Венецию через ее фактории на Черном море. Постепенно затухала торговля с Германией и Богемией. Эти европейские регионы повернули свой торговый поток на Север через Балтику. Здесь главенствовали Смоленск и Новгород. Рязань и Суздаль торговали с восточными странами через волжских булгар и половцев. Киев оставался в стороне. Он все больше слабел. С Запада Киевскую Русь в те времена атаковали венгры, поляки, литовцы. Киев окончательно захирел с нашествием татаро-монголов, которые захватили и разрушили город в 1240 году.
— Вот видите, как получается. Оставалась бы Киевская Русь единым государством, не ссорились бы князья, не объявились степные кочевники, глядишь, до сей поры у нас был бы единый язык и государство Русское единое. Вон куда дошли монголы — до самой Колымыи[206], до Закарпатья. Кстати, вы знаете, почему Коломыя такое название имеет?
Кук смеется:
— Конечно, знаю. Там на речке татарское войско обычно осенью останавливалось, потому что глина налипала на колеса их повозок, так что дальше двигаться было невозможно. Там на речке они колеса мыли — вот и назвали город Колымыя.
Мы часто возвращались к обсуждению работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», к работам Маркса и Ленина по крестьянскому и национальному вопросам. И снова спорили о языке, составляющем основу нации, как средстве общения между людьми. Мы соглашались с тем, что язык Киевской Руси являлся достаточно зрелым. Язык того времени подвергся влиянию церковнославянского языка после прихода христианства. Это был еще общий язык Киевской Руси. Как латинский язык формировал французский, а тот в свою очередь английский, так и церковнославянский сыграл свою роль в становлении русского литературного языка. Мы соглашались с мнением ученых, что разделение на три языка — результат длительного исторического процесса, где основную роль играли экономические, политические и культурные различия, возникшие с приходом татар. До этого на Руси говорили только на двух диалектах: южнорусском и северорусском. Внутри первого развились украинский и белорусский и южное великорусское наречие, внутри второго — северное великорусское наречие. Южное и северное великорусские наречия соединились и образовали основу русского языка.
На этом, пожалуй, и заканчивались политические согласия двух идеологических противников. Все мои попытки убедить Кука в правильности нашей политической линии по национальному вопросу, в правильности социалистического строительства на селе наталкивались на полное отрицание. Он частично признавал определенные успехи советской власти в здравоохранении, в образовании, особенно дошкольном, но тут же доказывал стремление КПСС русифицировать национальные окраины, особенно Украину, обвинял Советский Союз в продолжении имперской политики царской России.
Политические диспуты велись с Куком почти ежедневно. Спорили горячо, с обеих сторон убежденно. Ссылались на факты.
— Да, — говорил Кук, — я убежденный украинский националист, и горжусь этим. Я предан своей нации и я всего себя до конца отдал борьбе за свой украинский народ. Все свои личные интересы я подчинил интересам народа. Мы, украинцы, не ставили себя выше других наций, в том числе и русской. Но вы, русские, угнетали нас не одно столетие и продолжаете угнетать сегодня.
В этой части бесед я всегда прерывал Кука и доказывал ему обратное, приводил многочисленные примеры равноправия многочисленных национальностей, населяющих Советский Союз.
— Украина, как и Белоруссия, имеет свое представительство в ООН, активно функционируют украинские театры, украинские школы.
— Это формальные представительства, — возражал Кук, — а что касается украинских школ, их число с каждым годом уменьшается.
— Но это, к сожалению, естественно, — возмущался я. — Российская Федерация в несколько раз превосходит Украину и по территории, и по населению, и по промышленности, да и по сельскому хозяйству, хотя Украина всегда была и остается житницей страны. А кто развивал промышленность на Украине? Кто осваивал Донбасс, Криворожье? Кто строил Днепрогэс? — И сам себе отвечал: — Весь Союз вместе с Украиной.
В конце таких бесед Кук обычно замыкался, уходил в себя, замолкал, показывая всем своим видом, что разговаривать дальше не желает. Какое-то время мы молчали. Потом я исподволь заводил разговор на любимую тему Кука — история Украины, ее национальных героев, украинская литература и вновь возвращался к украинскому языку. Об этом можно было говорить безгранично.
Часто говорили о церкви. О проникновении в Центральную и Восточную Европу католицизма, что, по мнению Кука, означало победу латинского языка над славянским. Латынь в средние века стала официальным языком церковной службы, государственной документации, школьного образования. Позже этот язык обязательно учили в украинских бурсах.
В беседах с Куком я находил многочисленные точки соприкосновения, но мне так и не удалось развить их в стройную систему идеологического воздействия на него.
Частые встречи с Куком на протяжении длительного времени выработали у нас обоих несколько странное, как тогда мне казалось, чувство своеобразного уважения друг к другу. В чисто человеческом плане, разумеется. Я старался быть искренним с Куком. Частое общение людей всегда вызывает определенную взаимную откровенность, со временем исчезает отчуждение, возможная между людьми неприязнь, настороженность.
Я достаточно много, однако в рамках существующей конспирации и правил работы с подобными людьми, — как их тогда называли, «объектами», — рассказывал о себе, своем прошлом. Конечно, стараясь быть искренним и откровенным, я все-таки несколько лукавил. Мне своей искренностью хотелось вызвать на откровенный контакт и Кука. Тот был более сдержан в своих эмоциях. И не потому, что был намного старше меня, а потому, что был безусловно более мудрым, опытным конспиратором, обладал громадным жизненным опытом, приобретенным им в тяжелых условиях подполья, где даже малейшая ошибка означала смерть…
Москва неожиданно и как всегда срочно потребовала доставить дело Кука. Речь шла о предстоящем этапировании Кука и Уляны в Москву, где с ними планировался ряд встреч с высшим руководством КГБ и возможная беседа с кем-то из руководства ЦК КПСС.
Мне поручили доставить дело Кука в Москву, где я должен был передать его уже находившимся там Николаю Ивановичу и заместителю начальника управления Василию Ивановичу для доклада руководству.
Короткие сборы, и я в новой офицерской шинели, с пистолетом на портупее и темно-желтым пухлым портфелем в руках прибываю самолетом в московский аэропорт Внуково. В сопровождении встретившего меня незнакомого московского оперработника я доставляю дело на Лубянку, прохожу вместе с москвичом в громадный дом КГБ СССР и передаю портфель Николаю Ивановичу.
В Киев я вернулся через два дня, в канун Нового года. Прибывший вслед за мной из Москвы Николай Иванович объявил, что моя работа с Куком закончена. Кука вместе с Уляной днями этапируют в Москву. На мой вопросительный взгляд Николай Иванович пояснил:
— Прощаться с ним тебе не следует. Так лучше. С ним продолжат работу москвичи. Может быть, у них это получится. Мы сделали все от нас зависящее. — Он помолчал, потом улыбнулся мне. — Спасибо тебе. Ты тоже сделал все возможное. Москвичи получили полный материал твоих бесед с Куком. В принципе они довольны. У них четкая картина политического лица Кука…
Больше я не встречался с Куком вплоть до 1998 года, но каждый раз бывая в своем родном Киеве, спрашивал о Куке, интересовался его судьбой…
Я уважал этого человека, своего противника, за его идеологическую стойкость, за непокорность судьбе, за бесстрашие и мужество.
* * *
В июле 1956 года приехавший в Киев сотрудник отдела кадров ПГУ КГБ СССР предложил мне учебу в разведшколе в Москве. Я был в командировке в Ровно, и звонок из отдела кадров Киева застал меня в кабинете начальника УКГБ Ровенской области П. Е. Арнаутенко, которого я по праву называю своим крестным отцом по работе в разведке. Я колебался с ответом, и Петр Егорович уговорил меня дать положительный ответ. Я все же перезвонил Николаю Ивановичу Зубатенко, который, как оказалось, и рекомендовал меня на эту учебу и новую для меня работу.
Из моих друзей-сотрудников того времени мне особенно дороги Николай Семенович Радул, Игорь Юрьевич Куприенко, Александр Леонтьевич Агеев. Они давно ушли из жизни, оставив о себе легендарную память.
Коля Радул в 19 лет десантировался в сентябре 1944 года в Словакию, где командовал партизанской бригадой. Его и сегодня помнят как советского офицера Радова участники Словацкого восстания. Игорь Куприенко ушел добровольцем на фронт в 17 лет, герой Великой Отечественной. Валя Агеев — доброволец 1944 года в 16 лет. Фронтовой разведчик, чудом оставшийся жить. В одном из ночных поисков получил смертельное ранение — пуля пробила сердечную сумку. И все же выжил и продолжал много лет оставаться в боевом строю.
Не могу не сказать теплые слова благодарности моему доброму товарищу и в те годы начальнику, ныне полковнику в отставке Василию Ивановичу Педченко. В конце 1943 года курсант эвакуированной из Харькова спецшколы ВВС Василий Педченко, приписав себе для верности год, ушел добровольцем в артиллерийское училище. Воевал. Был тяжело ранен. Вернулся с фронта с тремя орденами. Мужественный, смелый, принципиальный человек.
Живет в Киеве полковник в отставке Николай Антонович Анненко. В мое время он работал в аналитическом подразделении КГБ Украины. Ближе я познакомился с ним на беговой дорожке стадиона «Динамо». Я увидел на его теле несколько синеватых и розоватых пульсирующих пятен. Это следы пулевых и осколочных ранений. Фронтовой разведчик Коля Анненко форсировал Вислу и Одер. С фронта пришел с тремя орденами. Участник Парада Победы в Москве. Он не любил рассказывать о войне — она досталась ему тяжело. Мы работали в разных подразделениях, но дружили и часто общались. Я многому научился у этого человека, всего-то на пару лет старше меня, но хорошо и сполна хлебнувшего в жизни. Еще бы, то, что пришлось пережить ему, не уместилось бы и в несколько жизней другого человека. Он часто говорил мне, что самое главное в нашей работе — оставаться человеком, и прежде чем ты решишь что-то сделать или сказать, прикинь еще разок, стоит ли это делать. В общем, мне было у кого учиться и с кого брать пример. Я благодарен им всем, и живым, и тем, кого уже нет, кто был со мной рядом, помогал мне словом, советом и делом.
* * *
Майские праздники 2000 года мы с женой провели во Львове, куда нас пригласили в гости старые друзья. Я не был здесь несколько десятилетий. Город стал еще краше. Львов относится к городам-жемчужинам мира, поэтому и взят под охрану ЮНЕСКО. И все же что-то новое появилось в облике города. Это памятники жертвам ГУЛАГа, новые и необычные названия некоторых улиц: Степана Бандеры, Евгена Коновальца, Тараса Чупринки. В глаза бросаются памятные доски на местах гибели от чекистских пуль известных руководителей ОУН, и… пустое пятно от разобранного и вывезенного на Урал памятника легендарному советскому разведчику и партизану Н. И. Кузнецову.
Что это? Сквозь свежую светлую краску на остатке стены старой синагоги «Золотая роза» проступают свастика и звезда Давида, выведенные охальной рукой местного хулигана…
На Лычаковском кладбище осквернен ударами молотка или, может быть, топора могильный памятник писателю-коммунисту Ярославу Галану, зарубленному в 1950 году топором по указанию руководителей оуновского подполья… Львов — столица Западной Украины, здесь был центр ОУН. Здесь все еще хорошо помнят и зверства немецких оккупантов, и жестокие ответные меры советского правительства на любые проявления украинского национализма. Людей можно понять. И все же это вызывает неприятное чувство. Чувство обиды и оскорбления.
Сегодня во Львове по определенным дням в центре города перед оперным театром на Академической собираются бывшие бойцы УПА и громко распевают свои партизанские песни, прославляющие соборную и незалежную Украину, боевой дух УПА. Это в основном пожилые люди, наверное, кто-то из них в прошлом сам воевал в УПА, был в ОУН, сидел в советских лагерях. Это не страшит, пусть поют, это уже история. Страшит новое поколение, те, кто составляют ряды УНА УНСО[207]. Это в основном молодежь. И вот это опасно…
Я долго стою молча перед собором святого Юра. На память приходят события более полувековой давности. Тот же город, те же люди, тот же воздух…
Для многих сотрудников госбезопасности, особенно для тех, кто работал по церковной линии, фигура бывшего блестящего офицера-кавалериста, графа Романа Шептицкого, посвятившего себя с молодых лет служению Богу и к тридцати шести годам ставшего митрополитом, главой греко-католической церкви в Западной Украине, известного в своей среде Киром Андреем, защитником слабых и убогих, оставалась загадкой.
Я не помню ни одной служебной справки, ни одного документа за время работы в церковном отделе КГБ Украины, где бы бывший граф не поминался иначе, как фашист в рясе, немецкий пособник, гитлеровский холуй, агент гестапо, сифилитик и т. д., который дважды выезжал в нацистскую Германию, где добивался аудиенции у фюрера.
Только спустя много лет я узнал то, что тщательно скрывалось и чего не мог знать в те далекие годы даже сотрудник секретно-политического подразделения советской государственной безопасности. Так, я узнал, что Андрей Шептицкий спас сотни людей от смерти в период немецкой оккупации Западной Украины. Он действительно выезжал в Германию, где встречался с высшими чинами рейха и просил… отменить приказы о физическом уничтожении евреев, особенно интеллигенции. Что он всего себя отдавал служению Богу и людям, утверждая, что всех нас объединяют 10 заповедей Моисея. Что именно он, митрополит Шептицкий, выступал против тех конфессий, которые утверждали, что «только мы молимся правильно, только наша вера истинная, мое — значит лучшее, только моя религия настоящая, только мой пастырь праведный, и язык наш лучше, и до Бога мы ближе…»
Душная и темная июльская ночь 1941 года. Пустынный Львов. Уже введенный оккупантами комендантский час сделал город мертвым. Лишь изредка мелькнет случайный и одинокий прохожий, крадущийся вдоль стен затаившихся, как и люди, домов. Цепенящая тишина, прерываемая металлическим грохотом по городской брусчатке кованых солдатских сапог немецких военных патрулей. Звук подковок уверенно и нагло далеко разносится в ночной тишине: «Прячься все живое, иначе смерть. Здесь новые хозяева. Немцы».
Иногда где-то звучат выстрелы. Это означает, что немецкий патруль задержал очередную жертву. Утром дворники подберут и увезут в безымянную могилу застреленного на улице немцами человека. Это еврей. Их, еще живых, много, очень много в этом городе. Такова история и традиция Львова. Здесь всегда жило много евреев. Задержанных ночью неевреев немцы сразу не убивают. Их передают в комендатуру, откуда, как правило, одна дорога — в концлагерь.
В эту ночь никто не заметил перебегавшую от брамы[208] к браме щуплую фигурку мальчика в ермолке[209] и в большом не по росту, явно с чужого плеча, черном мужском пиджаке. При звуке приближающегося патруля фигурка замирает, сжавшись в клубочек в углу брамы, как кучка неубранного мусора.
Мальчик упорно движется к центру города по Лычаковской. Он прошел несколько километров. Свой путь он держит из еврейского гетто, что создали немцы за Лычаковским кладбищем. Он долго лежал у колючей проволоки, выжидая подходящий момент. Больше всего сейчас он боялся светлых пятен от электрических фонарей, окружавших гетто. Немцы не соблюдали светомаскировки. Советские самолеты не появлялись над городом. Воспользовавшись отсутствием часового, он приподнял колючую проволоку, перебежал освещенную часть территории и растворился в темноте.
Он шел к собору Святого Юра. Несколько дней назад умиравший раввин подозвал его к себе и сказал: «Тебя убьют здесь, в гетто. Если сможешь, беги. Постарайся попасть в собор Святого Юра».
Мальчику очень хотелось жить. Он не мог объяснить себе, как не мог и понять значение слов умиравшего раввина, почему он должен был просить помощи у людей другой веры, но все его существо стремилось как можно скорее достичь именно того места, на которое указывал раввин. Кончалась казавшаяся ему бесконечной Лычаковская улица. Погруженный в темноту город не пугал мальчугана, напротив, ночь была ему помощницей и надеждой.
Вот и Рыночная площадь. Здесь, совсем рядом, здание старинной львовской синагоги. Сюда его по субботам водили родители и он, совсем маленький, боялся огромного, как гора, раввина с черной бородой, длинными пейсами, на голове которого смешно прилепилась кипа[210]. Ему очень нравилось название этого святого для всех львовских евреев храма — «Золотая роза»[211]. Мальчику будет потом очень больно узнать, что этот храм уничтожили немцы, и он будет молча плакать, глотая слезы в тиши церковной библиотеки, где его укрывали добрые люди чужой веры…
Мальчик пересек примыкающий к собору Святого Юра парк. Вокруг было тихо и спокойно. Приблизился к металлическому забору и по железным переплетам перебрался через него. Перед ним высилась громада собора. Он поднялся по крутым каменным ступеням к двери и постучал. Он стучал так много раз. Ему казалось, что звуки разносятся далеко вокруг — так тихо было здесь. Сердце его замирало от страха быть услышанным посторонними за оградой собора. Вспыхнул свет в одном из окон примыкающего к собору двухэтажного строения. Мальчик сполз по ступеням и подошел к двери этого дома. На его осторожный стук за дверью сразу же раздался голос, спросивший по-польски «Кто там?». Мальчик знал не только свой родной идиш и иврит, но так же хорошо и польский, и украинский: «Это я, Давид из гетто». Дверь сразу же открылась, и чьи-то большие ласковые и сильные руки подхватили мальчика и ввели в просторную прихожую, освещенную слабым светом горевшей свечи.
Он стоял перед высоким седым стариком в сутане и с крестом на груди, с большой окладистой бородой. Глаза старика светились добром и состраданием. Старик спросил его, на этот раз по-украински, кто он и как попал сюда, в собор Святого Юра, и мальчик ответил, что он бежал из еврейского гетто, что имя его Давид Кахане[212], и что прийти сюда ему велел умерший в гетто раввин, и что идти ему больше некуда, и что он очень хочет жить.
Они говорили на равных — превратившийся в старичка еврейский мальчуган и приютивший его старик. У них были одни слова, один язык, одна интонация. Их мучили одни мысли. Они понимали друг друга. Старик велел снять грязную оборванную одежду и помыться. Покормил его и уложил спать в большой комнате, заставленной книжными шкафами. Это была библиотека в резиденции главы греко-католической церкви.
Кахане спросил старика: «За что все муки народу моему?» Старик ответил словами Евангелия: «И кровь его будет на детях наших», — и он заплакал и сказал: «Я всего лишь грешный человек».
Вскоре Кахане узнал, что старик — сам митрополит Кир Андрей Шептицкий. Через несколько дней Шептицкий тайно переправил мальчика в один из униатских монастырей, где он встретил свое освобождение Красной Армией.
Спустя много лет Давид Кахане узнал, что не только он один был спасен митрополитом Шептицким. По его указанию в монастырях греко-католической церкви было укрыто 140 еврейских детей. Специальным посланием он обратился к униатским монастырям оказывать помощь евреям, преследуемым немцами, прятать еврейских детей, и если немцы найдут в монастыре еврейского ребенка, то пусть кто-то один из монахов полностью возьмет вину на себя, чтобы отвести смерть от других монахов. Все до единого монахи сказали Шептицкому, что каждый из них готов на это…
В Иерусалиме есть мемориал погибшим в страшную войну с немецким мракобесием. В этом мемориале значатся и те, кто спасал евреев во время войны, те, кто, рискуя собой, укрывал несчастных, истребляемых нацистами. Звание спасителя евреев во время войны считается в Израиле наивысшим. В числе спасителей первым значится датский король и члены его семьи. Датчане — самая почитаемая нация в Израиле. Когда немцы стали преследовать датских евреев, вся страна во главе с королем Дании и членами его семьи вышла на улицы со звездой Давида на одежде. Это был подвиг народа, немцы уже оккупировали Данию.
В аллее Праведников-Героев израильского народа немало украинских имен.
Даже сегодня далеко не все понимают смысл и значение слов на могиле в Иерусалиме основателя сионизма Жаботинского: «Здесь лежит человек, который хотел иметь дело с Симоном Петлюрой.»
Вся еврейская диаспора ненавидела покойного за его связь с Петлюрой. А между тем эти два человека были единодушны во многих политических вопросах. Оба они жили на Украине, оба горячо любили и Украину, и свой народ, и оба мечтали о свободе и независимости своих народов.
Современники утверждают, что Симон Петлюра не был организатором еврейских погромов на Украине. Напротив, он издавал приказы, запрещающие и осуждающие эти акции со стороны военнослужащих Украинской Армии. Но разве не отличались такой же жестокостью как петлюровцы, проводившие еврейские погромы те же революционные и лихие бойцы-кавалеристы Котовского, в дивизии которого было много махновцев..?
* * *
В своем государственном развитии Украина прошла длинный и тернистый путь. Никто из сегодняшних историков не станет отрицать, что Украина сохранила свою государственность с помощью могучего соседа — России. Прав был Богдан Хмельницкий, заключив военно-политический союз с Москвой. Украина в этом союзе окрепла экономически, перестала быть зависимой от своих постоянно выступавших против нее чужеверных агрессоров — Польши, Австрии, Венгрии, Турции, Румынии.
Безусловно, могущественная держава царская Россия, стремясь расширить свои территории, проводила колониальную политику и в отношении Украины. Царское правительство насаждало русскую администрацию, русский язык. Вплоть до 1917 года насильственно ограничивало сферу действия украинского языка, закрывало украинские школы и гимназии, преследовало Просвиту, душило все проявления украинской культуры.
Несмотря на казалось бы общие корни происхождения, языковую близость, как и близость культур, нравов и обычаев, украинец отличается от русского несколько иным психологическим складом ума и характера. Может быть, в силу степного раздолья, более мягкого климата, плодородия земель и более, чем в России, голубого неба он, украинец, мягче по характеру, имеет большую тягу к лиричности, музыкальности, более эмоционален, стеснителен, обидчив и раним. Многие источники утверждают, и автор с ними согласен, что украинцы более усердны, чем русские, обладают выраженным стремлением к командным должностям. Менее ленивы, чем мы, русские, и более изворотливы в деловом мире. Не случайно большой процент как в армии, так и на флоте в России, а затем и в Красной и Советской Армии должностей младших командиров, старшин, сержантов, мичманов, боцманов, всякого рода каптенармусов и снабженцев по тылу принадлежал украинцам. Все они были отличными служаками и хорошо знали свое дело. Русские более равнодушны и терпеливы в сравнении с украинцами по отношению к своим покровителям, руководству, начальству и ко всему более сильному в настоящий момент. Русский религиозный философ и ученый П.А. Флоренский отмечал в русском человеке перевес начал этических и религиозных над общественными и правовыми, говорил, что созерцательность — национальная черта русского. В силу своего национального характера украинец склонен в большей степени, чем другие славянские нации к вольности, свободолюбию. Именно в украинских степях гулял с крестьянской вольницей неугомонный в своей анархии Батько Махно. Только ему позволительно было написать на всех своих пятистах пулеметных тачанках: «Х… (нец.) догонишь». И долго не могли догнать его ни Буденный, ни Пархоменко.
Большую огневую мощь имел Батько, авторитетен был среди украинского крестьянства, потому и военный союз с ним дважды заключала Красная Армия. На приеме у Ленина был Батько, советская власть наградила его орденом Красного Знамени № 2.
Национальный эгоизм присущ каждой нации и это не порочит ее, а только способствует скорейшему историческому развитию. Но нельзя забывать, что нет ничего более живучего и легко воспламеняющегося, чем чувство национального достоинства. При этом особенно болезненно реагируют на это малые народы и народности, которые, и это подтверждает история, — не любят большие, более мощные народы.
Внимательно наблюдая за развитием постсоветской Украины, автор имеет смелость констатировать, что строительство и укрепление Украинской государственности не всегда опирается на демократические основы общества, состоящего не только из этнических украинцев, но большого числа русских и русскоговорящих и русско-мыслящих украинцев, и другого, не коренного, населения страны. Преимущественный приоритет, однако, отдается развитию чисто украинских национальных ценностей. Процветает культ украинского языка, что вызывает недовольство русскоговорящего населения. Все более усиливается процесс вытеснения русского языка.
Решить окончательно, до конца национальный вопрос, этнические проблемы, не смогли ни царский режим в России, ни «самая современная советская марксистско-ленинская идеология». Как в царской России, так и в Советском Союзе систематически вспыхивали национальные конфликты и сопротивление всему русскому, советскому.
Лидеры украинского националистического движения, исходя из опыта борьбы за независимое украинское государство, выбрали в начале 30-х годов уже существовавшую в ряде стран Европы, в частности в Германии и Италии, новую идеологию крайнего национализма, называвшуюся в те годы интегральным национализмом[213]. Главным идеологом украинского интегрального национализма считается выходец из Восточной Украины Дмитрий Донцов, который полагал, что высшая цель нации — построение независимого государства. С целью популяризации своих взглядов интегральные националисты провозглашали культ борьбы, самопожертвования, национального героизма. Цель достигается любыми путями, средствами. Народ должен действовать как единое целое, независимо от партийности, классовой или религиозной принадлежности. Отсюда проистекает понятие Соборности, то есть национального единства.
Лидеры интегрального национализма пришли к однозначному выбору — путь к свободе лежит через бескомпромиссную борьбу или смерть. Украинский интегральный национализм нес в себе элементы фашизма и тоталитаризма. Такой вид национализма мог возникнуть только на почве трагической истории украинского народа, веками угнетавшегося чужеземными поработителями.
Возникновению единой ОУН предшествовало вначале появление в украинской эмиграции в Чехословакии и панской Польше (Галичине — нынешняя территория Львовской, Волынской областей Украины. — Авт.) кружков и групп, состоявших в основном из бывших офицеров-украинцев Австрийской и Венгерской армий, объединившихся в 1920 году в Праге в глубоко законспирированную Украинскую военную организацию — УВО. Ее руководителем и духовником стал полковник Евген Коновалец, политика которого была направлена в основном на проведение террористических акций против польских угнетателей. Однако уже в начале 30-х годов он стал устанавливать и расширять контакты с представителями Германии — извечным врагом Польши.
Менялись времена, менялась и тактика УВО. Коновалец пришел к выводу, что только молодежь в состоянии победить в национально-освободительной борьбе, ибо только она несет в себе дух Свободы. УВО срочно устанавливает тесные связи с нелегальными молодежными националистическими группами и в 1929 году в Вене основывает ОУН, которая, как и ее предшественница, сохраняет военную дисциплину и становится активно действующей «подпольной армией». После ликвидации Коновальца в 1938 году советскими чекистами в ОУН начинается раскол.
Пришедший к власти в ОУН полковник Андрей Мельник не верил в успех вооруженной борьбы и выступал за политическое воплощение в жизнь Украинской национальной идеи путем союзов с западными державами, прежде всего с фашисткой Германией — основным врагом Советского Союза. Молодежь в ОУН в большей степени была на стороне Бандеры, являвшимся в ее глазах боевым вождем нации, выступавшим за вооруженный путь борьбы под лозунгом: «Або здобудемо Самостiйну Украiну, або загинемо за Неi!»[214]
В августе 1939 года, пользуясь отсутствием приговоренного к пожизненному заключению Бандеры, Мельник созвал в Риме конференцию, на которой он своими сторонниками был объявлен вождем нации. С началом Второй мировой войны вышедший из тюрьмы после развала Польского государства Бандера на созванной им в Кракове конференции ОУН своих сторонников отказался выполнять решения Римской конференции ОУН и объявил вождем нации себя. На этой конференции Бандера призвал бороться с каждым, кто будет стоять на пути к украинской независимости, даже если это и будут немцы. Таким образом, возникли две фракции ОУН, каждая объявившая себя законным проводом ОУН. С того времени они стали именоваться ОУН-М (мельниковцы), проводившие умеренную политику интегральных националистов, и ОУН-Б (бандеровцы), или ОУН-Р (революционная), выступавшая за революционный путь.
Победоносное шествие Красной Армии, освобождение Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков, появление активно действующей УПА внесло коррективы в политику ОУН, которая в складывающейся политической обстановке уже не могла быть единоличным представителем украинского народа. По инициативе ОУН и с участием представителей существовавших еще до войны различных украинских политических партий и групп в одном из сел Самборского района Львовской области была создана Украинская Головная Вызвольная Рада (УГВР), то есть политический орган, выполнявший функции представительства всего украинского народа. Политическая платформа УГВР в отличие от ОУН провозгласила терпимость к другим идеологиям, отказ от расовой и этнической исключительности украинцев. Основной упор делался на развитие социально-экономических вопросов в украинском обществе. Создание УГВР свидетельствовало о том, что ОУН теряет свои позиции и авторитет у народа, что тем самым она пытается себя реабилитировать и сохранить кадры, которые должны продолжить работу в новых условиях.
История ОУН и УПА, деятельность зарубежных националистических центров, их тесные контакты и сотрудничество с иностранными спецслужбами, многолетнее вооруженное сопротивление в Западной Украине, многочисленные жертвы с обеих сторон свидетельствуют о том, что мы имели дело с умным, ловким и сильным противником. Этим движением руководили квалифицированные политики и закаленные в борьбе за свои идеалы кадры. ОУН за многие годы работы в подполье воспитала настоящих революционеров-профессионалов, захватить которых или уничтожить переубедить, было чрезвычайно трудно. Организационное построение ОУН осуществлялось по лучшим образцам нелегальных политических партий. Они активно использовали опыт конспиративнейшей партии мира — ленинской партии большевиков, тщательно изучали историю КПСС, учась у нее методам легальной и подпольной работы. Изучали и перенимали опыт ИРА[215].
Структура ОУН: ятерка членов — связник. Вся Западная Украина была поделена на края, округа, надрайоны, районы, не соответствующие советскому административно-территориальному делению, вплоть до каждого села, где также имелась сетка ОУН во главе с назначенным свыше руководителем. Повсеместно действовала служба безопасности — СБ, терроризируя местное население и безжалостно расправляясь с выявленной агентурой советской госбезопасности, или подозреваемыми в принадлежности к ней, со всеми, кто симпатизировал советской власти, родственниками призванных в Красную Армию, местным советским и партийным активом. Так же безжалостно оуновцы расправлялись с польским населением. В 1943–1944 годах УПА, ведя боевые действия против Армии Крайовой (А. К.)[216], защищавшей польское население на оккупированной немцами территории Западной Украины, уничтожила только на одной Волыни до восьмидесяти тысяч поляков, включая стариков, женщин и детей. Поляки на этих территориях тем же платили украинцам.
Деятельность ОУН осуществлялась на всей территории, оккупированной немцами, и даже в самой Германии, где работали выехавшие добровольно или угнанные с Украины остарбайтеры (Оstarbeiter.)[217]
УПА имела, как и ОУН, четкую военную структуру: курень, сотня, чота, рой[218]. Переведенный на украинский язык Боевой Устав пехоты РККА 1943 года был обязателен к обучению и применению всеми бойцами УПА. Вплоть до 1947 года на вооружении УПА были не только пушки, но и тяжелые минометы, станковые пулеметы, много автоматического оружия. Были у них в начальный период и несколько легкие танки. Возникшая в конце 1942 года УПА ставила задачу заложить ядро будущей регулярной Украинской армии и защиту украинского населения от поляков и немецких оккупантов. С другой стороны, оуновцы торопились с организацией УПА, так как на территории Западной Украины появились активно действующие советские партизанские отряды, привлекавшие к себе западно-украинское мужское население. В этой связи представляют интерес следующие цифровые данные: всего советских партизан на оккупированных вермахтом территориях Советского Союза было более одного миллиона бойцов, полтора миллиона составлял резерв из местного населения, готовый вступить в боевые действия, причем приток бойцов в советские партизанские отряды усилился к концу 1942 года, а после поражения немцев под Сталинградом и Курском советские партизанские отряды ограничили приток, направляя людей в боевой резерв.
В оккупированных вермахтом областях Украины оставшееся население на 80 процентов состояло из украинцев. По утверждению некоторых украинских историков в пяти самых крупных партизанских отрядах, действовавших на Украине, только 46 процентов бойцов были украинцы. Даже у легендарного Ковпака украинцев было только 30 процентов. Если УПА почти на 100 процентов состояла из украинцев и лишь небольшой процент принадлежал другим национальностям, в основном бежавшим из немецких концлагерей, которых бандеровцы пытались организовать в отдельные национальные подразделения, действуя при этом под лозунгом борьбы с немецкими оккупантами, то в советских партизанских отрядах была другая картина. Из всего состава советских партизан русских было 52,9 процента, белорусов –33,9 процента, украинцев — 5,9 процента, других национальностей — 7,3 процента. При этом нельзя забывать, что партизанское движение на оккупированных врагом территориях развертывалось в основном в Белоруссии и на Украине. Почему же в советских партизанских соединениях было больше русских, чем украинцев? По утверждению тех же украинских историков, «изображение советскими историками партизанского движения как массовой патриотической борьбы украинского народа против немцев, не соответствует действительности, как и аналогичные утверждения националистов относительно масштабности деятельности УПА. Во время войны подавляющее большинство населения Украины оставалось политически нейтральным, более беспокоясь не об организации сопротивления, а о том, чтобы как-нибудь выжить»[219].
Местное население Украины доброжелательно относилось не только к советским партизанам, но и к повстанческим отрядам оуновцев, потому что и они, особенно после 1943 года, выступали в ряде случаев против немцев. В принципе население Западной Украины помогало отрядам УПА, не только опасаясь террора с их стороны, но и потому, что это были их родные украинцы, защищавшие от произвола оккупантов и поляков. В глазах местного населения оуновцы были героями, борцами за их родную Украину, за ее самостийность. О том, что это была не просто материальная помощь УПА со стороны местного населения, но и высокая моральная поддержка, свидетельствует великое множество фактов. В этой связи небезынтересны слова одного ведущего лидера нынешней Украины, произнесенные им в выступлении на Верховной Раде, что и он мальчиком, проживая в селе, «тоже помогал хлопцам из леса». Этот человек в советские времена занимал высокий партийный пост. И в этом нет ничего унизительного или постыдного за происходившее в прошлом.
Выполняя указания партии и правительства, сотрудники госбезопасности вели ожесточенную борьбу с вооруженным оуновским подпольем. Несли при этом и многочисленные потери. Автору довелось принять посильное участие на завершающем этапе этой народной трагедии, когда речь шла о ликвидации действительно «остатков бандоуновского подполья». Как ни странно, но «остатками» было принято в те времена называть оуновские формирования даже в период апогея вооруженной борьбы 1944–1948 годов, когда этих «остатков» были тысячи. Мы всегда торопились доложить партии и правительству о досрочном выполнении любой поставленной задачи. партия и правительство со своей стороны были вынуждены торопить чекистов, потому что, по прошествии тридцати лет после 1917 года, не приличествовало большевикам признаваться в том, что все еще существует вооруженное сопротивление советской власти. Чекисты были искренни в своих убеждениях и почитали за честь с оружием в руках бороться с врагами советской власти, в какой бы форме это не проявлялось.
Автор убежден и сегодня, что выполнение воли партии и государства было священной обязанностью каждого чекиста. Это в наше сегодняшнее постсоветское время, с учетом международной ситуации, расклада политических сил в обществе, новых политических, социальных, психологических, моральных и т. д. и т. п. явлений можно, да и следует признавать не только ошибки врагов, но и свои собственные. Сокрытие от народа, от общественности любой правды говорит о слабости тех, кто принимает такое решение. В правде и гласности, прежде всего политической, сила и прочность общества.
Автор гордится тем, что ему посчастливилось соприкоснуться с яркими событиями минувшей эпохи, стать участником и свидетелем исторической драмы, вызванной не всегда правильным подходом с нашей стороны к оценкам происходивших событий. Он не сожалеет о своем пройденном жизненном пути, о работе в органах госбезопасности, о своих, пусть запоздалых, но искренних выводах.
Давно вызревавшие в советском обществе гнойники, пороки и недостатки советской идеологической системы привели к неожиданной идеологической гибели нашего общества, которое, говоря словами В. И. Ленина, «давно было беременно» этим взрывом. Нужен был только повод — и он нашелся. Гигантский партийно-бюрократический аппарат власти не смог руководить стремительно развивающимся процессом устранения правящей власти в стране — КПСС.
Можно лишь сожалеть, что у нашего партийного и государственного руководства не хватило политической мудрости и человеческой смелости остановить надвигающуюся катастрофу. Нет, не сохранять уже изжившее себя старое, но умелыми действиями, гибкими и контролируемыми реформами, отвечающими чаяниям народа, учитывая, прежде всего, национальные интересы, направить общество в нужное, требуемое эпохой русло.
Взгляды, мнения, оценки, политические и идеологические воззрения всегда меняются со временем, иначе не существует такой науки как диалектика, о жизненности которой говорили еще древние. Все течет, все меняется, но постепенно, закономерно, последовательно. Политики, влияющие на судьбы управляемых ими государств, народов, должны руководствоваться, прежде всего, разумом и логикой, учитывать объективные закономерности развития истории.
Принимая в Кремле от послов иностранных государств верительные грамоты в июле 2000 года, Президент России сказал мудрые слова о том, что «мы намерены проводить внешнеполитический курс, основанный на практицизме и здравом смысле, соблюдая баланс интересов и гуманизм».
Автор оставляет за собой право в последующих своих планах вернуться к некоторым изложенным в настоящем повествовании вопросам, но это уже будут другие темы и события.
Москва — Киев — Львов — Москва, 1998–2001
Приложения
Не делать из военного преступника национального героя!
В ноябре 2000 года в столичном Доме кино, в присутствии премьер-министра Ющенко состоялась презентация нового художественного фильма «Непокоренный», снятого на киностудии имени А. П. Довженко. Как говорит реклама, фильм повествует о «героических подвигах» бывшего командира УПА Романа Шухевича. Создатели фильма вопреки исторической правде пытаются представить своего героя «патриотом, отдавшим жизнь борьбе за свободу и независимость Украины».
Как свидетельствует история, его подлинное лицо клеймено свастикой нацистов, кровавый след этого «героя», а точнее — палача и подручного гитлеровцев, был проложен не только в Украине, но и в ряде других стран.
Шухевич с утверждением Гитлера у власти в Германии, будучи членом ОУН, поступил на службу к фашистам. Став офицером абвера, он принимал участие в агрессивных акциях Германии против Чехословакии и Польши, результатом которых стала оккупация гитлеровцами этих стран и передача Закарпатских земель Украины хортистской Венгрии. Затем обер-лейтенант Шухевич становится ревностным участником подготовки нацистской Германии к нападению на Советский Союз. Ретивость предателя украинского народа не осталась незамеченной, нацисты назначили его командиром пресловутого батальона «Нахтигаль», комплектовавшегося украинскими националистами. Функции политического руководителя батальона выполнял небезызвестный военный преступник после войны судимый оберфюрер СС Теодор Оберлендер.
Батальон «Нахтигаль» ступил на украинскую землю 22 июня 1941 года в колоннах гитлеровских полчищ. Его «боевой путь», как свидетельствуют материалы Нюрнбергского суда над главными нацистскими преступниками, был обильно полит кровью ни в чем не повинных людей.
30 июня 1941 года нахтигалевцы вместе с гитлеровцами ворвались в город Львов и учинили кровавую расправу над его жителями. Действия нахтигалевских легионеров, по свидетельству германского историка Вальтера Бродорфа, автора книги «Тайные команды Второй мировой войны», смутили даже бывалых немецких вояк. «Они, — писал автор, — взяли в зубы длинные кинжалы, засучили рукава гимнастерок, держа оружие на изготовке. Их вид был омерзителен… Словно бесноватые, громко гикая, с пеной на устах, с выпученными глазами неслись по улицам Львова. Каждый, кто попадал им в руки, был жестоко казнен»…
В первую неделю июля 1941 года нахтигалевцы с нацистами уничтожили свыше трех тысяч львовян, в основном лиц польской и еврейской национальностей. В их числе — бывший премьер-министр Польши, профессор Львовской политехники Казимир Вартель, известные врачи Островский и Гилярович, множество ученых и писателей. Тысячи невинных советских граждан нахтигалевские легионеры уничтожили в Золочеве и Тернополе, Сатанове и Виннице и других городах и селах Украины.
С марта 1942 года Шухевич в чине гауптмана, являясь заместителем командира батальона и командиром одной из четырех рот 201-й полицейской дивизии СС, участвует в карательных акциях против партизан и мирного населения Белоруссии. За проявленные «боевые доблести» Гитлер наградил его Железным крестом. В чем состояла «боевая доблесть» Шухевича, как и всего шутцманшафт-батальона, сказано в книге известного украинского исследователя, автора книги «3 ким i проти кого воювали украiнськi нацiоналiсти в роки Другоi свiтовоi вiйни». В. И. Масловского. На их «боевом счету», пишет историк, десятки сожженных белорусских хуторов и деревень, в том числе известная всему миру Хатынь, несчетное количество загубленных жизней белорусский патриотов. Свой кровавый след шутцманшафт-батальон оставил и на украинской земле, уничтожив Волынское село Кортелисы, о судьбе которого в свое время писал В. Яворивский, расстреляв 2800 его жителей.
В 1943 году Шухевич «проводом» ОУН назначается командиром УПА, одновременно возводится в ранг «генерала-хорунжего». Под руководством Шухевича, принявшего псевдоним «Чупрынка», УПА в течение 1944–1945 годов осуществила широкомасштабную кровавую акцию геноцида польского населения, проживавшего в западных областях УССР, жертвами которой стали свыше 200 тысяч мирных и беззащитных граждан. УПАвцы убивали и вырезали поляков целыми семьями и даже селеньями, что на документальном материале показано в книге «Гiрка правда: злочiнность ОУН-УПА» канадского исследователя украинского происхождения В. В. Полищука, многочисленных официальных публикациях в Польше, Белоруссии.
По прямому указанию Щухевича… «дмогатися, щоб нi одне село не визначало Радянськоi влади. ОУН маэ дiяти так, щоб усi, хто визнаэ Радянську владу були знищенi. Не залякувати, а фiзично знищувати!», — боевики УПА развязали террор. Только на территории Львовской области с конца 1944 по май 1945 года бандеровцы убили и замучили до смерти 5088 человек, в том числе 44 учителя, 218 председателей сельсоветов и их заместителей, 406 бойцов истребительных отрядов, 3105 крестьян, среди них 497 детей. Всего на Львовщине за время, когда Шухевич командовал УПА, ее боевиками убито более 40 тысяч человек. На Волыни ими уничтожено 25 700 человек, на Ровенщине — 37 тысяч, на Ивано-Франковщине около 30 тысяч. Многие трофейные документы говорят о тесном взаимодействии ОУН и командования УПА с гитлеровскими спецслужбами, снабжавшими бандитов оружием, инструкторами и т. д.
Среди тысяч жертв УПА были многие воины Советской Армии, в том числе генерал Н. Ф Ватутин.
По оценкам зарубежных авторов: французского публициста Герэна, автора книги «Серый генерал», американского исследователя К. Симпсона, автора изданной в США книги «Бловбек», итальянского историка Джузеппе Боофа, автора двухтомной «Истории Советского Союза», злодеяния украинских националистов УПА по своей жестокости и цинизму не только не уступают злодеяниям германских фашистов, но и даже намного превосходят их.
В свете этих данных мы вправе заявить, что создатели фильма «Непокоренный» задались неблагородной целью любыми неправдами героизировать образ кровавого палача Шухевича-Чупринки, верно служившего нацистам и совершившего тягчайшие преступления против народа Украины. Создание подобного фильма есть не что иное, как попрание исторической правды, глумление над светлой памятью многочисленных жертв бандеровщины, грубо нарушает положение Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне».
Ветераны Великой Отечественной войны требуют от властей Украины, руководствуясь упомянутым Законом, прекратить реабилитацию ОУН-УПА, очернение в СМИ подвига советских людей, отстоявших независимость своей Родины в схватке с фашизмом и их подручными националистами.
От имени ветеранов организации службы безопасности Украины «Щит» письмо направлено в декабре 2000 года в адрес Верховной Рады Украины. Ответа не последовало.
Примечания
1
ОУН — организация украинских националистов. Создана в 1929 г.
(обратно)2
Брестская уния 1596 года являла собой экспансию католицизма на Восток, в соответствие с которой возникла так называемая греко-католическая (униатская) церковь, то есть соединение римско-католической церкви с православной церковью. Униатская церковь сохранила традиционные православные литургии и обряды, язык же был местный, в данном случае украинский. Священники-униаты имеют право на брак. Верховное руководство в вопросах веры и догм осуществляется Ватиканом, перед которым отчитывается униатская церковь.
(обратно)3
Провод — руководство, провiдник — руководитель (укр.).
(обратно)4
Абвер — орган военной разведки и контрразведки фашистской Германии.
(обратно)5
Батальон «Нахтигаль» (Nachtigall) создан по договоренности между ОУН и вермахтом для использования в боевых действиях против Красной Армии в начальный период Великой Отечественной войны. Активно участвовал в уничтожении евреев и коммунистов в г. Львове. Состоял только из украинцев, носивших форму вермахта, но отличавшихся от немецких солдат желто-голубым флагом и «трезубом» (геральдический знак святого Владимира Киевского. Символизирует государственный герб, национальный знак и религиозный символ. Имеет 1000-летнюю историю. Считается национальным символом Украины. Впервые в истории Украины при провозглашении Украинской народной республики в 1918 году был утвежден гербом Украины. Сегодня — Государственный герб Украины. Витиевато переплетающийся рисунок трех зубьев образует слово «Воля»).
(обратно)6
Центральный провод ОУН — центральное руководство ОУН
(обратно)7
ЗЧ ОУН — закордонные части ОУН, возгловлялись С. Бандерой. Контролировались американской разведкой.
(обратно)8
УПА — Украинская повстанческая армия.
(обратно)9
Кобзарь — так Украина называет великого украинского поэта, философа, мыслителя и художника Т. Г. Шевченко. Кобзари на Украине в прошлом — бродячие музыканты и певцы, как правило, слепые старики, с поводырем, игравшие на бандуре и исполнявшие народные песни о тяжкой доле Украины.
(обратно)10
ВТ — внутренняя тюрьма.
(обратно)11
ОТУ — Оперативно-техническое управление.
(обратно)12
ЗЧ ОУН — закордонные части ОУН, возглавлялись С. Бандерой. Контролировались американской разведкой.
(обратно)13
ЗП УГВР — зарубежное представительство Украинского главного освободительного (визвольноi) совета (рады), возглавлялось Л. Ребетом. Контролировалось английской разведкой.
(обратно)14
СБ — служба безопасности ОУН.
(обратно)15
Погребецкий М. Т. — первый заслуженный мастер спорта по альпинизму в СССР, в те годы жил в Киеве.
(обратно)16
Евгений Абалаков — заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, известный покоритель мировых вершин.
(обратно)17
Дюльфер — способ спуска по крутому или отвесному склону (или стене) с помощью веревочного троса, пропустив один из концов между ног.
(обратно)18
«Суржик» — украинский язык с большим количеством русских слов.
(обратно)19
Балагулы — евреи, занимавшиеся до 1917 г. извозом.
(обратно)20
«Выкресты» — евреи, принявшие православие.
(обратно)21
«Перец» — юмористический журнал, типа московского «Крокодила», издавался на украинском языке
(обратно)22
Фильтрационные лагеря — специально созданные во время войны лагеря, где проходили фильтрацию, т. е. проверку лица, бывшие в окружении, в плену, в концлагерях и т. п.
(обратно)23
РОА — Русская освободительная армия генерала Власова.
(обратно)24
Эмпайер-Стейт. Билдинг» — тогда самое высокое здание в Нью-Йорке.
(обратно)25
КПЗ — камера предварительного заключения.
(обратно)26
«Игра на пианино» — жаргонное выражение в блатном мире, означающее дактилоскопическую отпечатку пальцев.
(обратно)27
УПК — уголовно процессуальный кодекс.
(обратно)28
ВЮЗИ — Всесоюзный заочный юридический институт.
(обратно)29
Г. Тихолаз потерял руку на Курской дуге, стал в свое время секретарем Киевского горкома КПУ, затем завотдела обкома КПУ.
(обратно)30
Д. Стаднюк офицером дрался в Сталинграде, был награжден двумя орденами боевого Красного Знамени, в последствии был замминистра в правительстве Украины.
(обратно)31
Студенты киевских вузов принимали активное участие в осушении Ирпенской поймы.
(обратно)32
В те годы КГБ работал по следующему распорядку: начало работы в 10.00 до 15.00, перерыв с 15.00 до 19.00, и с 19.00 до часу ночи снова работа. Руководство, как правило, задерживалось до 2–3 часов утра.
(обратно)33
«Палац працi» —»Дворец труда (укр.)
(обратно)34
ИПЦ — истинно-православная церковь.
(обратно)35
БУ — бывшее в употреблении.
(обратно)36
Каждое дело — формуляр — имело так называемую «окраску», то есть по какой теме, вопросу осуществлялась конкретная разработка. Окраски могли быть разные: «антисоветчик», «шпионаж», «террорист», «националист», «сионист» и т. п.
(обратно)37
Цадик — истинно верующий еврей, «праведник».
(обратно)38
Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, ныне Академия ФСБ.
(обратно)39
Так сотрудники между собой называли Пятое управление КГБ СССР, занимавшееся защитой и обеспечением государственной безопасности советской идеологии.
(обратно)40
Брестская уния 1596 года являла собой экспансию католицизма на Восток, в соответствие с которой возникла так называемая греко-католическая (униатская) церковь, то есть соединение римско-католической церкви с православной церковью. Униатская церковь сохранила традиционные православные литургии и обряды, язык же был местный, в данном случае украинский. Священники-униаты имеют право на брак. Верховное руководство в вопросах веры и догм осуществляется Ватиканом, перед которым отчитывается униатская церковь.
(обратно)41
ПК — перлюстрация корреспонденции. Для работы с письмами — вскрытию конвертов и возвращения им первоначального вида — существовало специальное подразделение, так называемый 6-й отдел, изымавший корреспонденцию и обрабатывавший затем письма по заданию оперативных подразделений.
(обратно)42
Экзарх — глава в православных церквах, церковных округах, иногда объединяющий несколько епархий, пользующийся определенной самостоятельностью. Современная русская Православная церковь имеет Э. в Западной, Центральной Европе, Центральной и Южной Америке, на Украине.
(обратно)43
Привоз — район в Одессе, где находится большой городской рынок.
(обратно)44
Благочинный — в православном церковном управлении священник, помощник епископа, выполняющий административные обязанности по отношению к нескольким церквам с их приходами.
(обратно)45
Дюк — так одесситы называют французского герцога Ришелье. В 1805–1814 гг. генерал-губернатор Новороссии, содействовал хозяйственному освоению края и развитию Одессы.
(обратно)46
СД — Sicherheitsdienst — служба безопасности (нем.).
(обратно)47
Кирпонос — Герой Советского Союза, генерал-полковник, погиб в окружении в 1941 г. Похоронен после войны в Киеве.
(обратно)48
Гмыря Б. Р. — народный артист УССР, бас. Правительство Украины предоставило ему возможность эвакуироваться из Киева, выделив грузовую автомашину. Он отказался из-за болезни жены и остался в оккупированном Киеве. На предложение немцев работать ответил согласием и пел на сцене театра и в немецких военных частях. Выезжал с концертами в Берлин (его слушал Гитлер) и в ставку в Винницу. С немцами, которые также выделили ему автомашину, не ушел. Репрессиям с нашей стороны не подвергался. В 50-е годы по инициативе Н. С. Хрущева награжден орденом Ленина и получил звание народного артиста СССР.
(обратно)49
«Ветрянка» — предохранитель в авиабомбах, принцип которого состоит в откручивании от потока воздуха «крыльчатки» — «ветрянки», обнажающей ударный механизм.
(обратно)50
Фамилия и имя изменены.
(обратно)51
Старший сержант госбезопасности приравнивался к лейтенанту Красной Армии.
(обратно)52
Старший лейтенант госбезопасности в НКГБ приравнивался к майору Красной Армии и носил такие же знаки отличия, т. е. две шпалы.
(обратно)53
Звезды на рукаве гимнастерки и шинели имели политработники всех рангов.
(обратно)54
Министр госбезопасности Украины генерал-лейтенант Н. К. Ковальчук через два года после разоблачения капитана Нечипоренко был уволен на гражданскую пенсию, лишен генеральского звания и орденов за якобы имевшие место нарушения соцзаконности при репрессиях в 1937–1938 гг.
(обратно)55
На углу Крещатика и ул. Ленина, где сейчас Центральный универмаг.
(обратно)56
«Гитлер — освободитель Украины!»
(обратно)57
«От хлеба и сала!»
(обратно)58
Имя и фамилия изменены.
(обратно)59
«Мурашковцы» — секта, занимавшаяся жертвоприношениями, посвящением на крови и телесными изуверствами. Основана неким Мурашко в начале 30-х годов, ликвидирована в 40-х годах.
(обратно)60
Хасид — благочестивый (др. — евр.) Хасидизм — религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в первой пол. XVIII века среди еврейского населения Волыни, Подолии и Галиции (Зап. Украина). Начался как опозиционное движение против офиц. иудаизма, в частности раввината. Для х. характерны крайний мистицизм, религ. экзальтация, почитание цадиков («праведников», «провидцев»). Постепенно объединился с раввинатом. Наибольшее число приверженцев х. — в Израиле. (Большой энциклопедический словарь).
(обратно)61
Егупец — древнееврейское название Киева.
(обратно)62
ВУЧК — Всеукраинская чрезвычайная комиссия.
(обратно)63
Гартинг был убит революционными солдатами в Царском Селе в 1917 г.
(обратно)64
Характерный щелчок производился специально как сигнал для того, чтобы другие арестованные в это время не попадались на пути следования конвойные их поворачивали в случае встречи лицом к стене, чтобы исключить визуальный контакт с официальными сотрудниками ведомства. Привычка, сохранившаяся после репрессий 1937–1938 гг.
(обратно)65
Пролетарскими праздниками в то время назывались 7 ноября и 1 Мая.
(обратно)66
Ф.И.О, год и место рождения и т. д.
(обратно)67
«Молчальники» — нелегальная немногочисленная секта на Украине, идеология которой заключалась в полном бойкоте советской власти. Все официальные документы, включая паспорта, членами этой секты не признавались, как и деньги, а с представителями властей они не разговаривали, от работы уклонялись.
(обратно)68
КСП — контрольно-следовая полоса.
(обратно)69
Фамилия изменена.
(обратно)70
«Ст. 9» — деньги, выделяемые на оперативные расходы и вознаграждение агентуры. Причем не всегда можно было отчитаться за них документально, подтвердить произведенные расходы, исходя из оперативной целесообразности.
(обратно)71
Отдел «А» — оперативные учеты и архив.
(обратно)72
Так в подготовительной военной школе звали младших по классу воспитанников.
(обратно)73
Годичная школа разведки в Ленинграде — специальное учебное заведение, готовившее сотрудников наружного наблюдения.
(обратно)74
Клуня — сарай с сеновалом, рига (укр.).
(обратно)75
«Не обижай родственников и мать свою».
(обратно)76
КНД — контрольно-наблюдательное дело. Заводилось органами госбезопасности на каждого работника, в том числе и технического персонала Совета Министров и ЦК Компартии Украины.
(обратно)77
Терены — местность, территория, район (укр.).
(обратно)78
Господарь — хозяин, господыня — хозяйка (укр.).
(обратно)79
Вуйко — дядька, мужик (укр.).
(обратно)80
«Рiдни Земли» — родные земли, имеется в виду территория всей Украины, прежде всего ее Западных областей, где действовало подполье ОУН. Подчеркивается тем самым приоритет, самостоятельность и даже некоторая политическая независимость от руководства ЗЧ ОУН и ЗП УГВР в Мюнхене (укр.).
(обратно)81
Славной памяти — сл. п. И далее шла должность или же указывалось «друг» — «д», получалось сл. п. д., то есть речь шла об уже мертвом человеке.
(обратно)82
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь.
(обратно)83
«Запросить ракету» — означало получить разрешение на уничтожение ракетой класса «воздух — воздух» противника. Разрешение в данном случае могло дать только высшее руководство страны.
(обратно)84
Спираль Бруно — специальная, свернутая в спираль колючая проволока.
(обратно)85
«Подойди, мальчик, ко мне, я тебе конфеток дам».
(обратно)86
Ты над кем смеешься, девчонка, не надо мной ли?
(обратно)87
Стрiха — крыша (укр.).
(обратно)88
Серов И. А. — Председатель КГБ при СМ СССР.
(обратно)89
Мысливец — охотник, стрелок (укр.).
(обратно)90
«Грипсом» оуновцы называли записку, составлявшуюся обычно химическим карандашом на длинной и узкой полоске вощеной бумаги. Прошивалась ниткой и заклеивалась воском.
(обратно)91
«Закерзонье» — так называемая «Линия Керзона» (по имени министра иностранных дел Англии в 1919–1924 гг.), название восточной границы Польши с 1919 г. В 1945 г. устранена по договору между СССР и Польшей. За «Линией Керзона» проживало большое количество украинцев, живших в своих чисто украинских селах, являвшихся базой для подполья ОУН, которое считало эти территории частью Украины.
(обратно)92
Псевдо — псевдоним (зап. — укр.).
(обратно)93
«Дегтярь» — так в те времена называли ручной пулемет системы Дегтярева.
(обратно)94
Мотузок — тонкая веревка, бечевка (укр.).
(обратно)95
Жить «за Польщi» жить в то время, когда эта часть территории Западной Украины принадлежала Польше (укр.).
(обратно)96
Дефензива — польская контрразведка (пол.).
(обратно)97
«Двуйка» — II oтдел польской службы безопасности, занимавшийся разведкой, прежде всего против СССР (пол.).
(обратно)98
МП (Maschinenpistole — МР) — немецкий пистолет-пулемет с рожковым магазином на 32 патрона, калибр 9 мм (нем.).
(обратно)99
Краивка — бункер, схрон, укрытие (укр.).
(обратно)100
Зрадник — предатель (укр.).
(обратно)101
Кашкет — кепка, фуражка (укр.).
(обратно)102
Восточник — так жители Западной Украины называли украинцев, проживавших в восточных областях Украины.
(обратно)103
1 морг — 0,6 га (пол.).
(обратно)104
Фольварк — имение, поместье (пол.).
(обратно)105
Специальная фляга немецкого образца с суконным чехлом с кнопками, изготовленная в ОТО МВД (оперативно-технический отдел МВД Украины). Одна из кнопок действовала как предохранитель от ввода в содержимое фляги спецпрепарата.
(обратно)106
Отрута — яд. Так местное население называло «Нептун-47» (укр.).
(обратно)107
Так в госбезопастности называют оперработников, работающих с агентурой
(обратно)108
«Петлюровка» — особого покроя и формы военная фуражка, которую носила в годы гражданской войны украинская армия Симона Петлюры.
(обратно)109
Давать шенкеля — резко сдавить бока лошади ногами, чтобы та тронулась с места или сделала прыжок при быстрой езде.
(обратно)110
Операции «с кровью» — так в то время называли оперработники операции, заканчивавшиеся ликвидацией оуновцев.
(обратно)111
При допросах больных с открытой формой туберкулеза применяется сулема для обработки рук.
(обратно)112
Холера ясна — черт возьми, черт побери (пол.).
(обратно)113
ППС — пистолет-пулемет Судаева, был на вооружении Красной Армии с 1943 г.
(обратно)114
Брандмауэр — пожарная толстая кирпичная стена, разделяющая чердак на две или несколько частей.
(обратно)115
Материал взят из архивов СБ, обнаруженных в 1955 г. после ликвидации окружного провидныка Уляна.
(обратно)116
Цивильный — гражданский (укр.).
(обратно)117
Служба Безопасности
(обратно)118
Джерело — родник, источник (укр.).
(обратно)119
Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934), украинский историк, в 1917–1918 — председатель Центральной Рады. С 1919 эмигрант, сменовеховец, в 1924 вернулся в УССР. С 1929 академик АН СССР. Основной труд — «История Украины — Руси» (в 10 т.). Похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве. Практически все работы Грушевского после его смерти на Украине были изъяты из библиотек и чтение их было запрещено. Труды Грушевского конфисковывались. Несмотря на все усилия КГБ, устанавливавшего негласно скрытые посты наблюдения, каждую годовщину смерти ученого на его могилу возлагались живые цветы. С позиций сегодняшнего дня Грушевский — патриот Украины, борец за ее державность, ученый с мировым именем, внесший своими работами по истории Украины достойный вклад в мировую историю.
(обратно)120
Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951) — украинский историк и писатель, (писал на украинском и русском языках), политический деятель. Председатель Генерального секретариата Центральной Рады (1917–1918), председатель Украинской директории (ноябрь 1918–февраль 1919). В 1919 эмигрировал, в1920 вернулся, был назначен председателем СНК УССР, в том же году вновь эмигрировал. Повести, рассказы, очерки. Социально-фантастический роман «Солнечная машина» (1928), роман-антиутопия «Лепрозорий» (1938), политический роман «Слово за тобой, Сталин» (1950). Пьесы, дневники.
(обратно)121
Карбонарии — члены тайного общества в Италии, во Франции, Швейцарии и на Балканах в XIX веке, боровшегося за национальное освобождение. Они возглавляли буржуазные революции, имели высочайшую конспирацию и особую символику. Все это нравилось и соответствовало духу оуновских руководителей.
(обратно)122
«Друг Игорь! Встреча с вами состоится в первый понедельник каждого месяца в 17 часов по московскому времени в горелом лесу, у того белого камня, где в 1948 году славной памяти друг Жук убил двух большевиков. Шувар. (Пер. с укр. авт.).
(обратно)123
«Спутник» — специальное устройство, когда объекту внимания органов госбезопасности вшивают в воротник пиджака или пальто микрофон-пластину, выявить который простым прощупыванием невозможно.
(обратно)124
Донцов Д. — теоретик так называемого интегрального национализма, являющегося идеологической основой ОУН.
(обратно)125
Усмiх — улыбка (укр.).
(обратно)126
Захват Матвиейко и его бегство из оперативного особняка во Львове частично описаны в книге П. А. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 г.» (с. 419–422), однако не указаны причины бегства.
(обратно)127
Край — так в подполье ОУН называли Западную Украину.
(обратно)128
Зубатенко Николай Иванович — легендарный чекист Украины. В те годы майор, начальник одного из отделов Управления КГБ в Киеве. В последующем начальник Управления КГБ УССР, генерал-майор. В работе по ОУН отличался оригинальными агентурно-оперативными комбинациями, направленными прежде всего на захват повстанцев живыми, их идеологическое перевоспитание, внедрение в подполье. Был против расстрела Охримовича и Кука, считая это политически и оперативно неоправданным.
(обратно)129
Очерет — камыш (укр.).
(обратно)130
Разговорное название традиционной украинской вышитой рубахи
(обратно)131
Собранный Матвиейко из конструктора пистолет долгие годы хранился в чекистском музее на Лубянке. (Примеч. авт.)
(обратно)132
Мирослава — агент госбезопасности, захваченная ранее на маршруте связи Мюнхен — Западная Украина и завербованная органами. Активно использовалась от имени легендированного подполья ОУН. С ее помощью были изъяты ценные архивы СБ ОУН, уничтожен ряд руководящих звеньев оуновского подполья, захвачено и перевербовано несколько связных, прибывших из-за кордона.
(обратно)133
Демеденко В. Б. — начальник отделения во Львове.
(обратно)134
Спецпрепарат «Тайфун» — специальный снотворный газ мгновенного действия, без побочных последствий. Разработан в Москве для захвата живыми оуновцев, укрывающихся в бункере. Вводился через вентиляционное отверстие из небольших ручных баллонов с тонким гибким шлангом.
(обратно)135
Солдаты спецподразделений ГБ по борьбе с вооруженным подпольем были снабжены металлическими прочной стали щупами двухметровой длины, предназначавшимися для обнаружения люков и бункеров.
(обратно)136
Чтоб ты провалился! (укр.)
(обратно)137
Спивать — петь (укр.).
(обратно)138
Макогон — деревянный пест, обычно дубовый, используемый для дробления зерна, сухарей и т. п. (укр.)
(обратно)139
Жовнир (от пол. жолнеш) — солдат
(обратно)140
УГА — Украинская галичанская армия, созданная в 1918 г. Западно-украинской народной республикой.
(обратно)141
Маетчики (от пол. маёнток — надел земли) — так называли западные украинцы польских хуторян, получивших в свое время земельные наделы за военные походы в Украину.
(обратно)142
ПЗУЗ — Пiвнiчно-Захiднi Украiнскi Земли — северо-западные украинские земли (укр.).
(обратно)143
Кирпатый — курносый (укр.).
(обратно)144
Агент госбезопасности Апрельская — Людмила Фоя. Член Киевского РК ЛКСМУ (районный комитет коммунистического союза молодежи Украины). Неоднократно выполняла сложные задания ГБ Украины по разработке оуновского подполья. Дала согласие на вывод ее от имени легендированного подполья ОУН в Киеве вместе с оперработником.
(обратно)145
Существует еще одна версия гибели Апрельской — Оксаны со слов ныне проживающей в Канаде бывшей жены члена центрального провода ОУН — Орлана (В. М. Галаса. Проживает в Киеве) Марии Савчин (в подполье — Маричка), изложенной в ее воспоминаниях «Тысяча дорог». Маричка, ссылаясь на Ата, иначе описывает гибель Оксаны. Оуновскую группу из шести боевиков, в числе которых была и Оксана, во время дневки в лесу окружило подразделение войск госбезопасности. Четверым боевикам удалось оторваться от преследования и укрыться в лесу, а Оксане и еще одному повстанцу, уходившим в противоположном направлении, уйти не удалось из-за ранения одного из них.
(обратно)146
Вареники с картоплей и сыром — вареники с картошкой и творогом по-польски. Одно из любимых блюд в Западной Украине.
(обратно)147
Быков Г. В. — в то время подполковник, зам. начальника управления (Примеч. авт.)
(обратно)148
Червоный — так называли местные жители начальника Ходоровского райотдела.
(обратно)149
Велик день — Пасха (укр.).
(обратно)150
Дуда — деревянный музыкальный инструмент типа флейты (укр.).
(обратно)151
Оплатка — просвирка (пол.).
(обратно)152
Старшинская школа — так в ОУН называли офицерские школы УПА. (Примеч. авт.)
(обратно)153
Парубковаты — гулять, веселиться (холостяцкие гулянки) (укр.).
(обратно)154
По официальным данным, из 100 учеников-мальчиков, окончивших московские школы в 1941 г., домой вернулись в 1945-м только двое, один из них — инвалидом.
(обратно)155
ГСВГ — Группа советских войск в Германии.
(обратно)156
Горище — чердак (укр.).
(обратно)157
Гайда — пошли (укр.).
(обратно)158
Змельдуватись — сдаться (зап. — укр.).
(обратно)159
Ключ — специальная железная палочка, обычно большой гвоздь, с помощью которого открывают люк в бункер, просунув его в кольцо из проволоки.
(обратно)160
Драбына — лестница (укр.).
(обратно)161
Робыты — работать (укр.).
(обратно)162
Худоба — скот, скотина (укр.).
(обратно)163
Погани — плохие (укр.).
(обратно)164
Дымшиц В. Э. — советский государственный деятель, заместитель председателя Совмина, председатель Госплана, СНХ, Госснаба СССР в 60–70-е гг. XX в.
(обратно)165
Бимбер — самогонка (пол.).
(обратно)166
Ночва — корыто (укр.).
(обратно)167
Родына — родственники (укр.).
(обратно)168
«Gott mit uns» — С нами Бог» (нем.).
(обратно)169
Думка — мысль (укр.).
(обратно)170
Рядно — плотная грубая ткань кустарной выработки (укр.).
(обратно)171
Вечеряти — ужинать (укр.).
(обратно)172
Рацiя — смысл (укр.).
(обратно)173
Шукати — искать (укр.)
(обратно)174
Ховатися — укрываться, прятаться (укр.).
(обратно)175
Клаустрофобия — болезнь, боязнь замкнутого пространства, распространенная среди шахтеров и подводников.
(обратно)176
НКВД — так большинство оуновцев всегда называли советскую госбезопасность, независимо от изменения названий — МГБ, МВД, КГБ.
(обратно)177
«Ястребки» — так называли в Западной Украине бойцов истребительных отрядов из местного населения для борьбы с бандеровцами.
(обратно)178
Погано — плохо (укр.).
(обратно)179
Кишеня — карман (укр.).
(обратно)180
В те годы госбезопасность была объединена с милицией и входила в один орган — МВД.
(обратно)181
Фамилии и места рождения Стефка и Грицько изменены.
(обратно)182
Полковник Гриценко — в те годы начальник управления МВД Дрогобычской области.
(обратно)183
Фамилии Игоря и Романа изменены.
(обратно)184
Оксана — подпольный псевдоним жены Лемиша.
(обратно)185
Ярослав Стецько — один из лидеров ОУН, арестован вместе с Бандерой в июле 1941 года по указанию Гитлера после провозглашения 30 июня 1941 года во Львове украинской державности. До декабря 1944 года вместе с Бандерой находился в Германии под арестом.
(обратно)186
Брыль — сельская соломенная шляпа (укр.).
(обратно)187
Працювати — работать (укр.).
(обратно)188
Кулешов Вадим Александрович и Агеев Валентин Леонтьевич — сотрудники госбезопасности Украины.
(обратно)189
Торба — мешок (укр.).
(обратно)190
Ляхи — так на Украине называли поляков (укр.).
(обратно)191
курительная трубка (укр.).
(обратно)192
Зголоситися — заявить о своем согласии на какое-либо предложение. В данном случае выйти с повинной (укр).
(обратно)193
«Незалежноi, вiльноi вiд москалiв и бiльшовикiв» — независимой, свободной от москалей и большевиков. (укр.).
(обратно)194
Наиболее ценные архивные документы и фотографии оуновцы хранили в герметически закрывающихся молочных бидонах-флягах, куда не проникала влага.
(обратно)195
Так называли специально оборудованные небольшие тайники для передачи сообщений, не вступая в непосредственный контакт со связником или курьером.
(обратно)196
София — так в Киеве называют Софийский собор, который находится рядом со зданием бывшего КГБ Украины на ул. Владимирской.
(обратно)197
Курбас Лесь (Александр Степанович) (1887–1942) — сов. режиссер, актер, народный артист УССР (1925)…
(обратно)198
Скрыпник Н. А. (1872–1933) — сов. гос. парт. деятель. Чл. КПСС с 1897. Участник революции 1905–1907 и Окт. 1917 (Петроград), пред. Центр. совета фабзавкомов, чл. ВРК. С 1917 на Украине, в 1918–19 пред. СНК, затем руководитель ряда наркоматов, в 1933 зам. пред. СНК и пред. Госплана УССР. Чл. ЦК ВКП(б), с 1927 (канд. в 1917–18, 1923–27). Чл. ЦККИ. Чл. ВЦИК. Пред. ЦИК СССР.
(обратно)199
Любченко П. П. (1897–1937), сов. гос. парт. деятель. Чл. КПСС с 1918. В рев. движ. с 1913. Участник Окт. революции и гражд. войны на Украине. В 1927–1934 секр. ЦК, канд. в чл. Политбюро ЦК КП(б) Украины, одновременно с 1934 зам. Пред. СНК УССР. Канд. в чл. ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. ЦИК СССР и его Президиума.
(обратно)200
Субтильный Орест. Украина. История. — Киев: Лебедь. 1993. С. 476–479.
(обратно)201
П. а. — половой акт.
(обратно)202
Центральная рада — создана в Киеве в марте 1917 г. (январь — апрель 1918 г. Житомир, Сарны). Состояла из различных украинских националистических партий и организаций, в том числе социалистических (В. Винниченко). Предс. И. С. Грушевский. Исполнительный орган — Генеральный Секретариат. После Октябрьской революции захватила власть, провозгласила Украинскую народную республику… В январе 1918 г. изгнана украинской и русской Красной гвардией. Заключила кабальное соглашение с австро-германскими войсками, возвратилась в Киев 1 марта, а 29 апреля этими же войсками была разогнана.
(обратно)203
Муравьев Михаил Артемьевич (1880–1918), левый эсер, подполковник. В 1918 г. главнокомандующий войсками Восточного фронта, выступил против советской власти и поднял мятеж в Симбирске — отряд около 1000 чел., ликвидирован Красной Армией. Убит при аресте.
(обратно)204
ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли.
(обратно)205
С действительными фактами и цифрами обстановки на Украине в период коллективизации сельского хозяйства и великим голодомором (великим голодом) 1932–1933 гг. автор ознакомился только в 1980–1990 гг. Приводя свои доводы и факты, Кук был прав.
(обратно)206
Коло — круг, колесо (укр.).
(обратно)207
УНА УНСО — радикальная организация — Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона. (Примеч. авт.)
(обратно)208
Брама — ворота (укр.).
(обратно)209
Ермолка — шапочка набожного еврея.
(обратно)210
Кипа — маленькая шапочка, типа тюбетейки, черного или белого цвета, обязательно надеваемая верующими евреями.
(обратно)211
«Золотая роза» — одна из стариннейших в Европе синагог. Построена в XVI веке, разрушена и сожжена немцами.
(обратно)212
Давид Кахане — реально существующий человек, бежавший из Львовского гетто и спасенный Шептицким. В настоящее время живет в Израиле. Бывший раввин ВВС израильской армии.
(обратно)213
Интегральный национализм — национализм, проникающий во все сферы человеческой и общественной жизни, охватывающий все общество без исключения и требующий исключительного самопожертвования. (Примеч. авт.)
(обратно)214
«Либо завоюем Самостийную Украину, либо погибнем за Нее!» (укр.)
(обратно)215
ИРА — Ирландская Республиканская Армия, подпольно действующая организация в Северной Ирландии против английских властей и до настоящего времени осуществляющая террористические акции. (Примеч. авт.)
(обратно)216
А.К. — Польская Отечественная армия, в 1942–1945 гг. действовала под руководством польского эмигрантского правительства в оккупированной Германией Польше (и Запалной Украине. — Авт). Руководство А.К. организовало и начало Варшавское восстание 1944 г.
(обратно)217
Ostarbeiter (нем.) — восточные рабочие. Рабочая сила, вывозимая из районов Советского Союза, оккупированных Германией, в основном из Украины.
(обратно)218
Курень соответствовал полку, батальону; сотня — батальону, усиленной роте; чота — роте, взводу; рой — отделению.
(обратно)219
Субтельный, Орест. Украина. История. — Киев, «Лебедь», 1993. — С. 585.
(обратно)





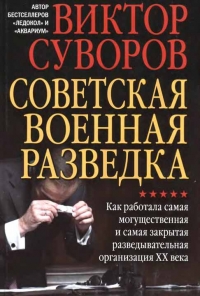
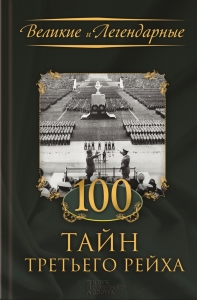

Комментарии к книге «Большая Охота. Разгром УПА», Георгий Захарович Санников
Всего 0 комментариев