Предуведомление
В нашем мартирологе четырнадцать имен. Он далеко не полон. Имен должно быть больше, гораздо больше, но, делая свою работу, авторы соблюдали условие: личное знакомство, а в идеале — дружба с людьми, ставшими героями этой книги. Собрание подробных жизнеописаний — дело грядущего. Здесь же — свидетельства очевидцев и участников событий. Большинство из этих свидетельств носят эксклюзивный характер, что, на наш взгляд, способно обеспечить читателю определенный эффект присутствия.
Чем же, по существу, обусловлен выбор имен? В первую очередь, тем, что эти люди до сих пор пребывают в наших мыслях и разговорах, продолжают незримо участвовать в нашей жизни и влиять на наши поступки — они не хотят уходить. В каком-то смысле они и есть те самые хармсовские беспокойники. Вторая причина — тот след, который эти люди оставили в культурной жизни Петербурга.
Оглядываясь на свой труд, мы не можем не радоваться тому обстоятельству, что персонажи, отобранные нами по сугубо личным мотивам, в результате дают пусть и мозаичную, но весьма представительную, рельефную и яркую картину нашей культуры — не официальной или подпольной, не второй или первой, а подлинной, единственной, всеобъемлющей, по-настоящему живой культуры.
Все герои этой книги очень разные. У них не было общей творческой или мировоззренческой платформы Их объединяет только то, что они были деятельны и талантливы А также то, что для них все начала и концы сходились в Петербурге Все они — порождение Петербурга, часть его жизни и остаются таковой до сих пор Потому-то они и не хотят уходить, продолжая жить в метафизическом пространстве Города, где биологическая смерть человека не имеет никакого значения.
ПАВЕЛ КРУСАНОВ
Георгий Ордановский История черного цвета
Это место до сих пор называют «чебуречной на Майорова». Проспект давно вновь переписан в Вознесенский, а чебуречная, презрев непостоянство времени и топонимики, осталась там, в восьмидесятых — на Майорова. Здесь делали лучшие чебуреки в городе — тридцать шесть копеек порция на вытянутой металлической тарелке, сложенная внахлест из четырех небольших, только извлеченных из кипящего масла, сочащихся острым бараньим бульоном и хрустящих отслаивающимися корочками азиатских пирожков, столь пришедшихся по вкусу местной публике, что в меню их даже объявили чебуреками «по-ленинградски», — они и теперь здесь, пожалуй, самые лучшие. При том что природных умельцев пряной восточной кухни в сравнении с былыми временами заметно прибыло. Но не о корме речь. Речь о человеке, перед которым я виноват.
Открылось это заведение году примерно в семьдесят пятом и было по меркам той поры довольно чистым и ухоженным — без процарапанных автографов на столах, скабрезных пиктограмм в сортире, пятнистых скатертей и извергнувших на фаянсовые бока горчицу горчичниц. На первом этаже располагался бар (теперь его нет) с вечным, мерцающим цветомузыкой полумраком, с вертящейся на упругих басах «Баккарой» или какой-нибудь другой диско-попсушкой, с упакованными в голубую джинсу деловыми «мажорами», девицами с нарисованными лицами (зарифмовано случайно) и работающими за стойкой посменно барменами — блондином Сашей и демоническим брюнетом Жорой (так повелось, что дьявола, как правило, наделяют внешностью ликана — лица кавказской национальности). Здесь кипела жизнь поверхностная, показная — сплошь демонстрация амбиций, юношеские самоутверждения и игры с распределением половых ролей. Люди установившиеся шли на второй этаж. Там, собственно, и располагалась чебуречная.
Компания наша, просвистывая поначалу деньги, сэкономленные на школьных завтраках, а потом и случайные заработки, сиживала на Майорова не то чтобы часто, но регулярно, а после того как барабанщик Михей завел здесь с официанткой Ритой затяжной роман с прощаниями и встречами, драками и страстными замирениями (пусть у нее и не прощупать талии, но кто ж любезнее подаст на стол дымящиеся ароматные чанахи, водку или на худой конец портвейн «Кавказ»?), мы стали наведываться сюда еще регулярнее. Тут мы, семнадцати— девятнадцатилетние (года, что ли, с семьдесят восьмого по восьмидесятый), с потаенным трепетом и любовались Ордановским. Не думаю, что он бывал здесь ежедневно — какое там! — но алгоритмы его и наших посещений этого славного местечка странным образом совпадали. Кто такой Жора Ордановский (явный избыток Жор как для заведения, так и для текста) в те времена в Питере знал каждый продвинутый юнец — он и впрямь был самым ярким пятном на подпольной русской рок-сцене. Именно так — самым ярким, несмотря на очевидное, пусть и вполне искреннее, простодушие того, что он на этой сцене делал. Судите сами:
Придорожный лопух Из семьи лопухов Жил беспечно в пыли, Был упрям и здоров. По соседству в саду Хризантема цвела. Там своей красотой Упивалась она. И хватило ума, Впрочем, ум ни при чем, Увидав как-то раз, Он влюбился в нее. В безответной любви Заболел головой: Был лопух для нее Просто сорной травой. У любимой его На глазах пелена. Лопухова любовь Ей совсем не нужна. Красота хризантем Есть доходный товар, И однажды ее Увезли на базар. Нам морали читать — Не водилось греха. Хризантему не жаль, Просто жаль лопуха.Вот так. Никакой искусственности. Священное косноязычие, чистое вещество басни, какой она (басня) могла явиться и явилась человеку, никогда не переступавшему порог лито какого-нибудь убеленного сединами и перхотью мастера версификации. Михалков и Лафонтен отдыхают. Не прошу снисхождения, однако, поверьте, на сцене, в Жорином исполнении, под скрежет немилосердного фуза это выглядело бесподобно.
Как позже выяснилось из опыта личного общения и посторонних свидетельств, Ордановский был простодушен и в жизни, однако бесхитростность его имела столь непорочную природу, что становилась уже сродни благородству. Но это сейчас нам некогда пленяться, это сейчас мы преисполнены пассеизма, поскольку опыт не позволяет нам считать достаточной опорой настоящее и питать иллюзии в отношении будущего, это сейчас мы способны принять из нового лишь то, что поражает нас безупречностью с первого предъявления, а тогда у нас была вечность для того, чтобы влюбляться и остывать, прельщаться и разочаровываться. Жора (не демонический бармен, о том забыли) имел чувство стиля и строго, но без усилий, придерживался раз выбранного образа. Не узнать его было невозможно, как нельзя было не узнать городского сумасшедшего по кличке Жених, ходившего в те годы по Невскому с неизменной гвоздикой в петлице ношеного-переношеного черного пиджака и в черных же по-клоунски коротких «дудочках». Ордановский тоже любил черное: это был его сценический цвет (впрочем, порой с черной рубашкой или футболкой Жора позволял себе белые брюки, либо наоборот), который он с подмостков перетащил в повседневность. Собственно, таков интуитивно познаваемый закон — так и следует делать звезде, а в те годы он был именно звездой, настоящей, просиявшей без помощи жуликоватого пиара, исключительно в силу дара всякий раз без обмана умирать и воскресать на глазах секущей любую фальшь публики. Кроме того, черный цвет отлично подходил его высокой, складной, худощавой фигуре.
Открытый, с цыганским взблеском взгляд, большой рот, густые брови, резкие носогубные складки, крупный прямой нос — именно в такой последовательности вспоминается его далеко не типичное лицо, исполненное мужественной красоты и вызывающее в памяти мерцающее слово «порода». Ну и, конечно, волосы. Роскошные темные волосы до плеч — с легкой волной и матовым носковым блеском. Других таких в городе, густо наперченном волосатыми «системными», не было. Почему? Не знаю — просто не было. Именно таким я впервые увидел Ордановского в 1976 году на сэйшене в каком-то заводском ДК (под грохот самопальных колонок, возбужденных путаными электрическими цепями самопайных усилителей, он черной молнией, как горьковский буревесник, исступленно, но при этом естественно и артистично метался по сцене, чем произвел на меня, пятнадцатилетнего, до того вживе видевшего лишь комсомольский задор каких-нибудь «Голубых гитар» или «Добрых молодцев», неизгладимое впечатление) и могу поклясться, что за последующие восемь лет внешне он ничуть не изменился. Я помню зал этого ДК, пахнущий влажной половой тряпкой, с плохо зашторенными окнами (уличный свет поначалу отвлекал от сцены), помню орущую прихиппованную толпу, скачущих на креслах, демонстративно раскованных барышень, то и дело «заводящийся» микрофон и фонящие датчики гитары, и я помню свои ощущения. Они были сильные. Трудно передать тот восторг, который охватывает жадную до впечатлений натуру, еще не слишком осведомленную о лукавых превратностях мира, когда ее внезапно погружают в не признающую границ первичную магму бытия, в обжигающую неведомую свободу, где небывшее становится бывшим, а твоя личная вселенная, увлеченная горячей взрывной силой, стремительно увеличивается в размерах. Как минимум вдвое. Этот восторг, как первый наркотический опыт, превосходит любые описания. Да, этот парень из коммуналки на Литейном был не первым, кто сыграл нам рок-н-ролл, и не он первым запел его по-русски, но именно он дал старшему поколению рокеров — от Шевчука и Кинчева до «Телевизора» и «Пикника» — представление о том, что такое настоящий концерт и как нужно этот концерт играть. И дело вовсе не ограничивается тем обстоятельством, что к концу семидесятых у «Россиян» появился лучший в городе аппарат и приличная светотехника, дело совсем, совсем в другом. Довольно приличный аппарат был и у «Зеркала», а уж какой он был у «Апреля»… И что? Вот именно — суета духа, заученные позы и тщеславие, тщеславие… Просто Ордановский нес в себе какое-то жесткое внутреннее излучение, какой-то потаенный магнетический заряд, подобно высококачественному тексту, завораживающему тебя помимо сюжета, которого вполне может не быть, и, казалось бы, помимо смысла самих слов, рассыпанных как бы случайно, — завораживающему каким-то непредусмотренным логикой межстрочным свечением, адресованным именно тебе и наповал поражающим тебя в самый гипоталамус. Увы, не умею сказать об этом иначе. В среде питерских рокеров той поры подобный заряд несли в себе многие — Корзинин, Ильченко, Рекшан, — но они несли его подспудно, как тайну, вряд ли известную им самим; это была латентная форма болезни, особого заразного безумия, навыки предъявления которого Ордановский первым столь блестяще продемонстрировал. Вот — он предъявлял именно органику, а не ее имитацию.
Рок-н-роллом Жора увлекся еще в школе: понятное дело — только в юности человек способен впитать дух и счастливо упиваться им, пусть даже в одиночку, безрассудно воплощая его в собственной судьбе; в более зрелые годы мы принимаем лишь форму и, как и положено неофитам, начинаем ползать по контуру, обмеряя внешние параметры мироздания новообретенной линейкой. С возрастом закрываются, что ли, какие-то дверцы, и мир с его стремлением захватить человека в свой бешеный круговорот остается снаружи — остается и, отсеченный, превращается в зрелище. При закрытых дверцax, наблюдая мирскую бурю в щелочку (некоторые делают из этой щелочки театральную ложу), можно стать ценителем каких-то ее завихрений, но нельзя самому с гать порывом, движением — нельзя стать той самой причиной, благодаря которой эти завихрения вихрятся. Разумеется, все началось с «The Beatles», любовь к которым со временем в Ордановском так и не померкла, поскольку в интервью самиздатскому журналу «Рокси» (1982 год), столь поразившему рок-дилетанта Александра Житинского непривычной серьезностью, именно «The Beatles» Жора назвал своим любимым коллективным композитором, и это несмотря на то, что «новая волна» катила тогда на гребне иную моду — «Clash», «Police», Элвис Костелло — и признание в пристрастии к ливерпульской четверке, если оно исходило не от маниакального Коли Васина, выглядело на этом фоне едва ли не дурным тоном. Что ж, честность самоотчета — отнюдь не дурное качество.
В тринадцать лет Жора поступил в музыкальную школу для взрослых, куда по возрасту его никак не должны были принять и тем не менее приняли. Впрочем, довольно скоро увлечение гитарой скверно сказалось на его дневнике, так что классный руководитель посещать музыкальную школу ему запретил. Гаммы и нотные тетради закончились — дальше инструмент учил Ордановского сам, как вода сама учит нас плавать.
Потом было безымянное трио, лабающее на школьных вечерах и танцплощадках англоязычные хиты, а осенью 1971-го (Жоре восемнадцать) он благодаря рекомендации одной знакомой девицы — «чувак классно Цеппелин орет» — вошел в состав «Россиян». Он принес им свои песни и, быстро заняв в группе лидирующее положение, в конце концов стал лицом «Россиян», их звенящим вступительным аккордом (каждый концерт Ордановский начинал с ревущего удара по струнам), их вводящим в дрожь голосом, их гордым и дерзким духом. Вот реплика Андрея Бурлаки — пожалуй, самого осведомленного, непредвзятого и почти не вводящего читателя в заблуждение летописца русского рока:
…В то невероятное время «Россияне» были для нас не просто одной из лучших групп города, выступления которой гарантированно становились событиями, вызывая оживленные пересуды за чашкой кофе в известном кафе и ожесточенные споры их сторонников и противников, но и — в определенном смысле — духовным ориентиром. Жизненная философия «Россиян», выраженная в эмоциональных и мелодически свежих песнях их неизменного лидера Георгия Ордановского, порой чуть наивных, но, безусловно, искренних, опиралась на рожденную романтикой шестидесятых веру в то, что искусство (и рок-н-ролл в том числе) способно изменить мир к лучшему. «Да поможет нам рок», — пели «Россияне», и вслед за ними мы отчаянно верили, что он действительно поможет нам выстоять в жизненных бурях.
Впрочем, в 1971 году нам было лет по десять, а «Россиянам» до их триумфа еще предстояло пройти путь длиной лет в пять-шесть, изнурительный путь, состоящий из череды успехов и поражений, вынужденного чёса на пригородных танцполах, поисков неповторимого звучания и оптимального состава; тогда я еще не был виноват перед Жорой, Атаев еще не отснял для «Рокси» несколько катушек пленки с Ордановским (потом благополучно редактором «Рокси» потерянных), а Панкер еще не начистил морду на пляже в Репино приятелю россияновского клавишника Алика Азарова. Все это было для нас впереди, в далеком чаемом завтра.
Когда «Россияне» добились наконец заслуженного признания в неформальной, но до ревности требовательной среде музыкального подполья, мы только начинали репетировать в школьном актовом зале хиты «Creedance» и «Slade». Ордановский уже вводил один за другим в репертуар собственные номера — «Придорожный лопух», «О, какой день», «Автобус», «Бегство в детство», «Кто не с нами, тот против нас», «Последний трамвай», «О мерзости», «Да поможет нам рок», — а мы только разучивали аккорды «Who'll Stop The Rain», «Look At Lest Nite» и какого-нибудь «Капитана» из безнадежной «Машины времени», откуда недавно сделал ноги Ильченко. Лишь к 1977-му мы поняли, что занимаемся херней, а «Россиян» в то время уже поджидал фурор в Новом Петергофе.
Я был на том петергофском сэйшене — кажется, это происходило весной или ранней осенью 1978-го. К тому времени мы уже стали завсегдатаями подпольных концертов, устраиваемых воротилами теневого менеджмента Байдаком, Ивановой и иже с ними, вход на которые открывался лишь счастливым (заплатившим от полутора рублей до трешки) обладателям кусочка цветной бумаги, отмеченного оттиском печати с таинственной символикой. Печать, как правило, вырезалась бритвой из школьного ластика. В заговорщицкой атмосфере тех сэйшенов определенно витали какие-то масонские флюиды.
«Россияне» играли втроем: Ордановский, недавно пришедший в группу консерваторец Юра Мержевский, а вот кто был за барабанами — не помню, с ударниками в «Россиянах» была вечная чехарда. Впрочем, слабых барабанщиков там никогда не держали, этот тоже стучал отменно. «По улице шла мерзость — и не видна в толпе», — зловещим речитативом сообщал Жора, приподнимая в неосуществленном шаге ногу и какое-то время оставляя ее на весу (отведи он ногу чуть в сторону — точь-в-точь доберман у забора). Мержевский время от времени решительным движением забрасывал бас-гитару за спину, брал скрипку и, волнообразно выгибая тело, весь устремленный в невидимую точку на четырехколковом грифе, будто в неумолимо засасывающую воронку, распарывал воздух пронзительными пассажами. А Жора уже пел:
А утром как будто мир наш светлей. Давайте мы будем жить веселей! Все наши печали — просто пустяк: Жизнь — радость, жизнь — праздник. О, если бы так…И дрожь пронзительного откровения пробегала по залу. Зрители цепенели, пораженные фатальной безысходностью своего земного присутствия, наповал убитые открывшейся им страшной тайной мироздания. Но это длилось недолго. «Эй, кто с нами? Кто из вас? А кто не с нами, тот против нас!» — выводя в унисон голосу фузовый гитарный рифф, пел Ордановский, и его до поры сдерживаемая энергия выплескивалась в пространство, рассыпаясь вокруг явственно видимыми искрами. Наступал миг иллюзорного, но сладостно томящего единения: те, кто был на сцене, и те, кто находился в зале, становились единым телом, единым существом, творящим собственную жизнь вопреки обрыдлым правилам наружного мира. Безбрежная радость распирала грудь и рвалась из глоток. Зал ревел. Зал неистовствовал. Зал не помнил себя. Весь фимиам зрительских восторгов достался «Россиянам», и они купались в нем, как олимпийцы в дымах алтарей. «Фрам» и «Две радуги», игравшие с «Россиянами» в том же концерте, урвали от этого фимиама жалкие клочки. Как, скажите, нам было не любоваться Ордановским в чебуречной на Майорова, в дружеской компании вкушающим под золотисто-коричневый портвейн бастурму с острым томатным соусом и тонко посеченным фиолетовым луком? Нет, это было невозможно. Теперь, конечно, время позволило многим из нас убедиться, что слава и признание, действительно, всего лишь дым, морок, дающий только иллюзию причащения тайнам бытия. Иллюзию и ничего более. Но тогда для нас, осознавших неодолимое желание ступить на звездную дорогу рок-н-ролла и уже сделавших по ней первые шаги (мы уже писали собственные песни, несколько раз выступали на танцах в школах и каких-то ПТУ и, как водится, ловили из зала вожделеющие девичьи взгляды), Ордановский представал безоговорочным кумиром. Пусть сами мы не были склонны к свинцовому року, а, скорее, к панку и «новой волне», все равно он был для нас фигурой, сопоставимой — прости, Господи, — с каким-нибудь нижним ангельским чином. Вот только раздолбайка Рита обслуживала его стол безо всякого почтения (не раз голодный Жора съедал, отщипывая по кусочку, весь лаваш, прежде чем дожидался человеческой пищи) — длинные волосы в ее системе ценностей явно не относились к числу мужских добродетелей.
Наша первая встреча на равных (так нам хотелось думать, что на равных) случилась лишь в восьмидесятом, на небывалом до тех пор подпольном «тройнике» в клубе завода «Лентрублит» — сэйшене, где за день были отыграны три концерта: утренник в девять, полдник в двенадцать и третий, соответственно, в три (знаток нумерологии, возможно, что-то бы отсюда вывел). Выступали «Россияне», «Зеркало» и мы, никому не ведомая поросль, честолюбивые юнцы, мнящие себя идеалом современника, взошедшего на верхнюю ступень посвящения в таинства прекрасного. Заблуждение, свойственное юности вообще, а потому простительное. Как дебютанты мы были «на разогреве», вторыми играли «Россияне», а право завершать программу выторговали себе хозяева аппарата — «Зеркало».
Для тех, кто не знает: три концерта в день — много. Особенно если выкладываться по полной — иначе приличные рокеры и не работают, — спускать положенные семь потов, а после отжимать в гримерке мокрую насквозь рубашку. Пусть это не сольники, а сборные концерты (в отличие от квартирников, практически все «электрические» сэйшены в ту пору были сборными), три в день — все равно много.
Утренник мы отыграли бодро, с лихвой восполняя бойким задором отсутствие навыков сценического движения и общих знаний законов этой деревянной, некрашеной, какой-то серой и пыльной на вид сцены. Правда, мы изрядно лажали в голосовых раскладках — подзвучку «Зеркало» ставило под себя, и если звук в зале вытягивал оператор на пульте, то на подмостках друг друга мы почти не слышали, — однако имиджу разбитной панк-группы подобная вокальная небрежность пошла лишь на пользу. Вот образчик наших опытов (в их литературной составляющей) тех былинных лет:
У деда комиссара возьму я китель старый, Возьму я китель старый, простреленный в боях, В пожарищах бывавший и порохом пропахший, Немало повидавший в далеких тех краях. У папы инженера возьму я галстук серый, Такой же галстук серый, как тысячи других, На заседаньях важных, в баталиях бумажных В глаза глядевший страшных начальников своих. У брата пацифиста возьму я старый «Wrangler», Залатанный, зашитый и в пятнах от вина, На сэйшенах бывавший, канабисом пропахший, Немало повидавший в былые времена. И выйду я на Невский, и люди удивятся, Скажу я: «Люди, чудо! Смотрите на меня! Не зря вы воевали, бумаги составляли, Канабис потребляли — вы все моя родня!»Зал заводского дома культуры, набитый под завязку пестрой деклассированной толпой, свистел и орал, как по той поре свистел и орал лишь 13-й сектор стадиона имени Ленина; юный псих по кличке Панк Московский брызгал направо и налево фиолетовыми чернилами из водяного пистолета; Ордановский за кулисами улыбался, Мержевский показывал оттопыренный большой палец. Потом играли «Россияне», и уже мы с тихим ликованием, окрыленные собственным успехом, смотрели на них из-за кулис. Как всегда, они были великолепны. Каким путем им всякий раз удавалось избежать артистического притворства, от которого не страхует ни профессионализм, ни способность себя подчас без самооправданий осуждать? Бог весть.
Отработав программу, Ордановский, Мержевский, клавишник Азаров и тогдашний барабанщик «Россиян» Игорь Голубев, рокер первого призыва, уже с заметной сединой в волосах, пригласили нас в свою гримерку — слушать анемичное «Зеркало» ни им, ни нам было не в охоту. Как водится, народу в комнатку набилось битком, в воздухе — гам и табачный дым, кругом позвякивали бутылки и стаканы. С нами тоже была группа поддержки, хвостом юркнувшая в россияновскую гримерную: Гена Атаев, увлекшийся на тот момент блок-флейтой и фотоаппаратом, вечно хихикающий и что-то проповедующий Дима Мельников и… Мог ли я подумать в то время, что когда-нибудь забуду имена приятелей, с которыми тогда был повязан зыбкими узами веселых хмельных бдений? А вот — забыл. Впрочем, фамилия третьего, кажется, была Попов.
Ордановский бросил на спинку стула мокрую черную рубашку и натянул на плечи другую — белую (подчас в приватной обстановке он, похоже, позволял себе невинную измену раз выбранному цвету). Потом мы с «Россиянами» обосновались в уголке, на время отделившись от свиты их друзей и почитателей, и Мержевский пальнул в потолок пробкой шампанского, довольно в тех обстоятельствах диковатого. Жора оказался начисто лишен чувства собственной важности (не в пример нашему приятелю Мельникову, воображавшему себя идеологом поколения), он был приветлив и прост, шутил легко, говорил нам лестные вещи, и мы млели от несказанного счастья. Что может быть отраднее признания твоих заслуг собратьями по цеху? И не просто собратьями, а самыми из них лучшими, самыми… Словом, тут все ясно. Чем мы могли на это ответить? Только портвейном, припасенным в наших сумках. Атаев едва успевал щелкать затвором фотоаппарата.
Второй концерт мы отыграли с веселым хмельным вдохновением, удивив стоявших за кулисами «Россиян» тем, что не повторили ни одного номера, — у нас была готова программа на полноценный сольник, и на этом сборном «тройнике» мы решили выдать ее по частям. Пока мы зайчиками скакали по дощатым подмосткам, распевая про то, как «розовый слон бежит по джунглям», а после про то, как «на лугу, расправив спинки в золотом пушке, ярко-розовые свинки тянутся к реке»,Мельников и Попов бились в очереди ближайшего гастронома за новую сумку портвейна. Потом на сцене блистал Ордановский, низким, с яркими модуляциями голосом призывая наэлектризованный и уже готовый к истерике зал: «Окна открой, впусти небо. Дверь отвори, стучит утро!» На нем опять была его черная рубашка, кое-как просохшая за пару часов, и он был неотразим. Вновь оказавшись в гримерке «Россиян», мы пили сначала их портвейн, а после того как Мержевский назвал нас «новыми „Битлз", которых все так ждали», и посулил нам великое будущее, откупорили свой.
Я далек от мысли, что лестные отзывы мэтров имели целью вынудить нас хорошенько проставиться, просто у людей был хороший, очень хороший, да что там — безупречный вкус, и своими искренними речами они его наглядно демонстрировали. Именно так. И, пожалуйста, никаких фантазий на эту трепетную тему.
В гримерке царила оживленная суматоха, туда-сюда по комнате бродили знакомые и полузнакомые подвыпившие субъекты, и в этой толчее куда-то запропастилась черная концертная рубашка Ордановского. Жора озабоченно заглядывал под гитарные чехлы, шарил на заваленном вещами подоконнике, рылся в висящем на вешалке тряпье и на глазах мрачнел. Мы то и дело отвлекали его от поисков, поднося граненый стакан с сияющим портвейном (тогда надежный граненый стакан еще не вытеснили пластиковые однодневки, тогда в руке еще ощущалась вещь, которую в случае нужды можно было даже передать по наследству). Он улыбался, выпивал и снова отправлялся на поиски. Постепенно событие перерастало в неуправляемую пьянку.
В какой-то момент наш тогдашний гитарист Сергей Данилов (экс-«Мифы»), взглянув на полные стаканы,задумчиво изрек: «Если мы сейчас это выпьем, мы согрешим против искусства». И впрямь, нам вот-вот предстояло третий раз выйти на сцену. Некоторое время мы колебались. Однако — что поделать — согрешили.
Результат вышел несколько неожиданным. В песне «Черви» кода была такая: все инструменты должны были разом замолчать после шести тактов жесткого басового риффа. Такой финальный резкий блям-м-м. Песня эта была новая, еще не отрепетированная до полного автоматизма и не записанная навечно в матрицу мышечной памяти. Тем не менее, после шестого такта все действительно замолчали. Все, кроме меня и барабанщика. То ли мы просчитались, то ли увлеклись, то ли разучились считать вовсе — теперь точно не скажешь. Осознав свою оплошность, мы принялись спасать ситуацию и голой ритм-секцией выдали такую неожиданную импровизацию, что впоследствии по результатам опроса музыкантов и зрителей я был признан лучшим бас-гитаристом сезона. Кроме того, непосредственно после концерта к нам подошел гороподобный Панкер, он же Монозуб (зуб у него был не один, просто на месте левого верхнего резца зияла дыра), и предложил турне по Прибалтике — «Икарус» уже зафрактован. Тогда мы еще не знали, что возможность организации подобного турне существовала только в его голове, от природы склонной к невинным фантазиям. Забыл, как назывался тот волшебный напиток в наших сумках, а то бы непременно порекомендовал его спецам по дрессировке телепузиков из какой-нибудь фабрики корифеев.
А Жора так и не нашел свою рубашку. Думаю, финал этого «тройника» был единственным исключением в его концертной практике, когда он вышел на сцену без черного верха — на нем была та самая белая сменная рубаха, которую он надевал в гримерке. Что это значило? Для Ордановского чрезвычайно много — без черного цвета, как и без его роскошной гривы, представить Жору было просто невозможно, без них он словно бы развоплощался, переставал быть собой, терял всю свою победительность. Он становился все равно что голым, и что всего хуже — именно таким себя чувствовал. Вероятно, зал тоже чувствовал его наготу. Не мог не чувствовать…
Развязки я не видел — у нас еще оставался портвейн, и, окрыленные удачей, свободные, как Пятачок, до следующей пятницы, мы устремились в собственную грим-уборную. Говорили потом, что последний концерт «Россияне» отыграли вяло, без вдохновения, что удержать зал им удалось лишь благодаря сценическому опыту и магии своего имени… Не знаю, так ли все выглядело на самом деле — нас там уже не было.
Может показаться, что, говоря об Ордановском, я говорю о чем-то другом, паразитарно примазываю к его имени какие-то несущественные личные впечатления и мотивы — но как иначе? Только оттолкнувшись от личных впечатлений, тактильного ощущения тепла, податливости кожи, терпкого вкуса вина или помады во рту, фантомных запахов, которые тем не менее способны вполне реально кружить голову, у нас и получается что-то по-настоящему вспомнить. Вспомнить и вновь пережитое пережить.
Неделю спустя мы, как обычно, без всякого повода, а единственно из желания «проводить вечность», отправились в чебуречную на Майорова. В тот раз к нам прибился Попов. Внизу, в мерцающем огнями зеве бара гремели «Bonny M»; бармен Саша смешивал коктейль «Олимп» нервному «мажору» Виталику. На лестнице, ведущей на второй этаж, переминалась небольшая очередь, однако нам держала столик Рита, и мы, направившись к гардеробной стойке, послали в зал Попова — чтобы Рита нас встретила и тем сняла возможный во всякой очереди нервный ропот.
Когда Попов вернулся, на губах его играла скверная улыбка.
— Я с вами не пойду, — сказал он.
— Что так? — удивился я.
— Там Жора, — сказал Попов и распахнул куртку. Сначала я не понял, но через мгновение до меня дошло: на нем была черная рубашка Ордановского.
Совестно признаться, однако тогда у гардеробной стойки я просто попрощался с Поповым и как ни в чем не бывало отправился пить под хазани портвейн «Кавказ». Мне, кажется, даже было немного весело. И только несколько минут спустя в зале чебуречной, когда я пожимал руку Ордановскому, мне стало стыдно. Ужасно стыдно. Так стыдно, что я зажмурился. Вечер был испорчен — чебуреки и ароматные хазани предстояло есть без всякого аппетита.
Сказать по чести, в куче воспоминаний, пылящихся в моей памяти, подобного стыда отыщется немного. Я был виноват перед Жорой не потому, что привел на тот «тройник» Попова, а потому, что только что у гардероба той же рукой, которой брал номерок и которой сейчас жал ладонь Ордановского, не засветил Попову и ухо. Теперь было поздно и поздно навсегда — когда мысль опережает действие, действие становится неестественным, а стало быть, лишним. Всё — я не прошел испытание, фарш невозможно провернуть назад. Окончательно невыносимой эту ситуацию делала моя твердая уверенность в том, что, поменяйся мы с простосердечным Жорой местами, на костяшках его руки были бы ссадины.
В тот день я испытал всю глубину стыда и приговорил себя к высшей мере раскаяния. И вот результат — мне уже не вспомнить его, Попова, имени…
Потом мы еще несколько раз играли на сэйшенах с «Россиянами», Атаев извел на Ордановского не одну катушку волшебной черно-белой пленки, а Панкер в Репино сломал нос приятелю Алика Азарова. Потом было много всякого… Когда из «Россиян» ушел Мержевский, Жора пригласил на бас меня — мне было чрезвычайно лестно, однако тогда я как раз увлекся акустикой и от приглашения отказался. Допускаю, что дело было даже не в увлечении акустикой, а в режущем чувстве вины, которое с годами выцвело, но полностью так и не стерлось до сих пор.
Летом 1983 года, отыграв на фестивале в Выборге, «Россияне» замолчали. Они готовили бомбу — совершенно новую программу: Жора написал уйму песен, надо было их аранжировать и отрепетировать, чем на своей базовой площадке «Россияне» втихую и занимались. На февраль 1984-го был запланирован концерт, где Ордановский обещал представить свежий репертуар… Однако мастеру земных и прочих дел угодно было, чтобы эта премьера не состоялась.
12 января 1984-го у Жоры случилась последняя фотосессия. Фотограф Наташа Васильева встретила его в гостях у, как она выразилась, «небезызвестного в определенных кругах Леши С», которому один студент накануне подарил привезенную из Средней Азии змею. Эту змею — впоследствии выяснилось, что это была гюрза — посадили Ордановскому на шею, и Наташа снимала Жору, пока змея ползала по его голове и лицу. Выглядело это очень странно, и сам Жора был странный. Вот как вспоминает тот день Наташа:
Фотографировать его — удовольствие, выражение его лица меняется от шутовского оскала до утонченной одухотворенности с мгновенной легкостью, причем ни тени фальши или притворства нет ни в том, ни в другом.
Однако в этот вечер он был явно сам не свой. Во-первых, трезв и трезв по-настоящему, то есть уже несколько дней подряд. Во-вторых, видно было, что его что-то мучает, что-то не дает ему быть спокойным или веселым. До такой степени не дает, что он даже пытался высказать это. Очень сумбурно, неумело, а, главное, искренне, что произвело безусловно тягостное впечатление на присутствующих гостей — они-то пришли развлекаться, а не решать мировые проблемы.. В общем, даже этим людям, которые сами многим кажутся чокнутыми, Ордановский показался в этот вечер сумасшедшим.
13 января на Старый Новый год Жора приехал на дачу к приятелю в поселок Семрино, что неподалеку от Вырицы. В разгар веселья он вышел из дома на улицу, бросив оставшимся: «Кто хочет, тот догонит». С тех пор больше его никто не видел.
Поначалу ходили слухи, будто он кому-то звонил, будто его кто-то где-то встречал, узнав со спины, будто Ордановский угодил в милицию, где его обрили «под ноль» и дали пятнадцать суток, так что теперь он не показывается на людях, ожидая, когда отрастет его бесподобная шевелюра. Потом были версии с монастырем (припомнили, что в последнее время он не курил и не пил), с отъездом в Америку или в Псковскую область к одной знакомой… Потом появилась история с похищением инопланетянами (по этому случаю тоже что-то припомнили, более того, истинность этой версии засвидетельствовал Рулев из «Патриархальной выставки», имевший с пребывающим в созвездии Весов Жорой контакт через медиума Виолетту). Словом, несмотря на возникающие тут и там разговоры об убийстве (панками — за длинные волосы, гопниками — за благородство помыслов и души), в то, что Жоры больше нет, никто не хотел верить — ко всему тело его так и не было найдено.
В 2000 году, когда уже отошли в прошлое мемориальные, посвященные памяти Ордановского концерты, у кого-то возникла идея фильма об истории «Россиян» и целый ряд сопутствующих этой идее проектов (реставрация на цифровой аппаратуре записей, издание текстов и т. д.). Для реализации этих планов потребовалось обеспечить соблюдение определенных формальностей, в частности, необходима была юридическая ясность относительно Жориного присутствия в пыльном мире реальности — он есть или его нет? Двусмысленность в подобных вещах, как и в операциях с недвижимостью, не допускается. Подготовив необходимые бумаги, адвокат матери Ордановского по всей форме обратился в суд. В результате, спустя семнадцать с лишним лет после исчезновения лидера «Россиян», 10 мая 2001 года Федеральный суд Красносельского района Санкт-Петербурга вынес решение о признании Георгия Владимировича Ордановского умершим. Не знаю, был ли снят тот фильм, якобы из-за которого была затеяна вся эта юридическая возня, но, оказывается, можно и так убить человека…
У него нет ни могилы, ни кенотафа — пустого захоронения, какие греки сооружали своим героям, если тела их остались на чужбине, — увы, приносить цветы родным, друзьям и былым почитателям некуда. Есть рок-фестиваль «Окна открой», которому Ордановский, будучи об этом не осведомлен, дал имя, и это, пожалуй, псе, что во вселенной вещей и явлений осталось от Жоры, помимо фотографий и непрочной материи воспоминаний. То же и в божественной области созвучий — «Россияне» были концертной группой, кроме пары случайных «грязных» записей из зала, их музыка до нынешних времен не дошла.
А может, лучшая победа Над временем и тяготеньем — Пройти, чтоб не оставить следа, Пройти, чтоб не оставить тени…Конечно, это не об Ордановском, и все же… И все же несколько о нем. Он светился, а сияющее тело не отбрасывает тени, оно отбрасывает свет. Как бы там ни было, Ордановский ушел красиво — молодым, на взлете. Так же красиво, не пережив свой звездный час, не похоронив его в собственном прошлом, как лелеемый укор блеклому настоящему, из обитателей этого некрополя ушли еще разве что Цой и Курехин — ушли прямиком по лунной дорожке, постеленной им милосердным ангелом. Покоя тебе, Жора, если ты мертв, мужества — если жив.
Виктор Цой Арбатская почта
Пожалуй, эта история тоже склоняется к черному цвету. По крайней мере, в своем визуальном ряду, в клубящихся в придонной тьме образах, некогда отпечатанных на стенке глазного яблока, покрытого колбочками с чуткой слизью, и теперь время от времени всплывающих в памяти, как, должно быть, всплывают, подхваченные холодными водяными токами, утопленники к поверхности застеленного льдом озера. Наверное, это совсем неважно, и тем не менее… Вот выдержка из интервью «Советскому экрану» за 1989 год:
— Виктор, вы всегда ходили в черном?
— Да, всю сознательную жизнь, во всяком случае.
А вот фрагмент из интервью пермской газете «Молодая гвардия» за 1990-й:
— Твой любимый цвет — черный. Это символ жизни для тебя?
— Нет, это просто мой любимый цвет. И все.
А вот еще фрагмент из интервью Цоя украинскому радио (май, 1990):— Несколько блиц-вопросов в стиле журнала «Браво»: любимый цвет, наверное, черный, да?
— Конечно.
Оставим на совести интервьюеров их идиотские предположения, однако что касается господствующего пристрастия героя текста к цвету, то, как ни странно, так оно и было. Когда мы познакомились с Цоем, а случилось это весной 1980 года, он красовался в узких черных штанах, черной рубашке и черной, клеенчатой, утыканной булавками жилетке. Копна смоляных волос, смугловатая кожа и агатовые глаза довершали этюд. Определенная степень внешней припанкованности отличала и других участников этой компании, почему-то называвших себя «битниками», — Пиню и Рыбу, однако настоящим, идейным панком (правда, в собственной, несколько специфической трактовке этого понятия) был здесь, пожалуй, только Свин — актер по жизни и беззаветный чудила с весьма своеобразным чувством юмора. Нейтральнее других выглядел Олег Валинский, поэтому, должно быть, к нему так и не приросла никакая кличка.
Свел меня с этой бандой вездесущий Панкер, с которым мы незадолго перед тем стремительно сдружились. Сдружились до полного, безоговорочного доверия, в чем мне не раз впоследствии приходилось раскаиваться. Так летом восьмидесятого Панкер, заверив меня в своей полнейшей компетенции, без прослушивания был приглашен играть у нас на барабанах (Олимпиада-80 вынудила многих свалить из города — менты учинили полный беспредел и, зачищая город к приезду спортсменов и всевозможных vip-гостей, винтили всех, кто не вписывался в мерку), когда мы от греха подальше удачно пристроились на биологической базе пединститута имени Герцена в Вырице бренчать на танцах. После первой же репетиции стало ясно, что Панкер с палочками не дружит, метронома в голове не слышит и на барабанах ни в зуб ногой, так что ему срочно пришлось искать замену. При этом раздолбайское обаяние Панкера было столь велико, что никакие досадные обстоятельства не могли разрушить нашей приязни — всякий раз его вдохновенные враки сходили ему с рук.
Однако к делу. Ребят этих отличал здоровый цинизм и бестрепетное отношение к жизни, что немудрено — в девятнадцать лет думаешь, что друзья вечны, а счастье может длиться пусть не годами, но все равно долго. Когда Пине (Пиночету) милиционеры в ЛДМе отбили селезенку, Цой на мотив известного по той поре шлягера («У меня сестренки нет, у меня братишки нет…») сочинил собственную версию этой песенки, которую в присутствии пострадавшего всякий раз негромко озвучивал:
У меня печенки нет, Селезенки тоже нет, А без них хлопот невпроворо-о-от…Характерно то, что это вовсе не казалось нам бестактным: все смеялись, даже бедный Пиня… Слово «политкорректность» еще не было изобретено американскими общечеловеками, но иезуитское существо дела, под этим словом скрывающееся, уже тогда нашло бы в описываемой среде веселых, убежденных и неумолимых противников. Впрочем, здоровый цинизм имел под собой серьезное основание — смеялись ребята потому, что не признавали поражений. Раз очутившись на лопатках, они вставали и снова шли биться. Такие люди в принципе непобедимы — близость трагической границы, рискованные прогулки по краю позволяли им чувствовать жизнь глубоко и правильно, так змеелов чувствует прыжок змеи за миг до того, как та отпустит свою пружину. Непобедимы, пока живы. А после смерти—и подавно. Я говорю это безо всякого пафоса, поскольку сказанное — истинная правда. И даже больше, чем правда, — так и было на самом деле.
В те времена, в полном соответствии с природным любопытством молодости (подчас не слишком чистоплотным, но что поделать — невинность приходит с опытом), мы бесстрашно готовы были впитывать и познавать все новое, неведомое, запретное. Более того — только это, запретное и неведомое, и казалось нам в жизни по-настоящему лакомым. Порой доходило до смешного. Практически каждая наша товарищеская встреча сопровождалась радостным распитием портвейнов, сухих вин, горьких настоек и в редком случае водок, что по существу было сродни разведке боем на незнакомой территории — мы тщились узнать, какие ландшафты скрыты там, за гранью трезвого сознания, и что за звери их населяют. О неизбежных потерях никто не задумывался. Как-то сидя в гостях (забыл у кого) и ожидая гонцов, посланных в гастроном за вином (принесенного с собой, как водится, не хватило), мы нашли с Цоем в ванной флакон хозяйского одеколона «Бэмби». Все было нам интересно, все ново… Ни он, ни я прежде не пили одеколон. Мы тут же решили — пора. Ополоснув подвернувшийся пластмассовый стаканчик, в котором хозяин квартиры обычно, надо полагать, взбивал пену для бритья, мы разбавили в нем водой на глазах белеющий «Бэмби» и, преодолев отвращение, выпили, поделив содержимое стаканчика на двоих. Не в том дело, что мы ощутили. В то время нас не мог бы подкосить даже чистый яд, который и теперь достать непросто, а тогда, в пору тотального дефицита… Зачем-то оказавшись в ванной через полчаса после распития «Бэмби», Цой, выглянув оттуда, поманил меня рукой — пластмассовый стаканчик, из которого недавно мы лакали одеколон, одаривший нас на сутки скверной отрыжкой, скукожился, осел и как бы полурастаял — о ужас! — что же творилось в наших желудках?! В тот раз мы, как водится, смеялись. Но впредь одеколон нас уже никогда не прельщал. Никогда.
Востоку традиционно принято записывать в актив коварство, велеречивость и хитрословие. Цой — наполовину кореец — невольно нарушал стереотип. В повседневной жизни он был неразговорчив — не молчун, но изъяснялся всегда кратко, а иногда и веско, однако же по большей части без задней мысли и рассчитанных многоходовок. Даже шутил так: по-спартански, лапидарно, словно вырубал на камне слова и старался, чтобы их оказалось поменьше. Вершиной остроумия для такого человека по всему должна была бы стать шутка без слов: шутка-жест, шутка-акция. Свидетельствую — случались у Цоя и такие. В училище, овладевая профессией краснодеревщика, он получил навыки резьбы по дереву и время от времени одаривал приятелей своими поделками: кому-то досталась пепельница в форме сложенной в горсть ладони, так что тушение окурка в ней выглядело дурно, точно пытка, кому-то — нунчаки с вырезанным на концах палок Ильичом, кому-то — деревянный фаллос, который следовало вместо ручки подвешивать в туалете к цепочке сливного бачка (помните, были такие сливные бачки с цепочками?). Одно время он носил дубль этого резного, довольно натурально сработанного красавца в кармане и при встрече со знакомыми и малознакомыми девушками быстро им его протягивал: дескать, это вам. Девушки машинально брали штуковину в руку, но через миг, сообразив, вскрикивали — ай! — и, залившись краской, испуганно, точно в руке у них оказалось парное конское яблоко, бросали деревянную игрушку под ноги. На публике они всегда такие пуританки… Впрочем, сказать, что таков был характерный стиль цоевской шутки, все же нельзя. Такова была одна из его, стиля, граней.
Что удивительно, при своем характерном немногословии Цой отнюдь не выглядел угрюмым — лицо его было живым, улыбчивым и на нем мигом отражалось отношение ко всему, что происходило вокруг: к речи собеседника, налетевшему ветру, льстиво трущемуся о ноги коту, выпавшему за ночь снегу и, разумеется, музыке, намотанной на катушку или нарезанной на антрацитовом виниле. По существу уже пропечатанные в мимике, слова здесь порой и впрямь оказывались лишними.
Где-то с августа 1981-го Цой, одолжив у меня бонги, цилиндры которых были покрыты ярким малахитовым пластиком, вместе с Рыбой и Валинским усердно репетировал акустическую программу. Чтобы играть электричество, нужен был аппарат и репетиционная база — а где их взять? Но в принципе не в этом дело — тогда мы были очарованы аквариумовской акустикой: ее камерный звук, волшебный, родниковый, весь звонко переливающийся пленял нас даже больше, чем их скандальный «Концерт в Гори», от которого все кругом пускали струйки крутого кипятка. Хотя, сомнений нет, и электрический «Аквариум», конечно же, был дивен.
«Кино» в ту пору еще не родилось — группа называлась «Гарин и гиперболоиды». Носитель редкого мелодического дара, Цой, разумеется, царил здесь безраздельно. Впрочем, нет, все же не безраздельно, поскольку повторить то ясное, прозрачное, кристальное звучание, которого они вместе добились в этом составе, впоследствии ему уже никогда не удавалось. Секрет заключался в эксклюзивной формуле вокала. Цой вел основную партию, а Рыба с Валинским заворачивали этот добротный продукт в такую, что ли, неподражаемо звучащую обертку. У Валинского был чистый, сильный, красивый голос, кроме того, он довольно долго и вполне профессионально пел в хоре — таким голосовым раскладкам, какие он расписывал для «Гарина…»,позавидовали бы даже Саймон и Гарфункел. Цоевский «Бездельник» («Гуляю, я один гуляю…»), под две гитары и перкуссию, грамотно разложенный на три голоса, был бесподобен — возможно, это вообще была его, Цоя, непревзойденная вершина. Я не шучу — тот, кто слышал «Гарина…» тогда вживую, скажет вам то же самое (тропилловская запись альбома «45», составленного из песен той поры, делалась, увы, уже без Валинского, пусть и с участием практически всего «Аквариума»).
Мне повезло — я слышал. Неоднократно слышал. В комнатушке Майка, куда Цой носил, как носят дорогую вещь надежному оценщику, все свои новые песни, на Космонавтов у Рыбы, в комнате Цоя у Парка Победы под башней, у себя дома… И оба «Бездельника» вкупе с «Битником» и «Алюминиевыми огурцами» до сих пор звучат у меня в ушах именно в том, гариновском исполнении. Звенящие, текущие жидким оловом змейки молодых голосов по-прежнему вибрируют во мне и заставляют дрожать диафрагму, а слова, простые, но нераспознанные за ненадобностью в своих мерцающих смыслах, мягко укладываются на свои места, и мне плевать, глубоко плевать на сдвинутые стихотворные метры и пропущенные рифмы: вот так, блин, — «ситар играл» — и все.
В то время мы с первой женой снимали квартиру на Днепропетровской улице. То есть мы снимали комнату в коммуналке, но поскольку дом ставили на капремонт и остальные жильцы уже съехали, нам досталась в пользование целая трехкомнатная (четвертую комнату с остатками скарба кто-то из хозяев надежно запер) квартира. Разумеется, приятели не могли отнестись к этому обстоятельству равнодушно — наше обиталище постоянно было полно гостей, а так как телефона в квартире не было, появление визитеров носило стихийный, го есть практически неуправляемый характер. Думаю, что для многих посещение этой квартиры имело еще добавочный смысл, сопряженный с щекочущим нервы риском, поскольку по пути к ней, на углу Транспортного переулка и Днепропетровской располагался зловещий вытрезвитель (однажды наш клавишник Володя Захаров, отправившись от меня домой пьяным, заснул прямо у дверей этого заведения на лавочке и — представьте — его никто не тронул, вот уж воистину: оставь на виду — не заметят).
Тут, на Днепропетровской, мы с многостаночником Рыбой тоже репетировали свою акустическую программу (с его стороны это не было изменой «Гарину…» — если одно не мешало другому, играть одновременно в разных составах вовсе не считалось зазорным делом), Майк, живший по соседству в Волоколамском переулке, праздновал здесь свою свадьбу, спортивный Атаев метал в дверь гостевой комнаты огромный нож, разбив ее едва ли не в щепу, а Панкер и вовсе переехал к нам жить, дав своим родителям и мраморному догу Аргону возможность отдохнуть от него в их купчинских хоромах.
Газовая плита в этой квартире стояла прямо в коридоре, а в туалете была дырка, через которую можно было запросто разговаривать с соседями и куда время от времени совала нос соседская (своей мы ее не признавали) крыса. Кроме того, тут совсем не было мебели: стол и стулья нам заменяли деревянные ящики, а кровати — брошенные на пол матрасы. Но это никого не смущало, наоборот, даже нравилось. Основной пищей, как повседневной, так и праздничной, по той поре был для нас плов по-ливерпульски. Записывайте рецепт: в кастрюлю с подсоленной кипящей водой насыпаете горкой рис, добавляете кусочек сливочного масла, чтобы рис получился рассыпчатым, и варите до готовности; сваренный рис откидываете на дуршлаг (если лень, можно не промывать), потом вываливаете обратно в кастрюлю, сверху шлепаете из двух банок кильку в томате и тщательно это дело перемешиваете. Всё. Еда делается быстро и ее много. К туманной Британии плов по-ливерпульски имеет весьма косвенное отношение — просто научил нас его готовить Леша Ливерпулец, получивший свое прозвище благодаря тому обстоятельству, что, в бытность студентом университета (филфак, английское отделение), ему по программе студенческого обмена удалось побывать на стажировке в столице графства Ланкашир.
Общие обстоятельства и пыльные частности такой неприкаянной жизни многим знакомы. Именно из этого и подобного ему бедного петербургского быта, который для красного словца порой называют подпольем, как маргаритка из мусорной кучи, выросла вся блистательная и совершенно чумовая в своей бесконечной свободе неподцензурная петербургская культура восьмидесятых. Под свободой, разумеется, я подразумеваю не лихорадку обличительной протестности (она больше свойственна для «подпольщиков» семидесятых), но свободу и от самой этой протестности.
Разумеется, регулярно появлялся в нашей квартире и Цой. Благо от Днепропетровской улицы было рукой подать до полюбившегося ему женского общежития ПЖДП (прижелезнодорожного почтамта) Московского вокзала, располагавшегося (речь об общежитии) в Перцовом доме на Лиговке. Да, этого не отнять: он нравился женщинам — он был обаятелен, хорошо сложен, молчаливость добавляла его решенному в черных тонах образу известную толику романтической загадочности, ну а когда он брал в руки гитару и начинал петь, его и вовсе окутывало облако какого-то запредельного очарования, так что девицы теряли над собой контроль и глаза их наливались томным матовым блеском. Не устояла даже милейшая и добрейшая майковская Наташка — дело едва не дошло до адюльтера, отчего Майк некоторое время на Цоя ревниво дулся. Собственно, здесь же, на Днепропетровской, Цой увел у Панкера Марьяну. Вернее, она сама увелась: отдадим должное слабому полу — практически невозможно соблазнить деву без ее встречного желания быть соблазненной.
В ноябре, по первому снегу, Валинский ушел в армию. Вскоре после этого «Гарин и гиперболоиды» был переименован в «Кино», что, думается, вполне справедливо, поскольку звучание группы без Олега определенно стало иным.
Еще со времен «Гарина…» Цоя милостиво опекал БГ — раз или два «Гарин…» выступал в паре с «Аквариумом», а потом и сольно, на квартирниках, а когда весной 1982-го «Кино», где на тот момент в постоянном составе числились лишь Цой и Рыба, появилось на сцене рок-клуба с полуэлектрической версией старой акустической программы, подыгрывали этому неведомому дуэту, обеспечивая «наполненный» звук, музыканты нее того же «Аквариума»: Файнштейн-Васильев и Дюша Романов.
На этом, по сути, первом своем полноценном концерте «киношники» решили дать волю артистической фантазии, как они ее на тот момент понимали: разутый, густо залепленный гримом Рыба бегал в белых носках по сцене с гитарой наперевес, Дюша в широкополой шляпе остервенело бил по клавишам, Фан с басом был подчеркнуто деловит и сосредоточен, однако не мог утаить лукавую улыбку, за ударника с механической меланхолией работал никогда не использовавшийся доселе в концертной практике питерских рокеров ритм-бокс. Цой, как пригвожденный, непоколебимо стоял у микрофона, позволяя себе лишь нарочито резкие жесты (романтично — а он сознательно предъявлял себя миру в образе неоромантика — вспархивали кружевные манжеты) и демонстрацию мужественного, тоже изрядно подкрашенного театральным гримом профиля.
Последним номером в программе был «Битник». И тут на сцену, как и остальные, в нарядах из тюзовской костюмерки (Рыба работал в ТЮЗе монтировщиком сцены, отсюда и экипировка) вышли Гребенщиков, бьющий в повешенный на шею огромный барабан, и Майк с гитарой, чтобы спеть этот забойный номер вместе с Цоем. И они его спели. В довершение карнавальной картины из-за кулис выскочил деятельный Панкер с саксофоном (в барабанах он к тому времени разочаровался) и разыграл пантомиму: он не мог выдавить из гнутой железяки ни одного чистого звукового пузыря, но, извиваясь всем своим крупным телом, раздувал щеки зверски и вполне убедительно. Разумеется, после такой звездной поддержки публика «Кино» запомнила надолго. Так, на плечах Гребенщикова и Науменко, Цой эффектно въехал в славный пантеон питерского рока.
Где-то с начала 1982 года, в силу перемены внутреннего императива, я стал постепенно отходить от музыкальных штудий, увлекшись переплетным делом (ах эти кожаные корешки с «бинтами», ах эти составные форзацы, плетеные шелковые капталы и мраморированные обрезы! — все это отдельная поэма, упоительно пахнущая рыбьим клеем и маслянистым отваром льняного семени), а также постижением таинственной науки рассказчика и обретением навыков живого письма. Мы продолжали встречаться с Цоем в гостях или вполне адресно навещая друг друга («Витя, где бонги?» — таково было мое тогдашнее из раза в раз повторяющееся приветствие, хотя сияющие малахитовыми боками бонги были мне тогда совсем не нужны, да и сам след их, должно быть, уже простыл и затерялся), но происходило это все реже в силу неумолимого закона, разводящего людей по интересам. Обретая дело, мы вынуждены были приносить ему в жертву себя — в форме времени собственной жизни — во все большем объеме, так что для другого нас уже почти не оставалось. В общем, я не очень следил за триумфальной дорогой Цоя, которая к середине восьмидесятых круто забрала ввысь. То есть, конечно, я был осведомлен о его успехах, потому что слушать музыку не переставал и время от времени появлялся на концертах, однако к обретению группой «Кино» уверенного звучания, которое в сочетании с магнетической лаконичной мелодикой как раз и производило то неотразимое впечатление, которое сделало Цоя тем, кем сделало — яркой кометой, стремительно просиявшей на небосклоне гибнущей империи, тотемом как минимум двух поколений, — относился как к должному. То есть мы знали об этой мине с самого начала, а теперь она рванула и для остальных.
Впрочем, истинные размеры рухнувшей на Цоя славы открылись мне не сразу — так уж заведено, что приятели, вполне способные оценить по достоинству твои заслуги, удачи и прозрения (равно как неудачи, огрехи и слепоту), совершенно не способны составить тот шлейф поклонения, в который сгущаются вокруг кумира по большей части люди далекие, увлекшиеся не собственно им, сверкающим куском космического льда, но наведенным образом — проекцией его, кумира, на собственные ожидания. Близкие знают тебя как облупленного, дальние же хотят видеть лишь то, что в тебе сияет, либо то, что в тебе зияет — это принципиально разный уровень отношения к предмету.
Прозрение наступило году примерно в восемьдесят пятом или даже восемьдесят шестом. Тогда я вместе с Сашей Критским, человеком не из рокерской среды, да к тому же еще не так давно вернувшимся из армии (сейчас он крупный воротила, соковый магнат), отправился по дармовым проходкам, которые мне вручил Рекшан, в рок-клуб на какой-то концерт (кажется, это был ежегодный фестиваль). Там в курилке возле туалета я встретил Цоя (о демократические нравы позднего тоталитаризма!), которого, разумеется, тут же поприветствовал:
— Витя, где бонги?
Он отшутился, мы выкурили по сигарете, о чем-то непринужденно поболтали, обменялись новостями и разошлись. И только тут я заметил, как смотрит в след уходящему Цою Критский. Примерно так он обычно смотрел на свою любимую девушку Олю — с восторгом и неоформленной в слова, но страстно выжигающей все его существо изнутри надеждой, сладко убитый самим фактом ее присутствия где-то тут, в пределах видимости, на расстоянии вытянутой руки.
Наверное, время было такое — из-под ног уходила страна, кругом трещали опоры доселе незыблемого ми-pa, и в этом треске кто-то слышал зов апокалиптического зверя, а кто-то музыку опасных, но веселых перемен, — время требовало новых, принципиально новых идолов. Все ждали некий Глас, который наконец скажет, как дело пойдет дальше и что же теперь следует делать, ну или хотя бы объяснит, что же такое, собственно, произошло. Тогда еще было в ходу мнение, что искусство как таковое — от литературы до рок-н-ролла—в первую очередь должно служить осведомителем общества относительно его предназначения. Чушь, конечно, но подобные ожидания действительно имели место. Это в широком смысле, а в узком — юное поколение восьмидесятых, «поколение перемен», хотело, чтобы ему, безъязыкому, наконец-то рассказали что-тоо нем самом, рассказали правду, пусть даже это будет неприглядная правда, и за это оно готово было отдать всю свою бесхозную любовь и собачью преданность. Ведь неспроста на гребень в ту пору вознеслись сразу две супергруппы — «Кино» и «Ласковый май». Такого убедительного успеха, какой выпал на их долю, позже не испытал уже больше никто вплоть до набитых страшилками «Короля и шута» и мармеладного Баскова. Цой, разумеется, в этой парадигме был голосом надежды, а «Ласковый май» — дудочкой дьявольского обольщения. (Характерна фраза из вводки к публикации одного цоевского интервью: «Сегодня на этом месте ты, дорогой читатель, должен был найти давно обещанный материал о „Ласковом мае“, но… Вчера поклонники группы „Кино“ отмечали печальную дату — девять дней гибели Виктора Цоя, поэтому…»)
Взлет «Кино» по-настоящему, во весь размах его черных (никаких инфернальных подрифмовок к цвету — пусть ад серно клубится вокруг белого и пушистого «Ласкового мая») крыльев начавшийся где-то года с 1984-го (уже без Рыбы, по той поре увлекшегося мим-театром и сбежавшего на время в Москву играть в рыженковском «Футболе»), был очень красив и шел строго по восходящей. Василий Розанов как-то написал, что, мол, лишая человека славы, Бог тем самым благоволит человеку и таким способом его оберегает. Это так и одновременно не так. Славой, равно как и ее отсутствием, Бог испытывает человеческое смирение, как испытывал Он смирение Иова, опуская его в полное ничтожество и сажая на голое пепелище. Причем порой испытание отсутствием славы сказывается на характере испытуемого куда губительней, нежели самые грохочущие медные трубы. Непризнанные гении в быту невыносимы — сущие чудовища и аспиды, — они нечестно отыгрываются на своих близких изощреннейшими пакостями. Цой был испытан славой в полной мере и вышел из этой мясорубки с честью: он оказался крепким парнем, вполне устойчивым к быстро сбивающему у многих крышу набекрень «звездному» вирусу. На первый взгляд может показаться, будто чистоту эксперимента нарушила роковая авария под Юрмалой, но это не так — ни черта она не нарушила, — Цой честно сдал экзамен Господину Экзаменатору. Сдал на отлично. За что, пожалуй, и был столь счастливо отправлен в эмпиреи молодым. Теперь он уже никогда не станет старше, и ему уже не грозит судьба змеи, пережившей собственный яд.
Вот скупая хроника, вот лихой, заломленный едва не вертикально маршрут его «бриллиантовой дороги».
1984 — в мае «Кино» в новом составе (Цой, Каспарян, Титов и Гурьянов) выступило на II Фестивале рок-клуба и произвело столь неотразимое впечатлениена жюри и зрителей, что бесспорно, без какой-либо заметной борьбы стало его лауреатом. С этого же времени Цой, наряду с другими музыкантами «Кино», регулярно принимает участие в выступлениях курехинскои « Поп-механики».
1985-1986 — запись магнитоальбома «Это не любовь» в домашней студии Алексея Вишни. Аквариумовца Титова на басу заменяет Игорь Тихомиров. Концерты при полных аншлагах, вой фанатов и фанаток, качающиеся в темноте зала огоньки зажигалок. Тропилло выпускает магнитный альбом «Ночь», составленный из рабочих записей 1984-1985 гг., сведенных им уже самостоятельно, без участия Цоя. Этот же альбом в следующем, 1986 году стал первым официально изданным виниловым диском «Кино», выпущенным московской«Мелодией». Говорят, эта пластинка разошлась фантастическим тиражом в два миллиона экземпляров. Режиссер Лысенко снимает Цоя в фильме «Конец каникул».
1987 — в широкий прокат по всей стране выходит «АССА» Сергея Соловьева, где Цой, весь в черном, мужественный и романтичный, поет в финале «Мы ждем перемен». С этого момента его уже было никому не догнать — как свидетельствует ответственный хроникер Андрей Бурлака, страну охватила настоящая «киномания». Подтверждаю: так оно и было. В это же время начинаются съемки «Иглы» режиссером Нугмановым, где Цой играет главную роль. В связи со съемками концерты и студийная работа «Кино» приостановлены. Однако маховик продолжает раскручиваться со страшной силой — само имя Цоя уже окружено облаком искрящегося электричества.
1988 — грандиозный и доселе небывалый ни с одной отечественной рок-продукцией успех винилового альбома «Группа крови». Концерты, много концертов. Цой снимается в фильме Учителя «Рок». Тысячи экзальтированных поклонниц и поклонников исписывают заборы и стены домов от Прибалтики до Камчатки коротким словом из трех букв — «Цой» — и длинным из четырех — «Кино».
1989 — десятки концертов по всей стране. На экраны выходит фильм «Игла». «Кино» гастролирует в Дании, играет на крупнейшем французском рок-фестивале в Бурже, участвует в советско-итальянском рок-фестивале в Мельпиньяно. Выходит и тут же сметается с прилавков новый альбом «Звезда по имени Солнце» — единственный альбом «Кино», записанный в Москве на профессиональной студии.
1990 — всю зиму и весну «Кино» проводит в постоянных гастрольных поездках; одновременно ведется работа над демо-записью нового альбома (он выйдет уже после смерти Цоя под названием «Черный альбом»). 15 августа 1990-го под Юрмалой, где он намеревался отдохнуть от звездных трудов, в возрасте двадцати восьми лет Цой погибает, на приличной скорости врезавшись на своем «Москвиче» в автобус.
Счастливая смерть — в зените славы с, казалось бы, бескрайними перспективами впереди (в зените славы всегда впереди мнятся бескрайние перспективы)… Цой не узнал, что бывает иначе — какая сказочная милость!
И все-таки: почему Цой? Почему не зажигательный, расписанный, как хохломская ложка, татуировками Кинчев? Почему не гений меланхолии Бутусов? Не гражданственный Шевчук? В конце концов, почему не блистательный БГ? Дело не в простоте Цоя — он вовсе не был прост, он был целен. И неудачи у него тоже были вопиющие в своей откровенности. Когда я лечу по трассе под его музыку и динамики вдруг обрушивают на меня буколическую «Весну» или карамельное томление на тему «Когда твоя девушка больна», беспомощность этих номеров так разъедает печенку, что в белом тумане со словами: «Швабра ты, а не матрос, и мать твоя — переборка», — мне так и хочется пойти на обгон грех фур, в лоб мерцающим встречным огням, лишь бы эта мука прекратилась. При этом я вполне осознаю, что причина этих неудач — не ошибка речи, а способ мышления, благодаря которому написаны и самые лучшие вещи Цоя.
Итак, почему? Почему в Киеве в подземных переходах украинские хлопцы поют песни Цоя спустя шестнадцать лет после его смерти и группа поддержки агрессивно бросается с протянутой шляпой на прохожих? Потому что он, как в старом анекдоте, не жид, не лях и не москаль? Вряд ли. Почему именно «Кино», а не, скажем, «Пикник», заряжено в радиоточки казахских поездов, наряду с их — трень-брень — заунывной домброй? Потому что глаза Цоя были слегка раскосы?
Я не знаю ответа. Кроме одного, который, собственно, ответом не является: все в мире происходит в силу неизреченного закона справедливости, нам в нашей малости недоступного. Смирись, гордый дух.
Недавно я был по делам в Москве. Направляясь по Арбату к станции метро «Смоленская», где меня ждал Андрей Левкин (именно он рассказал мне о киевских подземных переходах — два года он не слишком успешно пиарил на Украине Януковича и был вполне осведомлен о мелочах тамошней жизни), я остановился у Стены Цоя. Обшарпанная, с осыпающейся штукатуркой, вся исписанная невероятными клятвами и многослойными признаниями в любви к кумиру, изрисованная его портретами, Стена эта — алтарь вознесенного на небеса полубога — изрядно контрастировала с аккуратно подновленными фасадами зазывно туристического, сувенирно-матрешечного Арбата, который ныне так не любят коренные москвичи. Она была из того времени — она как будто наследовала шальным руинам восьмидесятых и начала девяностых. Возле Стены пестрела стайка тринадцати-четырнадцатилетних девиц, которые с серьезными лицами хором пели:
Ночь коротка, цель далека Ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не можешь здесь спать, Ты не можешь здесь жить. Доброе утро, последний герой! Доброе утро тебе и таким как ты! Доброе утро, последний герой! Здравствуй, последний герой!Думаю, они верили, что Цой их слышит. Ему, именно ему они подносили на своих дрожащих голосах эту песню, с трудом поднимая ее до козырьков низких арбатских крыш. Такой была их коллективная девичья клятва верности прекрасному рыцарю их сердец. Ах, нелепые, трогательные, невинные дуры — им всем предстояло стать клятвопреступницами.
Я знал, что в своем элизиуме Цой их не слышит, как не услышит он и меня. Однако коллективное безумие заразно — мне тоже захотелось, очень захотелось передать ему привет. Добрый приятельский привет. Я подошел к стене вплотную, достал из кармана завалявшийся синий маркер и, пожалуй, слишком поспешно и убористо от осознания неуместности своего мессиджа в этом многоголосье клятв и признаний, написал на красном кирпиче: «Витя, где бонги?»
Михаил (Майк) Науменко Звезда рок-н —ролла
Теперь трудно сказать, кто в действительности изобрел напиток под озорным названием «чпок», но Майк принял столь деятельное участие в кампании по его пропаганде, что нынче, спустя годы, авторство однозначно приписывается именно ему. Вероятно, так и было на самом деле, либо истинный изобретатель страдает небывалой гипертрофией скромности — во всяком случае, приоритет Майка никем не оспорен, а значит, сомневаться в его праве на первенство нет повода.
Однако по порядку.
В декабре 1980-го мы с Панкером устроились работать в Большой театр кукол к Сударушкину. Панкер — оператором звукозаписи, я — осветителем, в чьем распоряжении оказался огромный агрегат из двух цилиндров, на которых посредством простых, но надежных механизмов крепилось устройство управления примерно четырьмя десятками сияющих приборов, включая софиты, «пистолеты» и подсветку задника. Незадолго перед тем Майк записал на студии театра свой первый сольный магнитоальбом «Сладкая N и другие» — за пультом попеременно сидели Алла Соловей и Птеродактиль (Игорь Свердлов), получивший место звукооператора в наследство от Майка и затем по неизреченному закону преемственности уступивший его Панкеру, — но работы по производству копий все еще продолжались, так что на встречу мы, пожалуй, были с Майком обречены. (К слову, по этому же закону преемственности в нагрузку к должности Птеродактилю досталась от Майка и ветреная Алла Соловей, чей муж Моня тоже работал и театре кукол, но был по меркам юности довольно стар и к тому же страдал грудной жабой. Панкеру каким-то образом удалось выскользнуть из-под ига этого наследия, хотя, кажется, и не сразу.) Что говорить, рано или поздно общая среда все равно выводила людей схожих интересов друг на друга, да и заочно знакомство на тот момент уже состоялось: я слышал сделанный Майком совместно с Гребенщиковым, отменный по содержанию, но скверной записи, альбом «Все братья — сестры», да и недавнюю «Сладкую N…» тоже, а он, как выяснилось позже, видел наши выступления на сэйшенах. Кроме того, Панкер уже вел с Майком какие-то дела — питерский рок-н-ролльный круг при всей его относительной широте был все-таки на удивление узок.
Тогда были в чести какие-то странные принципы распознавания своих. Так, скажем, первичная проверка на вшивость проводилась через инстанцию музыкального вкуса и формулировалась приблизительно следующим образом: скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу тебе, кто ты. Мы с Майком сошлись на «Т. Rex» и «Rolling Stones». Странное дело, но, кажется, и теперь подобный подход не считается дичью и имеет массу сторонников, разве что сейчас он немного спустился по возрастной линейке и, в основном, взят на вооружение стратой стремящихся к низовой социокультурной самоидентификации подростков. Как правило, еще предпубертатного возраста.
Той зимой Майк ходил по улице в китайской кроличьей шубе, крытой серой плащевкой (изделие называлось «пихора»), и в серой же кроличьей ушанке с опущенными, но не подвязанными, разлетающимися в стороны «ушами». Благодаря этим «ушам», вид он имел довольно дурашливый, что не совсем вязалось с его вежливой и немного настороженной манерой общения — как большинство невысоких людей, Майк имел обостренное до мнительности чувство собственного достоинства и тратил на охрану этого самого достоинства немало душевных сил. Именно таким я его и увидел на улице Некрасова возле служебного входа в Большой театр кукол. Какова была причина его визита — бог весть. Панкор утверждал, что специально организовал эту встречу, чтобы нас познакомить. Как бы там ни было, с той поры мы на несколько лет сошлись столь близко, что наши тогдашние отношения вполне можно считать дружбой, несмотря на возникавшие время от времени сомнения относительно способности творческой, а следовательно, в той или иной мере тщеславной братии к производству и потреблению дружеских чувств в принципе. Дошло до того, что Майк вместе с только что собранным «Зоопарком» (Илья Куликов, Шура Храбунов, Андрей Данилов) вызвался играть в заштатной купчинской кафешке на проспекте Космонавтов на моей свадьбе (первой) — случилось это 20 февраля 1981 года, так что летописцам русского рока именно этим, а не каким-то иным числом следует датировать публичный дебют майковской электрической банды. Свадьба Вышла вполне рок-н-ролльная: Майк метался по скромным подмосткам, закатывал глаза, крутил микрофонную стойку, как шаолиньский монах свою палку, музыканты хмелели от номера к номеру, в воздухе посверкивали молнии здорового безумия («Безумиев хочется», — частенько говаривал один из ближайших майковских приятелей, гривастый, как патриарх прайда, Иша Петровский) — недоумение растерянной родни выплескивалось через край.
Был Майк и в загсе на регистрации, где приглядывался к ритуалу акта гражданского бракосочетания с необычайным вниманием. Дело в том, что с самого начала, еще безо всяких на то реальных оснований, но лишь по внутренней самооценке, он ощущал себя рок-звездой, вел себя на сцене как рок-звезда и стремился соблюдать какие-то одному ему ведомые правила соответствия звездному статусу (в этом смысле он, пожалуй, был ханжой), как будто опасался некой дисквалификационной комиссии, постоянно ведущей за ним тайное наблюдение. На тот момент его отношения с Наташкой уже требовали социальной определенности (она была на пятом месяце), и Майку хотелось уяснить для себя — не западло ли рок-звезде очутиться в загсе в качестве главного фигуранта.
Оказалось — не западло. Через полтора месяца, в апреле, Майк расписался с Наташкой, и я получил возможность сделать ответный жест — их свадьба справлялась в расселенной квартире на Днепропетровской улице, где мы с женой в то время жили, поскольку Наташкина комната в тесной ведомственной коммуналке для подобного мероприятия явно не годилась. Майк был в одолженном у Вячеслава Зорина («Капитальный ремонт») замшевом пиджаке, рукава которого оказались ему немного коротковаты, а кроткая Наташка хорошо улыбалась своей доброй улыбкой и счастливо несла впереди себя тугой и со спины практически не видный («Значит, будет мальчик», — справедливо напророчила какая-то дама) живот.
Был теплый солнечный день, что позволило нам по пути из загса к Днепропетровской в рассыпанных там и сям сквериках выпить полдюжины бутылок сухого вина. Благодаря этим счастливым обстоятельствам (весеннее солнце, веселое вино) мы чувствовали себя замечательно: Майк, позабыв о тайных соглядатаях, контролирующих его адекватность звездным нормам, вел себя легко и раскованно, а Иша, исполнявший в загсе роль свидетеля, по обыкновению требовал безумиев. Последние не заставили себя ждать — иначе зачем был бы нужен упомянутый выше «чпок»? Напиток этот имел составную структуру и чумовые свойства. Готовился он следующим образом: в стограммовую стопку или, на худой конец в граненый стакан в равной пропорции (50 мл на 50 мл) наливались водка и какая-нибудь газосодержащая жидкость (полюстрово, пиво, боржоми, пепси, лимонад «Буратино» etc.), после чего стопка/стакан плотно накрывалась ладонью и резко ударялась донышком о колено — в тот же миг начинался процесс бурного газовыделения, и напиток следовало разом незамедлительно выпить. Здоровому молодому мужчине для глубокого погружения в измененное состояние сознания обычно хватало четырех-пяти «чпоков». Способ в наглядном исполнении Майка (близкий круг не раз уже видел этот спектакль прежде) был нов, забавен и, будучи с подробными комментариями преподан явившейся публике, имел несомненный успех.
Гостей в тот день на Днепропетровской побывало столько, что их точное число не поддается счету. Люди приходили и уходили, некоторые приходили дважды, а иные крендели, чье присутствие мог подтвердить добрый десяток свидетелей, впоследствии категорически утверждали, что ни сном ни духом и не в зуб ногой, и вообще именно в это самое время 10 апреля они летали на метле над Полтавой. Гребенщиков был в отъезде, но зато весь остальной «Аквариум» играл на чем попало, включая пустые и полупустые бутылки, и голосил на всю округу Дюшиным горлом. Рыба, Цой, Панкер, Иша, Родион, Александр Петрович (Донских) и Пиня тоже пели (орали) что-то хором и поодиночке, а какой-то рыжий, бородатый, хитроглазый москвич с носом-бульбой здорово дудел на губной гармошке и хватал за ноги проходящих мимо девушек. В трех комнатах и в коридоре на деревянных ящиках, служивших нам универсальной мебелью, стояли бутылки, стаканы и тарелки с простецкими закусками, одни гости сидели на корточках или прямо на полу вдоль стен, другие стайками переходили от ящика к ящику, не удосуживаясь даже познакомиться. То и дело с разных сторон доносились глухие удары стакана о колено.
Назавтра мы тут же в камерном составе лечились сухеньким, попутно занимаясь анализом майковских песен на предмет их пригодности к литовке. Майк со своим «Зоопарком» как раз собирался вступать в рок-клуб («шмок-клуб» — называл его Майк), поскольку тот в это время контролировал практически всю концертную деятельность непрофессиональных групп в Питере. Однако для того чтобы песни можно было свободно петь со сцены, тексты требовалось представить на одобрение неким наделенным цензурными правами дамам (надо признать, не слишком вредным) из Дома народного творчества на улице Рубинштейна, при котором рок-клуб и влачил свои дни.
Нам уже было известно, что, с учетом довольно лояльного (легкомысленного) отношения к самодеятельному творчеству членов рок-клуба в целом, дамы склонны порой цепляться к словам, относящимся, по их мнению, к профессиональному картежному сленгу, лексикону наркоманов и токсикоманов, а также словарю практикующих пьяниц. Нравственную (половая сфера) сторону творчества опекаемых рокеров они тоже старались не упускать из виду. Кое-какие предварительные замечания были цензурными дамами в адрес Майка уже сделаны, так что работа упрощалась.
Несмотря на дух свободы и веселого нонконформизма, царивший в нашей среде, небольшая жертва демонам государственного вездесуйства в то время вовсе не казалась нам малодушной и позорной: черт с ними, ведь впереди у нас вечность! Оголтелое диссидентство было Майку столь же чуждо, как и холодное лицемерие советской системы. Время подтвердило справедливость подобного взгляда: оба полюса друг друга стоили. Впрочем, определенные ценности мира товарно-денежных отношений имели на лидера «Зоопарка» поистине гипнотическое влияние, но об этом позже.
Майк, хоть я и был на шесть лет его младше, незаслуженно считал меня умудренным специалистом по словам, поэтому и привлек к работе по перелицовке сомнительных (с точки зрения припадочной цензуры) мест в собственных текстах. А может, он просто не хотел своими руками портить то, что было уже однажды хорошо сработано и крепко отлито, ведь он вполне обоснованно считал себя человеком книжной культуры и был способен к куда более глубоким литературным штудиям. В любом случае я отнесся к работе как к формальной малярке, видя задачу в том, чтобы складно намалевать нейтралку поверх кисти мастера, дабы в результате всю картину можно было протащить через цензурный контроль контрабандой. Каюсь, все предложенные мною замены были, пожалуй, хуже оригинала Полагаю, именно поэтому Майк их и одобрил. Помните второй куплет песенки усталого плейбоя «Прощай, детка»? Вот авторская версия:
Ты так очаровательна и не скучна ничуть, Но мы устали друг от друга, нам нужно отдохнуть. Накрась поярче губки и подведи глаза, На всякий случай спрячь в карман бубнового туза. Живи же хорошо, не скучай. Ну, а пока — прощай, детка, прощай!В залитованном виде (то есть на бумаге, проштампованной ведомственной печатью, дававшей разрешение на публичное исполнение песни) четвертая строка этой меланхоличной истории выглядела следующим образом: «Надень мой старый макинтош, возможно, будет гроза». Именно так Майк ее с весны 1981 года на всех концертах и пел, поскольку отступление от узаконенного текста могло обернуться репрессиями вплоть до исключения из рок-клуба, а это уже грозило прекращением легальной концертной деятельности. Мне нет оправдания, но повторяю: установка была именно на обезличивание, на проходную строку. Утешаться остается лишь тем, что и в оригинале эта строчка выглядела чистой подрифмовкой, надутой, как жаба через соломинку, ложной многозначительностью.
А вот еще пример — четвертый куплет «Дряни», авторский вариант:
Ты клянчишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей. Слава Богу, у таких, как ты, не бывает детей. Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту, Но готова ли ты к пятьсот второму аборту? Ты — дрянь.Та же четвертая строка этого безусловного шедевра в версии, отмеченной ведомственной печатью, выглядела так: «Прости, дорогая, но ты бьешь все рекорды». Это — тоже я. Неловко за рифму — но кто, право, обращает внимание на такие мелочи в песенном жанре? Жаль, ушел из текста брутальный гротеск, но ведь ради того все и было затеяно. (Наглядный образец исполнительного легкомыслия и непоследовательности, только дискредитирующих институт цензуры как таковой: спать с женатым мужчиной и даже с его басистом героине песни было можно, а про аборты — ни-ни.) Не думаю, что за содеянное на том свете мне выйдет послабление, но и лизать сковородку лишнюю тысячу лет, право же, за это не присудят.
Подобных правок было не две, не три и даже не четыре — всех теперь и не упомнить. В «Сладкой N» строка «…и называли друг друга говном» преобразилась в «…танцевали так, что трясся весь дом» и т. д.
В ответ на эту медвежью услугу Майк провел со мной курс вокальных занятий по методике Олега Осетинского, который ныне больше известен не как автор сценария чудесного фильма «Звезда пленительного счастья», а как суровый воспитатель собственной дочери Полины. Занятия не имели ничего общего с постановкой голоса (чтобы поставить голос, надо его иметь, а это был не наш с Майком случай), но скорее касались постановки сценической речи, речи-пения, речитатива, касались особой техники интонирования и прочих мелких секретов энергетической подачи текста, в том числе и песенного. Смешно вспоминать, как мы сидели с ним в бытовке на Петровской набережной (Майк работал здесь сторожем столярных мастерских) и под двенадцатиструнную гитару, впившись зубами в яблоко, мычали по очереди залитой слюной глоткой нелепые слова моей последней на тот момент вещицы:
Пой, пень, пока не сгнил на корню. Пой, пень, а я тебе подпою.Причем Майк мычал мою песню как бы правильно (так предполагалось по умолчанию), а мне надлежало лишь перенимать, подтягиваться, осмысленно копировать мастерство наставника. Полагаю, все усилия оказались тщетными — толку из этого не вышло, однако у Снегиревки под окнами родильной палаты, где лежала майковская Наташка, наши тренированные связки были вне конкуренции.
Один из принципов методики, преподанной Майку Осетинским (под обаянием этого человека Майк находился довольно долгое время), заключался в следующем: надо по мере возможности — яблоко в зубы — затруднить себе сам процесс пропевания песни, стараясь при этом исполнять ее максимально чисто и с предельной выразительностью выделять интонационно (с надлежащим чувством) заранее определенные смысловые места. Логика проста: если ты будешь приучен бегать пятикилометровку в свинцовых башмаках, то когда очутишься на дорожке без них — пролетишь дистанцию пулечкой, с вдохновением, сам не заметишь как. Не мне судить о действенности этого средства, поскольку я сошел с круга, свинтив в другой спорт, но Майк верил в рецепт Осетинского, как в чудесный магистерий, способный сделать соловья из павлина.
Вообще, и в характере, и в образе мыслей Майка (в компании своих его настороженность исчезала без следа) было много причудливого, благодаря чему он неизменно вызывал в людях живой интерес. Ведь мы запоминаемся друг другу не единомыслием, а именно зазором, несостыковкой между нашими восприятиями. Этот зазор требует осмысления и раздумий, которые в итоге становятся частью нашего жизненного опыта. За этот опыт, если он не оказался ложным, мы благодарны человеку, так удачно с нами не совпавшему. Майк часто не совпадал с окружением, и в этом естественном несовпадении не было ни позы, ни снобизма/намеренности, что делало общение с ним занятием крайне привлекательным. Должно быть, сказалась тут и его уже упомянутая выше причастность к книжной культуре. Он много читал на русском и на английском, причем не только Тургенева, Шергина, Хармса, Овалова (он был помешан на советских детективах 1930-1950-х годов) и Керуака с Кеннетом Грэмом, но и литературу андеграунда (именно у Майка я впервые увидел машинопись шинкаревского «Максима и Федора» с авторской графикой), да и сам время от времени грешил прозой (несколько рассказов Майка были опубликованы после его смерти в книге «Майк: Право на рок»). Кроме того, в начале восьмидесятых он перевел на русский «Иллюзии» Ричарда Баха. Переплетая ему пару машинописных экземпляров «Иллюзий», я удивлялся кропотливости переводчика/печатника: в книге были два пласта текста, один из которых в английском оригинале выделялся курсивом: имея на пишущей машинке лишь один шрифт, Майк не ленился то и дело менять в заправленных шести экземплярах копирку (черную на фиолетовую и обратно), так что в результате курсив в машинописи был находчиво замещен фиолетовым цветом. Идея, бесспорно, богатая — о многоцветной печати собственных сочинений в свое время мечтал еще Фолкнер. Что касается самоощущения Майка как рок-звезды, то чувство это было глубоко внутренним и уже хотя бы и силу этого оправданным. Однако все представления Майка о правилах звездного поведения были целиком почерпнуты им из статей и интервью в глянцевом « Rolling Stone» и ему подобных журналах, поэтому в условиях окружавшей нас действительности выглядели довольно забавно. Перед выходом на сцену обычно спокойный и вежливый Майк преображался — задирал нос, становился словно бы небожителем и в упор не замечал смертных. Ну а что он творил на подмостках, как самозабвенно ломался и вдохновенно выделывался… Подобному вживанию в роль поразился бы даже Станиславский. Помню, Гена Атаев едва ли не в серьез обиделся, впервые столкнувшись с этим явлением: за кулисами он приветливо окликнул готовившегося выйти нa сцену Майка, с которым накануне пил у ларька пиво, а тот в своих неизменных темных очках-каплях прошествовал мимо, даже не поздоровавшись. Но все же мы, тихонько посмеиваясь за его спиной, прощали Майку эти невинные слабости — для нас-то он был никакой не звездой, а просто хорошим, порядочным, милым, дорогим и очень талантливым человеком.
В принципе, тот мир, который он внутри себя проживал, играя в свои звездные игры, и в котором в то время, безусловно, хотел бы очутиться, описан им в «Рассказе без названия» — небольшом тексте, входящем в скромный корпус его литературных опытов. Там Майк забавно наложил реалии западного шоу-бизнеса на отечественную географию, смешал их в одну окрошку и получил то лакомое хлебово, которое сам согласен был всю жизнь черпать ложкой. Да что черпать — он готов был купаться в этой грезе, как оса в сиропе. Развитый институт шоу-бизнеса — это то, чего ему катастрофически не хватало в условиях советской действительности. Все остальное он был готов этой действительности простить. Все, но только не отсутствие рок-индустрии — она была той, прежде уже упомянутой, ценностью Западного мира, которая очаровывала Майка более всех остальных газообразных миражей, испускаемых сытым брюхом общества равных возможностей. По существу, все сводилось к простому желанию легально заниматься своим делом (рок-н-роллом) и получать все сопутствующие этому звездному занятию дивиденды — от роллс-ройсов к подъезду до приличествующих гонораров. В этом был майковский пунктик. Несоответствие реальности грезе не давало ему покоя, он не хотел мириться с подобным дефектом мироустройства, дурно действующим на ранимую психику человека с обостренным чувством собственного достоинства и богатым воображением, поэтому он и ковал свою жизнь так, как будто всем этим вещам (шоу-бизнесу) в окружающем его быте уже есть место.
— Любой труд должен быть оплачен, — любил повторять стороживший сутки через трое пиломатериалы на Петровской набережной лучший рок-н-ролльщик страны, чем выдавал свою мелкобуржуазную сущность.
Мы все были в ту пору бедны и знали, как это бывает — просыпаться от голода, но назначать цену тому, что ты делаешь для себя и в свое удовольствие, поскольку не хочешь заниматься ничем другим, не приходило нам в голову. Искусству можно лишь отдаваться и приносить жертвы. Это не идеализм — если ты хочешь получать за свои художества деньги, ты становишься несвободен, а главный закон искусства — это полная, совершенная, абсолютная свобода. Майк же невозмутимо торговал своими магнитоальбомами (так, в общем-то, было принято — не чурался этого ни БГ, ни иные дорвавшиеся до студии музыканты), с помощью друзей и знакомых оформляя их таким образом, будто это действительно были настоящие альбомы, пытался организовать коммерческое дело по продаже переплетенной машинописи «Иллюзий», а однажды даже, как поведал Рыба, приехал к Свину и предложил тому купить специально для него, Свина, написанную песню «Я не знаю зачем». Ситуация, прямо скажем, выдающаяся по своей нелепости. Разумеется, Свин ничего не купил. В результате блестящий хит остался за автором.
Не могу удержаться от соблазна привести здесь текст этого панк-шедевра целиком, хотя читать его, как и всякий песенный текст, конечно же, не следует. Его, в соответствующем исполнении, следует слушать:
Я просыпаюсь каждое утро, Ко мне приходят мои друзья. Они приносят мне портвейн и пиво, Но я знаю: они ненавидят меня. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу с ним. У меня есть жаба — редкостная дура — И я бу-бу ее каждый день. И нам давно бу-бу друг на друга — Я бы бросил ее, но бросать лень. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу с ним. Иногда я хожу на работу. Всем было б лучше, если б я не ходил. Но если я умру, то кто тогда вспомнит О том, что я вообще когда-то жил. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу с ним.Как после этого «Король и Шут» могут претендовать на гордое имя панк-группы? Да они здесь карамелька против селедки, мотылек против навозника, «Щелкунчик» против заветных сказок, Барто против Баркова, Барби против Тайсона.
Справедливости ради следует сказать, что оборотной" стороной комичного майковского предпринимательства была его строгая щепетильность в финансовых вопросах: он всегда возвращал долги и не терпел никаких подачек, видя в этом если не оскорбление, то как минимум ущемление своего бдительно охраняемого достоинства. Он готов был спросить деньги за свой труд, но принять что-то просто так, ни за что, словно бы на бедность… Обычно мягкий и душевный Майк, стоило ему заподозрить хоть намек на подобное ущемление, хоть призрак вызова его самолюбию, в миг становился резок и беспощаден.
В одном он был, конечно, прав — своим делом хотелось заниматься открыто, свободно, во все горло…
После Большого театра кукол мы с Панкером перебрались в Театральный институт, где он опять, наследуя на этот раз Сергею Свешникову, сел за звукооператорский пульт (теперь «теславский», шестнадцатиканальный, что было по тем временам почти роскошью), а я был приставлен в лаборатории технических средств обучения к только что появившимся отечественным кассетным видеомагнитофонам «Электроника». У Панкера в студии Майк записал летом 1982-го свой следующий сольный альбом «LV», а у меня в лаборатории ТСО мы вечерами смотрели «Аферу», «Полет над гнездом кукушки», «Стену», «Апокалипсис сегодня», клипы «Duran Duran» и азиатскую хореографию Брюса Ли и молодого Джеки Чана, которая на долгое время сбила набекрень крышу Цою (помимо вертящихся нунчак, Цоя и впрямь в кинопродукции практически ничего не интересовало, зато Майк приходил на формановский «Полет…» раз пять, гармонично сочетая просмотр с трудоемким, но эффективным «чпоком»).
Переехав с Днепропетровской в Купчино — в идущем на капремонт доме в конце концов отключили воду, отопление и газ, — мы стали видеться с Майком несколько реже. Со временем он заделался домоседом, в гости выбирался не часто и, как правило, принимал у себя. К тому же гитарист «Зоопарка» Шура Храбунов, женившись на Наташкиной соседке Тасе, поселился в той же коммуналке в Волоколамском переулке, окрестности которого, благодаря расположенной неподалеку кондитерской фабрике им. Крупской, при западном ветре, а ветер в наших краях по преимуществу западный, густо пахли шоколадом. Подобное соседство (Майка с Шурой) упрощало дело — половина «Зоопарка» могла теперь аранжировать и вчерне репетировать новые песни, придумывая и разучивая гитарные риффы и соло, не выходя за пределы квартиры.
Связанным с Майком историям нет конца (была выпитая в квартире на Варшавской бутылка настоянной па какой-то хвое водки, служившей лекарством майковскому отцу, за что мы, после внезапного возвращения Василия Григорьевича с дачи, были подвергнуты безжалостному остракизму; был побег с повязанного ментами концерта в честь десятилетия «Аквариума» на квартиру к Лене Набоко, где мы практически стали свидетелями смерти Эмерсона (Сергея Ашевского), etc.), эти истории можно рассказывать долго и без повторов. Однако будет ли это справедливо по отношению к личности Майка, которая прочитывается не в микроисториях, порой не им даже инициированных, а в самом пути? Как говорил маркиз де Сад, мы собрались здесь не ради справедливости. И все же… И все же ограничусь хроникой.
Меньше чем через год после «LV» на студии Тропилло Майк записал свой следующий альбом «Уездный город N», где в тягучей четвертьчасовой балладе, давшей название всей работе в целом, ему в качестве сессионного музыканта подыграл на клавишах Володя Захаров. Вскоре после этого в состав «Зоопарка» едва ли не в статусе полноправного члена вошел отменный вокалист и давний майковский приятель Донских, который периодически выступал с группой вплоть до 1987 года, пока Науменко, заподозривший Александра Петровича в каких-то невинных, но признанных щепетильным Майком подозрительными махинациях, с ним не разошелся.
После «Уездного города N» Майк записал у того же Тропилло «Белую полосу». Вообще вплоть до конца 1988-го он был довольно активен — много выступал, гастролировал и периодически писался в студиях. Дело дошло до того, что у «Зоопарка» появился наконец-то какой ни на есть, но собственный администратор — Сева Грач, — занимающийся концертными делами группы. Однако вскоре машина забуксовала…
Известно, что конец восьмидесятых, вопреки ожиданиям, оказался для рокеров не лучшим временем. Внезапно вспыхнув на ветерке предперестроечных и перестроечных времен, массовый интерес к русскому року, спустя буквально несколько лет, заметно пошел на спад — в эфире и на концертных площадках его плотно теснила попса, полноценные гастроли удавалось организовывать все реже, тиражи пластинок оставляли желать лучшего. Триумфальный марш рока по стране захлебывался. Держались единицы, взятые в оборот волками-продюсерами, для кого потеря даже половины былой аудитории не меняла существа дела («Кино», «Наутилус Помпилиус», "Алиса», «ДДТ»), либо те, кто вышел за рамки чисто музыкального проекта (Курехин). Остальные послы рок-н-ролла в неритмичной стране, успевшие ощутить вкус широкой славы и приличных гонораров и посчитавшие было, что это — навсегда, оказались не готовы к подобному отливу представлявшегося заслуженным и выстраданным зрительского внимания. Героические амбиции подполья, очутившись на свету практически ничем не ограниченной свободы, потрепыхавшись и пошумев, начали хиреть и сдуваться. Кто-то отправился пережидать скверные времена за бугор, другие сидели по коммунальным кухням и с тоской вспоминали, как все здорово начиналось десять лет назад. Увы, не избежал этой участи и Майк. Он мог быть только звездой рок-н-ролла — а если дело не складывалось, то все остальное теряло смысл. В ситуации столь масштабного разочарования трудно что-либо противопоставить известному русскому лекарству, которое вскоре парадоксальным образом оборачивается для лечащегося недугом. Ко всему на исходе девяностого у Майка обострились семейные проблемы, потом был развод, после чего Наташка и вовсе переехала с их сыном Женькой в Москву. В смысле обеспечения собственного быта Майк был сущее дитя — когда он остался один, убирать комнату и готовить еду к нему при ходила Ишина жена Люда.
Весной 1991 года я увиделся с Майком в последний раз. Тогда в Питер из Риги приехал Андрей Левкин, у которого здесь в издательстве «Васильевский остров» готовилась к выходу книга, и я зачем-то повел его к Майку. Возможно, будучи главным редактором рижского«Родника», Левкин имел на Майка какие-то виды (сделать с ним материал или взять что-нибудь из его переводов), а может, просто хотел познакомиться с живой легендой русского рок-н-ролла — это уже не имеет значения.
Майк был в приподнятом настроении, рассказывал, что в Москве вот-вот выйдет на виниле его сольник «LV», за который ему дают очень приличные деньги, и пытался изображать радушного хозяина. Внешне не подавая вида, в душе я был поражен тем, насколько Майк изменился. Мы не встречались с ним около года, но впечатление было такое, будто прошло как минимум лет десять. Лицо его стало отечным, нездоровым, он поседел и не то чтобы обрюзг, но весь как-то отяжелел, кроме того, он слегка приволакивал ногу и, неумело скрывая это, плохо управлялся с правой рукой.
Как водится, мы принесли с собой водку, пепси-колу и немудреную закуску в виде хлеба и рыбных консервов. Майк достал стопки, и тут я сообразил, что Левкин, проведя свои лучшие годы в чопорной, но глубоко провинциальной Латвии, вероятно, понятия не имеет, что такое «чпок». Ни я, ни Майк давно уже не употребляли этот гремучий микс — забава, как бородатый анекдот, давно пережила свой час, — но искушение блеснуть перед Левкиным молодечеством была столь велика, что я не удержался.
— А не махнуть ли чпок? — иезуитски предложил я Майку.
Конечно, идея была дурацкая и насквозь фальшивая — жизнь не скачет, как запиленная пластинка, на уже однажды прокрученную дорожку. Однако Майк, обычно чуткий и нетерпимый к любой искусственности, согласился. В конце концов, его вновь настигли добрые вести — почему бы не изловчиться и не схватить удачу за хвост? А может, как мягкий и понимающий человек он просто подыграл моему суетному желанию пустить гостю пыль в глаза?
В нужной пропорции я налил в стопки водку и пепси-колу, после чего мы с Майком под настороженно-любопытным взглядом Левкина шлепнули запертые ладонью посудины каждый о свое колено. Мой «чпок» махнулся вполне благополучно, а вот Майка подвела непослушная рука — шипящая, как аспид, смесь выплеснулась ему на джинсы. Майк чувствовал себя неловко, поскольку явно стеснялся своей отказывающейся повиноваться руки; я тоже был смущен, так как невольно вынудил гордого хозяина обнаружить столь неугодную его самолюбию слабость. После этого мы уже не куражились и допивали водку банально, как заведено.
А через пять месяцев Майк в этой комнате умер. Это случилось около одиннадцати вечера, и в тот же миг со стены, сам собой отлепившись, спикировал на пол постер майковского любимца Марка Болана. Историю эту можно было бы посчитать фольклором, легендой, добросовестно сочиненной преданными поклонниками, если бы ее рассказала не мать Майка Галина Флорентьевна, проведшая тот последний вечер рядом с сыном.
Волнение Болана можно понять — там, где все вечно молоды, ему наконец-то будет с кем сыграть на джеме буги-вуги.
Андрей (Свин) Панов «Свин — парень вредный, он не помрет»
Папа русского панк-рока Андрей Панов по кличке Свинья (ласково — Свин) вышел, как ни странно, из той среды, откуда обычно является на свет лишь снобствующая золотая молодежь, всегда имеющая собственное мнение, но — пустая тщета — неспособная обрести индивидуальность, сколь яростным и неодолимым не был бы порыв. Впрочем, это навязчивое исключение уже набрякло соками и, пожалуй, вполне созрело до правила, которое лишь ждет своего Ньютона, чтобы свалиться ему на голову (Эрик Берн с его антисценарием лишь подступился к теме). И то правда, довольно вспомнить звонаря Герцена, князя Кропоткина или сына североамериканского контр-адмирала Моррисона, чтобы увидеть в подобной веренице исключений некоторую закономерность, — при взгляде с крыши все эти истории локальных бунтов разнятся лишь в нюансах. Однако в них, нюансах, — сила, поскольку именно с ними мы по большей части и имеем дело.
Отец Свина, солист Кировского театра, хореограф Валерий Панов в свое (советское) время уехал на Запад (как бы в Израиль), где сделал блистательную карьеру, обретя популярность едва ли не большую, нежели Барышников и Нуреев (правда, в отличие от последних, его слава до нас толком не докатилась), и даже возглавил лихой — по слухам — Боннский балет. Более чемпионской родословной в нашей компании мог похвастать разве что Панкер, отец которого был заместителем заведующего отделом идеологии и пропаганды Ленинградского обкома КПСС, благодаря чему на любые концерты в Юбилейном и СКК у нас всегда были проходки на предъявителя с местами в правительственном секторе. Ничего удивительного, что мальчик, проведший детство в филармонии и за кулисами Мариинки (мать Свина, Лия Петровна, тоже была балериной; когда друзья приходили к нему в гости, она любезнейшим образом предлагала им под принесенное вино скромные домашние за куски), перекормленный Чайковским и Стравинским, и конце концов презрел порядок и гармонию и возлюбил анархию и свинство. Удивительно как раз то, что на этом поприще ему удалось добиться блестящих результатов.
В школьные годы Андрюша был толстым домашним мальчиком, за что от жестокосердных сверстников ему изрядно доставалось. Он возненавидел школу лютой ненавистью, возненавидел настолько, что даже по ее окончании воспринимал первое сентября как день траура и скорби, но скорби на враждебной территории, траура в стане врага — он смотрел на отутюженные костюмчики школьников и ликовал: мучайтесь-мучайтесь, шельмы, а я — свободен! Тогда же у него сформировалось ясное и вполне адекватное представление о жизни: никаких иллюзий — по большому счету, в этом мире он никому, кроме матери, не нужен. Вероятно, должным образом препарировав его детские неврозы и страхи, вывернув наизнанку сиреневые потроха его бессознательных фобий, можно было бы сделать далеко идущие выводы… Но оставим эту сумрачную область Нине Савченковой, умеющей брать след в психоаналитических дебрях. Мы же вспомнили о детских годах Андрея так, для резкости картинки.
Следует оговориться — лично я считаю, что в случае Свина нет никакой патологии, клиникой тут не пахло и в помине, он был вполне вменяем, начитан, внутренне светел, понятия не имел о проблемах социальной адаптации и мог при необходимости блеснуть манерами. Причина, по которой окружающая действительность постоянно получала от него афронт, наполовину заключалась в его реакции на норму, на среднее, на принятые правила, которые он всей душой презирал, а наполовину — в артистическом жесте, поскольку по натуре Андрюша был неисправимый, заматерелый лицедей. Он исповедовал свой художественный и бытовой экстремизм независимо от какого-то конкретного повода, без всякого осознанного проекта и рациональной цели — просто его натура, чуткая к ханжеству и не терпящая снобизма, ничeгo не хотела знать о том, что прежде считалось смыслом жизни или задачей искусства. По существу, Андрей — по многом, полагаю, помимо воли — оказался захвачен могучим, древним, притягательным и вполне традиционным полем народной смеховой культуры — скоморошеством. Предельным, отъявленным, махровым скоморошеством, местами граничащим с юродством. Оно (скоморошество) охватило его именно не вопреки, а помимо воли, как хомут жеребца, еще не ведающего, что это значит. Такое дарованное ярмо не скинешь, и в этом смысле Свина, пожалуй, можно назвать избранным. Бремя своей избранности он честно пронес, щедро окропляя спой путь вином, до конца, до самых, по собственному его выражению, врат «небесной бильярдной». Строго говоря, термин панк служил здесь лишь прикрытием, внешней ширмой со знаковым иероглифом, за которой клубились и пламенели дремучие стихии — безымянные или тысячеименные, что, собственно, одно и то же. Если иметь в виду вечный спор двух столиц, то в Москве подобная роль досталась Петру Мамонову, с той лишь разницей, что между сценой и жизнью Мамонов проводил довольно внятную черту, а у Свина тут никакой демаркационной линии не было вовсе.
Вот его собственное признание, сделанное в ту пору, когда он уже был общепризнанным лидером русского панка (при этом в интервью он постоянно заявлял, что то, что он делает на сцене — никакой не панк, а обыкновенная эстрада, и в ответ получал то, чего добивался — смех), то есть культовой, извините за выражение, фигурой, олицетворяющей своеобразный, с позволения сказать, социальный протест:
Вообще то, что произошло все так — это совершенная случайность. При моей лакейской натуре я мог бы быть слугой, продавцом, официантом, шутом гороховым. То есть социальный герой из меня — никакой. Повторяю: это совершеннейшая случайность.
Признаться, лакейского в Свине ничего не было — было комедиантство, уже упоминавшееся лицедейство, так что уши самооговора торчат из той же шляпы: напал исповедальный стих, и вот он уже в роли. В действительности все было ровно наоборот: на деле Панов оказался одним из ярчайших нонконформистов нашего времени — несгибаемым, веселым, неподкупным, бесстрашным.
В соответствии с природной склонностью некоторое время Свин проучился в театральном институте (ЛГИТМиК), однако учебный процесс даже в этом легкомысленном заведении требовал пусть не гармонии, но определенной дисциплины и порядка, а с такими вещами Свин, как сказано, был категорически не в ладах. Не окончив и первого курса, он ушел из театрального (по слухам, за всю историю ЛГИТМиКа Панов оказался первым, кто выпорхнул из этой намазанной медом банки по собственному желанию) и больше уже не предпринимал попыток получить «высокое» образование, перебиваясь не слишком квалифицированной работой (продавец в магазине радиотоваров, разносчик газет, санитар в больнице, рабочий-такелажник в ЦБК Манеж) — теперь он был полностью свободен для настоящего дела, настоящей музыки, как он их понимал. А понимал он их весьма своеобразно: Свин не раз говорил, что предел егомечтаний — создать самую плохую музыкальную команду, которая вообще только может быть. Безусловно, дерзкий замысел, поскольку уровень действующих на то время групп, за редким исключением, не выдерживал никакой критики. Однако у Свина было преимущество — те скверные группы тщились стать лучше, он же сознательно стремился к обратному. И ему повезло — он сразу получил то, что желал (соответствующих музыкантов), а дальше — пошло и поехало.
Началось все не без участия Панкера (он же Монозуб, если кто-то забыл), категорически не умевшего играть на барабанах, но беззаветно любившего это громкое дело. Оценочная часть предыдущей фразы, пожалуй, раскрывает основной принцип действия будущих «Автоматических удовлетворителей» («АУ») — делай то, что любишь, невзирая на то, умеешь ты это делать или нет. Несомненно, что-то подобное имел в виду Свин, повторяя при всяком удобном случае, как девиз, как рефрен главной песни своей жизни: «Радоваться надо!» Андрей постоянно настаивал на том, что на сцене он отдыхает, а не работает, и в этом ничуть не лукавил — музыку, которую он исполнял, было очень приятно играть, :)то был упоительный, засасывающий оттяг, момент полной и безусловной свободы, ну а то, что ее, эту музыку, невозможно слушать, так ему-то какое дело?
Вот фрагмент интервью из журнала «Рокси» за 1982 год, проливающий свет на историю «Автоматических удовлетворителей» и дающий некоторое (приблизительное) представление о манере публичного поведения Свина:
— Так с чего началось твое увлечение музыкой?
— А ни с чего. Вообще, как вам, одноглазым хрипунам, наверное, известно, я пою. — А вот увлечение панком…
— Не перебивай. Я работал в магазине. В трудовой книжке у меня восемнадцать мест работы. Пришел ко мне чурик один — Монозуб — и начал какую-то лапшу на уши вешать… Он тогда хотел организовать группу. Он — ударник (этого ударника… отовсюду,… он, а не ударник), я — вокал, Севин брат — гитарист. Собрались. У каждого свое. Кто — «Блэк Саббат», кто — панк-рок. После недолгих пьяных разборок со страшным мордобоем и боем всего остального мне пришлось самому учиться играть на гитаре. Затем прошли четыре смены состава, и теперь мы — «Автоматические удовлетворители». Чего вы все спрашиваете, микрофон с места на место переставляете? Корреспонденты?! Дерьмо вы на букву «г», а не корреспонденты.
(Прим. редакции: вмешавшийся троюродный дедушка Свиньи, администратор, спас положение фразой весьма и весьма спорной: «Они такие же корреспонденты, как я — летчик!»)
— Что больше оказывает на тебя влияние — слова или музыка «Пистолз»?
— Вот чего никогда не знал, так это английского. Буржуйский язык. И люди поганые. Не люблю англичан.
— Значит, ты пишешь тексты, совсем не зная, о чем они поют?
— Да. Разве что такие пижоны вонючие, как вы, придут и переведут со стенки. Расскажу одну историю.. Вот пришел ко мне Пейдж, сука, в больницу, принес статью о новом течении. Я думал — ничего интересного, а начитались до того, что сидели и били бутылки о раковину. Уборщица долго ругалась, меня чуть не выгнали из больницы. Когда мы прочитали первую статью: «Я спускаюсь в дурнопахнущий подвал.. » и т. д., я подумал, как Маяковский в свое время: «Принимаю, мой панк-рок»
К концу семидесятых в Купчино под действием закона вытеснения в группу (непонимание и враждебность со стороны окружающих заставляют людей, стремящих-ся к созданию или хотя бы поиску новых форм, менять образ жизни до тех пор, пока они не обретут единомышленников) сложилась странная компания, именовавшая себя «звери» или «битники». Слово «панк» еще не вошло в оборот, но по существу это было одно и то же (безымянное или тысячеименное). Ядром компании стали Женя Юфит (Юфа), Вольдемар, Кирилл (Хуа Гофэн) и Свин. Позже на некоторое время туда влились Панкер, Рыба, Цой и Пиня. Как и во всяком миноритарном сообществе, здесь была в ходу система опознавательных знаков — «свой». Кроме непритязательного стиля одежды (простейшей, желательно отечественного производства) и небольших темных очечков, существовала еще особая схема приветствия: при встрече два битника сгибали пальцы рук крючком, сцеплялись ими, чуть приседали и издавали яростный горловой вопль-рычание. Прохожие вздрагивали и с опаской обходили идиотов стороной.
В 1979-м Свин, купив на полученные от отца деньги кучу инструментов, микрофоны и полукиловаттный аппарат, собрал свою первую группу, о которой вполне и пятно поведал в приведенном выше интервью. По городу поползли слухи: шутка ли сказать — первая советская панк-группа. Мало кто мог похвастать, что слышал «Автоматических удовлетворителей» (наполовину это была еще невещественная идея, эйдос), но вся подпольная рок-тусовка уже знала, что они есть. В те годы никто в таком исчерпывающем объеме, как Свин, не использовал скандал и эпатаж как безотказный инструмент самораскрутки. Причем делалось это совершенно бескорыстно, поскольку более бессребренической группы, чем «АУ» (даже в зените славы), и более бессребренической звезды, нежели Свин, представить себе практически невозможно (музыканты в «АУ» подолгу не держались, так как с точки зрения шоу-бизнеса команда была совершенно бесперспективной — музыканты играли со Свином больше для имиджа, нежели из материальных соображений; что же касается самого Андрея, то периодически случались времена, когда знакомой продавщице в соседнем магазине приходилось отпускать Свину и его матери продукты в долг). Пожалуй, он уже тогда откуда-то знал забавный медийный принцип, который мастера российского пиара в полной мере взяли на вооружение лишь в начале третьего тысячелетия: информация о событии важнее самого события. Настолько важнее, что собственно события может и не быть — довольно лишь известий о нем.
Байки о Панове передавались из уст в уста, заставляя слушателей, да и самого рассказчика, содрогаться от ужаса и смеха. Так Свин не единожды на спор пил собственную мочу (Россия еще не узнала от доктора Малахова о чудовищной пользе уринотерапии), более того — находились свидетели (о безоговорочном доверии к которым нет и речи) его склонности к копрофагии. А как-то раз он присел во дворе за мусорным баком по-большому, и когда застигший его за этим делом бдительный милиционер потребовал убрать безобразие, послушно сгреб кучу горстями и пошел к блюстителю порядка с дерьмом в протянутых руках — обескураженный мент в ужасе дал деру. Была еще история с одной девицей, студенткой пединститута имени Герцена, которая шалила со Свиньей, но для серьезных целей имела виды на профорга курса. Однажды Свин ей, спящей, написал въедливым фломастером на ягодице пару слов, достойных купчинского панка. Вернувшись к своему профоргу и в рабочем режиме, «без упоенья», по выражению поэта, «склонясь на долгие моленья», девица, ничего о проделке Свина не ведавшая, неожиданно для себя была позорнейше уличена — серьезные цели пришлось оставить. В другой раз Свин с девушкой Ветой приклеили себе накладные усы и пошли на концерт гастролировавшего по той поре в СПб слащавого «Modern Talking», где весь вечер просидели в первом ряду с каменными лицами. Разумеется, был еще мат со сцены. Там же, на концертах, Панов расстегивал штаны и тряс перед публикой прибором. А как-то раз на концерте в Киеве зрители за раскрывшимся занавесом увидели среди инструментов и аппаратуры стол, за которым «Автоматические удовлетворители», не обращая внимания на зал, с немалым удовольствием выпивали и закусывали. Время от времени кто-то из музыкантов вставал, что-то бренчал, чем-то шумел, Свинья с компанией за столом запевали, а потом все вновь возвращались к выпивке. И так — полтора часа, после чего под бурное недовольство зала занавес закрылся.
Всех связанных со Свином историй теперь уже не вспомнить — он плодил их чуть не ежедневно и неизменно в каждой из них выглядел блистательным подонком. Правда, однажды на моих глазах он все же был немало посрамлен.
Ко мне приехал в гости мой московский друг Володя Бацалев, и мы решили с ним, немного прогулявшись, выпить. Гуляли мы по зеленой улице Ленсовета, где я в ту пору жил, и, миновав пустырь, на пересечении Ленсовета с проспектом Юрия Гагарина повстречали Свина. Я был давно знаком со Свином, поэтому мы сцепились с ним пальцами и, грозно порычав, чем удивили Бацалева, исполнили зверское приветствие, после чего я пригласил Андрея к нам присоединиться. От выпивки Свин на моей памяти не отказывался ни разу. Направившись в ближайшую «стекляшку» (так называли торговые центры в новостройках), мы обнаружили печальную картину — увы, — столь характерную для предперестроечных времен: из винного отдела на улицу тянулся, извиваясь, гигантский хвост, что, с одной стороны, свидетельствовало о наличии дешевого вина, на которое мы и претендовали, а с другой — час скучать в очереди не хотелось. Да и не принято было в нашей компании толкаться по очередям. То есть в небольшой, к пивному ларьку — еще куда ни шло, а в этакой — увольте.
Первым — в силу заявленных уже в самой своей внешности амбиций — прорваться в двери винного отдела вызвался Свинья. Посверкивая булавками и ощетинясь ежиком волос, он с диким воплем ринулся на штурм, рассчитывая на шокирующий эффект психической атаки, однако толпившиеся в проходе мужики отбили натиск и бестрепетно вышвырнули Свина с крыльца обратно на улицу. Смутить Андрея мало кому удавалось, не чувствовал он смущения и теперь, однако конфуз был налицо.
— Учитесь, панки позорные, — сказал Бацалев, забрал у Андрея наши деньги и скрылся в заднем дворе магазина.
Через минуту он появился оттуда с пустым винным ящиком. Держа ящик над головой и всем своим видом изображая изнуренного однообразием службы местного грузчика, он неторопливо направился к заветным дверям. Как ни странно, мужики перед Володей даже расступились. Мы знали, что прорваться внутрь магазина — это отнюдь не победа, надо еще выбить в кассе чек, а здесь, у окошечка кассы, градус народного гнева столь велик, что способен запросто испепелить проныру на месте. Тем не менее через пять минут Бацалев появился на крыльце с ящиком, из которого торчали белые полиэтиленовые головки десяти бутылок «Эрети». Это была чистая победа.
Чуть позже, сидя на скамейке в зеленых кустах и попивая сухарь, Бацалев поведал, как ему удалось совершить этот подвиг. В винном отделе он подошел к невзрачному мужичку, стоявшему за три человека от кассы, и доверительно сказал: «Мужик, вот деньги — возьми мне вина. Я тебе вчера тут брал. Помнишь?» — «Не был я тут вчера», — возразил мужик. «Значит, брату твоему брал», — сказал Бацалев, и этот неожиданный аргумент решил дело.
Так московский писатель Володя Бацалев, тоже уже покойник, сделал питерского панка Свина. Впрочем, о соревновании в тот момент не было и речи: направленность действий была чисто конструктивная — на результат.
Когда слухи о Свинье докатились до подпольного столичного менеджера Артемия Троицкого, тот пригласил Панова в Москву, и «АУ» дали там два оглушительных концерта. Кроме музыкантов «АУ», в этой поездке принимали участие Панкер, Пиня и Рыба с Цоем, так что подробную информацию все заинтересованные лица могут почерпнуть из книги Рыбы «КИНО с самого начала». Впоследствии по поводу этого и подобных ему блистательных безобразий, а также вообще по поводу успеха «АУ» у рафинированного зрителя, один из членов свиновской команды (упомянутый в интервью администратор) заметил: «Простой народ врубается и бьет Свинье харю. А интеллигенты сопли от радости глотают». Очень верное замечание. Простой народ бил Свина часто и сильно, так что ему приходилось порой подолгу отлеживаться дома. А интеллигенты и прочая богема, действительно, глотали сопли. Так уж работает эта вечная схема — массовое сознание не признает авангардный и в силу этого элитарный тип культуры, отказывая ему и в элитарности, и в культурности и расценивая его как непрофессионализм, антигуманность, бескультурие. В массовом сознании существует иная элита — та, что стоит на страже традиционной, общепризнанной, адаптированной и привитой обществу культуры. Юродствующее скоморошество как вид искусства всегда балансировало на грани, всегда было разнонаправлено, имело и ангельский, и демонический голоса, порождало как открытия, так и заблуждения, поскольку заключало в себе большой процент ложного эксперимента и при всяком удобном случае показывало публике голый зад. Такое варево придется по душе не каждому. Поэтому простой народ будет вечно подхохатывать Галкину и Петросяну, а рафинированная богема глотать сопли от «АУ» и «Звуков му». И те, и другие разнесены по полюсам культурно-исторической модели и ее оценочной шкалы, которая, скорее, не линейка, а круглый спидометр, на котором эти полюса, эти крайности оказываются, как это ни парадоксально, ближе друг к другу, чем к средним значениям той же шкалы.
В качестве иллюстрации к сказанному приведу одну историю. Однажды у меня на Днепропетровской Свин орал под гитару свою гривуазную версию макаревичевского «Капитана» — ту самую, с финалом: «Забыли ка-питана корабля-бля-бля…» В Москве у Троицкого этот номер был принят на «ура», мне же с улицы в окно прилетел булыжник. Выглянув, мы увидели улепетывающего волосатого пэтэушника (в терминах того времени — гопника) — преданность кумирам не позволила ему стерпеть преступное глумление. О чем я? Любитель Вивальди просто бы наморщил нос и прошел мимо. А на полюсах шкалы пановские выходки порождали сильный всплеск эмоций, пусть и с разным знаком.
Надо сказать, что чертик лицедейства просыпался в Свинье только в присутствии зрителя, причем будучи в единственном числе, зритель зрителем не считался. То есть в приватной обстановке, с глазу на глаз, Свин был способен на вполне человеческое общение, трезвость оценки и теплоту чувств, однако стоило показаться кому-то третьему, как он преображался. Миру являлся паяц — редкостный циник, мерзавец и алкоголик — словом, его величество Петрушка, с полным набором убийственно брутальных выходок.
Пил он, действительно, много. Много даже по меркам беспробудно пьяных восьмидесятых и понемногу завязывающих девяностых. Алкоголь был частью его образа, сто неотъемлемым атрибутом, каким служил кадуцей вестнику богов Гермесу. Он пил сутками напролет, сильно слабел, с похмелья его, как газетный ком, мотал из стороны в сторону невский бриз. Знавшие о его больных почках, говорили ему: «Андрюша, завязывай». Он неизменно отвечал: «Смерти моей хотите, сволочи». (Вообще, отношение к смерти у него было какое-то свойское, будничное — так, узнав о гибели Цоя, Панов бестрепетно заявил: «Что за человек! То беляшами отравится и лежит зеленый, то въ…тся в стоящий автобус на совершенно пустом шоссе!») Даже на сцене Свин не раз выходил к микрофону с бутылкой. Помнится, в июне 1996-го на стадионе «Петровский», где проводился очередной питерский рок-фестиваль, Свин, выступая со своим последним проектом «Аркестром АУ», обиженно пожаловался в микрофон: «Тут кто-то пиво обещал — и где оно?» Сей же миг на сцене появился Шевчук и преподнес Панову банку пива. Так он и пел свой «Трехмоторный дельтаплан» — расчетливо фальшивил и, то и дело прикладываясь к банке, разбрызгивал вокруг себя тугую пену.
Последний раз я видел Свина на вернисаже Мурада Гаухмана-Свердлова в феврале или марте 1998-го. Выставка проходила в помещении Музея городской скульптуры, расположенного в ту пору прямиком на кладбище у Александро-Невской лавры — в некрополе мастеров искусств. Помнится, по этому поводу мы еще довольно неловко острили. Мурад угощал гостей разведенным пополам с тоником спиртом, который в большом количестве раздобыл где-то по случаю. (Мурад вечно пил всякую гадость — однажды он отравил своим самогоном Секацкого, и мы едва успели спасти товарища, влив в него в качестве антидота стакан хорошей водки «Дипломат».) Свин был в тельняшке и сером комбинезоне, который последнюю пару лет носил как положенную по уставу форму. Он был не то чтобы пьян, но как-то болезненно худ и немощен — его покачивало от слабости, вместо искрящей энергии внутри него ощущался какой-то вакуум (возможно, это была пустота нирваны), однако рассуждал он вполне ясно и держался приветливо.
— Ты часом не болен? — участливо поинтересовался я.
В ответ, само собой, я получил от Андрея решительную отповедь:— Свин — парень вредный, он не помрет.
Но в небесной бильярдной его уже ждали друзья. Он умер через полгода — даже не по вине своих слабых почек, а всего лишь от дурацкого перитонита, вызванного запущенным воспалением червеобразного отростка слепой кишки. Какая-то невообразимая пошлость. Так не должны умирать беззаветные герои. Нет, не должны. Л нот жить должны именно так.
Свин прожил свою жизнь, как хотел — решительно отринув суету и не заставляя себя делать что-то, что его нимало делать. Он был удивительно свободен в своем юродстве. Вернее, свободен именно через свое бесстрашное юродство. Послание, заключенное в его растянутом во времени жесте, было ясным и недвусмысленным: не стоит торговать своей жизнью, не стоит смиряться с принуждением и давить себя гнетом дурацкой убежденности, что непременно нужно позволить себя изнасиловать, потому что без этого не добиться того, к чему стремишься, — поступая так, мы в результате пьем, дружим и спим вовсе не с теми, с кем хотели бы, а ровно наоборот — это ли не истинное безумие?
Да, он прожил жизнь так, как хотел. Он пил, дружил И спал с теми, с кем хотел, а не наоборот. И играл он так, как хотел. Он говорил:
Я с самого начала знал, что это будет самая хреновая команда и музыка — самое большое говно. И теперь, когда я вижу говно хуже себя, то в душе поднимается здоровое возмущение — как же так? Как можно еще хуже? Когда хуже меня — вот этого мне никак не стерпеть.
Катай спокойно шары в своей небесной бильярдной, Свин, ты победил — хуже тебя в этой жизни не сыграл никто.
Сергей (Капитан) Курехин Состязание грез
Когда говоришь о Курехине, не составляет труда отделить его от «Поп-механики». Говоря о «Поп-механике», отделить ее от Курехина невозможно. Связанный с ней, как паровоз с собственным дымом, Курехин, он же Капитан, по всем параметрам превосходил границы контекста (весьма широкого) «Поп-механики», хотя и глазах современников она и стала главным художественным проектом его жизни.
История началась в небольшой комнатке под крышей ДК им. Ленсовета — массивного серого здания на Петроградке времен торжества кумача и конструктивизма. Тогда здесь собрались молодые звезды питерского андеграунда: музыканты, поэты, художники (культура подполья нe делилась по строгим цеховым признакам, представляя собой общий бурлящий котел), которые всерьез еще даже не мечтали о профессиональных студиях звукозаписи, о расходящихся сотнями тысяч экземпляров пластинках, о собственных книгах, о персональных павильонах на биеннале в Венеции, о создании Новой Академии Изящных Искусств… Этих людей созвал Курехин. Созвал и вдохновенно фантазировал перед ними о небывалом лицедействе, о новых синтетических спектаклях, где по его замыслу примет участие вся собравшаяся братия. Кроме того, там будут симфонический, народныйи военно-духовой оркестры, солистами выступят гуси, поросята и коровы, из ведущих политиков составится хор, куда на равных войдут оперные и эстрадные звезды. Время от времени на сцене, где декораторы и пекари соорудят огромный колобок из лавашей, будут появляться группы джазменов, писателей-диссидентов, поэтов-авангардистов и художников-бисексуалов. Американские шпионы и советские дипломаты исполнят хачатуряновский танец с саблями под аккомпанемент ритм-секции, собранной из олимпийских чемпионов тяжелоатлетов и кордебалета Кировского театра.. На дворе стоял 1979 год.
Так или примерно так хотел начать свой полубиографический фильм о Капитане режиссер Олег Тепцов. В свое время он снял «Господина оформителя», для которого Курехин написал самую блестящую в отечественной кинематографии музыку, однако фильм о Капитане до сих пор ждет своего создателя (несмотря на то, что несколько фильмов о нем уже накручено на ленту). Жаль, у Олега могло бы получиться.
Между тем, приблизительно таким образом все и началось. В 1980 (или 1981?) году я сидел в малом зале ДК им. Ленсовета и смотрел выступление фри-джазового коллектива под управлением Сергея Курехина. Это был уже полноценный прообраз появившейся немногим позже «Поп-механики». Стоя на коленях, близорукий Гребенщиков грыз положенную на чемодан гитару (скрежещущие звуки снимал микрофон, подведенный к чемодану наклоненной стойкой), Курехин, открыв рояльную крышку, стучал по струнам ксилофонными палочками, Сева Гаккель и Болучевский терзали виолончель и саксофон, а кудрявый еще Драгомощенко ровно, без экспрессии, не вставая со стула, читал в специально организованных паузах собственного сочинения стихи. Был тамкларнетист и еще какие-то музыканты, но их я не запомнил. Забавно — присутствовавшие в зале джазовые меломаны, закрыв глаза, притопывали ногами и стучали ладонями по коленям, пытаясь удержать пойманный, как им казалось, свинг. Любить, ценить и знать толк в атональном джазе — это вам не лапки воробьям выкручивать… В ту пору им даже не приходило в голову, что их дурачат и разводят, как лохов. Конечно, это был побочный эффект его чудесных провокаций, но всякий раз Курехин легким жестом делал из спесивых снобов голых королей. За что впоследствии был ими страшно нелюбим. От них же (не от невинных джазовых меломанов, а от махровых снобов иной масти) он получил, в конце концов, клеймо фашист. Говорить о Курехине трудно, несмотря на божественную легкость самого его существа и фокус любви, счастливо сведенный на нем как земными друзьями и женщинами, так, без сомнения, и над мирными силами. До сей поры речь в этой книге шла о ярких и даровитых людях, так сильно засветившихся, что и теперь еще при упоминании их имен под черепной коробкой многих современников вспыхивают пятнышки теплого света. В этих людях были способности, энергия, идеи, харизма, норов, Божья искра и черт знает что еще — они были звездами и просто невероятно талантливыми людьми, а Капитан был гений. Универсальный и, как водится, своеобразный. Настоящий гений. Из тех, что, закатай их под асфальт, — пробьются и оттуда. Как травы, как холодный гриб, как Ломоносов и Кулибин.
О том, что в ипостаси музыканта и композитора Курехин значительно превосходил большинство своих соратников, да и музыкальное окружение в целом, не стоит даже упоминать. Как-то раз в разговоре Майк обронил по поводу «Поп-механики»: «Не понимаю, чем там занимаются мои коллеги из рок-клуба. Сережа — большой музыкант, а нам-то что делать с ним на одной сцене — трень-брень на гитаре?» Однако при этом самого Капитана практически не интересовало, насколько музыкальны его соратники и способны ли они вообще отличить фагот от хай-хета — на них у него были другие виды, и задачи он в большинстве случаев решал с ними отнюдь не музыкальные.
Скромный малый зал ДК им. Ленсовета стал той стартовой площадкой, откуда джазовый пианист Сергей Курехин, время от времени поигрывающий с «Аквариумом», вознесся уже совсем в другие небеса. Впереди его ждали главные концертные площадки страны, ждалиЛондон, Берлин, Нью-Йорк, Стокгольм, Париж… Капитан смешал музыкальные стили и сценические жанры, исторические эпохи и политические доктрины в одну чудесную яичницу, о которой в свое время мечтал Василий Розанов. Курехин неутомимо разбивал штампы и устойчивые представления, смешивая в одно оперных див и кудахтающих кур, рок-н-ролл и балерин в пачках, мистический традиционализм и эстрадную клоунаду. Он то семенил по сцене на цыпочках, то ложился на спину и дирижировал ногами, то играл на рояле Шопена, то заползал под инструмент и хрюкал оттуда в микрофон, пока Дмитрий Пригов бил на подмостках лопатой по огромному, гулко рокочущему листу железа.
Под фишкой акта солидарности с питерским зоопарком и всем его голодающим зверьем Курехин организовал уличное действо «Верблюд на Харлее». Для этого он вызвал из Англии старого рокера Дэвида Мейсона, некогда игравшего со Стивом Винвудом в «Traffic», пригласил нескольких байкеров на «харлей-дэвидсонах» и одного унылого верблюда из подшефного зверинца. На Думской улице возвели сцену, около которой в компании корабля пустыни весь день выпивала богема и младший комсостав городской администрации, над Гостиным Двором запустили воздушный шар с портретом дромадера, а после до ночи на весь исторический центр ревели мотоциклы, шумела изобретательная «Поп-механика» и молодечески бренчал пожилой британец.
В Швеции Курехин, для разминки поразив изнуренных безмятежной жизнью викингов дикарской практикой горлового пения, вывел к рампе приглашенную на выступление с «Поп-механикой» приму из Стокгольмской оперы (теперь не вспомнить имени, но утверждали — знаменитость) и в середине ее сольного номера запустил на сцену стадо гогочущих гусей. Затем была театральная постановка в Балтийском Доме — «Колобок». Курехин исполнял роль колобка, Пригов — поэта. Еще там играли Баширов, Юля Соболевская, а также отпетые некрореалисты Юфит и Циркуль. Во время финального трагического монолога колобка, в миг несказанного катарсиса на сцену въехал экскаватор и разрушил все декорации. Алексей Герман, присутствовавший в театре, вздохнул печально: «Мне пора уходить из профессии».
А однажды Капитан предложил Ростроповичу выступить в Кремлевском дворце дуэтом, но только Ростропович должен играть на рояле, а он, Курехин, на виолончели. Ростропович сдрейфил. Еще бы — это серьезнее, чем с американским паспортом в кармане российскую демократию спасать… Продолжать перечень его артистических подвигов и великолепных сумасбродств (были еще истории с тринадцатью арфистками; ванной шампанского у Алины Алонсо; военно-морским оркестром; фестивалем в итальянском городе Барии, где на сцене гарцевал жеребец, распугавший хор монашек; Обществом духовного воспитания животных; берлинским Темподромом, ошарашенным «Поп-механикой» с Дэвидом Моссом, Африкой и визжащими поросятами; спектаклем «Гляжу в озера синие», где оживала мумия Эдуарда Хиля и проч.) бессмысленно и даже вредно — слова все равно не могут выразить всю полноту невыразимой действительности, потому что сами же без умысла обкрадывают ее, как фотография, которая, копируя мир, тут же лямзит у него третье измерение.
В 1985 году, еще на взлете, Курехин следующим образом описывал принцип действия своего невероятного коллектива:
Дело в том, что «Поп-механика» — это понятие растяжимое… То есть, скажем, мы сидим с Борисом Борисовичем и пьем чай, а Борис Борисович говорит, например, что давненько мы не пели неаполитанских песен. «Ты любишь Неаполь?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Давай попоем». Отлично. Что нам для этого нужно?.. Так, Неаполь. То есть… певец или певица, которые поют неаполитанские песни. Дальше, струнный оркестр плюс аранжировку надо сделать в духе неаполитанских песен. Но дело в том, что неаполитанские песни рядовому слушателю будет скучно слушать. Точнее, не скучно, а традиционно. Он может пойти куда-нибудь в другое место и послушать их там. Для того чтобы было как-то интересно, мы вносим элементы другой музыки, которую мы в данный момент любим и хотим слушать. Предположим, это некая индустриальная музыка. В общем, музыка, исполняемая на современных инструментах, как то: токарные станки, рельсы, отбойные молотки, наковальни, молоты, топоры, гвозди… Мы прикидываем приблизительно, какая певица будет исполнять данную программу. Например, Мария Биешу, или Елена Образцова, или Архипова. Предположим, выходит Биешу, начинает петь. На втором куплете публике уже становится скучно, потому что она поет хорошо, но это одно и то же. Тут мы всей индустриальной компанией начинаем громко извлекать звуки из индустриальных инструментов, но этот шум утомляет людей, поэтому мы быстро его прекращаем. Архипова, предположим, продолжает допевать второй куплет. Однако чтобы снова не дать слушателю скучать, мы опять запускаем немножко индустриальной музыки. Но поскольку второй раз — это уже слишком много, то кусочек индустриальной музыки совсем маленький. Потом прекращаем, и она продолжает петь. После этого, чтобы сменить характер — индустрии хватит, — мы пускаем немного электроники, а потом уже, скажем, нам надоела неаполитанская музыка, мы хотим чего-нибудь другого. То есть мы хотим из своего слушательского опыта то, что нам в данный момент хочется слушать… То, что мы, находясь на сцене, хотим услышать сами. Вот это стараемся исполнить и заодно потанцевать, подвигаться на сцене.
Вот еще небольшой фрагмент из беседы Бориса Друбова с Курехиным и Гребенщиковым (тогда Капитан и БГ были еще взаимоочарованы и тянулись друг к другу):
Б. Гребенщиков: …«Популярная механика» исполняет важную роль в процессе разложения нынешней культуры и появления новой.
С. Курехин: То есть она одновременно венец умирающей культуры и в то же время первенец нарождающейся культуры. То есть она совмещает в себе два начала: тотальной смерти и тотального рождения. То есть она выполняет функцию Спасителя.
Курехин неутомимо дурачил всех, начиная с собственных музыкантов (в них он никогда не испытывал недостатка, поскольку, по словам БГ: «Любой музыкант в Ленинграде сочтет за честь играть с Капитаном, поэтому, когда появляется возможность сыграть, то все охотно принимают в этом участие. Их могло бы быть в десять раз больше, просто на сцене они не поместились бы даже стоя») и завороженных слушателей и кончая чиновниками всевозможных худсоветов и массмедиа. А однажды он бесподобно разыграл весь Советский Союз, всю обмякшую, еще не до конца освободившуюся от гипнотического сна и населяющих его призраков страну. Для тех, кто не помнит: в 1991 году по питерскому каналу, который в те времена был общефедеральным, Капитан в образе крупного ученого-миколога (тут ему умело подыграли Шолохов и Африка) с применением наглядных средств, демонстрирующих схожесть контуpa броневика с грибницей, поведал телезрителям о сенсационном открытии — Владимир Ильич Ленин, оказывается, был гриб. Именно так: пролетарской революцией и 1917-м руководил галлюциноген, относящийся, скорее всего, к разряду псилоцибиновых грибов, который вынудил галлюцинировать сначала верхушку партии большевиков, а затем и всех остальных. В столь непривычную (непозволительную) для советского эфира шутку на час (пока Курехин, не выдержав, предательски не прыснул) поверили миллионы наших соотечественников — от учеников спецшкол с разнообразными уклонами до набожных старушек, от партийных работников со стажем до Аллы Пугачевой (по личному ее признанию).Капитан в один миг стал общенациональным героем для всех, кто считал себя идеалом современника или стремился таковому идеалу соответствовать. Теперь, после выступления Курехина, попытки каких-нибудь архивных исследователей-лениноведов, безмерно расплодившихся в ту пору, огласить новые, доселе скрытые под разными запретными грифами, сведения об Ильиче казались просто смехотворными. Капитан закрыл тему.
Глядя на его уморительные проделки, складывалось странное впечатление: с одной стороны, Курехина обуревала невыносимая жажда деятельности, с другой — он каждый раз все обставлял так, чтобы никто не смог подумать, будто он что-то делает всерьез. Потому что когда дело делается не всерьез, человека не может постигнуть поражение — он ничего не теряет, поскольку ничего не ставит на кон. Вообще, это одна из типичных черт постмодернистского поведения — все время быть в маске, в разных масках, стремительно их меняя, чтобы, не дай бог, хоть на миг не обнажить истинное лицо. Потому что, когда ты что-то делаешь всерьез, ты открываешься и можешь стать уязвимым, а нам так не нравиться быть уязвимыми…
Не думаю, что Курехин страшился оказаться уязвимым. Он вел себя бесконечно отважно, но при этом никогда не выскальзывал за рамки некой веселой игры. Как героический колобок, он нарывался, но всякий раз уходил и от бабушки, и от дедушки — уходил ото всех. Тем более странно, на первый взгляд, выглядит его последний жест, благодаря которому он подставился столь откровенно, что невольно возникала мысль: а не снял ли он наконец маску? Впрочем, консервативная революция по своему интеллектуальному, духовному и эмоциональному содержанию столь парадоксальна, артистична, мистична, бескомпромиссна и сверхчеловечна, что тоже вполне могла быть включена Капитаном в проект его вселенской игры. Но об этом ниже.
Петербург — многослойный город как в смысле редко пересекающихся социокультурных пластов, так и и ином, сакральном отношении. Пространство реального города, пространство его образа и пространство, где происходят как самые важные, так и самые будничные события для каждого из нас, постоянно не сходятся. СПб можно уподобить ракушке. Кто-то привык любоваться ее закрученным, рогатым, лощеным панцирем, а между тем эта внешняя чудесная раковина — уже мертвая материя, ну а реально живое в ней — голый моллюск, малопривлекательный слизень, та субстанция, которая чувствует, переживает, заботится о здоровом пищеварении, пудрит носик и подхватывает простуду. Так же и с городом: архитектура — это красивая мертвая раковина, миф города — это чернильное облако (петербургский моллюск умеет пускать такие), фантомы Медных всадников, Акакиев Акакиевичей, Аблеуховых и Тептелкиных, а сам слизень — это живое общество города, которое как раз лощит и покрывает перламутром раковину, хотя само редко вылезает посмотреть на нее снаружи (зачем? оно привыкло, оно не представляет, что можно обитать в другой упаковке), оставляя это удовольствие для заезжего туриста, для гостей нашего города, и именно оно пускает все эти чернильные фантомы. Оно же задает и ту высокую планку эстетизма, тот бесконечный ряд красот и странностей, который позволяет СПб пребывать в том кристально-блистательном виде, в каком он неизменно предстает, в сколь отдаленной географически точке о нем бы ни говорили. Сам по себе слизень аморфен и многолик — это ювелир Ананов и художник Котельников, Гергиев и Гаркуша, Пиотровский и Хлобыстин, Мыльников и Шинкарев, это все мы, многогрешные, качающиеся в сетях волшебного сна наяву и одновременно ежесекундно воспроизводящие этот город-сон со всеми его постоянно действующими миражами.
Курехин был гениальным изготовителем чернильных бомб — в этом деле сравниться с ним некому, тут он был чемпион, тут он воистину несравненный (читая старые газеты, наткнулся на рекламу смирновской водки: «рябиновая несравненная»). Он прекрасно знал, что главное в жизни не состязание реальной силы, а состязание грез, война иллюзий и соблазнов — чья греза окажется обольстительнее, тот победит. Однако, помимо чудесной пурги, он мог похвастать еще очень многим, хотя хвастовство Капитану было совершенно не свойственно. В частности , благодаря своему невероятному обаянию, он владел потрясающим мастерством коммуникации. Вот уж у кого был воистину миллион друзей… (Курехин не зря слыл едва ли не самой известной в СПб личностью, и уж если он кого-то по недоразумению не знал, то его знали все. Я остро понял это, когда, встречаясь с ним по неизвестно уже какому делу в метро «Горьковская», увидел его одиноко стоящим у стены вестибюля и прячущим лицо за поднятым воротником плаща — нам льстит чужое внимание, но оно же лишает нас тихого счастья быть не узнанным в толпе.) В условиях петербургской многослойности, Курехин являлся чем-то вроде стержня в детской пирамидке (помните, такой штырь с насаженными на него, как чеки в булочной, разноцветными, возрастающими к низу по размеру блинами?) — он пронизывал все пласты здешней жизни и не то чтобы скреплял их, нет, но прокладывал между ними каналы общения и всевозможного взаимообмена — идеями, деньгами, деловыми предложениями, профессиональными навыками и т. д. Он с одинаковой непосредственностью общался с шеф-редактором телеканала, тяжело пьющим художником, бандитом, искушенным эзотериком, звездой советской эстрады, православным батюшкой и директором пивзавода. Он соединял разрозненные детали организма мегаполиса в единое целое. Он сразу понимал, кому и чего не хватает, сводил людей между собой, и у них закипала работа. Многие целенаправленно использовали его именно и таком качестве, видя в Курехине универсального связного — самый легкий способ выйти на нужного человека. После смерти Капитана в слоистом пироге Петербурга до сих пор зияет дыра, из которой сочится космический сироп отчуждения.
Помимо «Поп-механики», Курехин держал в голове десятки других проектов — он выпускал альбомы, открывал издательство, планировал телепередачи и театральные спектакли, обдумывал межпланетную акцию на тему магических арканов, выдувал сияющие мыльные пузыри всевозможных мистификаций, выступал с сольными фортепианными концертами, собирался ставить в СПб гигантский памятник воробью, писал музыку для кино и снимался в нем. Весной 1995-го мы вместе с Капитаном, Андреем Левкиным и Сашей Клоповым затеяли журнал под названием «Ё». Во втором номере наряду с прочими материалами должно было публиковаться курехинское либретто драматической оперы «Пять дней из жизни барона Врангеля», к которому художник Анатолий Ясинский сделал отличную графику, однако свет увидел только первый номер «Ё». Этот проект, равно как и памятник воробью или телевизионная программа «Немой свидетель», оказались из малого числа тех изящно-провокационных затей с участием Капитана, которые не нашли своего полного осуществления (первый, так и не пошедший в эфир, упоительный в своем веселом хулиганстве выпуск «Немого свидетеля» о новоорлеанском джазе как порождении вудуизма, я смотрел в записи с видеокассеты). Прочие, подчас гораздо более дерзкие и невероятные, идеи Курехина имели свойство воплощаться — бесспорно, он был человеком удачи, легким и изящным в действии. Моцартианский тип. Именно к таким спускаются с небес драконы и ангелы.
Не следует злоупотреблять цитатами, поскольку цитата — ум дурака, однако, чтобы объяснить кажущуюся всеядность Курехина, его желание и готовность участвовать буквально в любом деле, лучше дать слово ему самому. Вот фрагмент одного из немногих вдумчивых, с минимумом пурги интервью Капитана, данного им Виталию Князеву:
С. К: …мне очень важен индивидуальный опыт, он учит так, как не учит никакой другой. Учиться со стороны — абсурд. Не постигнув что-то, не испытав этого эмоционально, не пережив, ничего никогда не поймешь. А потом, в определенный момент, можно для себя сказать, что вся жизнь, которая была до этого, это лишь попытка жизни. Настанет момент, когда я сделаю что-то, что будет только моим, моим собственным… У меня пока в жизни не было ничего. «Поп-механика», она мне совсем не близка. Я ее делал, она доставляла мне какую-то радость в жизни, но… Мои фортепианные концерты — конечно, они эмоциональны, но они не выражают никакого отношения ко мне самому. А мое сокровенное, оно состоит из большого числа маленьких нюансов, я их коплю, и они составляют самую интимную, самую важную часть моей внутренней жизни. Когда «оно» сформируется… «Оно» уже сформировалось, «оно» уже существует практически, но «оно» еще не достигло такой степени, чтобы пожелало себя выразить. «Оно» уже может, но пока еще выжидает… Как говорил Цвейг, каждый человек точно знает свой звездный час. Одни ощущают, что он прошел, другие — что они в нем живут, а я ощущаю, что мой звездный час еще далек, может быть, после смерти…
B. К.: Дай Бог тебе его не торопить и отдалить максимально.
C. К.: Спасибо, конечно, но бывает, что человек готовится к этому всю жизнь да так и умирает, звездного часа не дождавшись. Поэтому я стараюсь все-таки оставлять какие-то знаки, как собака метит столб. Вдруг мне упадет кирпич на голову? Я хочу, чтобы оставались какие-то знаки, какие-то отрезочки, запахи, по которым, в случае кирпича, можно было бы восстановить какую-то картину… Поэтому мне сейчас очень важна интенсивная деятельность. Сейчас я уже иногда замечаю, что начинаю разрываться. Когда я это четко почувствую, тогда у меня и возникнет потребность в спокойствии и сосредоточении… И тогда я уже ничего не буду делать из того, что не состыковывается с моим состоянием, я перестану думать о других людях, меня это перестанет интересовать. Гуманитарный и социальный моменты исчезнут из моей жизни, как навоз из хлева. Для меня будет важно только то, что я делаю ВЕЩЬ, которая станет полностью выражением моего какого-то самого интимного…
B. К.: А ты не боишься, что тебя отвлекут? Те же проекты — доделанные и недоделанные?
C. К.: Нет, я все доделаю. Я очень четко рассчитываю свое жизненное время. Я очень хорошо научился себя внутренне контролировать…
Такое впечатление, что кирпич себе Курехин накликал. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах…
В ДК им. Ленсовета все начиналось, там же все и закончилось. Не то чтобы подобное обстоятельство выглядело символично, однако факт привязки к месту придает сюжету строгий вид. Осенью 1995-го, на этот раз в большом зале достославного дома культуры, состоялось последнее представление «Поп-механики». Зрелище было грандиозное и проходило под знаком «418». Билет национал-большевистской партии под таким номером незадолго перед тем был вручен Курехину отцами-основателями партии, тогда еще шагавшими в одном строю, Лимоновым и Дугиным. Кроме того, Алистер Кроули в своей «Книге законов» писал, что перейти в новый эон сквозь безжалостную бурю равноденствий сможет лишь тот, кто постиг смысл числа 418. Собственнo говоря, Дугин (в то время их с Капитаном мнения по многим вопросам были весьма схожи) и расценивал эту постановку как иллюстрацию финала зона Осириса.
Действо получилось величественное, надменное и страшное (финский продюсер, финансировавший последнюю «Поп-механику», после осуществления этого проекта бросил свое продюсерское дело, ушел из семьи и занялся разведением кактусов) — освещение в мрачно-багровых тонах, на сцене какие-то полуголые не то борцы, не то тяжелоатлеты в золоченых погребальных масках фараонов, тут же вальсируют центурионы, на огромных качелях над сценой летают старухи-ведьмы, а на крестах заживо горят грешники. Курехин вещал и зал о титанах, поднявшихся на борьбу с богами, чтобы сбросить их с Олимпа, центурионы щелкали кнутами…
Характерно, что никого из героев первой «Поп-механики» в тот день на сцене не было. Ротация состава здесь постоянно происходила и прежде, но всегда имелся костяк, определенная группа доверенных и как бы посвященных… Однако не на этот раз. Прежняя команда покинула Капитана… Или наконец свершилось — «оно» решило себя выразить, и Курехин перестал думать о других людях, он приступил к той самой стопроцентно своей ВЕЩИ, в процессе изготовления которой гуманитарный и социальный моменты исчезли из его жизни, как навоз из хлева? Сначала в концертах «Поп-механики» участвовали только его друзья, ближний круг, потом для потехи и измывательства появились Хили и Кола Бельды, потом основное ядро уменьшилось до трех человек — Ляпин, Костюшкин, Гаккель (остальные участники были как бы случайными, нанятыми за деньги), — потом — никого. Капитан остался один. Если не считать жены Насти, Дебижева, Африки, Новикова и Дугина. Ну, и еще нескольких людей, не привыкших мыслить заданными штампами.
Именно после этой, последней «Поп-механики» начался обвал либеральной брани. Как можно — обаятельный мистификатор, герой контркультуры, столп постмодернизма, вдохновитель самых интересных и блистательных проектов питерского нонконформизма вдруг продался фашистам, разбрасывает национал-большевистские листовки на заводских митингах и в предвыборных роликах агитирует за Дугина?! Это не укладывалось в либеральных головах: кумир зарвался. Капитана тут же обвинили в черной магии, порнографии и шизофрении.
Теперь принято считать, что традиционалистской и патриотической риторикой Курехин воспользовался в качестве инструмента, дабы с их помощью выйти на следующий уровень дурачества и эпатажа почтенной публики. Такой взгляд примиряет демократическую и космополитическую диссидентуру с опасной и здорово оскорбившей их фигурой Капитана. А между тем к консервативной революции Курехин пришел вполне естественным путем. Он всегда интересовался христианской мистикой и различными эзотерическими учениями, еще в семидесятые выискивая по питерским «букинистам» Сведенборга, Св. Фому Аквинского, теософов и Василия Валентина Он интересовался историей религии и философией, не ограничиваясь Флоренским, Бердяевым и Булгаковым, но посягая и на дебри постструктурализма (организованное при его участии издательство «Медуза» задумывалось, в частности, как трибуна для современной французской философии). Он был интеллектуалом в прямом смысле этого слова (речь не о носителе академических знаний, а о человеке, впитавшем широкий спектр идей и на этом основании способном к производству новых, без отвлечений на велосипеды). С традиционалистом Александром Дугиным Курехина связывала не просто тяга к освоению нового и интересного ему материала, а определенная идейная и духовная общность. Его последние политические пристрастия, как говорил сам Капитан, это результат поисков собственной миссии, шаг и сторону ее выявления. Он ведь действительно считал, что в политику должны идти авангардисты от искусства, способные едва ли не магическим (творчество и магия — один проблемный ряд) образом трансформировать реальность, о чем и было заявлено в манифесте «Новых магов». Кроме того, идеи и арсенал консервативной революции с ее сплавом несплавляемого и сочетанием несочетаемого практически идеально совпадали с принципами синтетизма в его собственном творчестве, где нос к носу сводились опера и токарный станок, писк эстрадной звезды и скачущие по сцене кролики, где вязались в единое целое узами его воли глубокое и плоское, высокое и низкое, аристократически-утонченное и нарочито дебильное. , но была все та же «Поп-механика», но на новом, политическом поле.
Вообще, явление Курехина публике в роли весьма своеобразного политика логично или, по крайней мере, не случайно. Еще в начале девяностых он не раз высказывал суждения относительно собственного видения идеального государственного устройства. Это был, безусловно, романтический образ. Он находил смысл государства в том, чтобы людям, гражданам государства, жилось хорошо, а для этого государство должно быть во всех отношениях сильным — вместе с силой приходит спокойствие. Кроме того, ему нравилось сильное государство, потому что сильное государство — красивое государство. Он считал бессмысленными все тогдашние разговоры о демократии и тоталитаризме, потому что нельзя с точки зрения сегодняшнего дня порицать другое время. Нельзя порицать демократию с точки зрения тоталитаризма, потому что на тот момент демократия была отдушиной, впустившей свежий воздух. Но Капитан говорил, что точно также и тоталитаризм может стать живительной отдушиной при засилии демократов. Государство, считал он, это своеобразный космос, способ существования материи, объективная реальность. И все же при этом он хотел преображения, хотел участвовать в создании государства нового типа, небывалого государства, главные люди в котором были бы не тупыми идиотами, а легкими, умными, тонкими, играющими политиками. Политика должна стать красивой игрой. Красота вообще должна стоять во главе угла всего, в том числе и политики. Политика — это умение красиво обыгрывать. Он говорил, что неумно и даже попросту тупо было посылать в Чечню войска и давить сепаратистов танками — чеченцев нужно было просто красиво обхитрить. Просто обвести вокруг пальца. В конце концов, для подобных вещей человеку и дан ум. Так говорил Курехин.
Впрочем, он много чего говорил и помимо этого. И совсем на другие темы. На какие угодно. Победив всех соперников, он словно сам с собой состязался в грезах.
Ловко и изобретательно. Играя. Он говорил так, что приучил себе не верить. Все слушали его с жадным вниманием, как сладкоголосого алконоста, способного снесенным яйцом на шесть дней успокоить море, как обольстительного райского сирина, заставляющего забыть скорби земной юдоли, слушали — и не верили ни единому слову.
Трудно сказать, что Капитан предпринял бы в дальнейшем. Вероятно, побузив на подступах к думской трибуне, одурачив и выставив голыми королями до зевоты пошлую политическую элиту и прочих подвернувшихся на пути мордатых государственных мужей, он отправился бы выявлять собственную миссию в иные дали (будучи введенным в состав коллегии по культуре при мэрии СПб, он выдержал лишь два заседания и дал оттуда деру). А может, вернулся бы на художественное поле с волшебным ящиком (Пандоры) новых ошеломляющих проектов и артистических чудачеств. Благо он и в самом деле был полон сил и внешне выглядел едва ли не юношей. Однако кирпич настиг Капитана именно на этом витке его судьбы.
В конце 1995-го Курехин почувствовал первое недомогание, но все равно уехал с фортепианными концертами в США (Майами и Нью-Йорк). После возвращения ему стало хуже, однако он снова отправился в поездку — на этот раз в Москву, обсуждать очередной проект с режиссером Андреем И. В итоге в больницу с диагнозом саркома сердца (редчайшая болезнь, принесшая людских смертей едва ли больше, чем принес их птичий грипп) он лег только 7 мая 1996-го.
На больничной койке Капитану пришла в голову блестящая мысль, что впредь, после выздоровления, они с Настей будут носить одежду исключительно от Армани. Попутно он обдумывал какой-то новый японский проект — Курехин не верил, не хотел верить в собственную смерть, как колобок, он должен был уйти и от нее… В больнице чаще других его навещали Дугин, Волков, Дебижев, Потемкин, Таня Брагинская, Ринат Ахметчин. Несколько раз к Капитану в его последние дни приходил отец Константин. Настя дневала и ночевала в его палате, и однажды ей приснилось, что Сергей выздоровел…
Он умер 9 июля 1996 года, ему было сорок два. Отпевали Капитана в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, где служил отец Константин и где когда-то отпевали Пушкина. Места в храме всем пришедшим не хватило — люди толпой стояли на тротуаре перед церковью и на площади Тогдашние петербургские власти не разрешили хоронить Курехина на Литераторских мостках (как можно, он же фашист), и его похоронили на тихом загородном кладбище в Комарове.
В тот день мы не поехали в Комарове — не хотели видеть, как Сергея закапывают в землю, — с Рыбой, Трофименковым и еще пятью-шестью пришибленными этой трагической потерей сиротами (товарищами/подругами) мы остались пить теплую поминальную водку в Михайловском саду Мы много выпили, преступно соскальзывая на понижение от водки к вину и, одумавшись, возносясь обратно, мы хотели, чтобы спасительный хмель заполнил внезапно открывшуюся пустоту, примирил нас с утратой и снова сделал веселыми и злыми, но ничего не вышло. Пустота на том месте, где был Курехин, не исчезает и поныне, порой кажется — она только растет.
Р S. Если начать фильм о Капитане действительно уместно с грезы о грядущем, то завершить его следует приветом из прошлого, улыбкой с той стороны Неподражаемой улыбкой человека, не знающего, что такое поражение, потому что поражению в пространстве его жизни не за что было зацепиться.
Рассказывали, что какое-то время после смерти Капитана Настин автоответчик говорил его голосом. От неожиданности звонивший вздрагивал.
АНДРЕЙ ХЛОБЫСТИН
Тимур Новиков Сарпакша — Змеиный Глаз, или Слепой художник
Сейчас не лучшее время писать о Тимуре Новикове, шумихи и так хватает. Но, перефразируя Георгия Гурьянова, думаю, что «уж лучше я, чем какой-нибудь урод» напишет для издания, которое я для себя называю «пинок мертвым». До сих пор Тимур, уже уйдя от нас «на повышение», громыхает где-то поблизости, как лягушонка в коробчонке. Весть о нем всегда бежала впереди него. Только потянувшись в богемную молодежную среду и услышав что-то о компании Новикова, я сразу же был заинтригован, подпал под очарование этих слухов. Это была самая веселая, отвязанная и модная компания добрых панков. Тем не менее в сонном ханжеском обществе, где место современных бандитов занимали гопники, эти милые хулиганы производили устрашающее впечатление. Новикова я узнал сразу, ни разу не видев его прежде. Они стояли на балконе кинотеатра «Спартак» с Юфой и, глядя в зал, зверски ухмылялись, как две нотрдамские химеры петербургского извода. Казалось, сейчас они начнут плеваться в зал.
Меня, молодого господина из академической среды, привлекало в них именно это свободное и импровизационное хулиганское начало. Сами же «дети проходных дворов» и Купчино тяготели к публичности и признанию. Любая форма официальной подачи их деятельности казалась им до колик смешной фантастикой. Тем не менее через три года именно их произведения первыми из всего андеграунда попадут в Русский музей, музыка покорит всю страну, а сами они будут именоваться профессорами, академиками или «последними героями». Тимур как раз был тем человеком, который умел делать все эти невероятные волшебства. В то время, когда бородатые диссиденты гневно потрясали цепями, принимая позы жертв и пророков, модно одетая молодежь просто плевала на власть, которая для них имела ту же тупую репрессивную природу, что и бородачи, не пускавшие их на свои выставки, как «антиискусство». Молодежь уже давно почувствовала, что новая, настоящая власть не подавляет, а соблазняет.
Сарпакша (змеиный глаз, санскр.), Курносый Блондин, Ноль, Тимурище (гаврилыч.), Тимофей Петрович и т. д. — самая заметная личность на художественном небосклоне Петербурга 1980-1990-х. Если идти путем бюрократического перечисления, то к его главным достижениям можно отнести следующие мощные свершения: он вывел на художественную сцену молодежную культуру, сделал ей прививку от СМИ и заставил всех опять считаться с нашим искусством. Помимо этого, он организовал «Ноль-движение», «Новых художников», «Клуб друзей Маяковского», «Новых композиторов», «Новую Академию», первые сквоты, первые перформансы и хепенинги, стал «дедушкой русского рейва» и т. д. и т. п. Художников, групп и институций Новиков налепил столько, что искусствоведам и функционерам хватит материала для исследования и паразитизма еще на многие годы. В восьмидесятые он стал одним из первых художников-авангардистов, чью деятельность трудно свести к чему-либо конкретно и лучше всего характеризует определение «деятель культуры»: его произведением были не картины, герои или события, а художественная ситуация в целом. Новиков без стеснения каламбурил со своей фамилией, давая названия всем своим проектам со словом «Новый», но это не вызывало протеста. Он действительно был новатором и небывало расширил сферу местного искусства, дал ему разнообразные версии и обеспечил его жизнеспособность в будущем. Новиков стал крупнейшим отечественным художественным стратегом-патриотом 1980-1990-х годов, по кпд явно превосходившим министерство культуры. Он был одним из немногих в России людей, кто обладал настоящей прозорливостью и глобальным взглядом на ситуацию в культуре. (Как анекдот можно рассказать, что еще в девяносто четвертом Тимур предлагал подать на Биеннале проект от имени российских художниц-мусульманок, владеющих новейшими технологиями и носящих паранджу. Тогда это казалось абсурдной шуткой, но через несколько лет мусульманские художницы заполонили всемирные выставки.) Новиков владел уникальной способностью «по живому» создавать историю искусства, загодя отводя там место себе и своим друзьям. Как факир, он заклинал вещи и события (поразительны были похороны Новикова, когда его друзья в черных сюртуках шли за гробом через карнавальные толпы: в присутствии Путина и Буша проходил праздник города), из воздуха лепил художников, действительно скоро попадавших в музеи и журналы, а из цилиндра доставал новые художественные движения, в том числе и не совпадавшие по идеологии с его собственной политикой. Тимур делал это осознано эгоистично: без авантюр, интересной среды и бурлящей вокруг «борьбы течений» ему было скучно. Энергия распирала его так, что, разговаривая с вами, он подпрыгивал на месте, будто хотел писать, а затем садился на велосипед и мчался эдаким чертом по городу. Однажды в Нью-Йорке Тимур рассказал мне, как потерял девственность в двадцать восемь лет (фрейдисты-сублиматоры, шаг вперед!) и познакомил меня с девушкой, помогшей ему в этом трудном деле. После этого я навещал ее на работе, с интересом наблюдая страсти закулисной жизни небольшого стриптиз-клуба. Будучи человеком-фейерверком, он постоянно всех тормошил и провоцировал. Казалось, ничего нового не происходило без его участия. Можно спорить о методах Новикова, но нельзя не признать, что благодаря именно ему петербургская школа ощутила самодостаточность и вновь «зазвучала» после многих лет ее замалчивания, а отечественное искусство нашло признание и даже последователей на международной сцене.
А по-человечески он был магом и чародеем, видящим человеком, который поэтому может помогать другим (что-то вроде бодхисатвы). Тимур обладал настоящим даром видеть красоту, что ведет по пути к победе над эгоизмом. И этот видящий последние пять лет своей жизни был слеп.
История жизненного пути Тимура Новикова — весьма драматичный и трагический поиск волшебной правды искусства. Люди веселого поколения («Кто не жил до 89-го года, тот не знает, что такое радость жизни» — Талейран) мерли «от смеха», как мухи. Но, что поделаешь, как говорили махновцы, «нам хоть водка, хоть пулемет, лишь бы с ног валило».
На разных этапах жизни Новиковым владели страсти, амбиции, страх бесследного исчезновения (а он знал многих канувших в бездну). Всю жизнь он был внимателен и осторожен в быту, боялся сумасшедших, умел «обрубать хвосты» и конспирироваться, был выверен и движеньях и в пище (вегетарианец). В быту Тимур, проживший большую часть жизни в коммуналке, был неприхотлив. Он постоянно ощущал черту потусторонности и, стремясь заглянуть за нее, все время завышал планку, тщательно выстраивал документально подтвержденного Т. П. Новикова — великого художника, окруженного выдающимися друзьями. В итоге главным мнилось то, что многие люди благодаря Новикову увидели в жизни возвышенное и прекрасное. А он, как и мечтал, стал самым признанным художником Петербурга рубежа тысячелетий.
Красота «ослепила» Тимура в детстве в своих крайне выразительных ипостасях. Таковыми можно считать культурную среду — петербургскую ведуту + ГРМ (Государственный Русский музей), где работала машинисткой его мама; природные ландшафты — новоземельную тундру, куда его забросило в детстве; магию — волшебные сказки народов мира, большую коллекцию которых он собрал (в молодости его любимой книгой стала «Морфология сказки» В. Я. Проппа). Эта потребность обращать жизнь сказочным приключением владела им всю жизнь.
Тимур начал карьеру бородатым и волосатым хиппи (в образе волосатика Новиков представлен в массовке фильма «11 надежд» — тогда были собраны местные хиппи, чтобы изобразить тифози на западном стадионе) в кругу группы «Летопись» Боба Кошелохова. Молодой художник-экспрессионист быстро проявил помимо выдающегося художественного дарования еще и организаторский талант. Он создает первый художественный сквот, расположившийся в церкви. Подпольный художественный центр «Кирилл и Мефодий», где проходили выставки и вечеринки, быстро был вычислен и разгромлен властями. Но уже тогда молодежь проявила пред лицом власти еще не виданную пластичность. «Не трогайте картины!» — призывали они дружинников/дворников, выбрасывавших картины на улицу. «А ведь это и вправду говно!» — в изумлении завопил один из погромщиков, схватившийся за холст Саши Горошко. Вандализм захлебнулся, а бодрая богема продолжила делать свои выставки на городских панелях, в лесу и на пляжах курортной зоны.Ощутив рамки нонконформистской организации слишком узкими для себя, Новиков провоцирует абсурдный скандал с «Ноль-объектом» — дырявым стендом, объявленным им и Иваном Сотниковым произведением искусства. Скандал вылился в длинную, уморительную бюрократическую переписку с администраторами Товарищества экспериментального изобразительного искусства. Вскоре, окончательно разругавшись с альтернативным союзом художников ТЭИИ по абсурдному поводу «Ноль-объекта», Тимур создает собственную группу «Новые художники». Постепенно группа перерастает в движение, охватившее весь молодежный авангард. На протяжении 1980-х в эту культуру втягивались заумники-нулевики, еще в конце 1970-х нашедшие в Москве выход на чистый «сандоз», новые романтики всех мастей во главе с группой «Кино», панки, некрореалисты, твистуны «тедди», «новые дикие» из сквота «НЧ/ВЧ», первые электронные композиторы, левые интеллектуалы, образовавшие «новую критику» и т. д. и т. п. В стилистическом смысле это было первое в советской России движение, стихийно совпавшее с подобными явлениями на Западе — «ист-вилледжем» в Нью-Йорке, «фигурасьон либре» во Франции и немецкими «ное вильден». Каким образом граффитизм и «новая городская дикость» преодолевали политические и национальные границы, возникая синхронно в схожих формах в мегаполисах обоих полушарий, остается выпытывать у Мальчиша-Кибальчиша. Но если западные сверстники «новых» так и остались в восьмидесятых, повиснув многомиллионными экспонатами в музеях современного искусства, как, например, покойные Баскса и Херинг, их русские ровесники сделали очередной ход. Съездив заграницу и понежившись в ласке модернистской элиты в лице Кейджа, Уорхола, Нам Джун Пайка, Раушенберга, цвета французкой философии и звезд Голливуда, бывшие авангардисты вернулись домой законченными патриотами и консерваторами. На этой основе возник неоакадемизм.
Неоакадемизм был столь же агрессивным, стремившимся к всеохвату явлением, как и «новые». Этот главный тимуровский проект 1990-х также перерос в целую культуру. Поскольку в его костяке находились все те же бывшие панки и рейверы, то я полагаю, что неоакадемизм можно считать родом постпанка.
Стратегии Новикова, помимо почерпнутых из занятий историей искусства (по воспоминаниям Котельникова, искусствоведческие кружки при ГРМ и Эрмитаже, в которых Тимур занимался с восьмого класса, были сферой, отделявшей Новикова от его дружеской компании; современное искусство он знал и понимал практически лучше всех отечественных искусствоведов) и изучения книг, клеймящих модернизм, проистекали из непосредственного «уличного» опыта ленинградских (а затем новороссийских и пр.) молодежных группировок, в семидесятые представленных хиппи, а затем, в начале восьмидесятых, панками (наиболее выразительно их позиция проявлена в лозунге «Бодрость, тупость и наглость!» некрореалистов, входивших в движение «Новых художников»). Отсюда происходили шокировавшие нонконформистов хулиганские прихваты, манера запугивания, забалтывания, бахвальства, стремление доминировать любой ценой, превращение искусства в игру, свойственные «Новым художникам», а затем в той или иной мере другим созданным им группам. Вспомним акцию «Сожжение сует к 500-летию казни Дж. Савонаролы», когда «академики» на кронштадтском форту жгли свои старые произведения. Такие манеры, направленные на взлом костной ситуации, в художественных кругах со времен футуристов (хулиганские черты были присущи в 1940-1960-е кругу арефьевцев — самой выдающейся в то время художественной группе, представлявшей на нашей почве поколение, параллельное битникам и экзистенциалистам, — но это был замкнутый на себя круг, непосредственного влияния на «Новых» они не оказали, хотя знатоки и находили сходства в живописной пластике работ арефьевцев и О. Котельиикова) успели позабыть. Футуристы были еще одним источником стратегических идей Новикова, ценившего знакомство с носительницами духа 1910-1920-х Марией Спендиаровой, Алисой Порет, Марией Синяковой-Уречиной (последняя, например, известна тем, что во время похорон провезла по городу умершую мать, раскрашенную в супрематической манере). В 1986 году Новиков знакомится с замечательным трудом Андрея Крусанова «Русский авангард» (работа печаталась в самиздатовском журнале «Промокашка» и имела хождение и форме рукописи) — уникальным источником информации о прикладной тактике футуристов, которую он тут же начинает примерять к современной практике. Кроме того, богатый стратегический опыт борьбы за выживание давало художественное подполье, ко «второй волне» которого Новиков примкнул еще девятнадцатилетним юношей. Не чурался Тимур и эзотерических кругов.
В конце восьмидесятых искусство пережило крайнее унижение, когда художники перестали верить в саму его возможность. Искусством стали называться раз-личные формы манипуляции и имитаторства, понимаемые как ирония или ускользание. (В то время это смешило как издевательство над тупостью рыночной машины, но как прием оказалось одноразового использования. Тимур любил упоминать об известном «произведении» Дж. Кунса — баскетбольном мяче, плавающем в аквариуме, — виденном им в одном нью-йоркском доме. Мяч сдулся и притонул, и коллекционеры, прежде купившие его за бешеные деньги, не знали, что с этим делать.) Это была окончательная победа масс-медиа, окончательный переход от эстетики Власти репрессивной к Власти как соблазнению, которую теперь осуществляла поп/массовая культура через СМИ. Симуляционизм конца 80-х — начала 90-х был пиком линии, идущей от Ларионова и Маяковского, первых, кто начал скрещивать авангард с массовым языком, к Уорхолу. Прежде всего, этих художников Новиков выделял в 80-е. Русских и итальянских футуристов, осуществлявших себя через скандал, можно назвать первыми модернистскими поп-звездами и модниками.
Новиков, в отличии от нонконформистов и соцартистов/концептуалов, продолжавших внешне по-разному бороться с репрессивной властью, ощутил ее уход и стал первым отечественным медиа-художником, работающим с новыми властными энергиями. Прививка медиа-культуры была (и до сих пор остается) необходимостью, позволившей петербургскому искусству снимать проблему «власти», не влипая в нее. Еще находясь в рядах организованного движения художников-нонконформистов, Тимур охотно брался за бюрократическую борьбу «на измор» с чиновниками от культуры. Будучи «ходоком» в Управление культуры, ведя бесконечные переговоры, занимаясь самиздатом и рекламой, посылая петиции и прошения, выступая на дискуссиях, Новиков проявил талант в том, что раньше называлось «связями с общественностью», а ныне именуется «пиаром». С тех пор Новиков всегда питал слабость к различного рода официальным бумагам, удостоверениям, сложно иерархизированным организациям, торжественным заседаниям, грамотам, печатям и т. п., из чего создал особый «джокерский» (Джокер=0) жанр, могущий стать предметом специального исследования.
У истоков ситуации в начале 80-х находились очень талантливые художники, такие корифеи, как Борис Кошелохов, Олег Котельников, Иван Сотников, Соломон Росин, Вадим Овчинников, но их было слишком мало для воплощения новиковских замыслов. Целью Новикова было создание крупномасштабного движения, доминирование в художественной среде, взрыв застойной ситуации и культурный переворот, с последующим выходом на простор мировой арены. На этом пути главным был поиск потенциальных художников и образа искусства будущего, еще неясного самому ищущему. Искали неизвестно кого, повсюду, в самых неожиданных местах, даже в прошлом. В первую очередь в художников обращались друзья и знакомые. «Группа» формировалась как дружеско-семейный круг, из чего следовали «принцип петуха и кукушки» и «самохвальство». Главной находкой были люди, уже потерявшие ограничения, в «приключении» которых можно было принять участие. Этим определялось крайне широкое понимание искусства и отсутствие специализации (называемые мною «петербургским титанизмом»: ты художник, кинематографист, музыкант, поэт, модник и т. д. одновременно, не потому, что производишь некую продукцию, а потому, что держишь баланс высокого творческого состояния). Большую ценность представляли и просто энергичные, ищущие люди, нуждающиеся в том, чтобы им указали на их высокое предназначение, прочистили желание, дали возвышенную версию жизни. Инициация могла проходить и через открывающую сознание культурно-шоковую терапию. Некоторые из посвященных при этом мутировали в настоящие боевые машины, «срывались с тормозов» и по закону жанра крушили не только застойную среду, но атаковали и своего создателя. («Я подумал: а что, если запустить в самое логово арт-рынка настоящего энского хулигана? — говорил Новиков. — И представь себе, как работает!») Кого-то Новиков много лет назад назвал художником, чел поверил и мучается до сих пор.
Этот бесконечный процесс поиска и сопереживания и стал основным занятием Новикова на протяжении всей его жизни. Здесь не было цинизма и дистанцирования, так как смысл заключался в нахождении нового чувства жизни, принятии риска. Тимур никогда не отступал, принимая ответственность как за победу, так и за поражение. Во всех дальнейших движениях, созданных Тимуром, сохранялся принцип «игры на опережение» и создание моды (побеждает создатель завтрашней моды) и использование всего необычайного и новейшего.
Подобный поиск шел и в направлении новых культурных явлений. Это был период повального увлечения независимой рок-музыкой, столицей которой стал Ленинград. Тимур становится художником самой популярной и модной группы «Кино». Одновременно он сам проектирует авангардные инструменты «утюгон» и «длинные струны», играя на них на первом концерте будущей «Поп-механики» в музее Достоевского, и поддерживает зарождавшуюся маргинальную техно-музыку («Новые композиторы»), которой предстояло стать мэйн-стримом спустя десятилетие. Важным моментом, повлиявшим на его понимание работы с глобальными социокультурными энергиями, стало участие «Новых художников» в первом «Празднике города». По его идее в России возникает первый жанр новых медиа: видеоарт — «Пиратское телевидение». В дальнейшем в умелом использовании СМИ, кинематографа, рекламы и антирекламы, выпуске собственных манифестов, журналов, газет, теле— и радиопрограмм, листовок, сайтов и т. д. с Тимуром никто не мог сравниться.
Торжество комбинаторики во всех сферах культуры Новиков принимал как данность всеобщей иллюзии. Но помимо симуляционизма, важнейшим явлением 80-хбыл «новый романтизм», приверженцем которого и был Тимур. Он оставался крупнейшим русским медиа-художником, так как не опускал жизнь до медиального цинизма, а напротив, использовал его энергии и пластичность, пытаясь указать на высокие сферы, поднимающиеся над этой суетой.
Однажды Тимур заявил, что «достаточно все делать на четыре процента: сделаешь больше — перенапряжешься, меньше — ничего вообще не произойдет». Эта шутка вполне соответствует физическому облику новиковского произведения: значок/герой сжимается до тех самых минимальных процентов относительно общей площади «полотна», «став крестиком на ткани и меткой на белье» (подмечено М. Стариковым). Так боец у-шу бьет в конкретную точку или сложная машина приводится в движение нажатием маленькой кнопки. Небольшое, но точное, сконцентрированное усилие приводит в динамику грандиозные массы. Новиков развивал и форсировал традиционный петербургский минимализм, истоки которого можно возводить к богдановскому энергетизму эпохи футуристов, Даниилу Хармсу, кругу арефьевцев, Олегу Григорьеву и Валерию Черкасову. (Григорьева к Новикову привел в 1980 году художник Гоосс.) Эта традиция понималась как делание максимально эффективных и красивых жестов с минимальной затратой энергии. То есть эти поступки должны быть не подражательны, а уникальны в своей точной выверенности, что, собственно, и следует называть творчеством. Понимание в местной традиции искусства как традиции чести, вне отрыва от повседневного проживания, переносило принцип минимализма в самые разнообразные сферы жизни художника. Все совершенное и «правильное» создается практически из ничего и само собой; материал и техника изобретаются на ходу; художник действует «вслепую». «Из ничего» делались произведения и события. Использование того, что есть мод рукой, внешне было продиктовано суровой убогостью быта. Тем не менее это не были картонные баррикады. Фокус не может быть чудом: чудо — это мир в самой своей обыденности, это то, что явлено (банальное противопоставление: смотрение и видение).
Всепобеждающая простота, воплотившаяся в Т-34, "Калашникове», ракетоносителях, которые китайцы предпочитают «шатлам» за надежность и т. д., всегда имела и эстетические эквиваленты. Минималистическая эстетика восьмидесятых воплощалась в мантре «Не умничай!», что интерпретировалось как «будь проще», «умерь важность», «не суетись, держись достойно», а в основе восходила к невысказываемости и сокровенности религиозного переживания. Это, конечно, резко противоречило концептуализму или соц-артистскому стебу. Если западная молодежь избрала своим лозунгом «опен йор майнд!», русские сверстники, справедливо опасавшиеся, что того только от них и ждут, были осторожнее, используя блатное «фильтруй базар, секи поляну» (думай, что говоришь, будь внимателен) или цоевское «будь осторожен, следи за собой». Это соответствовало и представлению о внимании как основе искусства и магии, и конспиративным целям эзотерических и психоделических сообществ: негласное принятие в художники происходило через признание человека вполне «оторвавшимся» от действительности (прямо-таки по «лествице» Иоанна Дамаскина!). В восьмидесятые и девяностые некоторые богемные сообщества искренне верили в возможность изменения человечества в лучшую сторону с помощью органических и неорганических протезов, которые помогали находить неординарные решения художественных проблем. Магические совпадения мы с Тимуром называли «Ноосферату». Он (Ноосферату) помогал в самых разных сферах: найти на дороге крапаль или организовать акцию. Например, выходим мы с Литейного, 60 (из дома Тимура). Я иду в пальто с каракулевым воротником, пирожке, «прощай молодость» и галошах плюс накладной бороде. «А ты, — говорит Тимур, — работаешь в образе городского сумасшедшего, который ходит так по СПб круглый год. Только я встречаю его очень редко — раз в два года, беспокоюсь: не умер ли». В этот же момент старик выворачивает на нас с Невского.
На практике минимализм проявлялся как в традиционных жанрах и техниках, так, например, и в использовании «низкой» техники ризографии для вполне коммерческого произведения, а репродукций (копии) классического произведения как материала для успешной выставки. Одними из первых выставок организованных Тимуром в «Новой Академии Изящных Искусств» на Пушкинской, 10, стали персональные выставки Рафаэля и А. Иванова, на которых публика подолгу разгуливала с задумчивым видом.
Андрей Медведев полагает главным качеством Тимура Новикова исключительное чувство меры, сбалансированность, проявлявшиеся, в частности, в выверенности композиции. Так, рассказывает он, слепец, придя на развеску выставки, руками и шагами измерял пространство и произведения, после чего сам участвовал в развеске, добиваясь идеальных соотношений.
Минималистические решения Новиков принимал и в своей глобальной политике: он никогда не толкался у кормушки и не шел на штурм. Он смело занимал пустое место, например, никому не нужную помойку, которой для рынка и политкорректного искусства конца восьмидесятых была неоклассика. «Все лучшие места на сцене мирового искусства давно заняты, — говорил он, — и мы захватили то, что было свободно — презираемые задворки, неоклассицизм, бывший на самом деле сокровищницей». Минимализм Новикова проявлялся и в смиренном принятии ситуации «как есть» — в условиях наступления новой торгашеской идеологии (деньги, как и бытовой комфорт, мало интересовали Новикова — практически все оказывающиеся в его руках средства он тратил на пропаганду собственных идей, поддержку интересных проектов и помощь бедным художникам) Тимур сетовал: «Раньше казалось, что вот-вот придет совершенно новое поколение блестящих молодых людей и все это сметет. Но нет, никто не появляется и, что поделаешь, приходится уживаться и работать со все теми же К и Б».
В многочисленных текстах, ругающих или хвалящих Новикова, никто не говорит, что художник-то слеп! (Фактически единственная статья, упоминающая о слепоте Новикова, в «Художественном журнале» предполагает, что по логике новиковского мифа должно произойти чудо: Тимур прозреет, будет принят президентом России, Патриархом, а затем Папой Римским, что приведет к воссоединению христианских церквей.) Кроме Новикова, история искусства не знает по-настоящему незрячих художников. Это либо легендарные ослепленные архитекторы, типа строителей Василия Блаженного — Бармы и Постника, либо почти ослепшие в конце жизни Гойя, Тернер и Моне, что очевидно сказывается на их манере письма.
Слепой художник, глухой музыкант, сумасшедший философ и т. п. — признак особой судьбы, отмеченности свыше. В традиции это значит абсолютный, великий художник, композитор, пророк. Рисование не только извлекает образ из пустоты, выявляя невидимое прежде, но и само по себе является процессом ослепления. Художник — человек с необычайно развитым внутренним видением, прозревая для духовного зрения, слепнет для этого мира, что особенно понятно в русско-византийской традиции. В этом художник подобен верующему («слепая вера»). И впрямь, Новиков, ослепнув, искренне уверовал.
Физическое зрение всегда направлено вовне, и глаз не видит себя. Религия и философия в разных формах ставили вопрос как о необходимости соединения сознания и тела, состоящего из не могущих осознавать себя органов (например, Гуссерль), так и снимали эту проблему, если видели (простите) несубстанциональность тела и человека как такового. Нейрофизиология Бехтерева, творящая о видении мозгом, сходится с буддизмом и антропологией Леви-Строса, утверждающей, что мы видим только то, что научены видеть.
Одновременно творец, лишенный своего профессионального органа, может пониматься как «сапожник безсапог» или как «бодливая коза, которой Господь рогов не дал», как говорил про себя Новиков, — то есть как жертва наказания, испытания или ревности богов. Тимур был слеп последние пять лет своей жизни, и как раз в эти годы его сознание приобрело особую интенсивность, а сам он говорил о новой, более интересной и глубокой жизни.
Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые всерьез спрашивали, а не розыгрыш ли эта слепота? Действительно, когда на вернисажах величественный бородатый старик с тростью, в сюртуке и цилиндре (живой классик!), открыв лорнет, вплотную разглядывал картины или собеседника — «что-то я вас не разгляжу» — (пристальное разглядывание всего окружающего через различного рода оптические приборы было стилем «les incroyables» («невероятных») — эпатажно одевавшихся молодых аристократов времен Великой Французской Революции, своего рода стиляг той эпохи) и метко комментировал происходящее, это вводило в смущение, особенно давних знакомых, привыкших к его непредсказуемости. «Старику» было сорок лет, а его молодость пришлась на время торжества стиля «панк». Жесткая, парадоксальная, хулиганская фактура веселья, свойственная панкам, сохраняется в поведенческой пластике и стратегиях восмидесятников и в 1990-е годы, возродившие термин «денди». Когда в 1997 году Тимур лежал в Боткинской больнице и светские люди распространяли слухи о его скорой смерти, он назначал встречи и интервью на ближайшем кладбище, в Некрополе корифеев русской культуры, среди могил Чайковского, Достоевского и Мусоргского. Я рассказываю эти анекдоты, как примеры: «человек становится достойным то-то, что с ним происходит», достойным своих несчастии. Говорящий об этом Жиль Делез называет этот эффект Событием, то есть не тем, что происходит (происшествием), а тем, что должно быть понято возвышенно. По-русски французско-атеистическое идеальное «Событие» может звучать как «Чудо», а от Новикова привыкли ждать необычного и невероятного. Достоинство, проявленное ослепшим Тимуром — свидетельство того, что в событиях жизни он видел знаменья сверхъестественности, неслучайности и значительности всего происходящего. Новиков верил в высокую тайну жизни и в тайну незримой жизнеутверждающей традиции, которая говорит об одном и том же во все времена, в любом обличий. В зависимости от ситуации он с легкостью создавал новый стиль, который считал необходимым в данных обстоятельствах. В чередовании этих стилей у него можно найти некий ритм почвенных, какашечных, «теплых» периодов, перемежающихся с прохладной аккуратностью. При этом непреклонная веселость оставалась главной чертой, которая всегда привлекала в Новикове. Сдав на отлично модернизм и преуспев в главном рейтинге — новизне и первенстве, Новиков осознает его исчерпанность и далее в модернистском контексте видит только одну возможную позицию — гомерический хохот Панурга. Можно сказать, что радость жизни, которой Новиков был наделен от природы, и была сутью его энергии, в молодости заставлявшей его, разговаривая с нами, подпрыгивать на месте, будто он хочет писать. Затем он вскакивал на велосипед и мчался по городу, успевая все узнать, всех навестить и при желании переболтать. Унывающих он убеждал, что мы живем в редкое для нашей страны счастливое время, когда нас неотстреливают и можно делать все что угодно. На жалобы о безденежье Тимур отвечал, что на искусство можно только тратить: деньги, здоровье и жизнь.
Л. Н. Гумилев говорил о том, что в эпохи этнического упадка люди страсти — пассионарии, — живущие ради внешне не прагматичных идей, становятся не воинами или политиками, а художниками. Возможно, и хорошо, что Новиков не пошел по чиновной, дипломатической или военной линии, а то бы мы мыли усталые от походов ноги в Индийском океане, а там много акул.
НАЛЬ ПОДОЛЬСКИЙ
Олег Григорьев Продавец маков продавал раков
Он постоянно носил с собой толстую тетрадь. Девяносто шесть листов «в клеточку» и коричневый коленкоровый переплет, слегка прилипающий к пальцам. В школьно-письменной торговле такие тетради назывались «общими». В этой тетради Олег Григорьев записывал свои стихи — и дома, и во время блужданий по городу, в гостях и на литературных тусовках. Когда очередная тетрадь приближалась к заполнению, в ней накапливалось много интересного.
Если в компании его просили что-нибудь почитать, он не ломался, как некоторые другие поэты, и соглашался либо сразу, либо со второй просьбы. И тотчас в его руках появлялась коричневая тетрадь, она возникала сама собой, словно бы ниоткуда — он извлекал ее из внутреннего кармана пиджака почему-то всегда незаметно для окружающих.
Однажды художник Владимир Гоосс праздновал день рождения в своей мастерской на улице Чайковского, по соседству с «Большим домом», и именинник попросил Олега почитать стихи. Тот едва успел раскрыть свою тетрадь и выбрать подходящий текст, как пришел опоздавший Лев Звягин, фотограф, с девушкой и фотокамерой. У девушки была хорошая улыбка, а Лева был по-хорошему, добродушно пьян. Кроме того, иногда он икал, стесняясь и прикрывая рот ладошкой. Дальнейший сценарий напоминал пьесы Хармса.
ОЛЕГ (читает).
ЛЕВА (икает). Извини.
ОЛЕГ. Что ты, пустяки. (Читает.)
ЛЕВА (икает). Ох, извини, пожалуйста.
ОЛЕГ (сухо). Да, конечно. (Читает.)
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Тебе нужно выпить. Иногда помогает.
(Все наливают, выпивают и ждут результата.)
ЛЕВА (сидит молча).
ОЛЕГ (с радостной улыбкой). Ну, вот видишь — помогло. (Читает)
ЛЕВА (икает). Не помогло.
ОЛЕГ. Ты меня достал.
ЛЕВА. Я же не нарочно.
ОЛЕГ. Я понимаю. Но мне придется начать сначала. (Читает сначала)
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Слушай, да сделай же с собой что-нибудь! Попей холодной воды, умойся, что ли.
ЛЕВА (отходит к умывальнику, плещется, возвращается к столу, сидит молча).
ОЛЕГ (читает, непроизвольно ускоряя темп и искоса поглядывая на ЛЕВУ).
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Да постучите ему по спине! И посильнее.
ЛЕВЕ (стучат по спине.)
ОЛЕГ (после паузы начинает читать).
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Ну знаешь! Да в конце концов, зажми себе рот и нос, перестань дышать и умри, как мужчина! Я не буду читать. (Тетрадь со стихами исчезает из его рук.)
Кончилось тем, что девушка Левы, несмотря ни на что не потерявшая своей хорошей улыбки, увела его домой. Гости уговорили Олега все-таки почитать, и он читал много и с удовольствием. Но раздражение у него тем не менее осталось. Оно-то и послужило позднее источником скандала.
Олега с Гооссом роднило то, что оба владели искусством скандала и подходили к нему как к художественному произведению. Оба умели спровоцировать скандал буквально «из ничего» и точно чувствовали динамику его развития. Но технологии у них были разные. Гоосс, выбрав жертву, умел найти у нее слабое место и наиболее обидные слова, от которых человек сразу же был готов лезть на стену. А Олег произносил почти случайные фразы, но с интонацией, делавшей их для объекта крайне оскорбительными. Гоосс затевал скандал из любопытства и в процессе его развития оставался спокойным, а Олег — от раздражения, и далее подпитывал действие своими эмоциями.
В тот вечер Олег начал вдруг пристально разглядывать одного из гостей, а затем произнес недовольно и с расстановкой:
— Ты похож на ассирийца.
Тот был действительно смуглым, черноволосым, волосатым и бородатым. Он взбесился мгновенно и после нескольких вводных слов надел на голову Олега миску с салатом. По лицу и плечам Олега поползли ручейки сметаны, и всем нам было невдомек, с чего это бородач вдруг так взбеленился. По-моему, и сам Олег не ожидал такого эффекта.
Все уже были пьяны, и возникла бестолковая потасовка. «Ассирийца» побили, да и другим тоже досталось. В том числе и Олегу, которому кто-то из заступников локтем нечаянно разбил нос.
Гоосс потом комментировал инцидент так:
— Это же западло, обижаться и обижать Григорьева. Все равно, что пнуть сапогом юродивого.
Вообще говоря, я время от времени сталкивался с отношением к Олегу как к юродивому, и отчасти он это сам провоцировал.
Когда страсти утихли и кончилась выпивка, наиболее утомленные гости стали пристраиваться подремать — кто сидя, кто полулежа, потому что в маленькой мастерской спальных мест почти не было. А у окна в коридоре стояла большая корзина, короб, плетеный из ивовых прутьев, величиной с письменный стол. Такие корзины в те времена использовались для сбора листьев в садах, и Гоосс зачем-то притащил ее в мастерскую. В ней он держал всякое тряпье — занавески, одеяла, куски холста. Вот в этой-то корзине и угнездился поспать Олег. Я обнаружил его в ней на рассвете, проходя мимо и услышав сопение. Он спал по-детски упоенно и безмятежно; в нем вообще было много детского. И когда я вспоминаю Олега, чаще всего он мне видится спящим в большой плетеной корзине.
Разбуженный светом позднего ноябрьского утра, Олег вылез из своего гнезда и удалился, когда все еще спали. Испытывая жгучую необходимость опохмелиться, он, по причине территориальной близости, направился прямо в тогда еще не сгоревший Союз писателей. Его пиджачок хранил следы ночного праздника — потеки сметаны, винные пятна и кровь, свою и чужую. Вид он имел всклокоченный.
Первым, кого он встретил, был Михаил Дудин.
— Михаил Александрович, одолжите треху, — на вежливые предисловия у Олега сил не было.
Дудин пожалел — то ли треху, то ли бессмертную Олегову душу. Треху не дал и взамен прочитал нотацию:
— Как не стыдно, Олег, вы и так в таком виде… и т. д. и т. п.
Это было ошибкой, и Дудин тогда не мог и предположить, во что она ему обойдется.
Олег униженно выслушал отповедь, затаил на Дудина хамство и пошел дальше. Следующим судьба послала ему Михаила Жванецкого. Тот, умудренный знанием жизни, едва увидев Олега, протянул ему пять рублей. По тогдашним ценам это означало почти две бутылки портвейна.
Прошло года два или три. Случился очередной юбилей Победы, в Союзе писателей по этому поводу состоялось какое-то официальное действо, и после него, вечером, в ресторане было полно народу. Войдя в зал, соседний с буфетом, я стал свидетелем неприличного скандального зрелища. Зрители кучковались у стен, а в центре возвышалась фигура Михаила Дудина, казавшаяся монументальной. Он был в хорошо отглаженном темном костюме, при галстуке, и на груди сияли ордена и медали. А вокруг него мелким бесом вился маленький и пьяный Олег Григорьев.
— Михаил Александрович, дай! Дай хоть один! — Отчаянно взывал Олег и тянулся рукой к орденам Дудина. — Таким, как я, не дают. А тебе еще дадут, ты только попроси, дадут сколько угодно. Дай, Михаил Александрович! Ну хоть один дай!
Лицо Дудина все больше багровело, наводя на мысль о близком инфаркте.
— Михаил Александрович, ну, пожалуйста, дай! — Не унимался Олег. — Ты же знаешь, мне никогда не дадут, а тебе дадут прямо завтра. Дай хоть один!
Кругом стояли писатели и поэты, в том числе достаточно известные, одни снисходительно улыбались, другие делали вид, что не замечают происходящего, и никто не попытался прекратить это безобразие.
Олег прекрасно знал, что таким, как он, орденов не дают. Более того, как и многие из его знакомых, он подозревал, что и физически-то существует лишь по чьему-то недосмотру. Поэтому он тянулся к законной, государственной культуре в надежде получить некую индульгенцию. Но у официоза на Григорьева была устойчивая реакция отторжения. От него веяло абсурдом, черным юмором и обэриутами. Издание в Детгизе первых книжек Олега, совсем маленьких, стоило увольнения редактору Марине Титовой и инфаркта Агнии Бар-то, которая во время какого-то заседания вступила в спор с Сергеем Михалковым, отстаивая право Григорьева публиковаться. А тем временем стихи Григорьева переписывают и повторяют наизусть взрослые и дети. Четверостишие, написанное еще в 1961 году, за десять лет до первой публикации Олега:
Я спросил электрика Петрова: — Для чего ты намотал на шею провод? Ничего Петров не отвечает, Только тихо ботами качает, —знает каждый второклассник.
Устное распространение текстов идет по законам фольклора — в процессе передачи отдельные слова и строчки изменяются. Любые стихи с «черным юмором» входят в моду, и часто их, даже самые глупые и никудышные, незаслуженно приписывают Григорьеву. Ничего не поделаешь — все это проявления народной любви. Как тут не вспомнить реплику Николая Первого из известной пьесы Булгакова:
— Я понимаю, что это не Пушкин. Но объясните мне, почему нынче любую пакость обязательно приписывают Пушкину?
Дети принимали его стихи «на ура», потому что они разительно отличались от идеологически выдержанной советской печатной продукции. Им нравилась внутренняя логика Олега, логика детской страшилки, они чуяли в нем «своего». Вот короткая «сказочка» из самой первой книжки Олега.
Маша и Петя играли в прятки. Они спрятались в большую трубу. Потом пришли рабочие. Они подняли трубу и сбросили ее в реку. Но Маша и Петя не утонули, потому что они сидели в другой трубе.
Для партийного чиновника «брать слово» было естественно, как дышать воздухом. Для любого же нормального ребенка, как и для Олега, словосочетание «взять слово» звучало откровенной глупостью.
Председатель Вова Хотел взять слово. Пока вставал, потерял слово. Встал со стула И сел снова. Потом встал опять, Что-то хотел сказать. Но решил промолчать И не сказал ни слова. Потом встал. Потом сел. Сел — встал, Сел — встал, Сел — встал И сел снова. Устал И упал, Так и не взяв слова.Обратите внимание — во всем этом стихотворении нет ни одного прилагательного. Григорьев их вообще, как и сравнения, употребляет крайне редко. Ничего лишнего, только самое необходимое. Прежде всего действие. У Григорьева очевидный талант драматурга, у него драматургия — в каждой строчке. Умение с первых слов, «с затакта», начать действие, обозначить конфликт и расставить акценты — редкий дар, ценившийся превыше всего среди сценаристов, например, в Голливуде.
Фольклорная подоснова Григорьева — не только фольклор городской и детский, но и лагерный. Жизнь вынудила Олега с ним познакомиться. Именно от лагерного фольклора идет запредельный лаконизм Олега. Еще Синявский в «Голосе из хора» проводил аналогии между лагерным фольклором и готической литературой и искусством, отмечая в том и другом «перепончатость», иногда создающую ощущение конспективности. В витраже главное — скелет рисунка, он определяет сущность, а вставлять цветные стеклышки каждый мысленно может сам.
Итак, стихи Григорьева предельно лаконичны, аскетичны, суровы — настолько, что можно усомниться: да вообще, поэзия ли это? Нет никаких красот — ни словесных, ни воображаемых зрительно, ни эпитетов, ни аффектации, ни романтики, ни лирики, по крайней мере, в привычном понимании. О том, что такое поэзия, можно говорить и спорить бесконечно, но главным все же было и остается наличие или отсутствие поэтического образа. Таких образов, как «утро туманное, утро седое» или «оленей косящий бег», вы у Григорьева не найдете, он строит образ совершенно иначе, через действие. Но при этом его образы высекают ничуть не меньше впечатлений.
О, как нехотя летели журавли куда-то вдаль. Не хотели, а летели.Или:
Нисколько не удивился, Звонарь когда удавился. Закрутил веревку в удавку И ушел в переплавку. И вот я главный звонарь! Колокол — звуковой фонарь.Он расходует слова скупо, как ценный материал, и не тратит ни слова отдельно на подачу образа. Образ возникает в процессе действия.
— Ну как тебе на ветке? — Спросила птица в клетке. — На ветке как и в клетке, Только прутья редкиЗвездное вещество «белых карликов» состоит из одних только атомных ядер и потому обладает чудовищной плотностью. Григорьев уплотняет текст, очищая слова от шелухи подробностей, от всякого декора, оставляя только ядра, заставляя их выполнять максимально возможное количество функций.
Вот первая строчка всем известного стихотворения: «Продавец маков продавал раков». Это, прежде всего, поэтический образ (по-григорьевски), но одновременно—и завязка сюжета, и начало конфликта, и введение в формальный звуковой рисунок стиха.
Из-за лаконичности текстов и полифункциональности слов стихи Григорьева часто кажутся конспективными, и это не вызывает внутреннего протеста не только у взрослых, но и у детей. Ибо именно в силу этих качеств в детском восприятии стихи Олега подобны волшебной коробочке, из которой время от времени можно доставать все новые вещи.
В любом стихе Григорьева обязательно присутствует улыбка. Она бывает разная — веселая, грустная, мрачная, насмешливая, даже злая. И еще одна специфическая улыбка, не обозначающая никакого юмора — «зэковская» улыбка, по которой бывшие заключенные опознают друг друга.
Людей стало много-много, Надо было спасаться. Собрал сухарей я в дорогу И посох взял, опираться. — Когда вернешься? — спросила мама. — Когда людей станет мало.Арестовывали Олега дважды. В первый раз — в начале семидесятых. Не нужно думать, что КГБ гонялось за ним специально. Процесс над Бродским открыл «зеленый свет» преследованию «поэтов-тунеядцев», и Григорьев идеально вписывался в этот стереотип. Уже одним своим видом, манерами и лексиконом он раздражал любого милиционера, и случайное задержание автоматически привело к ссылке «на стройки народного хозяйства» в Вологодскую область. Сценарий был тот же, что у Бродского, только срок поменьше — два года. Второй раз он был арестован «за дебош» в 1989 году, и дело кончилось, к счастью, условным сроком. Судьба уберегла Олега от фактической, лагерной отсидки, но предоставила ему возможность ощутить на себе все репрессивные процедуры и ознакомиться с лагерным фольклором «из первых рук».
Олег воспринимал жизнь как явление суровое и не ждал от нее ни доброты, ни снисхождения. И тем более не ждал ничего хорошего от любых государственных инстанций. В какую бы скверную переделку он ни попал, ему не приходило в голову обратиться за помощью в больницу или травмпункт, не говоря уже о милиции. Но он с легкостью мог попросить помощи у случайных людей, и часто ему помогали. Это было одно из его странных свойств — способность вызывать у незнакомых людей как беспричинное раздражение, так и немотивированную симпатию.
Однажды, примерно в девяностом году, два молодых художника в состоянии похмелья решили срочно поправить здоровье на свежем воздухе и раскупорили бутылку водки прямо на улице Марата К ним подошел человек, залитый кровью, представился как поэт Олег Григорьев и сказал, что ему нужно опохмелиться, иначе он тотчас помрет. Его не сильно беспокоило то, что его щека была распорота ножом от скулы до подбородка, для него главное было — опохмелиться. Но рана самым подлым образом давала о себе знать — водка сквозь дыру в щеке бессмысленно выливалась на шею и на пальто. Зрелище было впечатляющее и жутковатое, и позднее один из участников эпизода, художник Гавриил Лубнин, посвятил этой истории стихотворение, нечто вроде маленькой баллады. Вот короткий отрывок из нее:
Но тело влево наклонив, Он все же сделал свой залив. Дружок испуган, я тоскую. Ведем поэта в мастерскую. И он уснул в холстах и вате В пальто на маленькой кровати, В тяжелом будучи запое. Не дай вам Бог войти в такое.Жизнь давала Олегу достаточно поводов для жестоких сюжетов и образов. Они возникали вовсе не из природной склонности к «чернухе» — это были просто ответные удары агрессивной и беспощадной жизни.
Однажды ночью, после чьего-то дня рождения, кажется, Аркадия Бартова, я привез Олега к себе в гости, ибо жил он далеко, в Купчино. Наутро, как следует выспавшись и выпив пива, а затем и портвейна, Олег пришел в благостное состояние и стал похож на обласканного ребенка.
— Ну, Наль, ты меня ублажил, — заявил он с радостной улыбкой, — я тоже хочу тебе сделать что-нибудь хорошее. Давай, я тебе почитаю стихи.
В руках его появилась хорошо знакомая тетрадь в коричневом переплете, и он довольно долго ее перелистывал:— Нет, это для тебя мрачно. Это тоже мрачно. Ты человек светлый, это для тебя не годится. Это тоже… Наконец подходящий текст нашелся:
Отбросив с десяток трупов, Некрофаг задержался на мне. Взрезал грудь и, сердце нащупав, Приготовил его на огне.Затем он захлопнул тетрадь и пояснил:
— Дальше опять мрачное, тебе не годится.
Со второй частью стихотворения я ознакомился уже после смерти Олега:
Обсыпал перцем и солью И с жадностью зубы вонзил. О, с какой я живою болью Содрогнулся, хоть мертвый уж был.У судьбы есть свое, мрачноватое чувство юмора. Похоронен Олег на Волковом кладбище, на невысоком холме, над могилами детишек, в конце восьмидесятых засыпанных песком в пещерах во время своих детских игр. Для детского поэта — самое подходящее место.
Тот самый Кривулин
У него была похвальная привычка ничего не делать, если на то не было особого настроения.
Г. Бюргер.Приключения барона МюнхгаузенаТелефонный разговор нередко начинался так:
— Тебе не кажется, Наль, что последнее время мы скучно живем?
Сие означало, что далее последует какое-либо оригинальное предложение. К примеру, написать письмо директору ЮНЕСКО с приглашением наряду с охраной памятников культуры заняться и защитой живых носителей культуры, то есть составить для андеграунда нечто вроде Красной книги.
Или купить где-нибудь необитаемый остров, чтобы основать на нем культурный центр и независимое издательство. Каталог островов, выставленных на продажу, уже лежит у Виктора на столе, а спонсоры найдутся. Да и вся затея очень быстро начнет окупаться, это точно, он уже все просчитал.
Среди выдумок Вити пустых идей не было, в том смысле, что каждая соответствовала одной из ниточек многожильного советского уголовного кодекса и припахивала лагерными сроками. Время было глухое, опасное, и на него пришлась большая часть жизни Виктора Кривулина. Будучи человеком хорошо образованным, мыслящим и талантливым, он воспринимал советскую власть как явление бессмысленное и биологически вредное, ощущая свою несовместимость с ней, можно сказать, на клеточном уровне. Подобные люди тогда оказывались перед неприятной дилеммой: либо вступить с режимом и открытый конфликт и быть пожранным снаружи карательными органами, либо затаиться, хитрить, приспосабливаться и быть съеденным изнутри бессилием, злобой и комплексом собственной продажности. Виктор избежал и того, и другого, и секрет его заключался в незлобивости. Подобно Владимиру Соловьеву он был убежден, что даже к дьяволу надо относиться по-джентельменски. Ему нравилась присказка одного из героев Лоуренса Даррела о том, что мудрый человек не пытается убить врага, а садится на пороге своей хижины и ждет — и однажды он видит похоронную процессию. Впрочем, сам Виктор, в силу природной непоседливости, на пороге хижины не мог усидеть и суток. Однажды он позвонил около десяти вечера и пригласил посетить его немедленно. В ответ на мои робкие возражения, что время уже для визитов неподходящее, последовало непререкаемое разъяснение:
— Дело не телефонное. Приезжай.
Мне не понравились нотки деловитой торжественности в его голосе, но что поделаешь — пришлось ехать. Поджидая меня, они вдвоем с Суреном Тахтаджяном пили портвейн. Они только что основали независимый профсоюз литераторов и приглашают меня тотчас в него вступить.
Независимый профсоюз по тем временам тянул на семидесятую статью по максимуму, и я стал осторожно отнекиваться. Основали, мол, профсоюз — вот и славно, а я здесь при чем? Оказалось, Татьяна Горичева сообщила не то из Берлина, не то из Парижа, что новый профсоюз будет зарегистрирован Всемирной федерацией профсоюзов лишь при наличии протокола общего собрания — и тогда уж никого из его членов наши власти тронуть не рискнут (?). Вот и получается: Витя — председатель, Сурен — секретарь, а мне уготована роль человека из зала, исправно голосующего «за».
Не помню, как удалось отделаться от этой истории, но в тот вечер, видя, что Сурен к ней относится с полной серьезностью, я дождался его ухода и бесцеремонно спросил у Виктора, зачем ему этот балаган понадобился? Последовал хорошо знакомый ответ:
— Мне показалось, последнее время мы скучно живем.
Я столь подробно остановился на этом эпизоде, потому что в нем хорошо видна особенная способность Виктора — одним жестом раздать призы всем участникам процесса. Здесь и издевка над советской системой собраний и голосований, и насмешка над идиотическим бюрократизмом западного сочувствия диссидентам, и подтрунивание над столь распространенным тогда среди нас ожиданием помощи из-за границы.
К официозной советской культуре Кривулин относился весьма иронически и критически, но отнюдь не оголтело-отрицательно. Впрочем, и на творческие успехи андеграунда у него был достаточно скептический взгляд
на помойке общенья стихи да холсты нарисованы плохо, написаны вяло но зато — партизанская щель красоты в оккупированных нищетою кварталах в три погибели скрючась, ползком, из подвала выползая, крадется — но кто это здесь с героической лампочкой в четверть накала? свет — за пазухой, жаркий цветок алкоголя шарф — как вымпел — великое дело, благое! и горит в удлиненных бутылках горючая смесьПосле известной выставки в ДК Газа петербургский андеграунд пребывал в состоянии эйфории. Слушая восторженные речи о скором расцвете нового петербургского авангарда, Виктор скептически улыбался и не упускал случая слегка притушить избыточный пафос. Константин Кузьминский, хотевший взять на себя функции координатора всевозможных андеграундных меропериятий, носился тогда с идеей некоего ночного фестиваля искусств на набережных Невы во время белых ночей — чтобы поэты читали стихи, художники показывали живопись, а музыканты играли бы рок-музыку.
— Вы подумайте, — говорил он возбужденно, — ведь Петербург — единственный в мире город, где можно устроить ночную выставку живописи при естественном освещении! — Постой, я чего-то не понимаю, — задумчиво заметил Кривулин, — ну, художники — еще ладно, бывает такая живопись, что лучше смотреть ночью. А музыканты? Куда они на Неве будут втыкать свои инструменты?
— Это не важно! — не унимался Костя. — Им втыкать не обязательно, они могут играть как угодно!
— Ты хочешь сказать, — усмехнулся Виктор, — что их надо обкурить до такой степени, чтобы они не понимали, на чем играют?
Виктор был из тех людей, про которых говорят: «Он фантазер, а не врун». Те, кто хорошо знали Кривулина, умели распознавать моменты, когда он собирался преподнести очередную выдумку, — по специфическому открыто-проникновенному взгляду, иногда для убедительности сопровождаемому многозначительным вращением глаз.
Около восьмидесятого года по Москве прокатилась массовая серия обысков, как большинство акций КГБ того времени, бессмысленных и безрезультатных. Комментарий Виктора выглядел так:
— Вся Москва удивляется, никто ничего не может понять: столько обысков и ни одного ареста. Говорят, мол, у КГБ крыша поехала. А я выяснил в чем дело. Им дали двадцать тысяч долларов на приобретение антисоветской литературы, так жена генерала Трофимова (имя генерала, естественно, было придумано на ходу) поехала в Монте-Карло и все проиграла в рулетку. А у них тут ревизия, надо отчитываться. Вот они и устроили обыски для изъятия литературы. Как набрали на двадцать тысяч, обыски кончились.
Постоянным гостем в доме Виктора был шотландец еврейского происхождения стажер-славист Майкл Молнер. Когда он собрался посетить свою туманную родину, Витя сказал:— Хочу тебя попросить: привези мне диски «Битлз», и побольше. У меня было сорок штук, так представь себе, появился какой-то вирус — разъедает пластмассу, только серый порошок остается (речь шла о виниловых дисках).
Уловив сомнение в мимике Майкла, Виктор добавил:
— Точно, точно, одни пустые конверты остались, хочешь, могу показать.
— А эти почему целы? — подозрительно спросил Майкл, тыкая пальцем в пластинки на полке.
— Потому что это наши, советские. Их вирус не берет, — непринужденно пояснил Витя.
Фантазия в данном случае была совершенно бескорыстной, ибо Виктор отлично знал, что никаких дисков Майкл покупать не станет.
В 1981 году возник оппозиционный по отношению к Союзу писателей Клуб-81, по тем временам — значимое событие. Одни ветви власти его поощряли, другие были нe прочь уничтожить, и к концу следующего года продвижение клубного сборника (будущего сборника «Круг») затормозилось, в делах клуба наступил застой. Примерно тогда же, в 1982 году, умер главный идеолог и «серый кардинал» Кремля Михаил Суслов.
Кривулин мгновенно отреагировал на это событие:
— Мне в Москве рассказали, в чем дело. Клуб на сто человек приказал организовать лично Суслов и сразу умер. Власти приказ выполнили, а как быть теперь, не знают. Потому что Суслов перед смертью не сказал, что делать дальше. Боюсь, мы надолго зависли.
По-видимому, мне не удалось скрыть недоверия к этой версии.
— Ну понимаешь, — стал объяснять Витя, — это как змея: голову отрубят, а хвост еще шевелится, — и для наглядности показал рукой, как именно шевелится хвост безголовой змеи. Зачем ему были нужны все эти выдумки — сказать трудно. Во всяком случае, специального желания повеселить публику у Виктора никогда не было. Вероятнее всего, здесь работал инстинкт сочинительства, инстинкт авторствования, который, собственно, и заставляет человека стать литератором. Но литератор, любящий порядок, знает, что огню место в печке и на свечке, окуркам — в пепельнице, а сочинительству — на бумаге, в текстах. Витя же порядка не любил, можно даже сказать, что, скорее, он любил беспорядок. Порой мне казалось, что он даже в мелочах просто боится порядка как потенциального ограничителя внутренней свободы. Пепельницы у него частенько дымились и иногда возгорались, окурки попадались где угодно, а сочинительство пронизывало всю жизнь и всякое общение.
Впрочем, у Вити случались и такие варианты сочинительства, которые иначе как враньем не назовешь, причем это вранье, как правило, носило провокативный характер.
Все знали, что книжку, которой не хочешь лишиться, Вите лучше не давать, потому что она могла исчезнуть мгновенно и бесследно. И вовсе не потому, что он злостно присваивал чужие книги, — этого не было. Чаще всего они терялись в бессистемных нагромождениях книг, имевшихся всюду — на кухне, в спальне, на полу и стульях около книжных шкафов и, понятно, вокруг рабочего стола. Но это было еще полбеды — такая книжка могла со временем выплыть на поверхность. Гораздо хуже было то, что Витя по доброте душевной охотно давал читать книги как свои, так и чужие, практически всем, кто ни попросит. А поскольку через его дом проходило ежедневно от одного до нескольких десятков человек, проследить судьбу конкретной книги было практически невозмож-но. Однажды он взял у меня довольно редкую антологию персидской поэзии с превосходными репродукциями миниатюр. Поняв, что совершил ошибку и, как говорится, «сам виноват», я выбросил ее из памяти, но Витя еще и течение года допекал меня сообщениями типа: «Сейчас твоя персидская поэзия в Киеве, ее читает такой-то, передает тебе спасибо» или «твоя книжка только что переехала в Польшу, ее читает весь Краковский университет». В конце концов я возненавидел задним числом и эту антологию, и персидскую поэзию вообще.
Не у всех хватало чувства юмора без обид воспринимать подобные ситуации. К концу восьмидесятых годов Виктор протоптал дорожку во «Франкфуртер альгемайне», у него там стали появляться публикации о российской культуре и бескультурии, и все друзья узнали, что тираж «Франкфуртера» — четырнадцать миллионов, что каждый немец, где бы он ни жил на земном шаре, считает своим первейшим долгом выписывать эту газету, а самому Кривулину они платят даже не построчно, а то ли по марке, то ли по доллару за каждое слово (и этом вопросе Витя иногда путался). Наслушавшись увлекательных рассказов, Михаил Берг тоже захотел породниться с газетным монстром. Он подготовил объемистый материал о современной русской литературе, и Виктор передал его в русское представительство газеты и Москве. Берг время от времени интересовался, как продвигается его детище, и Витя снабжал его информацией, что материал уже прочитали в русском представительстве и переправили во Франкфурт, или что статья переводится на немецкий, или что сейчас ее читает заведующий отделом культуры, но он человек занятой и читает медленно. Так прошло около года. Но однажды, вставая с дивана, Виктор задел сложенную на стуле горуиз книг и рукописей, они рассыпались по полу, и бросившийся собирать книги Берг с изумлением обнаружил в основании кучи свою рукопись. Он вообще не мог представить, как можно так поступить, пришел в ярость и даже грозился вызвать Кривулина на дуэль.
Мне Витя откомментировал происшедшее так:
— У них редактор сам пишет о современной русской литературе, это его главный кусок хлеба. Представляешь? Берг покусился на самое святое, они и читать не стали.
Впрочем, разные люди хранят в памяти разные версии этого эпизода, что вообще характерно для любой истории, связанной с Кривулиным. Дело в том, что, повествуя о событиях, свидетелем или участником коих он был, Виктор каждый раз излагал их в новом варианте, хоть немного отличающемся от предыдущего. Он прекрасно понимал, что миф важнее фактологии, что в конечном итоге в людской памяти остается именно миф, и охотно принимал участие в сотворении мифа «о времени и о себе». А кроме того, как художник (в широком смысле слова) он испытывал естественное отвращение к любому дословному повторению.
Когда речь шла о литературе или поэзии, Виктор высказывался предельно взвешенно и ответственно, будь то статья, публичное выступление или частная беседа. Но лишь только разговор касался политики, кривулинские заявления становились эпатажными, порой безответственными и всегда провокативными. Политикой Виктор увлекся сразу после крушения Советского Союза. Он сдружился тогда с Галиной Старовойтовой, выступал на разных митингах и собраниях и много публиковался в периодической прессе. При этом он не признавал никакой политкорректности. В дни августовского путча 1991 года крупный заголовок кривулинской статьи в «Смене» представлял собой его собственную расшифровку «ГКЧП»: «Гады Коммунисты Что Придумали». Впрочем, у него выходили и серьезные, дельные статьи, в основном о Петербурге.
В период перестройки Виктору, опять же с подачи Старовойтовой, вздумалось баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга (одновременно с Митей Шагиным, но по разным округам), и иные публичные выступления Кривулина звучали тогда весьма оригинально. Например, комментируя в телевизионном интервью предвыборные технологии, он с экрана на всю страну заявил с совершенно серьезной миной:
— Мне вчера начальник военного училища предложил две тысячи голосов по пятнадцать рублей за штуку и сказал, что если я их не куплю до послезавтра, они поступят на свободный рынок голосов.
Какие-то голоса за деньги ему действительно предлагали, вроде бы, люди Жириновского, но «свободный рынок голосов» — это личная кривулинская находка.
Виктор любил устраивать провокации и хорошо владел этим искусством — одной тихо сказанной фразой он мог побудить людей совершить что-либо такое, чего они делать категорически не собирались. При случае он готов был дразнить даже КГБ.
В восемьдесят третьем году я, как обычно, летом уезжал на археологические раскопки, рейс на Красноярск вылетал в одиннадцать вечера, и днем друзья собрались у меня, чтобы отметить проводы. Попивая из бокала вино, Виктор заметил мечтательным тоном:
— И чего тебя несет куда-то на Енисей? Оставайся-ка лучше здесь, будем жить активной творческой жизнью. Я ручаюсь тебе, здесь будет интересно. Активная творческая жизнь началась в тот же день. Я уже заказал такси для поездки в аэропорт, когда позвонила Витина жена Наташа Ковалева:
— Витю только что увезли, и я не знаю, что в таких случаях полагается делать?
Оказалось, произошло следующее. Лишь только Кривулин от меня вернулся домой, к нему заявились кагэбэшники, вполне официально, с ордером на обыск. Больше двух часов они рылись в книгах, рукописях, просматривали даже отдельные листки бумаги с любыми пометками и изъяли около ста килограммов «антисоветской литературы». КГБ был единственной инстанцией, измерявшей литературу килограммами. А собирательное понятие «антисоветский» отличалось невероятно широким диапазоном: от нью-йоркского издания Бунина или Мандельштама до машинописных перепечаток речей Молотова из предвоенных газет и журналов.
Пока гости рылись в Витином имуществе, заполняли сотни строчек протокола и складывали изымаемое в специальные, привезенные с собой мешки, он сидел за своим рабочим столом и с ангельской кротостью читал стихи Анны Ахматовой. Ребята из КГБ сразу обратили внимание, что издание-то нью-йоркское, но делали вид, что не заметили этого, не желая собачиться с Кривулиным — их заранее предупредили, что от него можно ждать чего угодно. Подумаешь, Ахматова! Дав расписаться понятым и Виктору под протоколом, чекисты облегченно вздохнули — кажется, пронесло — и приготовились тащить мешки к выходу. Но не тут-то было.
Захлопнув книгу, Витя сказал тихо, но с чувством:
— А вот это я не отдам.
Тут уж кагэбэшникам деваться некуда.
— Придется отдать, Виктор Борисович, — строго сказал старший. И тогда Витя уже громко, во весь голос — для протокола, для истории и для радиостанции «Свобода» — воскликнул:
— Делайте со мной что угодно, но Ахматову не отдам! Ребята с Литейного задумались:
— Тогда вам придется поехать с нами, Виктор Борисович.
— Отлично, поехали, — радостно откликнулся Витя.
На Литейном атмосфера сложилась нервная. Кагэбэшники тоже люди, у них дома жены, дети, любовницы, а они в десять вечера сидят в кабинете с этим окаянным поэтом, и он все так же увлеченно читает Ахматову, да еще и курит их кагэбэшные сигареты. В ответ на все увещевания твердит одно: хоть убивайте, Ахматову не отдам.
Что тут делать? Отобрать книжку силой — завтра же об этом начнут звонить и «Свобода», и «Голос Америки». Можно схлопотать нагоняй за неуклюжесть. Ордера на задержание у них нет и не будет. Настоящей антисоветчины у него не нашли, и состава преступления нет. А есть только приказ: пугнуть этот поганый Клуб-81. Вот и пугнули, да только опять нескладно получилось.
К часу ночи сигареты у кагэбэшников кончились, а поэт проголодался, да и Ахматова надоела. Он закрыл книгу, зевнул и сказал:
— Вообще-то, издание неважное. Комментарий дурацкий, и есть опечатки. Вот, смотрите, здесь… и здесь тоже. Когда будете читать, учтите.
Те ребята так обрадовались, что даже отвезли Витю домой. И еще через полгода все изъятое при обыске Кринулину вернули.
Несмотря на некоторую опереточность КГБ к закату советской власти, они все же не давали нам забыть, что волк, санитар леса, не дремлет. Время от времени кого-то из людей пишущих (не то, что надо) сажали, кому-то устраивали автомобильные катастрофы и чьи-то дома сжигали. Все это порождало игровую повстанческую атмосферу с легким запахом «русской рулетки», ощущение лихой реальности, где «смерть пустяк и жизнь пятак». Отсюда — проскальзывавшие частенько у Вити веселый цинизм и даже висельный юмор (исключительно в бытовых разговорах, в творчество это не проникало). Сам он впоследствии написал об этом времени так: «Мы стремительно и весело жили в ожидании катастрофы».
Один из наших друзей, художник, участник первой из легальных «левых» выставок в ДК Газа, вскоре после нее вступил в Союз советских художников, что, как оказалось, Виктор запомнил. А через несколько лет этот художник во время вечеринки вылез из окна своей мастерской, попробовал прогуляться по наружному карнизу и полетел вниз головой с высоты третьего этажа, сломав при этом, к счастью, только бедро.
— Вот что такое советский художник: упал на голову и сломал… ногу, — откомментировал Витя. А ведь он был отнюдь не злым человеком.
Когда умер Бродский, Витин некролог появился в печати на следующий же день, самым первым. Некоторые люди утверждают, что у Кривулина были заранее заготовлены некрологи для определенного круга выдающихся личностей.
Богемой мы себя не считали и слова этого не любили, но образ жизни de facto частенько получался богемный. Ночные переезды из дома в дом были нормой. Однажды уже под утро, часа в четыре, мы с Виктором и, кажется, еще с Валерием Зеленским, решили поехать куда-то в гости. Наняли старенький чихающий «Москвич», за рулем сидел унылый заморенный человек в очках, похожий на сотрудника КБ или НИИ. Витя был в общительном настроении и громко рассуждал о взаимной аннигиляции различных моральных ценностей. Водитель терпел это довольно долго, но в конце концов попросил:
— Вы не могли бы поговорить о чем-нибудь другом?
— Да поймите же, — вскинулся Виктор, — мы присутствуем при крахе двух самых навязчивых идей двадцатого века: мифа о прогрессе и мифа о социальной справедливости.
Этого водитель не выдержал. Он остановил машину и злобно выдохнул:
— Выходите.
— Вы хотите сказать, — строго спросил Витя, — что намерены высадить инвалида посреди улицы?
— Я вас не высаживаю, — загнанно всхлипнул несчастный, — но никуда не повезу.
— Ну, хорошо, — согласился Витя, достал сигареты и закурил.
Когда сигарета кончилась, Витя поинтересовался у водителя:
— Ладно, сколько мы вам должны?
— Мне не нужны ваши деньги, — мрачно заявил тот и добавил шепотом, — только уходите.
Отзвуки одной из последних веселых Витиных провокаций дошли до нас только в нынешнем, 2006 году. Накануне вечера финской поэзии в Доме Ахматовой Сергей Стратановский, читая изданную «Бореем» в 1994 году книжку стихов Юкки Маллинена в переводе Кривулина, с изумлением обнаружил там строчку из своих собственных стихов («Герострат Геростратович»). А при дальнейшем исследовании в этой же книжке можно обнаружить и строчку Елены Шварц.
Виктор очень любил азартные игры, хотя, как правило, проигрывал. И даже игры интеллектуальные, такие как шахматы или скрэбл, ухитрялся превращать в азартные. Он готов был играть на деньги даже с заведомо более сильным противником, повышал ставки, жулил, громко спорил, божился — в общем, вел себя совершенно по-ноздревски. Однажды у меня в гостях, ночью, он уселся играть в карты, кажется, в очко, с Николаем Коняевым (вдвоем, поскольку я отказался). Часа через два он проиграл сначала все деньги, потом все, что нашлось в карманах — авторучку, перочинный нож, записную книжку. Он требовал продолжения игры, но ставить, увы, было больше нечего. И тогда Виктор заявил, что ставил на кон именно записную книжку, но никак не записанные в ней телефоны, и на номера телефонов можно играть отдельно. Теперь уж не помню, как они разрешили эту коллизию.
К великим именам прошлого Виктор относился уважительно, но и трезво-критически, и никогда не воскуривал фимиам перед их портретами. Он не признавал авторитетов и, несмотря на университетское образование, был из тех, «кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая советам седых мудрецов». Пожалуй, единственным, к кому он испытывал нечто вроде пиетета, был Осип Мандельштам. Именно ему посвящены наиболее интересные литературоведческие работы Кривулина, и именно у него он сознательно чему-то учился.
Когда поэт умирает — такой поэт, чье творчество остается в памяти многих, — после осознания обществом факта его смерти неизбежно начинаются два параллельных процесса: мифологизации и музеефикации, или, если хотите, мумификации.
Древние египтяне верили, что человеческая душа состоит из двух основных частей, Ка и Ба, которые после смерти владельца существуют раздельно. Ка — это энергетика человека, творческий заряд, синдром эстетических представлений, а Ба — совокупность эмоций и привычек, связанных с физиологической жизнью и повседневным бытом. Часто изготовлялась специальная статуэтка покойного, чтобы в ней могло обитать его Ба.
Если верить, что в стихах остается душа поэта, то поэзия тоже имеет свои Ка и Ба. Мифологизация хранит Ка, а музеефикация препарирует и архивирует Ба. Подобно тому, как египетские жрецы специальными крючками и щипчиками извлекали внутренние органы и размещали их в баночках с консервирующими растворами, литературоведы выделяют технические особенности стиха, оценивают словарный запас, подсчитывают количество мужских и женских рифм и т.д. и т.п., создавая протокольный портрет поэзии имярек, вместилище ее Ба.
Из двух вышеупомянутых процессов мне милее, естественно, мифологизация, ради которой и пишется данный очерк, но одну из баночек для препаратов я вынужден все же заполнить. И вот почему. Мне случалось выслушивать мнения, и даже весьма авторитетные, примерно такие: «Оно конечно, Кривулин — поэт, но вот только стихов его никто наизусть не помнит». Это не совсем точно. Люди, помнящие стихи Кривулина, есть, но их немного, и к тому же в процентном отношении они помнят, скажем, Мандельштама, гораздо больше. Так что, если к делу подойти статистически, приведенное утверждение верно, и в этом стоит разобраться.
Отбросим сразу тривиальное обстоятельство: у Кривулина есть много стихов нерифмованных и не укладывающихся в определенный стихотворный размер. Такие стихи обычно не помнит никто. Кто может по памяти процитировать Уитмена или Фроста? Или больше двух-трех строчек Хлебникова? Но у Виктора есть много стихов метрических, с добротными небанальными рифмами — почему они-то не запоминаются с первого прочтения, как, скажем, Бродский?
У Мандельштама есть удивительные строки:
И над лимонной Невою, под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка.После слова «хруст» вы неизбежно споткнетесь, но когда все же преодолеете почти нечитаемое сочетание согласных «ст-ст» — читайте хоть про себя, хоть вслух — последняя строка разольется для вас широко, мощно и вольно, как горная река, вырывающаяся из ущелья на равнину. Если просмотреть внимательно Мандельштама, можно встретить подобные звукосочетания, не такие наглядные, еще лишь в нескольких местах, то есть Мандельштам этот ход сознательно больше не использовал. «Блестящая находка гениального поэта», — совершенно справедливо подумает читатель.
Кривулин сделал систему барьеров-препятствий, накопителей энергии, постоянным рабочим инструментом своей версификации. Вот стихотворение «Пиранези».
по медной пластине, по дымно-коричневой мгле гуляет со скрежетом коготь орлиный — гравер-итальянец полжизни курлыча в тюрьме царапая доску растит крепостные руины эскарпы и рвы, равелины, сухой водопад разрушенных лестниц и волчьи замшелые своды и как по камням неумолчно лопаты стучат и что сумасшедший щебечет рассыпав крупицы свободы по выступу — выступу в нише окна откуда не свет — излучение пыльного знака аршинная фраза на чадном листе полумрака хотя поневоле но тысячу раз прочтена железисто-слезным читанием, точно вслепую молитву, на воле звучавшую всуе ведут, захвативши под руки, заводят на зубчатый гребень, а где оборвется стена провалом сознания — заговорят о свободе свободна! ступай! И в плечо — отпуская — толчок шагнет — и восхищенный будущею колымою художник Тюрьмы, разрывая с телесной тюрьмою парит над веками и счастлив еще дурачокПервая строка читается гладко. Заметим, что Кривулин, когда захочет, может писать гладко, но гладкости он не любит и быстро от нее устает. Уже во второй строке появляются барьеры, накопители энергии. С учетом размера, читатель перед словом «скрежет» вынужден сделать вдох и паузу и соответственно увеличить сипу звука на этом слове (неважно, вслух или мысленно). Далее, перед словом «орлиный» — опять неизбежный короткий вдох и усиленное ударение на последнем слове строки.
Получается, что поэт умудряется регулировать дыхание читателя. В этом нет ничего обидного, ибо любой поэт в каком-то смысле регулирует дыхание читателя, только каждый делает это по-своему.
Что же конкретно достигается этим, для чего это делается? Помимо усиления звучности стиха происходит смысловое выделение, в памяти остаются прежде всего два слова — «скрежет» и «орлиный». Но еще важнее другое. «Орлиный коготь» — словосочетание приевшееся, почти банальное, почти «духовное короткое замыкание». Энергетический барьер между этими двумя словами возвращает каждому из них первоначальную звучность, а читателю — прямое эмоциональное восприятие казалось бы избитой комбинации слов. Выражаясь другим языком, происходит сжигание энтропии.
Взгляните на вторую строчку последней строфы. Здесь неизбежная пауза — между «восхищенный» и «будущею». Задержка усиливается использованием крайне редкого в наше время слова (восхитить — унести в высь). И все это — ради ударного прочтения последней, итоговой и без того сильной строки: «парит над веками и счастлив еще дурачок».
Но за все надо платить. Система барьеров-накопителей энергии усиливает выразительность и звучность стиха, повышает его энергетику, но они затрудняют чтение, и именно из-за этой специфической структуры стихи Кривулина в большинстве запоминаются плохо. Зато, будучи уже запомненным, любой стих Кривулина остается в памяти навсегда. Заметим попутно, что все, кому случалось запоминать стихи Мандельштама, отмечали их аналогичное свойство.
И еще одну особенность стиха, условно говоря, унаследовал от Мандельштама Кривулин: взаимодействие между аллитерацией и ударением. Вышеприведенное стихотворение аллитерировано на «р» и «л», и легко убедиться, что большинство аллитерируемых букв оказывается в ударных слогах. Это придает стиху дополнительную экспрессивность и благородную тяжесть.
Понятно, научиться таким вещам, и тем более сознательно, невозможно. Просто Виктору нравились некоторые свойства поэзии Мандельштама, и он хотел сохранить их в своих стихах. Но подражать Мандельштаму он никогда не пытался. При определенном онтологическом родстве, Виктор не хотел писать, как Мандельштам. Его стихи самобытны и безошибочно опознаются среди любых других стихов. Кривулин — поэт думающий. Про него не скажешь, что он, как птица, не ведает, о чем поет. Впрочем, поэт с филологическим образованием другим и не может быть. Легким чтением его стихи не назовешь. Они предельно насыщены активными поэтическими образами, нетривиальными мыслями и достаточно сложными аллюзиями — чтобы их читать и воспринимать, от читателя требуется определенная работа и души, и ума.
У Кривулина особые отношения со временем, ему трудно зафиксироваться в определенной временной точке, время для него — всегда плавающая координата. Даже если он пишет о чем-то сугубо современном, сиюминутном, из-за строчек все равно проглядывает развитие явления, цепь событий. Это видно хотя бы и процитированном выше «Пиранези». Выражаясь более выспренно, у Кривулина всегда ощущается дыхание истории. Об «историзме» Кривулина уже написано достаточно подробно (О. Седакова «Очерки другой поэзии»), потому ограничиваюсь лишь личными впечатлениями. Первое, что вызывало интерес в Кринулинском взгляде на историю, — непрерывное движение точки фокусировки, его мысль, подобно лучу радара, все время как бы прощупывала весь доступный ему диапазон времени. А вторым, не менее интересным впечатлением было ощущение спрессованности времени. Вот, например, как видится Виктору история России:
Как забитый ребенок и хищный подросток, как теряющий разум старик, ты построена, родина сна и господства, и развитье твое, по законам сиротства, от страданья к насилию — миг не длиннее, чем срок человеческой жизни…Иногда мне казалось, что Кривулин, говоря о нашей современности, смотрит на нее откуда-то издалека, извне, и реконструирует ее по археологическим, письменным и прочим источникам.
Одной дождливой осенью, где-то в конце семидесятых, я вернулся в Петербург из Сибири, с раскопок, и угодил прямехонько на чтение Виктора, у него дома. Было много народу, и Витя читал, как всегда, превосходно, а мне он вдруг представился археологом будущего — вот стоит он на дне раскопа и, задрав бороду кверху, обводит своей массивной тростью слои на зачищенной стенке. Вот здесь неолит, а вот эллинизм, вот двадцать сантиметров российской истории, а вот здесь жили мы — показывает он какую-то точку над тонкой прослойкой гари от второй мировой войны.
Когда публика разошлась, я рассказал Виктору об этом забавном видении, думая его развеселить. Но он даже не улыбнулся и сказал с удивлением в голосе: — Так и есть, разумеется, а как же иначе?
Примерно тогда же нам досталась на прочтение книжка Бердяева «О смысле истории», и позиция автора относительно того, что истинный смысл истории может быть понят лишь извне, после ее окончания, была явно созвучна собственным мыслям Виктора.
В игры со временем Кривулин часто вовлекает и пространство, которое также умеет уплотнять по своему усмотрению. Чаще всего Виктор существует не во времени, а в пространственно-временном континууме. Но поскольку Кривулин — поэт, а не физик, этот континуум предстает не в виде системы координат, а в виде живого, равноправного и равновесного симбиоза пространства и времени. Вот как это выглядит:
это вопль о сплошном человеке о человеке-пространстве белые цирки часов где каждую четверть востока отмечал удар топора и воскресший плакал МалевичВсех, кто слушал и читал стихи Виктора, в нем поражала точность равновесия между аполлоническим и дионисийским началами. «Это баланс разума и эмоций, баланс литературно-исторических аллюзий и непосредственных жизненных впечатлений. Баланс доведен до абсолюта» (В. Мишин).
Читал Виктор свои стихи превосходно, заражая аудиторию энергией и опять-таки соблюдая точный баланс между эмоциональным напором и раздумчивыми интонациями.
соловецкие розы безречья болота частой морошки тяготное покрывало мелкоцветная ткань но кто же уносит фамилью «Флоренский» в дантовом скрежете снега усеянного звездами режущих колющих звездПочему же Кривулин все время так заботится о точности равновесия? Неужели баланс был его самоцелью? Не знаю, напрямую спросить об этом я у него не успел. Со временем мне стало казаться, что Витя был обладателем своего собственного, созданного им самим, информационного поля, в котором везде соблюдался баланс между пространством и временем, эмоциями и разумом, позитивными знаниями и плодами воображения. Этополе вполне можно назвать животворящим (в литературном смысле), ибо оно в изобилии порождало загадочные и манящие поэтические образы, будоражившие мысли читателя еще долгое время после чтения стихов Кривулина:
на востоке сердцебиенья за чертой медицинской жизни где превращается в марево в пену в шипенье воздушный мрамор бетонных строений где резина коммуникаций напряжена до звучанья эоловой арфы а ветер изображают с лицом человека раздувшего щеки…Поток подобных образов всегда поражал слушателей Виктора, и нередко во время чтений можно было услышать реплики: «И как он успевает столько всего выдумывать?» А Кривулин на самом деле ничего не выдумывал. Он просто вглядывался в одну из точек своего странного пространства и описывал то, что видел, окрашивая увиденное сиюминутным настроением. Подобно японцу, глядящему на пейзаж и облекающему свои впечатления в форму хокку:
сюжет: я сижу с обломком поэта нынче не пьющий он счастлив яшмовое яйцо, найдя на пляже смотри говорит — картина и правда: пьяный китаец на зеленую смотрит лунуКривулин был человеком непоседливым и подвижным, и в творчестве постоянно экспериментировал. И стихи его очень и очень разные. Среди них есть и метрические, добротно рифмованные, есть немало и нерифмованных, есть всякие варианты разрушения метрики. С какого-то момента ему начали мешать знаки препинания и заглавные буквы, и он стал от них отказываться. Но неизменным оставалось одно: ткань кривулинских стихов была прочной. И любой его стих самодостаточен как единое целое.
Есть среди стихов Виктора и такие, что запоминаются с первого прочтения, хотя их немного. Вот один из них — осел когда-то в памяти почти случайно, да так там и остался:
не дело словесное дело не дело но слово о сказанном если и скажешь — оно бессловесно одно бессловесное белое белое в белом явление дыма в селении бедном де сельский словесник — полено в негнущихся пальцах, тетрадка да несколько спичек — низводит огонь Гераклитов на хаос древесный из Хаоса и беспорядка и деревом в дерево тычетИногда это стихотворение кажется мне грустной эпитафией не только самому Виктору, но и всем нам, живущим Словом.
Владимир Гоосс Самозарождение экспрессионизма
Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова.
О. МандельштамОдним злосчастным вечером шестнадцатилетний мальчишка и его подружка перелезли через пики чугунной ограды и оказались в уютном ухоженном садике. Они сидели на скамейке среди цветов, рядом с кустом акации, болтали о чем Бог пошлет и целовались.
Идиллия длилась недолго: набежали охранники и стали, как говорится, «вязать» пришельцев, причем сразу «вручную» и со скабрезными оценками женских достоинств девчонки. Парнишка был маленького роста и не силен физически, в старой русской литературе о таких писали — тщедушный. В процессе выяснения отношений он лягнул ногой одного из обидчиков, не причинив ему, впрочем, ни вреда, ни боли.
Беда была в том, что садик относился к охраняемой территории Смольного, и учиненное подростком лягание суд квалифицировал как нападение на сотрудника Особого отдела охраны при исполнении оным служебных обязанностей. Статья потянула на четыре года лишения свободы. Так будущий художник Владимир Гоосс попал в колонию для малолетних преступников, на языке нашего народа — «на малолетку». Отправили его отбывать срок почему-то на Северный Кавказ. «Малолетка» оказалась сущим адом. Когда Володю по достижении совершеннолетия перевели «на взросляк», это было большим облегчением, ибо во «взрослом» лагере действовали пусть жестокие, но хоть какие-то законы. На «малолетке» же не было никаких.
Они именовались воспитанниками, за слово «заключенный» наказывали. Все вертухаи, то бишь воспитатели, были психически больными, ибо невозможно человеку работать в таком месте и остаться нормальным. Система наказаний поражала уродливой фантазийностью. За мелкие дисциплинарные нарушения, как то: не заправленная койка или посторонний предмет в тумбочке, наказывали в уборной. Писсуары, как правило, были засорены и полны до краев. Легко догадаться, какое там, в условиях южного климата, стояло зловоние. Наказуемый был обязан погрузить кисти руки до запястий в мочу и совершить, смотря по проступку, от десяти до ста приседаний. Для местных воспитанников омерзительность процедуры усугублялась тем, что уборная была открытой, без крыши, а стенки — низкими, и приседающий, выпрямляясь, мог видеть свои родные горы. Шмоны устраивались постоянно, во всякое время суток, и если среди «скинутых» вещей обнаруживались «злые предметы» (нож, напильник, любая железка, хотя бы символически напоминающая оружие), то, чтобы заставить владельца сознаться, весь отряд начинали «морить», то есть издеваться причудливыми способами. Например, ночью всех неожиданно будили (иногда не один раз за ночь) и заставляли передвигаться по нелепому маршруту: под одной койкой нужно было проползти, а через следующую — перелезть сверху, под следующей опять проползти и т.д. Затем следовала пробежка вокруг барака, возвращение внутрь, и все начиналось сначала — пока воспитателю не надоест наблюдать это абсурдное зрелище.
«Малолетка» сформировала в Гооссе волю к выживанию, изворотливость, тотальное неприятие любых государственных установлений и антипатию к человеческой популяции вообще.
Однажды он заявил, что Земля прекрасна, ибо она живая. Водоемы — ее глаза, а леса — волосы. Люди же суть вредные насекомые, паразиты, которые завелись на Земле вопреки ее воле, и наша планета ждет с нетерпением, чтобы прилетели пришельцы и посыпали все порошком, наподобие дуста. И еще Володя любил повторять:
— Все люди — менты. Только одни об этом знают, а другие — нет. Накопив определенные обиды на человечество, он часто вымещал их на случайно подвернувшихся под руку людях, то есть в чистом виде демонстрировал то, что в психологии называется рекомпенсацией и гиперкомпенсацией. Если человек имел несчастье ему не понравиться, Гоосс сразу же начинал его изводить. Делал он это умело и безжалостно, что, собственно, и предопределило его воистину ужасный конец. Будучи человеком артистической складки, он часто облекал эти процедуры в форму сюжетного скандала. Он был мастером классического скандала, по Достоевскому, с завязкой, кульминацией и развязкой. Затеять скандал он мог где угодно — в поезде, в магазине, в ресторане, в гостях. Делал он это обычно с радостным выражением лица и далее оставался совершенно спокойным, тогда как остальные участники действия лезли на стены.
Однажды ему не глянулась продавщица винного магазина — она путалась в деньгах и отвлекалась на разговоры с сидевшей у прилавка приятельницей.
— Смотри, — объявил Володя со счастливой улыбкой, — у бабки уже усы выросли, а обслуживать покупателей так и не научилась. Э, да она еще и слепая! Пора на пенсию, теперь ей только коврики плести, это можно и на ощупь!
Далее между Гооссом и продавщицей состоялась театрализованная дискуссия, содержание которой угадать нетрудно. Пока они собачились, торговля остановилась, и очередь начала возмущаться.
— Я не буду его обслуживать, он меня оскорбил, — заявила продавщица.
— Ну и что, что оскорбил? — вмешалась стоящая позади Володи солидная дама. — Он вас оскорбил только четыре раза, а вы его — семь раз. Я считала, я учительница. Удивительно, как бы скверно Гоосс себя ни вел, обязательно находилась пожилая дама, готовая его защищать.
Всех, имеющих отношение к правоохранительной системе, он до крайности не любил. Однажды в числе моих гостей была чудесная женщина, Лена Гордиевская, юрист, сначала секретарь суда, а затем и судья. Все пребывали в отличном настроении, но в какой-то момент не хватило закуски, и Лена пошла на кухню приготовить салат. Гоосс увязался за ней и начал, что называется, «строить куры», Лена отнеслась к этому благосклонно, и все было весело и прекрасно. Но как только выяснилось, что Лена — судья, галантный ухажер мигом превратился в злобного звереныша.
— Так ты — ментовка! — завопил он. — Как ты, ментовка, посмела прийти в этот дом?! Убирайся сейчас же отсюда!
Затем прибежал ко мне:
— Беда, атас, у тебя в доме ментовка!
Я, как мог, вразумил и успокоил его. Но тут пришла Лена, с салатом и со слезами на глазах, и Володя продолжал ей хамить. Мне пришлось угрозить, что выставлю его за дверь, тогда он оставил Лену в покое и взялся за ее мужа. Тот, по странному совпадению, отбывал когда-то, не знаю уж, за какие прегрешения, вместе с Гооссом срок «на малолетке».
— Как ты мог, Мишка, жениться на ментовке? Ты ведь наш, ты честно отпахал срок! Это же западло, жениться на ментовке.
Муж Лены принялся обстоятельно объяснять, что она «не такая», не ментовка, что в свое время бросила ЛЭТИ и поступила на юридический факультет специально, чтобы в будущем защищать своих друзей, и что судит она «по совести и по понятиям». — Ты меня убедил, — сказал Володя, — значит, я ошибся.
— Ну конечно, — обрадовался собеседник, — я же знал, что ты все поймешь. Давай выпьем.
Они выпили, и Гоосс задумался:
— Все равно не понимаю, как можно спать с судьей!
Нужно заметить, что на моей памяти Гоосс — единственный, кому удалось довести Лену Гордиевскую до слез. Это не удавалось даже ее мужу.
Уважал Володя только людей сильных, способных противостоять его наскокам. Однажды ко мне на день рождения пришел режиссер пантомимы Влад Дружинин. Он пришел с репетиции, с большим опозданием и, понятно, голодный. Остальные гости уже плясали, болтали, флиртовали и вообще развлекались, кто как умел, а Влад сидел за столом, активно уплетал закуски, иногда выпивал со мной рюмочку и еще успевал что-то рассказывать. Гооссу очень не понравилось, что кому-то уделяется избыточное персональное внимание. Он присел рядом с нами и начал задавать Владу хитрые провокационные вопросы, всячески «цепляя» его, да и просто хамить. Влад же, не переставая жевать, отвечал ему любезными короткими репликами типа: «Да, да, это интересно», «Весьма возможно, что вы правы», «Я над этим подумаю» и даже «Мы как-нибудь вместе это обсудим». Как ни тужился Володя, ему не удалось разозлить Дружинина, и он удалился искать следующую жертву. А через пару дней как бы невзначай сказал:
— Я думаю, Влад Дружинин — талантливый режиссер.
Допекая кого-нибудь, Гоосс использовал грубые наскоки только для ускорения темпа событий, если же времени было достаточно и аудитория казалась ему достойной, он мог развлечь публику и тонким ехидством. В нашей компании был слушатель старшего курса Духовной академии, уже рукоположенный в дьяконы. Он грешил пристрастием к алкоголю, как-то на вечеринке, подвыпив и несколько неуклюже поухаживав за одной из девушек, принялся каяться и преувеличенно шельмовать себя за скверное поведение и пьянство, явно в надежде, что друзья начнут его жалеть и утешать. Эту роль взял на себя Гоосс:
— Да не казнись ты так, не спускай на себя Полкана, не такой уж ты и плохой! Ты просто пойми, пьянка — такой жидкий крест, который ты должен нести.
Эта метафора — жидкий крест — так понравилась некоторым писателям, что они использовали ее в своих сочинениях.
А однажды на посиделке в мастерской кто-то из художников рассказал анекдот, из тех, от которых люди теряют аппетит.
— Фу, — возмутилась одна из девиц, — теперь я неделю не смогу ничего есть!
Другой художник, чтобы загладить неловкость, принялся рассказывать содержание только что прочитанной книги, но сделал это крайне скучно и косноязычно. Когда он закончил и молчание стало для всех утомительным, Гоосс заявил:
— Ну вот, мало того, что неделю не сможем есть, так мы еще с месяц не сможем ничего и читать!
Владимир Гоосс с детства любил рисовать, хотел учиться живописи и стать художником. А вместо желанной учебы попал на «малолетку», с нее — на «взросляк» и вышел на свободу в двадцатилетнем возрасте, обогащенный специфическим жизненным опытом и лагерным жаргоном. Тут бы и заняться живописью, но по естественному ходу событий он сразу же попадает в армию. Лагерный опыт не пропал даром. В армейской жизни, тяжелой, а иногда и гибельной для людей нервного склада, таких, как Гоосс, он существовал благополучно и даже устроился с определенным комфортом. У него неправильно сросшийся перелом лучевой кости правой руки, и он этим переломом грамотно пользуется. Он попадает не в строевой контингент, а в сторожа. Он охраняет какой-то склад и умудряется так проявить себя на этом поприще, что его вскоре производят в младшие сержанты. Он становится начальником охраны склада, и у него теперь двое подчиненных. Сколько-то раз в сутки, по специальному расписанию, Володя со своим «отрядом» обязан по предписанному маршруту обходить территорию склада. Он считает, что ему как начальнику «западло» ходить пешком, и его подчиненные во время обходов возят его в строительной тачке, из коей он и командует ими. Гоосс — маленький и легкий, и солдатики не обижаются, им даже весело. Все это, конечно, тоже относится к сфере гиперкомпенсации, но зрелище, надо думать, было уморительное.
Володя демобилизовался и оказался в Петербурге как раз во время формирования художественного андеграунда, незадолго до первой масштабной андеграундной выставки в ДК Газа (1974 год). На нее он еще не успевает, а в следующей, в «Невском», уже участвует. Происходит переоценка ценностей. О том, чтобы где-либо учиться, уже нет и речи. Просто нет времени, нельзя отставать от поезда. Да оказывается, учиться и не нужно. В стране и так полно бездарных никудышных художников с образованием, и толку от него никакого. Достаточно иметь творческий запал и энергию, чтобы стать кем захочешь — художником, поэтом, писателем. Формируется богемная среда, кружки, салоны, салончики. Каждый день под всеобщие аплодисменты появляются новые таланты. К живописи принюхиваются иностранные дипломаты и многочисленные коллекционеры. Всеобщая эйфория подхлестывает, главное — не отстать. Все празднично и весело так, что голова кружится — сплошной карнавал какой-то.
Казалось бы, все чудесно. Но, как говорится, «черт всегда веревку вьет». Судьба уже приготовила Гооссу очередную мерзость, используя в качестве повода именно то, что было для него главнее всего — живопись. Он, увы, этого не предвидит. Эйфория — страшная вещь: она делает человека самонадеянным и легкомысленным. А предугадать, вообще-то, можно было. Все знали, что волк, санитар леса, не дремлет. Государство и КГБ гоняли художников бульдозерами, устраивали им всевозможные пакости, под разными предлогами арестовывали, хотя почти сразу и выпускали. Все это даже нравилось — привносило в жизнь остроту и ощущение собственной значимости. Как-никак, хоть какой-то статус. Но можно было догадаться — при любой подвижке и государственных масс в первую очередь будут перемолоты наиболее уязвимые элементы, то бишь люди, ранее имевшие любую отсидку.
Но Гоосс о мрачном не думает. Он увлечен, пишет живопись, царапает офорты и выставляется везде, где может: в клубах, домах культуры, в частных салончиках и на квартирных выставках. Природная сообразительность ему подсказывает: все-таки надо хоть у кого-то хоть чему-нибудь поучиться. Того, что когда-то его научили смешивать краски, мало. Он часто появляется в мастерской Андрея Геннадиева и начинает называть его своим учителем, а тот против этого не возражает.
Иметь учеников тогда считалось престижным. У самого Геннадиева, в отличие от многих художников андеграунда, за плечами школа: Серовское училище, а также участие в группе «Петербург» и уехавший в Париж наставник — Шемякин. Кстати, именно у Геннадиева я и познакомился с Гооссом. Он подошел и сказал, что хочет показать мне свои работы — нравы в той среде были простые. Тогда он показал только графику — ее можно было носить в папке с собой.
Гоосс много пишет, ищет себя методом проб и ошибок. Совершенно не смущается неудачами. Он чему-то учится у Геннадиева, но на его живописи влияние Андрея не сказывается. В графике оно просматривается, и частности, в некоторой сдержанной орнаментальности, а в живописи — нет. Он быстро развивается, на его полотна на выставках стали обращать внимание, в том числе и коллекционеры. У него иногда что-то покупают. И наибольший интерес вызывают работы, тяготеющие к экспрессионизму.
Стоп. Тенденция определилась. Он неизбежно должен был прийти к этому. Он никоим образом не был наследником классического, германского экспрессионизма, да к тому же практически о нем ничего не знал. Он пришел к экспрессионизму спонтанно, как к естественному следствию своего внутреннего состояния. Ведь экспрессионизм — не что иное, как художественная форма гиперкомпенсации, только направленная не на конкретную личность, а на человечество в целом. Ни одно другое художественное направление не имеет столь конкретной цели допечь зрителя, причинить ему неприятные эмоции. Не удивить, не озадачить, не шокировать, а именно допечь. И экспрессионизм по сути — сплошной большой скандал. Да и не только по сути — любая выставка экспрессионистов была конкретным скандалом, а любое отдельное полотно — маленьким скандальчиком.
Гоосс не считал себя обиженным жизнью, ибо чувствовал, что как художник развивается, и шел по пути успеха (или ему так казалось). Он был жизнелюбив по всем пунктам: выпивки с друзьями, гашиш, женщины и живопись, живопись, живопись. Он бы обиделся, если бы ему сказали, что он обижен. Но на дне души скопилось немало ужаса и горечи. Иногда они проникали на полотна, и именно эти холсты постоянно оказывались наиболее впечатляющими и интересными. А дальше уже идет работа естественного отбора, ибо среди произведений искусства тоже действует естественный отбор.
Гоосс постоянно экспериментировал, ему всегда казалось, что главные находки — еще впереди, и это, вообще говоря, признак здоровья. Он не пытался закрепить свои удачи простым тиражированием. Поэтому полотен, которые можно напрямую соотнести с экспрессионизмом, немного, но они самые впечатляющие. Это его собственный экспрессионизм, он сам к нему пришел. Нужно сказать, что во всех полотнах Гоосса, независимо от манеры, в которой они написаны, присутствуют экспрессия и энергетика, все его работы очень активны и часто агрессивны.
Вот автопортрет. Небольшой, 30x40, холст, масло. Темноватый, в основном в лилово-серых и зеленовато-серых тонах. Написан в конце семидесятых. Лицо асимметрично: и по общим контурам, и по каждой отдельной мелочи. Все линии деформированы, это, собственно, не лицо, а гримаса — очень качественно прописанная гримаса. Мимика кажется конвульсивной, но это неточно. Точнее так: конвульсии были раньше, а лицо хранит их следы. Гамма эмоций сложная, но прежде всего — это лицо человека страдающего. Немой крик (да простит мне читатель этот заезженный оксюморон).
Первая реакция зрителя: подумаешь, лицо страдающее! Видели много раз.
Но отвернуться и отойти почему-то не хочется. В чем дело? В том, что притаилось в глубине портрета — что-то невероятно сложное, интересное и страшное. Какая-то завораживающая жуть. И понять, что там именно, не получается, и отвернуться не хочется.
Обычно, если зрителю кажется, что портрет таит какую-то глубь, он видит ее в глазах. А здесь глубина и в любом кусочке холста, и в полотне в целом — работает каждый квадратный сантиметр. И никак не отойти в сторону, ибо портрет прекрасен. Некрасив, но прекрасен. И зритель с удивлением может повторить слова Миссимы:
— Неужто нечто, настолько лишенное красоты, может быть прекрасным?
На всякий случай прошу прощения у читателя за возможные неточности в описании портрета: я видел его на выставке более двадцати лет назад. И вот ведь как врезался в память! Таков стихийный экспрессионизм Гоосса, экспрессионизм с человеческим лицом.
Последняя фраза — не шутка и не острота, ибо нормативный немецкий экспрессионизм человеческого лица не имел. Немецкие экспрессионисты отринули очень важный принцип любого искусства, до которого Гоосс дошел самостоятельно, надо думать, он хранился у него и геноме: безобразное может быть только предметом, но не средством изображения. Михаил Чехов писал об этом так: «Безобразное на сцене имеет право присутствовать только в качестве объекта изображения», а Моцарт — по-своему: «Я должен изобразить хаос с помощью прекрасных звуков». Уродцы Нольде вызывают у зрителя натуральную рвотную реакцию (а Нольде именно этого и добивался), это уже скандал за рамками искусства. Гоосс достоин похвал за то, что не путал скандал в искусстве (экспрессионизм) со скандалом житейским и тем более физиологическим.
А вот другое полотно — городской пейзаж. Поразительное сходство с автопортретом. Все линии деформированы, дома кажутся не постройками, а биологическими объектами и почему-то напоминают о творениях безумного Гауди, хотя совсем на них не похожи. Как и в автопортрете, везде следы конвульсий и ощущение манящей жути в глубине полотна. Но этот холст намного больше автопортрета (100x50), и у зрителя возникает реальный страх быть втянутым внутрь пространства картины и на деле познать таящийся там ужас. Перед нами город страдающий и одновременно угрожающий. По сути это полотно — тоже автопортрет. Явление, вообще говоря, не уникальное, можно даже сказать — общее место: многие петербургские художники, точно и тонко чувствующие наш город, смотрятся в него, как в зеркало, и любой их городской пейзаж — не что иное, как автопортрет. Но у Гоосса вообще теряется грань между городом и художником, и зрителю кажется, что вот-вот исчезнет последний барьер, отделяющий его самого от затаившейся в пространстве картины бездны, и ему становится по-настоящему страшно.
Живопись Гоосса этого времени впечатляла и нравилась публике, его заметили как художника, но никто не обратил внимания на его определенную самостоятельность. Дело в том, что андеграунд в целом по понятным причинам тяготел к экспрессионизму, и на стенды выставок просто посыпались подражания, от тактичных и тонких реминисценций до прямых римейков (например, Миллер) — я уж не буду перечислять всех. И сдержанный негативизм Гоосса просто утонул в этой вакханалии мрака.
В тот период Володя отдал дань и библейским сюжетам (например, «Оплакивание Христа» и «Воскрешение Лазаря») — где-то в глубине его сознания засела мысль, что художник обязан пройти через это. В них он тоже вкладывал немало экспрессии, и это производило странное впечатление, но отнюдь не комическое. Выставлять эти полотна он никогда не решался.
Теперь Володя прежде всего хотел выделиться из общей массы художников. Он задал себе четкую цель — научиться писать так, чтобы зритель издали видел — это Гоосс. И не желал дальнейшего нагнетания мрака, ибо хлебнул его предостаточно. Он опять ушел в эксперименты, и в результате стали появляться необычные полотна, сперва маленькие, а затем покрупнее. На них все значимые предметы, и тем более человеческие фигуры, кажутся рельефными, выпуклыми. Они действительно немного выпуклые, но далеко не в такой степени, как это воспринимается зрительно. С дьявольским терпением, слой за слоем, художник накладывает краску, каждый раз давая ей высохнуть, а потом уже чисто живописными средствами усиливает ощущение рельефности. Такую живопись просто «пастозной» уже не назовешь. Л порой зритель даже задается вопросом — да живопись ли это вообще? И, подумав, решает: да, живопись. Потому что и фигуры, и фон — все прописано превосходно, краска живет и вибрирует, каждый сантиметр полотна ведет диалог со зрителем. При такой, выражаясь по-филоновски, «сделанности» сюжет уже не важен, можно писать хоть собственную шляпу, хоть курицу. Но Гооссне был бы Гооссом, если бы не вкладывал в сюжет причудливость и экспрессию.
Вот одно из весьма причудливых полотен: «Любовь повара». На стуле сидит человек. Он действительно повар, потому что на нем белый колпак. На коленях его сидит обнаженная женщина. Левой рукой повар похотливо обнимает женщину, а пальцы правой — у нее в паху. Многие из видевших картину не сомневались, что изображен акт маструбации, но это недоказуемо. А женщину действия повара, похоже, не занимают — она отвернулась и разглядывает парящую перед ее лицом птицу.
Сам Володя объяснил сюжет так:
— Понимаешь, я хотел показать странность жизни. Он любит ее, а она — какую-то птицу.
Но зрителю не до странности жизни. Его завораживает особая атмосфера живописного пространства — душноватая, пряная, чувственная, она затягивает в себя сразу, и из нее нелегко вырваться.
На картине всего три фигуры: мужчина, женщина, птица. Стул не в счет: он почти не заметен. Ничего лишнего, от этого легкое ощущение театральности. Фон — зеленоватый, сам по себе притягивающий взгляд, стул — темный, мужчина — в цветных, несколько экзотических одеждах. И все это вместе образует как бы обобщенный фон для самостоятельно уравновешенной композиции из трех белых объектов — поварского колпака, женщины и птицы. Пластика женщины странная, отчасти иконописная, фигура кажется невесомой, летящей, но есть в ней и что-то неуловимо-бесовское, что-то от оборотня. Но больше всего поражает на этом холсте белый цвет — он смуглый, чувственный, насыщенный страстью, наверняка теплый, а то и горячий на ощупь, живущий, дышащий. Тут же приходит на память колдовской белый цвет Шардена, хотя общего между ними мало. Зритель удивляется: почему повар? Неужто ради белого колпака? Так ведь на свете есть много чего белого.
Дело в том, что для Гоосса это кивок в сторону поваров Сутина. Для него Хаим Сутин был очень значимой фигурой. Не то что бы кумиром — не такой был Гоосс человек, чтобы иметь кумиров, — но говорил он о нем всегда с восхищением. Ему нравилась живопись Сутина, ибо от нее веяло экспрессионизмом с человеческим лицом. Он был близок и симпатичен ему психологически, ибо натерпевшись от жизни, пережив период униженности и безнадежности, выбился из нищеты и несчастий и нашел импонирующие Гооссу способы рекомпенсации. Один из них приводил Володю просто в восторг: когда Сутин стал богат, он всегда держал на столе в прихожей толстую пачку денежных купюр, чтобы приходящие к нему в гости бедствующие художники могли, не унижаясь, брать, сколько нужно. Гооссу такая форма рекомпенсации была, увы, недоступна.
Полотна Гоосса, написанные, или, осторожнее выражаясь, сооруженные в его новой манере, пользовались успехом, их охотно покупали коллекционеры, и уже не зa гроши, поскольку огромный труд, вложенный в эти артефакты, был очевиден, а имя художника стало достаточно известным.
Володя не замедлил подвести под изобретенную технологию как бы теоретическую базу:
— Я хочу, чтобы человек получил не просто картину, не только изображение, а прекрасный предмет, хорошую вещь, имеющую объем, вес и форму.
Заметим в скобках, что здесь между строчек прочитывается забота не столько о зрителе, сколько о покупателе.
Как бы то ни было, в это время Владимир Гоосс и как художник, и как личность был на подъеме. И тут судьба в очередной раз нанесла ему жестокий удар. Госбезопасность, в силу ныне непостижимой госпаранойи, активизировала войну с андеграундом. Всех посадить невозможно — не те времена, плевать на весь мир было уже нельзя. Поэтому «морили» художников индивидуально. Все чаще вступали в действие «неизвестные лица». Они грабили мастерские, даже иногда поджигали, пьяного могли избить на улице. Ну, а если уж было известно, что художник балуется наркотой, задача упрощалась до предела. У такого человека обязательно что-нибудь найдется, не в первый, так во второй, в третий раз. Так зачем же зря тратить время? Улику просто приносили с собой. Тяжелыми наркотиками художники не грешили, покуривали в основном план, то бишь гашиш. Его-то оперативники и приносили. Им выдавали на один обыск по пять граммов, ровно столько, чтобы потянуло на статью «приобретение и хранение». Поэтому все дела по этой статье отличались комическим единообразием вещественных доказательств: пять граммов гашиша в спичечном коробке и две десятых грамма неопознанного наркотика в кармане плаща или куртки (смотря что висело на вешалке).
У Гоосса пять граммов обнаружили на шкафу. Он впоследствии комментировал это так:
— Ну подумай, какой же мудак станет план держать на шкафу? У меня план, конечно, был, только хрен бы они его нашли.
Помимо плана, к Володе за несколько дней до обыска подослали двух несовершеннолетних потаскушек. Но он, будучи человеком настороженным, а порой и подозрительным, выяснил первым делом их возраст и не стал иметь с ними дела ни в каком смысле. Несмотря на все просьбы, не угостил даже портвейном. Тем не менее на процессе они присутствовали в качестве свидетелей и утверждали, что подсудимый «втягивал их в употребление наркотиков». К счастью для Гоосса, судья оказалась человеком нормальным. Позднее он описывал ее так:
— Красивая такая, величественная, ну прямо Голда Мейер! Сидит за столом, как царица! (Голда Мейер — тогдашний премьер-министр Израиля, дама, снискавшая всеобщее уважение.)
Судья стала допытываться у немытых девчонок:
— Как он вас втягивал? Расскажите подробнее.
— Просто втягивал. Втягивал, и все.
— Я спрашиваю, как именно он вас втягивал, — начала раздражаться Голда Мейер. — В каких действиях или словах это выражалось?
Для дурочек это было слишком сложно, одна начала хлюпать носом:
— Я же говорю, втягивал! Все время втягивал. Судья оказалась на высоте. Она вытащила откуда то из-под стола здоровенный, с кулак, ком гашиша и спросила у свидетельниц:
— Что это такое?
— Не знаю, — поочередно ответили обе.
— Вон! — рассердилась судья и пояснила секретарю: — Показания к делу не приобщаются.
Она присудила Гооссу четыре года «химии» — ровно столько, сколько полагалось за хранение пяти грамм гашиша. Если бы она пожелала прислушиваться к идиотским речам «свидетельниц», срок был бы совсем другим.
«Химия» — это работа на предприятиях народного хозяйства с частичным ограничением свободы, способ доставить рабочую силу туда, куда иначе человека загнать невозможно. Гоосс попал в Кингисепп — город, над которым властвовал комбинат химических удобрений, тех самых, что отравляли овощи по всей стране. Кирпичные трубы разливали над городом едкие газы, дожди шли вонючие, лужи мерцали радужной пленкой, а снег зимой ложился слоями разных цветов. Ни кустов, ни деревьев в городе не было, ибо растения его атмосферы не выдерживали. Единственное развлечение населения — пьянство и пьяные драки.
«Химики» отличались от «вольных» только тем, что обязаны были с десяти вечера находиться дома. Жили «химики» в мини-общежитиях, устроенных в обыкновенных квартирах. За тем, как они соблюдают режим, и вообще, как себя ведут, надзирала специализированная «народная дружина». Дружинники начинали обходить квартиры с десяти вечера, вымогая у поднадзорных деньги или выпивку. Строптивых для развлечения иногда избивали за беспорядок в квартире (например, не на месте лежащие тапочки). Понятно, что в условиях безнаказанности у дружинников развивались садистские наклонности, да и просто «съезжала крыша».
Обладая лагерным опытом, Гоосс устроился сносно. Вследствие непригодности к физической работе (все тот же старый перелом) его приставили к какой-то химической установке, не требовавшей от него практически никакой деятельности. С дружинниками не собачился и позволял себе нелегально на субботу и воскресенье уезжать в Петербург.
Попадая в привычную богемную обстановку, он мгновенно забывал о существовании Кингисеппа. В один из воскресных визитов в наш город он встретил свою давнюю подружку, с которой когда-то забрался на охраняемую территорию Смольного. За прошедшее время она успела выйти замуж, родить сына, развестись и поступить в Академию художеств на скульптуру. Она считалась талантливой и многообещающей, только вот общеобразовательные предметы ей ни как не давались. Они вместе курили гашиш и выпивали с друзьями — в общем, два дня в неделю были счастливы. Володя везде представлял ее как свою жену. Иногда в эти уикенды он даже ухитрялся что-то писать.
И вот однажды, в разгаре веселого и счастливого праздника у него не хватило решимости уехать в окаянный Кингисепп. Он прогулял день, потом еще и еще, а дальше уж — семь бед, один ответ. Гоосс стал беглым преступником. На «химии» такие случаи были не редкость, и кончались они либо взяткой, либо перекочевыванием «на зону». Володя был в бегах почти год. Он успел написать десятка полтора полотен и несколько продать, съездить на юг и заработать там на ниве монументальной пропаганды приличные деньги, каковые по возвращении в Питер стал тратить со вкусом и удовольствием. Но все на свете кончается, а деньги — скорее всего. К тому же нельзя быть вечно беглым каторжником. И он, и его дама понимают — надо сдаваться. Она надеется разжалобить прокурора и едет в Кингисепп вместе с Володей. По пути они сочиняют историю о том, что он сбежал из страха перед дружинниками, главный из которых грозился зарубить его топором.
Говорят, что ангелы-хранители отчасти перенимают замашки своих подопечных и, что бы выручить их, готовы на что угодно. Наверное, это правда, потому что ангел-хранитель Гоосса перед его явкой с повинной надоумил дружинника зарубить одного несчастного «химика» именно топором. К приезду Володи дружинник был арестован и ждал суда, а жалостная история, рассказанная супружеской парой, легла на благодатную почву. Его не перевели в лагерь и даже не надбавили срок. Ему оставалось дотерпеть ровно столько, сколько он не дотянул — около девяти месяцев. Все вернулось на круги своя — он снова пять дней в неделю отсиживает у химической установки и два дня проводит в Питере. И выдержать это нужно уже менее девяти месяцев, а дальше — законная свобода. Но образумить Гоосса не удавалось никогда никому — ни людям, ни судьбе, ни самому Господу Богу. В один из приездов он встречает неотразимую для себя девицу, и начинается очередная большая любовь. Какая уж тут «химия»! Он опять в бегах. Это рецидив, и на него объявляют розыск. Теперь Володе жить в городе негде, да к тому же опасно, и он скрывается от закона у меня на даче в Кирилловском, часть времени — в одиночку, а часть — со своей новой пассией. Это длится с октября по февраль. Он два раза в сутки топит печку и, ленясь готовить, носит пищу домой прямо в тарелках за полкилометра из местной столовой. На даче у меня до сих пор пылится стопка общепитовских тарелок. Когда приезжает его подружка, они пьют водку и курят гашиш.
В критических ситуациях Володя был способен проявлять дерзость и хладнокровие. В один из поздних зимних вечеров в Кирилловском почему-то отключили свет часа на полтора, и за это время некие сообразительные люди успели вскрыть и ограбить магазин. Вызвали милиционеров, и те, за неимением других идей, стали обходить в дачном поселке все немногочисленные дома, где светились окна, и выспрашивать, не видел ли кто чего или не слышал. Гоосс об этом ничего не знал. И вот к беглому преступнику, на которого объявлен розыск, уже ночью заявляются два милиционера. А у него нет вообще никаких документов. Какова его реакция? Он принимает их с широкой улыбкой, предлагает чай. Объясняет, что он друг владельца дачи и пишет здесь картины. Тогда ему вздумалось изобразить на холсте ангела —самого обыкновенного, всамделишного ангела, с крыльями за спиной. Он показывает гостям еще сырое полотно, оно написано яркими звонкими красками и нравится милиционерам. На прощание они говорят: только зачем вы тут держите так много книг, вас же обязательно обворуют, сами видите, что здесь бывает. Гоосс охотно им подпевает: да, да, я скажу хозяину, нынче много развелось преступного элемента.
Сейчас у него достаточно времени для живописи. Он пробует писать «обнаженку» с натуры — свою подружку, сидящую на стуле, на черном фоне. Черный фон означает, что он вспомнил Геннадиева: тот любил портреты на черном фоне и унаследовал это, в свою очередь, от Шемякина. Картина явно не удается, и в раздражении Гоосс закрашивает ее целиком газовой сажей.
Писание с натуры — его слабое место. Это видела в свое время его жена-скульпторша и предлагала ему походить в Академию и пописать в натурных классах (в Академии это допускалось). Володя знал, что многие маститые художники не гнушались иногда писать вместе со студентами с натуры — для поддержания тонуса кисти. Но Гоосс тогда отказался, он — художник андеграунда и к тому же известный, ему это «западло».
К концу февраля он исчерпал все источники раздобывания денег, сжег все дрова на даче, и зимние каникулы кончились. Володя вторично поехал сдаваться, теперь без моральной поддержки, один на один с судьбой и системой исполнения наказаний. На этот раз ангел-хранитель оказался бессилен. На оставшиеся девять месяцев Гоосс едет в лагерь строгого режима. Это не милосердно и не жестоко — по норме.
Лагерь — на севере Кольского полуострова, у самого Ледовитого океана. Володя продолжает успешно эксплуатировать свой перелом лучевой кости, и он к тому же — художник. Потому попадает не на общие работы, а в «красный уголок». Днем он, не напрягаясь, в одиночестве малюет плакаты и лозунги, и прочую чушь на потребу замполиту, а вечерами с другими зеками курит гашиш, пьет крепкий чай (до чифиря он не дошел) и изводит кого-нибудь из числа новых знакомых, пришедшихся ему не по нраву.
Деятельность замполита оценивается прежде всего по количеству и качеству наглядной агитации. Гоосс трудолюбив, весь лагерь дивно изукрашен его продукцией. Заезжее начальство довольно замполитом, а замполит доволен Гооссом.
В России тогда порнографии не было, и люди, тяготевшие к ней душой, за неимением ничего другого, покупали альбомы репродукций классической живописи. Однажды замполит поехал в Питер и в гостях у знакомых увидел полиграфическое воспроизведение «Шествия Дианы» Рубенса. Картинка ему так понравилась, что он взял кальку и прорисовал на ней, как умел, все фигуры композиции. В лагере он выложил кальку перед своим художником и велел сделать живопись. Гоосс сразу смекнул, что от него требуется.
— Я ему такие жопы и титьки забацал, — рассказывал он потом, — Рубенс усрался бы!
В административном поселке людей, равных по рангу замполиту, было еще двое: начальник лагеря и начальник рудника — и они были обречены на застолье втроем. Замполит повесил у себя в столовой Гоосса-Рубенса и пригласил друзей. Это был вечер его триумфа: пока они выпивали и закусывали, гости глаз не сводили с античных красавиц. На следующий день замполит на всякий случай предупредил художника:— Если тебе кто чего предложит, не вздумай нарисовать такую же! Тогда тебе не жить.
Замполит проникся к зеку-художнику чем-то вроде симпатии. Однажды он принес Гооссу ком гашиша граммов в шестьсот:
— Вот, отобрал у зеков. Ты художник, тебе, наверное, надо.
Шестьсот граммов гашиша в лагере — целое богатство и, в частности, при торговле в розницу, дозами — большие деньги. Гоосс, понятно, планом не торговал, но обменивал иногда на сигареты и чай — тоже лагерная валюта. Он также угощал приятелей, и у него сложился ближний круг «своих пацанов». А общаясь с замполитом, он заранее знал о многих грядущих событиях, в частности, о шмонах, и это ему прибавляло авторитета. Одним словом, Володя на зоне «стоял крепко», хотя и числился в «придури».
Впоследствии он иногда заявлял, что зона — более справедливая социальная модель, чем государство в целом. Впрочем, как известно, такие суждения в России — не редкость. Он считал, что в лагере процент талантливых людей гораздо выше, чем где бы то ни было. Гуляя по Петербургу, он мог ни с того ни с сего спросить, указывая рукой на прохожих:
— Среди этих мудаков разве найдешь такого, кто вскипятит воду и заварит чай в полиэтиленовом пакете на открытом огне?
Мне Володя однажды сказал, причем без всякого логического повода:
— Если ты когда-нибудь попадешь в лагерь, то станешь там паханом. Не сомневайся, на волю выйдешь богатым человеком.
Этот радужный прогноз не вызвал у меня, мягко говоря, никакого энтузиазма. Вокруг каждого лагеря есть вторая, прилагерная зона, нечто вроде средневекового русского «посада» вокруг «детинца». В ней живет часть вольнонаемной рабочей силы, а также своеобразные снабженцы, занятые доставкой в лагерь чая, папирос, наркоты и переправкой во внешний мир полученной выручки. В этих негоциях всегда в доле и лагерная администрация. Оседает здесь и кое-кто из отпахавших срок, те, кому не уехать отсюда, поскольку у них нигде нет прописки. А тут прописка не требуется, ибо дальше высылать некуда.
Освободившись, Гоосс в «посаде» попал в объятия своих дружбанов, вышедших на волю раньше него, и загулял с ними. Пропьянствовав две недели, он вспомнил, что впопыхах не успел прихватить с собой запас гашиша, который хранил в «красном уголке», в нарушение своей давней сентенции, на шкафу. Недолго думая, он из лагерной проходной позвонил замполиту и попросил разрешения забрать свои кисти. Тот удивился: это, мол, первый случай, чтобы зек сам вернулся назад. Конечно, он понял, что у художника на зоне еще какие-то делишки, но посещение «красного уголка» разрешил. В общей сложности Гоосс развлекался в прилагерной зоне месяца полтора.
В Петербурге он несколько остепенился. В очередной раз женился, то есть обзавелся новой возлюбленной и поселился у нее. Вернулся к живописи.
Рекомпенсация продолжается: он не поленился пойти в Государственный архив, и за деньги там получил справку, что его давний предок по прямой линии, некто ван Гоосс, имел дворянское звание.
Далее он съездил по приглашению в Лондон и ухитрился продать там картину за десять тысяч фунтов (с его слов). На время он почувствовал себя обеспеченным человеком, хотя до пачки денег в прихожей было еще далеко.
Теперь Гоосс — авторитетный художник, у него постоянно имеются ученики, и для Володи это — немало-важное обстоятельство. Художников андеграунда постоянно попрекали отсутствием специального образования, с подтекстом, что ты, мол, не настоящий художник. Советская Россия была единственной страной в мире, где художник должен был доказывать, что он художник. Одним из доказательств было наличие учеников. Оно приподнимало учителя и в собственных, и в чужих глазax, и к тому же кого-то учить — это тоже способ учиться. Как только Гоосс стал выставляться, у него появились ученики. Честно сказать, не помню, чтобы кто-то из них всерьез хотел стать художником или бы стал им впоследствии, но игра в учеников живописца им нравилась, она напоминала о славных временах цехового средневековья. В обязанности ученика первым делом входило бегать за выпивкой, натягивать холсты и прибираться и мастерской. Не всем такая форма обучения нравилась, и как-то один из учеников, кажется, по имени Дима, стал попрекать Гоосса, что тот его только гоняет за водкой, а живописи не учит. Володя выслушал его молча, затем подошел к стене, взял свою последнюю, едва высохшую картину и тыльной стороной холста звучно хлопнул ученика по голове. Тот от изумления сразу умолк и к вопросу о методике обучения больше не возвращался. Гоосс был очень доволен этим своим поступком, считая его импровизацией на уровне учителей дзена.
К живописи Володя стал относиться вдумчивее. «Выпуклую», пастозную технику оставил и не возвращался к экспрессионизму. Все время пишет по-разному, что-то ищет. Но не говорит, что именно. Мне думается, он хотел сохранить экспрессию, но при этом загнать ее внутрь, чтобы она была не на поверхности, а в глубине картины. А это запрос очень и очень серьезный, сродни поискам философского камня. В тогдашних полотнах Гоосса экспрессия иногда вообще пропадает, и картины теряют «нерв». Независимо от того, чего он добивался, сколько-нибудь внятной новой манеры Володя найти не успел.
Но все это — нормальные издержки творчества. А в остальном жизнь вроде бы устоялась. Беды позади, художник свободен и эстетически, и физически, твори сколько хочешь и как хочешь. Это — душевный комфорт, и на поведенческом уровне Володя меняется в лучшую сторону. Он общается с людьми спокойнее, все реже проявляет агрессию, и иметь с ним дело стало намного проще, чем раньше.
Но карма есть карма. Любой наш поступок, более того, даже крепко проработанная мысль или сильная эмоция оставляют после себя эхо, которое многократно к нам возвращается. И Володю время от времени неожиданно, вдруг, начинают одолевать демоны гиперкомпенсации, и в такие минуты ему, чтобы самоутвердиться, нужно кого-нибудь обидеть или унизить. Это вроде рецидивных приступов старой, забытой болезни.
Судьба всегда очень точно находит уязвимые места человека и обрушивает на него свой свинцовый кулак именно тогда, когда он этого не ждет. Все произошло в течение одного дня. На обычной тусовке в мастерской одного живописца — не хочу здесь упоминать его имя, ибо он к происшедшему никак не причастен — Гоосс познакомился с приезжим молодым человеком, кажется, из Житомира. Тот, как в старое доброе время, сказался поэтом, и ему явно хотелось вписаться в богемную жизнь Петербурга. Как он затесался в компанию художников, никто потом объяснить не мог. Как всегда, что-то пили и о чем-то болтали, затем часть компании, человека четыре, переместилась к Гооссу. Человек из Житомира увязался за ними. У Володи опять что-то пили и о чем-то болтали, и приезжий внезапно решил перестать быть поэтом и сделаться художником и, вроде бы, стал напрашиваться в ученики к Гооссу. Потом друзья Володи ушли, а человек из Житомира остался. Дальнейшему свидетелей нет, но ясно одно: произошла отчаянная, жестокая ссора. Бывший поэт так озверел, что набросился на хозяина дома с ножом и нанес ему более десятка ударов, последние из которых достались уже покойнику.
Так нелепо и страшно завершил свой земной путь Владимир Гоосс, живописец, мастер скандала, человек удивительной дерзости, активно живущий в памяти всех, кто его знал.
История, по сути, мистическая: человек ниоткуда приехал в наш город специально, чтобы зарезать Владимира Гоосса. Володя был склонен к мистическим размышлениям. В частности, ему очень нравилась история о Черном человеке, пришедшем к Моцарту, чтобы заказать реквием. Она стала для Володи чем-то вроде дзенского коана, он постоянно возвращался к этому сюжету в разговорах, предлагая разные его толкования. И теперь мне в голову порой приходит странная мысль: если бы он сумел правильно истолковать историю про Черного человека, то… Но не будем «умножать сущности» сверх необходимого.
Никто из друзей и знакомых Володи не соглашался примириться с тупой абсурдностью происшедшего, и его смерть сразу же стала обрастать легендами. Никто еще не доказал, что реальность важнее легенды. Скорее наоборот — легенда важнее, ибо она дает защиту от злобного идиотизма фактов.
Вот самая распространенная версия. В последний, благополучный период жизни Гоосса у него появился ученик, способный, но с претензиями, с комплексами, уязвимый и возбудимый. Подобные люди для Володи были всегда, что красная тряпка для быка. Однажды ученик дал повод себя повоспитывать, и Гоосс, как всегда в таких случаях, был беспощаден. Он не заметил, как перегнул палку. Ученик уже задыхался от злости, а Гоосс продолжал говорить ему всякие обидные слова. Озверев от бешенства и потеряв разум, ученик набросился на учителя с ножом и нанес ему семнадцать колотых ран.
А убийца, ужаснувшись содеянному, предпринял бессмысленную попытку спасаться бегством. Он уехал в Печоры, покаялся, и священник, проникнувшись к нему жалостью, стал прятать его в колокольне Собора святого Михаила. Об этом прознали милиционеры и явились с ордером на арест, но батюшка их не впускал в колокольню. А Печоры такое место, что там и милиционерам трудно решиться применить силу к священнослужителю, и они действовали убеждением. И пока шла дискуссия внизу, у подножия колокольни, в ее верхнем ярусе несчастный убийца приладил к одной из балок веревку и повесился. Победившая в диспуте милиция смогла арестовать только труп, правда, еще теплый.
И легенда, и факты сходятся в одном: Володя Гоосс умел пробуждать сильные эмоции.
* * *
Этот очерк был написан осенью 2005 года на даче в Кирилловском, где когда-то Володя, будучи «беглым каторжником», скрывался от закона. В числе прочих полотен он тогда написал ангела, и, чтобы освободить подрамник, снял с него холст, свернул в рулон и в таком виде подарил мне, сказав, что ангел будет охранять дачу. Со своей работой ангел справлялся плохо — дачу много раз обворовывали, и плюс к тому однажды местные подростки устроили себе праздник вандализма, с тупым остервенением разрушая все, что можно разбить или сломать. Во время этих перипетий полотно с ангелом исчезло, и неоднократные поиски ничего не дали. И вот именно сейчас, после окончания очерка, ангел нашелся сам собой — оказалось, он прятался в стенном шкафу между полками с одеждой и задней стенкой так, что его было не обнаружить ни визуально, ни на ощупь. Как ни странно, пролежав четверть века и вытерпев положенное чередование зимних морозов и весенней сырости, полотно не потеряло ни единой частицы красочного слоя и сияет такими же звонкими красками, как и двадцать пять лет назад. Остается только гадать — простое ли это совпадение или шутка потусторонних сил.
Борис (Пти-Борис) Смелов Маленькую голенькую девочку спицей по комнате погонять
Его фотографии завораживают. Магическая игра света и тени и точность композиции мгновенно увлекают зрителя во внутреннее пространство фотоснимка, и на выставках отойти от любой из работ Бориса Смелова было всегда непросто. Он был Художником и Петербуржцем — то и другое можно писать с заглавной буквы. Он оставил нам свое видение города, свой «смеловский Петербург», которого не было до него и не будет после. Он был носителем особой психологической атмосферы, сочетавшей поклонение высокому искусству, насмешливость и бесшабашность. В его присутствии никто не решался произносить пафосные речи и напускать на себя важность.
С Петербургом он связан был, можно сказать, генетически. Слово «Ленинград» он до крайности не любил и никогда не употреблял. Он с детства знал, что его бабка окончила Бестужевские курсы, и впоследствии, став известным фотографом, Борис сделает серию портретов переживших все войны и революции пожилых курсисток-бестужевок.
Борис всю жизнь прожил в Петербурге, выезжая из него лишь по необходимости, редко, неохотно и ненадолго. Была поездка в Финляндию со своей выставкой, да еще короткие командировки на Юг от живописно-оформительского комбината, где Боря работал некоторое время. Он мог бы повторить слова Модильяни: «Я не люблю путешествий, они отвлекают от истинного движения». Была, правда, однажды месячная поездка в Америку, но это сюжет отдельный.
С десяти лет мать начала его систематически водить в Эрмитаж, и с тех пор анфилады и залы Зимнего дворца стали навсегда частью его среды обитания. А еще через пару лет он впервые приходит в фотокружок Дворца пионеров, и фотография становится, по сути, его единственной страстью. На нее так или иначе нанизываются псе события его биографии, это и профессия, и увлечение, и образ жизни.
Сначала околдовывает процесс, магия возникновения изображения как бы «из ничего». Человек десяти лет от роду не думает о высотах искусства — это придет намного позднее. А вот чудо рождения фотоснимка не перестает восхищать новичка. Короткий щелчок затвора, томительное ожидание результата проявки — и вот уже можно разглядывать мокрую пленку, на крохотных кадрах которой вместо привычных людей странные негры с белобрысыми волосами, небо — черное, а асфальт — почти белый. Но главнее всего — печать. Отсчитав под увеличителем необходимые секунды экспозиции, в призрачном марсианском свете красного фонаря нужно погрузить в проявитель лист фотобумаги сразу весь, да так, чтобы на ней не осели пузырьки воздуха. И короткая, но напряженная пауза, пока на белом листе не начнут проступать первые размытые темные пятна, постепенно превращающиеся в фотоснимок, который поначалу почти всегда кажется прекрасным.
Руководитель кружка, которого Борис неизменно вспоминал с теплотой, привил ему бескомпромиссную требовательность к качеству: и негативы, и отпечатки — все должно быть сделано безупречно. Это осталось у него на всю жизнь. Из-за небольшого технического огреха он мог забраковать превосходный, с точки зрения друзей, снимок — подобно тому, как Кузнецов из-за одной ошибки в рисунке лично разбивал дорогую, чудесную с виду фарфоровую вазу.
В отличие от большинства фотографов, Пти-Борис никогда не делал пробной контактной распечатки пленки. Опустив очки на кончик носа, он поверх них рассматривал пленку и выбирал нужные негативы. Снимал он в течение жизни разными камерами, но больше всего был привержен «Лейке» (настоящей, немецкой) и «Роллефлексу». Его любимый кадр — квадратный, шесть на шесть. Гениальными фотографами для него были прежде всего Судак и Картье-Брессон. Слово «гениально» постоянно присутствовало в его лексиконе, причем могло относиться, например, к Бранкуши и с таким же успехом к какой-нибудь потрясающе глупой девице, получавшей титул «гениальная дура», причем этот эпитет выделялся специфическим ударением, коего не было, когда речь шла о рядовых творческих гениях.
От фотографии Пти-Борис почти не отвлекался. Пару лет он попробовал поучиться в Оптико-механическом институте, прельстившись идеей подвести под свои занятия фотографией научную базу, но вскоре понял, что ему это не нужно.
В начале семидесятых годов на Большой Московской улице, около Владимирской площади, сложилась тусовка молодых фотографов, полных энергии и изобразительной жадности. Это была мастерская Леонида Богданова. Он вел фотокружок в Доме культуры работников Пищевой промышленности (в просторечии «у пищевиков»). Днем там к азам фотоискусства приобщались детишки, а вечерами кучковались фотографы. Разглядывали снимки и негативы, много спорили и пили что Бог пошлет. Иногда пили изрядно. И в любое время суток со штативами и камерами выбирались бродить по городу.
Соответственно профилю работодателя мастерская называлась «лавкой». Смелова роднила с Богдановым одинаково фанатичная приверженность к качеству негативов и отпечатков, к безупречности исполнения — в этом они не признавали никаких компромиссов. Из известных ныне фотографов в «лавке» бывали Анатолий Сопроненков, Сергей Фалин, Василий Воронцов, Владимир Дорохов и Борис Кудряков, к тому же писавший (и до сих пор пишущий) прозу, да еще и живопись. Все они общались с Константином Кузьминским, который устраивал у себя «под парашютом» выставки не только живописи, но и фотографии. Кузьминский — поэт и писатель, ныне живущий в Америке, в семидесятых годах был весьма популярным питерским персонажем. Под потолком его комнаты действительно был растянутый парашют, превращавший слепящую агрессивность киловаттных ламп в комфортное для выставок рассеянное освещение. Именно Костя придумал для Смелова и Кудрякова, отталкиваясь от их комплекции, прозвища, оставшиеся с ними навсегда — Гран-Борис и Пти-Борис, в сленге петербургской богемы — просто Пти и Гран. Пти-Борю друзья часто именовали «Птишкой».
Однажды в «лавке» появилась юная дама, с коей у Пти-Бори начали складываться как бы романтические отношения. И неожиданно для него хитроумная девица учинила идеологическую диверсию. С ее подачи в процессе совместной выпивки они надрезали свои руки и, выдавив в портвейн сколько-то крови, полученную смесь выпили. Им было примерно по двадцать лет, и к кровному побратимству они относились вполне серьезно. Отношения остались в каком-то смысле романтическими, но перешли в декоративную братско-сестринскую категорию. В лексиконе зазвучали слова «братуха», «браток», «сеструха». А через несколько лет Борис познакомился с художником Наталией Жилиной, и очень скоро они поженились. И сын Жилиной, Митя Шагин, бывший младше Бори на шесть лет, тоже пополнил свой словарный запас «братухами» и «братками». Это была первая заготовка будущей митьковской лексики, и влияние Пти-Бори и далее сказывалось на возникавшей в это время идеологии митьков. Притом что Борис был воспитан на старом, «музейном» искусстве, питал пристрастие к голландской живописи, особо выделяя Малых голландцев, судьба предоставила ему возможность близкого общения и с представителями современной живописи в ее лучших проявлениях. Он попал в круг замечательных художников, ныне весьма известных, чьи имена еще во времена андеграунда произносились с благоговением. Кроме Наталии Жилиной, в этот круг входили Владимир Шагин, Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, Родион Гудзенко. В известной книге «Арефьевский круг» большая часть фотопортретов принадлежит именно Борису Смелову. Он высоко ценил творчество всех без исключения участников этого дружеского кружка.
И для Бориса, и для Наталии Жилиной важным событием было «открытие» и личное знакомство с удивительно талантливым Геннадием Устюговым, по отношению к картинам которого Пти не скупился на слово «гениально».
В его отношениях с окружающим миром и в нем самом было много непредсказуемого. Казалось бы, своим видом и манерой поведения он должен был вызывать жесткое неприятие со стороны старших поколений. Длинноволосый, патлатый, со странной бороденкой, с беспричинной блуждающей улыбкой и слишком острым взглядом из-под круглых стекол очков — не таких маленьких, как у Джона Леннона, но все же слишком маленьких с точки зрения нормативного советского человека. И плюс к этому затейливо выражался. На нем было словно написано «богема», и к ему подобным люди старой, до-советской складки относились пренебрежительно, а советские — подозрительно. Но с Борисом все обстояло иначе: и родители его знакомых, и дедушки с бабушками мгновенно проникались к нему нежностью и норовили взять под опеку.
Какое-то время Пти работал фотографом в издательстве «Художник РСФСР» и был кошмаром для своих начальников. Они его любили, и он делал превосходные и именно такие, как нужно было для дела, снимки, но такие понятия, как «производственная необходимость», не говоря уже о «трудовой дисциплине» и «служебной субординации», были ему совершенно чужды. В его мозгу просто не было клеток, где могли бы размещаться подобные вещи.
Выражался же он затейливо вовсе не из стремления впечатлить собеседников элоквенцией — просто он говорил, как мыслил, а мыслил он очень затейливо. Он пренебрегал общепринятой логикой и постигал мир с помощью сложных многоуровневых ассоциаций, порой совершенно неожиданных для собеседника. Он создавал в воображении собственные образы-символы и сюжеты-символы, коими дальше пользовался как инструментами мышления и общения. Однажды Борис Кудряков показал ему снимок, как бы случайный, почти любительский — какой-то памятник, идут два солдата, видны еще прохожие, в том числе две девицы довольно сексуального вида. Никаких красот нет, все до крайности буднично, ясного сюжета тоже нет, композиция вроде бы есть, но ее еще надо высмотреть, да и напечатано как бы кое-как — а на самом деле все точно выверено и идеально уравновешено вплоть до мельчайшего пятнышка В общем, снято в обычной манере Гран-Бориса. Это было совсем не похоже на столь любимого Пти-Борей Картье-Брессона, и сам Боря так не снимал, но фотографии Грана ему нравились, а эта — очень понравилась. На следующий день он рассказывал о ней так:— Круто! Представляешь: идут два солдатика, а навстречу им — две та-акие девахи!
В дальнейшем Пти на этот снимок неоднократно ссылался, он стал для него символом соотношения фотографии с действительностью, знаком перехода в иную реальность, в фотографическое Зазеркалье. Что ТАМ произойдет дальше? Может, девахи «склеют» солдатиков, а может — пошлют их подальше, может, среди прохожих вспыхнет всеобщая драка, а может — все они вдруг исчезнут, и останется одинокий памятник на пустой площади. По воле фотографа затвор его камеры приоткрывает окошко в мир на долю секунды и тотчас его захлопывает, и снимок становится исходным пунктом виртуального дерева событий, началом творения неожиданных реальностей, зародышем новой многовариантной вселенной.
Созвучие подобным мыслям Борис находил в рассказе Кортасара «Слюни дьявола» и, относясь вообще к Кортасару с пиететом, особо выделял для себя этот рассказ и снятый по нему фильм Антониони «Blow-up» («Фотоувеличение»).
Таким же ключевым сюжетом-символом, как «идут два солдатика», стала для Пти и другая фраза, также привнесенная в обиход Граном: «Маленькую голенькую девочку вязальной спицей по комнате погонять». Художник никогда-никому-ничего-не-должен и свободен-от-любых-запретов.
Несмотря на использование экстравагантных фразеологизмов, речь Пти не была жаргонной. Он говорил на русском литературном языке, но пользовался им затейливо. Например, такая фраза, как: «С этим человеком не стоит иметь дела», в бытовой беседе для кого угодно была нормальной. Но только не для Бори, для него она звучала казенно, и вместо нее он говорил: «Маленькая зеленая сикараха». Впрочем, «зеленая сикараха», в зависимости от контекста, могла иметь разные смыслы
Как фотограф Борис работал практически во всех жанрах, но, независимо от жанра, во всем его творчестве есть одно объединяющее начало — Петербург. Все его наследие кратко можно обозначить словами: «Поэма о Петербурге». Помимо собственно города — городских пейзажей, — равноправными частями этой поэмы являются и натюрморт, и портреты Смелова. Любой натюрморт Бориса, начиная с подбора предметов и кончая интерьером, где он поставлен, пронизан духом Петербурга. И в его лучших портретах — будь то бывшие курсистки-бестужевки, а к моменту съемки — почтенные дамы, или прекрасный и широко известный портрет Татьяны Гнедич, или просто пожилые жители нашего города — сразу ощущается дыхание Петербурга. Именно в связи с Пти-Борисом в обиход некоторых фотографов и искусствоведов вошло такое словосочетание, как «петербургский натюрморт».
Важнейшая часть смеловской «Поэмы о Петербурге», конечно же, городской пейзаж. Борис очень любил Достоевского, и главнейшие из его постоянных «фотомаршрутов» пролегали по местам, где когда-то жил сам Федор Михайлович либо его герои.
Борис избегал снимать пейзаж в солнечную погоду, предпочитая мягкий свет пасмурного неба. Ему нравилось фотографировать улицы, набережные, дома сверху, из окон верхних этажей лестниц или даже чердаков, так, чтобы крыши других домов, более низких, казались снятыми с большой высоты Он любил снимать крыши, они для него были не менее выразительной частью дома, чем фасад. В излюбленных районах своих съемок Борис знал, как попасть на любой чердак, где есть доступ к слуховым окнам, а также на верхних этажах каких лестниц открываются (или выбиты) окна. Понятно, что это знание давалось ценой постоянного марширования вверх-вниз по множеству лестниц шести— и семиэтажных домов. На линии своих маршрутов он знал нрав каждого дома, сквера или спуска к воде и чутко улавливал малейшие изменения в их состоянии, выбирая оптимальные моменты для съемки. Он мог бы с полным правом процитировать от себя слова рассказчика «Белых ночей»: «Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: „Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж"». Вообще, тексты Достоевского подходили Смелову, но не в том смысле, что он стилизовал свою речь под Достоевского, а по неровной и нервной ритмике и причудливости ассоциаций.
В постоянстве определенных маршрутов был некий педантизм, эти походы напоминали осмотр владений, чем-то они были сродни ежеутреннему объезду помещиком своего имения. Приглашение на совместную съемку было честью для любого другого фотографа.
Пти также любил ночные съемки. Если днем он ходил просто с «Лейкой», то в ночной маршрут надо было собираться более серьезно, штатив становился необходимой частью экипировки. «Ночным спутником» Бориса чаще других бывал Леонид Богданов.
Все без исключения пейзажи Пти-Бори лиричны, они насыщены эмоциями, порой сдержанными, а порой — пронзительными, и выражают широкую гамму душевных состояний. Петербург Смелова чаще всего безлюден, но его город не отторгает и не презирает людей, он живет их чувствами, психологически они присутствуют почти в каждом снимке. О многих фотографиях можно сказать, что человек или люди этот кадр только что покинули, но оставили в нем свои мысли, эмоции, настроения. В некоторых пейзажах Бори на заднем плане видны какие-то люди, но они не герои кадра, а просто элемент пейзажа. Это, не знаю уж, сознательно или бессознательно, Пти взял у Картье-Брессона.
Помимо своего художественного видения и психологического восприятия, Пти-Борис, по чисто объективным причинам, оставил нам то, что ни одному фотографу уже снять не удастся — улицы, дворы, площади, набережные, не заставленные автомобилями.
Смеловское видение города оказало большое влияние на многих фотографов, кое-кто из них до сих пор смотрит на Петербург взглядом Пти-Бори.
Наряду со «смеловским Петербургом» знаковым явлением питерской фотографии стал и смеловский натюрморт.
Натюрморт и в живописи, и в фотографии — обособленный жанр, далеко не каждый фотограф создает натюрморты: для этого нужны специфическое видение мира и специальная склонность. Интересные особенности жанра начинаются с названия: если французский язык (nature morte) и вслед за ним русский определяют его как «мертвую натуру», то немецкий (Stilleben) и английский (still life) настаивают на том, что это — «тихая жизнь» (а также спокойная или бесшумная). Борис Смелов в своих работах изображал именно жизнь предметов, это для него разумелось само собой.
Как он отбирал предметы для натюрморта, было загадкой для всех, да, наверное, и для него самого, но при этом он был уверен в абсолютной точности выбора. Если кто-то из близких предлагал ему что-нибудь для натюрморта, например, более изящный бокал, Борис благодарил, мог даже сказать «гениально», но ничего не менял и иногда корчил загадочные гримасы, в переводе на язык слов означавшие приблизительно: «Сия тайна велика есть».
В его выборе была лишь одна общая закономерность: предметы отбирались не по причинно-следственным связям, не по принципу общности утилитарного назначения. Штопор мог оказаться рядом вовсе не с бутылкой, а с раковиной рапаны, а бокал — вместе с оловянным солдатиком. Борис в натюрморте освобождает предметы от бытового функционального рабства, они обретают самостоятельность, и их совершенно не интересует, для какой практической цели они предназначены человеком или природой. Он относился к предмету с уважением, признавая его имманентную значимость. Для него гилозоизм, возникшее еще в Древней Греции представление о всеобщей одушевленности материи, — естественная часть мировоззрения. Каждый его натюрморт — своеобразная декларация прав предметов, и вот один из важных пунктов этой декларации: во многих работах присутствуют предметы сломанные, с бытовой точки зрения — просто мусор, к примеру, бокалы с отбитыми ножками. Но их право на звание предмета все равно сохраняется.
Можно сказать, что, создавая натюрморт, Пти-Борис стремился, подобно метерлинковской фее Берилюне, освободить души предметов. И в первую очередь выпускал на волю Душу Света. Свет в его натюрмортах иногда служит не только средством, но и объектом изображения.
Натюрморт Смелова в сущности бессюжетен. В нем нет рассказа, нет интриги и нет драматургии (в обычном смысле слова). И тем не менее зрители подолгу простаивают перед его работами. Почему?
Взгляд зрителя сначала привлекает какой-нибудь из наиболее освещенных сияющих предметов, затем он скользит к следующему, темному и матовому, от него — к какому-нибудь бликующему хрусталю и так обходит по кругу весь лист, чтобы начать движение снова, но уже по слегка измененной, более извилистой траектории. Именно потому так трудно отходить от этих натюрмортов, что глаз зрителя выискивает все новые ходы и движения и, соответственно, впечатления. Чем достигается этот завораживающий эффект? Четкой, хотя и прихотливой ритмикой расположения предметов, замкнутостью всех основных линий композиции, неукоснительным равновесием размещения масс, света и тени, музыкальным ритмом разбрасывания световых бликов и пятен — и множеством других обстоятельств, которые даже сам фотограф затруднился бы обозначить словесно.
Анри Матисс в своих статьях похожим образом объяснял, как он организует непрерывное циклическое движение взгляда зрителя в конкретных натюрмортах. Стало быть, художник делает это совершенно сознательно. Зачем? Не хочет же он в самом деле заколдовать зрителя и навсегда запечатать если не его самого, то его взгляд в глубинах своего произведения? Нет, конечно. Ответ очень прост: натюрморт подобен музыкальному произведению и должен быть «прослушан» от начала до конца, как соната, со всеми вариациями основной музыкальной темы. Когда разглядываешь хороший натюрморт, всегда кажется, что там, внутри, звучит музыка.
Разные фотографы для разных натюрмортов берут разное количество предметов, у Смелова чаще всего (на переднем плане) их оказывается семь. Не следует, разумеется, напрямую видеть в натюрморте макет музыкальной гаммы, но совпадение все же любопытное.
Большинство своих натюрмортов Борис снимал дома, ставил их не спеша и с любовью, самые известные сняты в уютном эркере дома Жилиной на Восемнадцатой линии Васильевского острова. Эти натюрморты, можно сказать, «хранят тепло рук мастера», и у зрителя возникает впечатление почти домашнего общения с ним.
Иногда процесс постановки натюрморта длился несколько дней, и домашним запрещалось прикасаться к стоящим на столе предметам — на все время работы они становились священными. Однажды Борис в числе прочего поставил вазу с одуванчиками и затем терпеливо ждал, пока они отцветут и превратятся в нужные ему пушистые шары. Борис всегда восхищался Малыми голландцами, и в первую очередь — натюрмортами Кальфа, Класса, особенно теми, где срезанная кожура лимонов свисает с края стола прихотливой спиралью. Разумеется, Пти никаким образом не пытался делать фото-ремейки Малых голландцев, но оглядка на них постоянно чувствуется в его натюрмортах. Под их влиянием он в семидесятых годах стал снимать цветные натюрморты — а ведь никакого «Яркого мира» тогда и в помине не было, все приходилось делать самому, вручную, и процессы проявления пленок и печати были долгими и утомительными. Один из таких натюрмортов у него купил Тимур Новиков.
Произведение искусства в жилье человека — ситуация непростая, в некотором смысле даже трагическая. Будь то фотография или живопись, если в них есть элемент рассказа, этот рассказ прочитывается конечное число раз, после чего отторгается разумом, а самое мощное эмоциональное напряжение постепенно редуцируется, и в конце концов обитатель жилища просто перестает замечать артефакт, даже если это — шедевр. Он попадает в «мертвую зону» восприятия. Чтобы общаться изо дня в день с одним и тем же зрителем, произведение искусства и, в частности, фотография, должно обладать определенными свойствами, прежде всего — иметь ритмическую, музыкальную структуру, и тогда самый мимолетный взгляд на даже хорошо знакомую фотографию вступает с ней во взаимодействие — некое подобие прослушивания любимого, хотя и давно знакомого музыкального отрывка. Хороший натюрморт отчасти напоминает музыкальную шкатулку. Натюрморты Смелова — артефакты счастливые: они камерны, музыкальны и способны вести со зрителем постоянный неторопливый разговор.Смеловский натюрморт до сих пор продолжает жить в петербургской фотографии — на любой масштабной выставке обязательно встречаются работы, где видно влияние Пти— Бориса, от далеких и тонких реминисценций до прямой стилизации под него.
Борис прекрасно рисовал, хотя специально рисунку не учился. Он часто набрасывал на бумаге эскизы будущих фотографий, как натюрмортов, так и городских пейзажей. Один натюрморт он даже прописал маслом. При этом и среди близких друзей не все знали, что Борис рисует, и рисунки свои он почти никому не показывал, боясь заранее выдавать замыслы будущих фотографий. Да и сами фотографии он просто так, по-приятельски, «без дела» показывать не любил, словно опасался, что от праздного смотрения у его работ что-то «убудет». Скорее всего, так проявлялась природная скрытность человека, рожденного под знаком Рыб, тринадцатого марта. Для каждого из друзей и постоянных собеседников у Бори была индивидуальная манера общения. Например, с Граном он охотно беседовал о литературе, и, кроме него, мало кому удавалось вызвать Пти на подобный разговор. Только в семейном кругу он готов был разговаривать обо всем, точнее, все-таки — почти обо всем. Любопытно, что естественная скрытность «рыбки» непринужденно уживалась в Борисе с общительностью, искренностью и бесшабашностью.
Третий раздел смеловской «Поэмы о Петербурге» — его портреты. Они и сегодня на выставках резко выделяются среди других авторов. А в советское время они радикально отличались от тех, что заполняли парадные фотоальбомы и считались образцами для подражания. Академика полагалось снимать в ермолке, размышляющим на фоне книжных шкафов, а на письменном столе красовался образец творчества ученого, к примеру, модель самолета или статуэтка бугая-призера. Агроном снимался поле, озабоченно разглядывая на небе погоду, с колосками в руке, и т. д. Снимок представлял собой рассказ фотографа о портретируемом, и, как ни странно, на этом пути иногда, хоть и редко, возникали превосходные фотографии. Ибо в рамках любого канона, даже самого идиотического, хотя бы раз в сто лет случаются шедевры.
Портреты Бориса поражали зрителя и запоминались разу и навсегда. Для него человек на портрете не объект съемки, а равноправный собеседник. Пти-Боря о нем вообще ничего не рассказывал, а оставлял зрителя наединe с моделью, сам же устранялся из кадра и никак в нем не присутствовал. Зритель мог вступить в диалог с существующим в кадре человеком, либо наблюдать его со стороны. Поскольку у каждого диалог со снимком складывается по-своему, портрет, по сути, при появлении нового зрителя каждый раз возникает заново.
В своих портретах, особенно в портретах пожилых людей, Смелов постоянно расставляет акценты светом, оправдывая (как, впрочем, и в натюрмортах) буквальный перевод слова «фотография» на русский язык — светопись. Из-за этого невольно приходят на память портреты стариков Рембрандта — невольно, потому что ни в рисунке, ни в композиции, ни в фактурной гамме Смелова никакой стилизации под Рембрандта нет.
В портрете Смелова тоже чувствуется влияние Достоевского. Многие персонажи Пти-Бориса вполне могли бы оказаться и персонажами писателя — по душевной напряженности, трагичности, внутренней противоречивости.
Особое место в жизни Бориса занимали автопортреты. Можно сказать, для него они, в отличие от большинства его собратьев по объективу, составляли отдельный, его личный фотографический жанр. Однажды галерея «Дельта» выставила семнадцать автопортретов Смелова, отснятых через сравнительно небольшие промежутки времени примерно в течение тридцати лет — всего лишь семнадцать из существующих на самом деле в большем количестве, и это было зрелище уникальное и захватывающее. Автопортреты — верстовые столбы творческого пути художника; чем энергичнее он развивается, чем стремительнее развивается его вселенная, тем чаще возникает потребность в автопортрете.
Петербург, подаренный нам Борисом Смеловым, — влекущий, трагический, непостижимый и прекрасный, он, этот созданный им город, остается и своеобразным зеркалом, хранящим личность самого художника. Но справедливо и обратное: каждый автопортрет есть интегральный образ всего видимого мира, да и не только видимого — ведь это наиболее метафизический из всех изобразительных жанров.
Какова же расширяющаяся вселенная Бориса Смелова? У каждого ее элемента обязательно есть три грани: интересное, страшное и прекрасное. Эта триада ощущений всегда образует гармоничное целое, но соотношение векторов на каждом этапе разное. В юношеских автопортретах — взгляд внимательный, настороженный, вдумчивый; мир велик, любопытен и страшен, хотя и прекрасен. А вот более зрелый возраст: мир роскошен, богат неожиданностями и безгранично интересен. Страшен тоже, но к этому можно отнестись с мягкой насмешливостью. А в последних фотографиях появляется еще и суровость: оказывается, в мире есть много такого, от чего невозможно отгородиться ни юмором, ни броней творческих состояний.
Альпинисту положено сниматься с ледорубом, а странствующему рыцарю — с копьем и щитом. Но вот в автопортретах Бориса фотокамера присутствует только на семи листах. Его главный атрибут не камера, а взгляд — острый, пытливый, проникающий. В жизни этот взгляд смягчался улыбкой и дружелюбной манерой общения, и только в фотопортретах видна вся его острота. Зритель не может отделаться от впечатления, что это живой взгляд живых глаз.
Автопортреты замыкают круги творчества художника, при этом фиксируя его видение всего сущего. В каждый конкретный момент трудно понять, почему у него именно сейчас возникла потребность сфотографировать самого себя. Безусловно, отчасти из потребности в идентификации отношений собственной персоны с окружающим миром. И кроме того, он, конечно, не сомневался, что являет собой объект, достойный систематического изображения.
Его самооценка была достаточно высокой, и, надо сказать, как правило, она не расходилась с оценкой его окружающими, поэтому у него не бывало поводов для фрустрации. Он верил в себя как в личность, верил в свой талант и в безошибочность своего художественного чутья. Если друзья или коллеги давали ему советы, он не раздражался, но, по сути, пропускал их мимо ушей (речь идет, разумеется, не о бытовых вопросах, а о творчестве). Хорошо знавшие его люди считают, что если Боря иной раз и давал понять, что находится в нерешительности и сомнении, как поступить, то это было игрой и кокетством. Но помимо веры в себя как в личность, ему нравилась и физическая оболочка, и у него были к этому все основания. В морге, после обмывания, он выглядел как античная статуя.
Однажды благонравная еврейская девушка, мечтавшая о большой любви, сочла Пти-Бориса подходящей кандидатурой. Но когда через какое-то время ее подруга спросила, как развивается роман, она зарделась и доложила, что переспала с Борей один раз и больше этого делать ни за что не станет, ибо он ужасен. Оказалось, что в перерыве между вполне респектабельными любовными процедурами Борис вдруг выскочил из постели и, приняв картинную позу, подходящую разве что для культуристского подиума, громко возгласил:
— А хорош ли, красив ли я? Согласись ведь, что я хорош! Бедной девушке это выступление показалось столь неприличным, что она прервала с Борей отношения. Я думаю, что к тому же она не читала «Москва-Петушки».
Общался Борис только с теми людьми, с которыми ему было интересно разговаривать, но при этом никогда не экономил время и никого не удручал собственной деловитостью. Немалую роль, в качестве средства общения, играл алкоголь. К этому располагали и долгие бдения при красном свете в «темнухе», и прогулки со штативами по темному холодному городу, и длительные экспозиции ночных съемок. К тому же в советское время в творческой среде приверженность к спиртному носила и протестный характер. Выпивка позволяла добиться состояния измененного сознания и тем самым если не отменить, то хотя бы редуцировать окружающую неугодную реальность. Одной из постоянных Птишкиных странных шуток было присловье «я хочу умереть от водки». Впрочем, далеко не всегда можно было понять, когда он шутит, а когда серьезен. Ибо чувство юмора у него было, как и мышление, многослойное и затейливое. Он мог смеяться едва уловимым тонкостям, но и хохотать над принесенным Аркадием Драгомощенко анекдотом, где некий персонаж излагает содержание «Анны Карениной» и не может произнести ничего, кроме бесконечного повторения звуков: «А — б — б — б…»
Настало время, когда митьки предприняли широковещательную на международном уровне акцию по борьбе с Зеленым змием. Один за другим они съездили в Америку и вступили там в Общество анонимных алкоголиков. Те не кодировали и не гипнотизировали, а действовали только внушением, но внушали столь основательно, что никто из митьков (прошедших процедуры) до сих пор в рот не берет спиртного. По семейным и дружеским связям, решено было и Бориса Смелова приобщить к благам трезвости. Пти согласился, но именно на поездку — отчего же не съездить за океан? При этом он заранее приготовил американским внушателям большой русский кукиш. Результат путешествия очевиден: Штаты он посмотрел и даже слегка сфотографировал, но внушить ему никто ничего не смог. Ибо Пти-Борис был человеком самостоятельным, и угадывать ход его мыслей не было дано никому.
Наталия Жилина Пойдем за синей птицей
— Не хочу этой птицы. Не достаточно она синяя.
Морис МетерлинкДля нее любая птица была не достаточно синяя. Она требовала от искусства вообще и от собственной живописи в частности непрерывного развития. Полотно, законченное сегодня и с полным основанием воспринимаемое как удача, через два-три дня ее чем-нибудь уже не устраивало. Творчество художника она понимала как путь. Ее любимым режиссером был Феллини и любимой из его лент — «Дорога».
Наталия Жилина — одна из ключевых фигур петербургского культурного андеграунда. Она осталась в памяти ярким и разносторонним человеком, но разговор о ней я хочу начать с живописи, ибо она была прежде всего художником.
Один именитый коллекционер в порыве откровенности однажды сказал, что идеальный художник — такой, чтобы написал большую серию картин в одной и той же, хорошо узнаваемой манере, а потом бы внезапно умер, а он сам, коллекционер, успел бы скупить все его полотна. Оставляя за скобками сходство этой сентенции с мечтами Иудушки Головлева насчет неурожаев и урожаев, заметим, что подобная логика присуща художественному рынку вообще.
Наталия Жилина ни в один из своих творческих периодов не соответствовала этим анекдотическим требованиям. Каждое следующее полотно у нее отлично от предыдущего, иногда вступает с ним в конфликт; она без сожалений разрушает, казалось бы, блестяще достигнутое, вопреки благоразумной житейской премудрости «от добра добра не ищут». Мысль о том, что кто ниоткуда не уходит, никуда не приходит, у нее все время, можно сказать, на кончике кисти. И тем не менее ее живопись у коллекционеров постоянно вызывала вожделение. Нам же, наверное, интереснее всего понять, какую именно Синюю птицу она хотела, куда вела ее дорога.
Большую часть жизни Наташа писала дома, мастерская у нее появилась только после девяностого года, на Пушкинской, 10. Впечатление от первого визита в мастерскую было потрясающее. К тому времени мы дружили уже лет пятнадцать, и мне казалось, я неплохо знаю Наташину живопись. Выяснилось — ничего подобного. В человеческом жилье холсты вынуждены тесниться, скромничать, считаться с бытовыми потребностями хозяина, и только в мастерской они говорят в полный голос. Мастерская была просторная, и на стенах разместились десятки полотен, в первый момент прямо-таки ослепляющих красочным многоцветием. Я привык к тому, что живопись Жилиной излучает энергию, но здесь, при хорошем освещении, взаимодействуя между собой, картины создавали столь насыщенное энергетическое пространство, что мне казалось, я попал в поле высокого напряжения. Потребовалось время, чтобы с этим освоиться.
Среди полотен Жилиной некоторые были поразительно красивы, но это получалось у нее словно бы нечаянно — как всякого истинного художника, ее совершенно не занимала внешняя красота картины. Более того, возникало ощущение, что ее холсты вообще «не хотят» быть красивыми, они серьезны, сосредоточены, будто сознают, что у них есть более важная задача, чем просто ублажать праздный взгляд зрителя. Картины Наташи активно затягивали в свое внутреннее пространство, и вступать в него было легко, хотя его атмосфера поначалу казалась душноватой. Дело в том, что у Жилиной все предметы — да что там предметы! — сам воздух настаивает на своей весомости и плотности, на своих неотъемлемых качествах вещества. А художнику будто все не хватает тяжести, и он кое-где дополнительно утяжеляет контур, обводя его темной каемкой.
Эта каемочка — очень важный родовой признак, нечто наподобие орденского знака или девиза на щите рыцаря, выражающего его кредо и намерения. Что же это такое? Взгляните на белый предмет на белом фоне, и вы увидите на контуре как бы тонкую темную ниточку. Откуда два белых предмета берут темное? (Речь, понятно, идет не о тени.) Это — дифракция, следствие искривления световых лучей под влиянием массы тела, так вещи заявляют о своей весомости. Нарочитый показ дифракционной каемки на полотне — единственный способ чисто живописными средствами обозначить массу тела, если хотите — живописное свидетельство материальности мира. Художник, не знающий физики, приходит к этому отчасти инстинктивно, а отчасти в силу профессиональной обостренной наблюдательности. Мы видим эту каемку на полотнах Сезанна, затем у Матисса, Дерена и «Диких», из них прежде всего — у Ван-Донгена и Руо, и еще у многих и многих художников. Все это — живописцы, которые пытались передать на холсте глубинные, имманентные свойства предмета, его внутреннее устройство и тайный смысл, добиваясь пресловутой «вещности» изображения (от немецкого Dinglichkeit). Задача, надо полагать, нерешаемая, нечто сродни поискам философского камня, ибо не дано живописи отобразить все физические и метафизические качества вещи, но на этом пути было создано немало шедевров.
Наташа Жилина пополнила собой этот «легион, не внесенный в списки» отчаянных голов, гнавшихся за Невозможным. Но это, безусловно, основательная и весьма достойная Синяя птица. Заметим попутно, что у Наташи был личный художественный пантеон, где Жорж Руо занимал пьедестал не из худших.
На некоторых полотнах Жилиной контур обрамлен не темной, а многоцветной, радужной каймой. Это понятно: в таком светлом по настроению полотне, как «Встреча» (то бишь Сретенье), или на лице Христа(«Путь», «Моление о чаше») художник просто не может положить черный мазок. Но ведь из физики мы знаем, что дифракционная каемка представляет собой спектр, только простым глазом этого не увидеть. Вот такое совпадение, возможно, и не случайное, законов творчества и физических.
Наталия была человеком темпераментным и увлекающимся. Любое впечатлившее ее художественное произведение — будь то книга, или живопись, или новая лента Феллини — немедленно вызывало эксперименты и новации в ее собственном творчестве. Иногда эти новации иссякали скоро, а иногда бывали долговременными и продуктивными. Она не боялась браться за совершенно непривычные для себя занятия. Например, однажды она вместе с мужем взялась писать киносценарий — впрочем, эта затея не имела никаких последствий, кроме некоторого жизненного опыта. В начале восьмидесятых годов она увлеклась скульптурой. Мур и Бранкузи, особенно последний, стали ее домашними кумирами. Наташа не уставала восхищаться полной очищенностью формы, способностью жертвовать практически любыми деталями и выражать себя с потрясающей полнотой предельно лаконичными средствами. Нужно ли говорить, что она и сама немедленно занялась скульптурой? Стеллажи в коридоре квартиры стали заполняться яйцевидными гипсовыми объектами с чуть заметно обозначенными носами, ушами или глазами. Конечно, они отчаянно напоминали головы Бранкузи. Наташа их нигде не выставляла и показывала только друзьям, но продолжала с ними возиться еще около года. Сейчас я думаю — это был ее счастливый опыт. Не знаю, какую конкретную роль сыграли в ее внутреннем движении именно эти гипсовые изделия имени Бранкузи, но где-то с середины восьмидесятых в ее живописи стала чувствоваться собственная пластическая концепция с заметным влиянием великого румына. На это обратили внимание и некоторые художники, и коллекционеры. Выработать свою индивидуальную пластическую концепцию — это достаточно синяя Синяя птица, какую удается поймать не каждому талантливому художнику, ибо в любом деле много званых, но мало избранных.
Наташе Жилиной удалось сохранить ощущение непрерывности развития культуры и искусства, несмотря на смену режимов и политических формаций — это давало ей опору в жизни и внутреннюю силу. Ей удалось установить «связь времен». Она общалась и с людьми старой культуры — такими, как Татьяна Глебова и Герда Неменова, и с художниками советской складки — теми, кого не считала пустыми, и была «своя» во всех поколениях андеграунда.
Благодаря врожденному дару общения и отчасти, возможно, везению, Наташа всегда была окружена поразительно талантливыми людьми. В начале ее творческого пути это была компания молодых художников, куда, кроме ее мужа, Владимира Шагина, входили Александр Арефьев, Валентин Громов, Рихард Васми, Шолом Шварц и Родион Гудзенко. У них не было общей художественной платформы, их объединяли лишь дружеские отношения и взаимное уважение к живописи друг друга, да, пожалуй, еще романтическая любовь к Петербургу. У них всех были непростые характеры и гонору, хоть отбавляй, но в Наташе они признавали художника и общались «на равных». В отношении к городу как к неисчерпаемой и непостижимой сверхличности, учителю и хранителю культуры у них был свой идеолог — поэт Роальд Мандельштам. Он умер в шестьдесят первом году, двадцати девяти лет от роду, но продолжал в этом кружке незримо присутствовать, на него ссылались и постоянно цитировали. Наташа его почти не знала — просто не успела, но он занял в ее пантеоне подобающее место.
Мандельштам жил в условиях настоящего андеграунда, по сравнению с ним все последующее — веселая фронда. При жизни поэта не было напечатано ни одной его строчки, публиковать его стали после девяностого года. Его ближайшими друзьями были Арефьев и Гудзенко, и их творческая жизнь протекала эзотерически, втайне, как в катакомбной церкви. Когда умер Сталин, трое двадцатилетних мальчишек, обняв друг друга за плечи, устроили в комнатушке Мандельштама безумный дикарский танец с возгласами «Гуталинщик умер!».
Мандельштам был носителем атмосферы романтической лихости, «где смерть пустяк и жизнь пятак». У него был приятель, художник Преловский. Он постоянно жаловался на жизнь, ныл, что она невыносима, и заявлял о намерении повеситься. Однажды он сильно допек Мандельштама, и тот сказал — кто все время об этом болтает, никогда не вешается.
— А я повешусь, — уперся Преловский.
— Так вы поспорьте, — предложил Арефьев. Сам он был заядлым спорщиком, да еще с ноздревскими интонациями.
Поспорили. «Разбивал» Арефьев.
А через день пришли проверять. Оказалось — повесился.
Мандельштам написал стихотворение «Дом повешенного», где были слова «В этом доме повесился друг».
Не нужно видеть в таких поступках наклонности к висельному юмору — просто в тех условиях иначе было не выжить. К себе он относился не менее сурово, чемк другим. Лежа в больнице с температурой за сорок и будучи уверен, что осталось ему жить дни или даже часы, он написал стихотворение «Себе на смерть» и тайком передал друзьям. Вот короткий отрывок:
Когда я буду умирать, Отмучен и испет, К окошку станет прилетать Серебряный корвет. Потом придет седая блядь — Жизнь, с гаденьким смешком Прощаться. Эй, корвет! Стрелять! Я с нею незнаком.Наташу восхищало, что он сумел превратить континуум «жизнь плюс творчество» в одно свое главное, завораживающе яркое сверх-произведение искусства. И хотя ее саму как человека здорового и жизнерадостного подобный мрачновато-романтический модус бытия категорически не устраивал, многие настроения и образы из стихов Мандельштама остались с ней навсегда.
В частности — трамваи. Они в стихах Мандельштама имели особый смысл. Они возникают на полотнах почти всех художников кружка, но чаще всего — именно у Наташи Жилиной, да еще у Арефьева. Слово «трамвай» несколько раз даже фигурировало в названиях картин Жилиной. Трамваи в те времена красили исключительно в красный цвет, они курсировали даже ночью, правда, с часовыми интервалами и воспринимались как красные кровяные тельца в физиологии ночного города («сползла с колесованных улиц кровавая капля — трамвай»). Но у трамвая была и вторая, мистическая ипостась. Подобно тому, как для древнего человека изображение лодки символизировало путешествие в загробное царство, в компании Мандельштама трамвай на пустых темных улицах казался средством транспортировки в потусторонний мир.
Сон оборвался. Но кончен. Хохот и каменный лай. В звездную изморозь ночи Выброшен алый трамвай. Пара пустых коридоров Мчится, один за другим. В каждом — двойник командора — Холод гранитной ноги. — Кто тут? — Кондуктор могилы! Молния взгляда черна. Синее горло сдавила Цепь Золотого руна. Где я? (Кондуктор хохочет). Что это? Ад или рай? В звездную изморозь ночи Выброшен алый трамвай. Кто остановит вагоны? Нас закружило кольцо. Мертвой чугунной вороной Ветер ударил в лицо. Лопнул, как медная бочка, Неба пылающий край. В звездную изморозь ночи Бросился алый трамвай.Трамваи на полотнах Жилиной именно такие — они выезжают из-за поворотов, как из засады, либо налетают на зрителя неотвратимым вихрем, и им не нужна никакая Аннушка с маслом, оно сами отлично справляются со своей работой.
Выставки в ДК Газа (1974) и в «Невском» (1975) Наташа — уже не Шагина, а Жилина, вместе с другими художниками, поэтами и писателями андеграунда, восприняла как маленькую веселую революцию. Все мы тогда пребывали в эйфории. И было, от чего. Подумать только: бок о бок с нами жило и творило такое множество талантливых людей, а мы из них знали лишь единицы! Больше года мы все жили в обстановке праздничного фестиваля искусств, не считаясь со временем суток, ходили по мастерским и просто в гости, непрерывно знакомились с новыми людьми и открывали новые таланты. Разумеется, в этом водовороте было много пустой пены. На тусовках люди представлялись друг другу примерно так: «Иванов, художник», «Петров, поэт», «Сидоров, писатель». Быть просто человеком, Колей или Васей, считалось тогда неприличным. И если вскоре выяснялось, что «писатель» написал один-единственный рассказ, а «художник» еще не закончил свою первую картину, это никого не смущало. Быть поэтом или художником означало не творческое состояние, а социальный статус и образ жизни.
Общая атмосфера культурного кипения так или иначе возбуждала всех. Наташа в этот период пишет много, «взахлеб», все время экспериментируя и часто меняя манеру письма — практически каждый день приносил новые впечатления и психологические импульсы.
Простая логика подсказывала: если вокруг нас вдруг обнаружилось так много талантливых людей, то, надо думать, есть шанс встретить и гения. На какое-то время любимой игрой Наталии стали поиски гения. В рамках этого проекта она познакомилась с живописью Геннадия Устюгова и объявила его гением. Конечно, применение этого слова — дело не простое, у каждого свой взгляд, но сейчас с тем, что Устюгов художник воистину замечательный, не спорит никто. Так что если Наташа тогда и переборщила в терминологии, то самую малость.
В конце концов ее поиски увенчались успехом: она нашла гения в лице Бориса Смелова. К тому времени Наташа уже разошлась с Сергеем Жилиным, но сохранила его фамилию и больше ее не меняла — слишком уж много холстов было подписано этим именем. После знакомства с Борисом они поженились почти мгновенно. Без всяких скидок на личные отношения она считала Борю гениальным фотографом, и я бы не позавидовал тому, кто в ее присутствии рискнул бы усомниться в его гениальности. Но этого никто и не делал, хотя бы потому, что Пти-Борю и так все любили. По любопытному совпадению он, подобно Наташе, тоже постоянно употреблял слово «гениально», и это их роднило, как, впрочем, и многое другое.
В доме Жилиной стали появляться фотографы и художники второй волны андеграунда, и они превосходно уживались в общении со «старой гвардией», ко взаимному духовному обогащению. Я часто заходил к Боре с Наташей, просто так, без всякого дела, и был благодарен за то, что ее дом не превратился ни в гнездо диссидентства, ни в светский салон. Общение часто сопровождалось возлияниями. Если Наташа пыталась наложить вето на поход за очередной бутылкой водки, Боря говорил с неподражаемой лукавой улыбкой: «Ну раз в жизни-то можно?» И Наташа сдавалась — перед этой улыбкой она устоять не могла. Как и многие другие люди.
Помимо художников и фотографов, у них можно было встретить самых разных людей — например, поэта Олега Охапкина, или музыканта Сергея Курехина (он тогда представлялся как «рок-органист»), или режиссера Николая Беляка, а также всяких бродячих интеллектуалов, правдоискателей и философов.
Тем временем Наташин сын Митя достиг творческого возраста, стал «митьком», и контингент гостей пополнился третьим поколением — андеграундом их уже не назовешь — скажем так, представителей неукрощенного искусства. Свободное общение разных поколений было продуктивным и для старших, и для младших, и только сейчас становится в полной мере понятным, насколько спасительна преемственность в культуре. В частности, нынешний расцвет петербургской школы фотографии объясняется именно тем, что в Петербурге сквозь все катаклизмы протянулась непрерывная линия развития фотоискусства.
Свою женскую роль хранительницы домашнего очага Наташа понимала расширительно — и как хранительницы культуры. Думаю, она была права: хранение культуры на уровне домашнего очага — самое надежное и неистребимое.
В силу пестрого состава гостей часто возникали дискуссии по любому поводу. Спорили азартно, до хрипоты, и Наташа порой принимала в этом участие. Но внезапно она умолкала и после паузы говорила:
— Хватит нам спорить. Нас так мало, нам нужно беречь друг друга.
В душное советское время дом Жилиной был оазисом, где легко дышалось. Тогда она многим помогла не задохнуться.
Кроме хранительницы, Наташа часто брала на себя и роль утешительницы. Если кто-либо из друзей готов был пасть духом, она немедленно бросалась на помощь. Однажды к ней в гости зашли ее бывший муж Володя Шагин и Саша Арефьев, уже в подпитии и с парой бутылок портвейна. Выпив вино, они проникли в ванную и выпили все спиртосодержащее — огуречную воду и лосьон. Затем Арефьев распотрошил домашнюю аптечку и, ссылаясь на то, что он бывший студент-медик, выбрал какие-то таблетки, которые они тут же и съели. Но вместо ожидаемого кайфа у обоих испортилось настроение. Арефьев, недовольный устройством мира, удалился, а Шагин уселся на пол, прислонившись спиной к зеркалу, и заявил, что жизнь прошла зря, он ничего путного не сделал и остается только умереть. Наташа, естественно, принялась его утешать, объясняя, какой он замечательный художник. Но Володя твердил свое:
— О чем ты? Я и в этом не состоялся, я уже никуда не гожусь.
Тогда Наташа, не зная, как его отвлечь, принесла краски, которые ей на днях привезли из Парижа, и, сев на пол рядом с Володей, стала показывать тюбики.
— Ты посмотри, какой красный кадмий! А желтый! А умбра!
Французские краски тогда, в семидесятых, были редкостью, но Володя держался стойко:
— Нет, нет, мне все это уже не интересно. А Наташа не унималась:
— Ты только глянь — какой краплак! И ультрамарин какой!
— Это парижская синяя, — деловым голосом поправил ее Володя и снова завел свое: — Да мне это уже не интересно…
Однако спектакль был испорчен, через минуту он перестал умирать, встал и даже согласился выпить кофе.
Наташа понимала человеческую жизнь как дорогу. И она и в жизни, и в творчестве прошла удивительно красивый путь от задиристого бунтаря, готового раскачивать основы мироздания, до мощного художника, сознающего свою личную ответственность за устойчивость нашего мира. Она никогда не приглушала свой темперамент, никогда не говорила вполсилы, все ее полотна заключают в себе огромное внутреннее напряжение — и сюжетное, и композиционное, и живописное. В ее последний, зрелый период новые полотна зачастую действовали оглушающе, диалог с ними был настолько активен, что продолжался и после ухода из мастерской, а иногда даже мешал спать. Чем достигалась такая экспрессия? Прежде всего, мощностью движения, удерживаемого в раме до предела натянутой уздой композиции. Да и чисто живописными средствами тоже. Вот, к примеру, вроде бы простенькое полотно «Недопитый стакан». Казалось бы — ну натюрморт, ну две бутылки, стакан, композиция точная, спокойная — откуда же ощущение несчастья, трагедии, недожитой человеческой жизни? Просто от противоречивого сочетания множества динамичных холодных мазков с написанной теплыми тонами столешницей. Такой пустяк — и такое щемящее чувство.
Если посмотреть на дело шире, то творчество для Наталии — прежде всего стихия, и творческий процесс состоит из двух параллельных ветвей: выпускания стихии на волю и одновременного ее обуздания.
А если взглянуть еще шире, то приходим к мысли, что богоподобие человека прежде всего — в творчестве, и если процесс Божьего творения состоит в усмирении библейской «внешней тьмы», вселенского хаоса и преобразовании его в пригодный для разумной жизни космос, то и человек повторяет тот же путь на своем уровне. Художник, в частности, превращает стихийное опасное буйство красок в гармоничное живописное пространство. Превращает дикую энергию в организованную материю.
Наташа все это прекрасно понимала, и на вопрос, куда вела ее дорога, можно ответить однозначно: дорога Наталии Жилиной вела к храму. И дело не в том, что она написала какое-то количество работ на религиозную тематику — их всего несколько — и не в том, что в одной из ее лучших картин «Счастливый день» в центре композиции храм, устремленный к небу. Для художника дорога к храму прежде всего в том, что он на своем уровне подтверждает Божий замысел.
Похоронена Наташа рядом с Пти-Борей, на Смоленском кладбище, где когда-то во время совместных прогулок он сделал много прекрасных и грустных фотографий.
Борис (Гран-Борис) Кудряков Рюмка свинца
Борис Кудряков, он же Гран-Борис, или просто Гран, был, наверное, самым загадочным и закрытым человеком петербургского андеграунда. Любое слово, сказанное о нем, или даже промелькнувшая мысль всегда неточны и нуждаются в немедленном пояснении, в свою очередь требующем новых разъяснений и уточнений. Эта пугающая ум многослойность восприятия Гран-Бориса во всех его проявлениях делала Кудрякова фигурой романтически-непостижимой и отчасти мрачноватой. Человек, с которым мы свободно беседовали и здоровались за руку, тем не менее временами казался реально не существующим, одним из фантомов Петербурга, материализацией некой известной нам лишь частично легенды.
Род занятий Грана адекватно идентифицировать невозможно. Можно назвать его прозаиком, драматургом, поэтом, фотографом, художником — и любое слово будет неверно или неточно, ибо Кудряков решительно не вписывался ни в какую категорию людей, обозначаемых тем или иным словом.
Свое второе имя, богемно-сайгонское, Борис получил от Кости Кузьминского, вместе с Борисом Смеловым. Они были друзьями, оба в тусовке Кузьминского числились фотографами, оба выставлялись у него «под парашютом», и Костя называл их, соответственно комплекции, Гран-Борисом и Пти-Борисом. Но если Смелова часто называли Пти-Борей, а друзья и вовсе Птишкой, то Кудряков именовался исключительно Гран-Борисом, в крайнем случае — Граном. Борей его называли немногие. Было в нем что-то, побуждавшее соблюдать дистанцию.
Борис Кудряков — один из немногих писателей, кого с полным основанием можно причислить к настоящему андеграунду. Он всегда жил уединенно, панически боялся государства и власти и писал свои сочинения пером, макая его в чернильницу. Плодовитым Гран-Борис не был — почти все, что он написал, уложилось в две небольшие книжки — «Рюмка свинца» («Новая литература», 1990) и «Лихая жуть» («Борей-Арт», 2003). Но его тексты настолько концентрированы и уплотнены, что в небольшом объеме несут огромную информацию. Они, в силу своей сверхплотности, трудны для восприятия, читать большими порциями их вообще невозможно, но зато в этих книжках не-ленивому и не-боязливому читателю открываются совершенно новые миры, мрачные, жутковатые и завораживающие. Вопреки здравому смыслу, кажется, что обе книги — привычная продукция полиграфии — обладают чудовищной тяжестью трансурановых элементов.
В начале двадцатого века было в ходу выражение «искусство для искусства». Советская официальная критика превратила эту формулу в ругательство и к тому же неправильно ее расшифровывала — как искусство ради искусства, бесцельное, бессмысленное, никому не нужное. На самом же деле искусство для искусства — важная и нужная составляющая любой развитой культурной среды. Это искусство, потребителем которого является не широкая публика, а другое искусство. Или литература и поэзия, нужные не массовому читателю, а другим писателям и поэтам. Таковы романы Самюэла Беккета, стихи Тихона Чурилина и Велимира Хлебникова. И большая часть творчества Бориса Кудрякова.
Вот вполне рядовой отрывок из его прозы.
«Вспомни. В диких скирдах пустынный свинец. Затуханистый мужний янец. В хатах, омутах, предметах роднейского быта. Сколько сгинуло в су-кро-ви-цах мостылых глазниц. Своенравниц.
Вспомни. Уже разбудилось удушье во сне подле сна, дляжды всна и во сне ни гугу. Постоянное во, жде и жду. Вожделенное ку ради длы и подлы».
Для писателя или поэта, работающего со словом, здесь полно интересных находок, но трудно представить среднего потребителя печатной продукции, читающего такое в метро. И вряд ли психически нормальный парень захочет прочитать своей девушке вот такие, к примеру, стихи:
лакома трава для деозавра август лангустится лин дышим монна ментален сводный оркестр серебр и умен пиано осклабилось заводь спиннинг голос щуки снегопас давно уж сед и гадюга дремлет га.Примерно так же обстоит дело и с фотографией. Его снимки — ловушки для зрителя. Внешне они замаскированы под небрежные любительские поделки, и досужие посетители выставок проходили мимо них, даже не вглядываясь, но профессионалам снимки Грана были всегда интересны. Некоторые из них становились для коллег-фотографов знаковыми артефактами. Однажды Кудряков показал Пти-Борису уличный жанровой снимок, который Пти использовал далее как некую единицу отсчета. Описал он этот снимок так:
— Представляешь, идут два солдатика, а навстречу им две та-а-акие девахи!
Более подробно об этой фотографии написано в очерке о Борисе Смелове.
Когда Гран-Борис проводил мастер-класс в «Петербургской фотошколе», где слушатели — так или иначе уже состоявшиеся фотографы, многие из них не сразу «въезжали» в демонстрируемые Граном снимки. А он удивлялся, почему люди, считающие себя профессионалами, в первую очередь обращают внимание на внешнюю сторону фотоснимка, а не вникают в то, что и как снято. Любое произведение Кудрякова — всегда ловушка, с двойным, а то и тройным дном. Он не дает спуску читателю или зрителю ни на минуту, не позволяет расслабиться ни на секунду. Только, кажется, уловил ритмику, и вообще, нашел какую-то эстетическую зацепку, впечатление уже почти сложилось — и тут же проваливаешься в яму. Забавно, что эти ямы-ловушки Гран не готовил специально, это у него как-то само собой получалось.
Гран был большим мастером эпатажа. При этом его действия казались спонтанными и небрежными, а на самом деле были продуманы, как хорошая театральная постановка. Однажды в давние застойные годы Алина Алонсо решила устроить небольшой домашний прием для писателей и поэтов. Из гостей помню Виктора Кривулина и Сергея Стратановского, все были прилично одеты, пристойно рассуждали о литературе и говорили комплименты хозяйке дома. Она же из открытого вечернего платья сияла красотой, а стол слепил крахмальной скатертью и хрустальными бокалами, которые мы, увы, оскверняли дрянным портвейном. Гран-Борис явился с опозданием, в ватнике и кирзовых сапогах. Послушав с минуту застольные разговоры и решив, что в этом собрании слишком много благости, он запустил руку в карман и выложил на скатерть три селедочные головы. Зрелище было шоковое, и тональность общения сразу изменилась. Началась полемика, переходящая иногда в перепалки, и от благости и бонтона вскоре не осталось и следа.
Свои тяжеловатые шутки Гран, при крайней необходимости, использовал и как оружие, по крайней мере, оборонительное. В коммунальной квартире, где он жил в семидесятых годах, одна из соседок постоянно учиняла ему всякие пакости и вредности и как-то раз допекла Бориса сверх всякой меры. В открытый скандал он вступить с нею не мог, это было ниже его достоинства, и к тому же, подобно Гоголю, он панически боялся любых скандалов и вообще разговоров на повышенных тонах. Но на следующее утро на кухонном столе обидчицы обнаружилась дохлая крыса. Вредная дама пыталась увязать это природное явление с Граном, но общее собрание соседей постановило, что крыса — животное вздорное и подыхает, где захочет.
Анекдоты, сочиняемые Гран-Борисом, были под стать его житейским шуткам. Однажды он придумал такую историю. Прошла очередная мировая война, и на месте Петербурга нет ни Исаакиевского собора, ни Зимнего дворца, ничего, хотя отпечатки зданий можно различить на оплавленной гладкой поверхности. И по этой гигантской площади катится огромная голова Эдиты Пьехи и поет: «А городу снится, а городу снится, ученья идут».
В отношениях Бориса с людьми была некоторая причудливость. Сам он инициативы к общению, как правило, не проявлял, но от предлагаемых разговоров никогда не уклонялся — разумеется, если речь шла не о случайном, совсем уж не интересном человеке, а о собратьях по перу или объективу. Наиболее широкий обмен мыслями у него был с Пти-Борисом, с которым Грана связывала давняя дружба. Но что касалось остальных знакомых, то у него для каждого имелась отдельная преимущественная тематика, присвоенная именно данному человеку и никому другому. Эта дифференциация никоим образом не означала оценку умственных способностей или компетенции собеседника, а выражала лишь некую педантичность в сложившемся укладе общения. Со мной Борис охотно беседовал о литературе, преимущественно современной, и особенно — о петербургской. А, например, с Александром Секацким — о тенденциях культурной среды, причем замечания Грана всегда были точными и тонкими. «Самое опасное сейчас — подставиться. Никто в этом не признается, но все заботятся прежде всего о том, чтобы не показаться наивными. Современная эстетика — это боязнь подставиться. Ты хочешь услышать, что я не боюсь этого? Нет — боюсь. Я соблюдаю правила. Все боятся оказаться посмешищем, и это хуже страха перед советской цензурой».
Гран был человеком пуганым и пугливым. Еще в кондовое советское время он как-то раз на пустынном пляже снимал своей «Сменой» голенькую девочку. Его заприметили местные мужички, решившие примерно наказать извращенца. Они долго гнались за Борисом по песку вдоль залива, но он, будучи человеком неспортивным, тем не менее выиграл этот забег. Это был лишь первый звонок. Через какое-то время Гран понял — дело не в том, кого и как он снимает, а в том, что кого-то или что-то в высших сферах не устраивает сам факт существования Бориса Кудрякова. И что над ним занесла когтистую лапу не советская система, а сама жизнь как таковая. Впрочем, на улице, завидев милиционера, идущего даже по противоположному тротуару, Гран втягивал голову в плечи и старался сделаться незаметным, что при его корпулентности было непросто.
Известность Кудрякова среди литераторов началась задолго до первых публикаций, в конце семидесятых годов прошлого века, когда он стал (по рукописи) одним из первых лауреатов ныне весьма престижной премии Андрея Белого. Какое-то время его называли даже «русским Беккетом», но формула эта не прижилась — слишком уж своеобразен Гран-Борис сам по себе, чтобы к нему могла прилипнуть хотя бы и лестная этикетка Высказывания о Кудрякове собратьев по перу по большей части осторожны, обтекаемы и на удивление противоречивы.
«Дар Кудрякова мрачен и саркастичен, его проза выпукла и отчетлива, он является бесстрашным экспериментатором, активно использующим собственные приемы письма, стилизацию и эстетику чужой речи» (Сергей Коровин).
«Безусловно, лидером литературного петербургского авангарда в прозаическом жанре хочется назвать крепко саморазвившегося, поучительного в сентенциях и мизансценах, лирично-отстраненного в описаниях природы и быта, ценного прозаика Бориса Кудрякова.
(…) Один из немногих современных прозаиков, имеющий преданных почитателей и учеников» (Евгений Звягин).
«Для писателя, увлеченного литературой, а не сублимацией своего собственного темперамента, в первую очередь важно быть интересным самому себе, а потом — собратьям по цеху, и только в последнюю очередь — всем остальным (читателям). Борис Кудряков именно таков. И в этом требовательном смирении — достойный пример служения своему делу без позы, зависти и суеты» (Павел Крусанов).
«Это — таланты-минералы, они источают какое-то странное сияние, а их творчество, сколько бы там ни было примет нашей жизни, это — другой мир, другая жизнь, мир Зазеркалья.
Трудно найти другого автора, более противопоказанного массовому читателю, чем он, с его мрачным и драгоценным даром» (Михаил Берг).
«Одно прикосновение к „Рюмке свинца" может убить наповал. Что же говорить о том, чтобы пригубить, то есть прочитать» (Сергей Бирюков). Список цитат можно продолжить, но, наверное, этого хватит. Нечто вроде итога всей этой разноголосице, и по-своему логично, подводит Борис Констриктор:
«Писать о Борисе Кудрякове так же бессмысленно, как и читать его тексты».
Внутри любой творческой личности параллельно существуют два персонажа: художник и антихудожник. Художник есть человек и созидатель, то есть он по определению богоподобен и на своем материале (на своем уровне) повторяет Божий путь сотворения мира. Подобно тому, как Вседержитель из первичного дикого Хаоса, библейской «внешней тьмы» творил упорядоченный Космос, художник преобразует неукрощенную энергетическую стихию (красок, чувств, инстинктов) в эстетически организованную материю.
Что есть антихудожник — вопрос более сложный. Во всяком случае, это слово нельзя понимать, как «нехудожник». В старину на это смотрели просто: в художнике есть некто (или нечто), склонное к заигрыванию с дьяволом, что-то, как говорится, «не нашего мира». Художнику это разрешалось, поскольку он заигрывал с нечистью с благими намерениями, в назидание остальным людям. Еще Уильям Блейк писал: «Каждое удавшееся художественное произведение есть обручальное кольцо между небом и адом».
В переводе на современный язык: антихудожник есть субличность художника, провоцирующая инъекции хаоса в художественное пространство. Зачем? Ради остроты и конфликтности своих произведений, для их насыщения энергией и экспрессией. На одной только благости полноценное искусство не построишь. При этом молчаливо предполагается определенное соотношение масштабов: художник должен быть большой, а антихудожник — маленький, и инъекция Хаоса должна быть осторожной, наподобие прививочной ослабленной культуры бактерий. Иначе от искусства вообще ничего не останется, ибо Хаос аннигилирует с Космосом.
Изложенная схема применима по отношению ко многим художникам, но когда речь идет о Гран-Борисе, она не работает. Если имеешь дело с Граном, приходится копать глубже.
Как художник Гран превосходно справляется со стихией, при ее укрощении почти не снижая исходной энергетики.
«Ей было неинтересно, что какой-то рисовальщик там делает на бумаге. Ей было интересно голенькой посверкать, раскрыться, ловить восхищенный самострел и дрожь моих губ, да и своих тоже, вот. И еще ей было любопытно, чем закончится сеанс рисования.
— Так, а теперь ты будешь киской, которая лижет из блюдечка ежевичное варенье. — Она возроптала, как это, киска и варенье, но я стал пороть чушь про символизм мероприятия… запудрил мозги ненаглядной певунье, а сам страсть как хотел, чтоб она предо мной в позе утренней киски.
Я помог ей стать нежными коленями на грубый камень.
— Спинку прогни, так, еще пяточки врозь, смелее, еще попочку приподними.
Она вдруг оглянулась на меня и стыдно так прошептала, что я опустил глаза:
— Какое ты…
Я быстро стал рисовать пастелью — за полминуты сделал восемь набросков на толстой тонированной бумаге. Это были гениальные наброски-видения солдата-инвалида, которому осколком фугаса двухтонной бомбы оторвало что-то важное.
— Головку пониже, ручки в стороны, а теперь на руки не опирайся… Так хорошо! Дыши глубже, постой еще чуток, я сейчас кончу. — Она прыснула и упала щекой на варенье, замочив волосы.
Она тяжело дышала, я делал снимки „Сменой" и ходил вокруг».
В этом тексте как таковом нет ничего пугающего, но где-то на задворках сознания невесть откуда возникает предощущение страха. И оно постепенно нарастает по мере чтения текстов Кудрякова.
…дернув пупком змеюку откинула но та подскочила опять из кустов куманики и шею обвила страстною лентой начала сдавливать ручонки задергались, посинели зубенки и лизка свалилась на мшаник комары налетели и мошки а сильный змей раскидав белорозовый плен одежд встал вопросительным знаком над упавшими ножками жало оскалил и… туда свою голову где встречаются сумерки юности с утром томительным младости где ноль к истоку зеро утекает в разрыве фейверков телесных погружаясь все далее лесная рептилия уместилась и здесь наша лизка пописала привстала зевнув ничего не заметила ничего не запомнила красные лаковые туфли на белых длинных носочках носочки на пуховых чуть загорелых ножках, икры блестят блестят глаза, она смотрит на облака левая под платьем рука вспоминает будто что-то правая козырьком у лица она любит смотреть в синюю даль она предчувствует Гха-це в то время как Кхо-о стало уже желанным Маце-бо.Казалось бы, все в порядке, мы только что наблюдали — превращение энергии в материю, в эстетически организованное пространство свершилось, но читатель недоумевает, почему у него время от времени возникает ощущение страха. Дело в том, что, укротив Хаос, Гран-Борис не отрекается от него, а тянет за собой. Он не превращает отвоеванную территорию в защищенную крепость, тонкая, чисто условная перегородка отделяет нас от «внешней тьмы», от первобытного темного ужаса.
Борис в конце почти каждого сочинения указывал год написания, поэтому можно проследить, как в его творчестве антихудожник расширяет и узаконивает свое присутствие наряду с художником.
…она заплакала капая слезами, они падали на меня прошивали тело пули утреннего расстрела затем швырнули в лодку и до сих пор кто-то носится в ней по темным волнам в неизвестных морях и неизвестных мирах.
Как червь во флейте задремал у истоков антимира; хотелось продлить сон — жаль расставаться с Пустотой: тоны тонноклокотов: оратория тартаротрат. Свет лопнул — роды глаз. Долго, до последних отжатий слезных желез вопрошает искатель щей. У кого? Но ни болт, выточенный до универсума, ни всезаполняющие хлеба не дадут ответа. Монолога не… Диалога не. И что бы ты ни делал — отсюда ноги не уберешь. Мир — больница, в коридорах которой в жмурки должно играть. Что поделать? — пожизненный иск лазаретных щей. Конечно же помнишь их вкус.
Непонятное так наскучило, что злостно ударил по небоскату и сбил мошкару облаков, кинул их к ногам Отца. — Что ты натворил? — Мне что-нибудь поинтереснее, чем жизнь! — Хочешь видеть горы музыки, летающей внутри черного света? — А такое бывает?..
Здесь на языковом материале происходит разрушение нашего мира, вместо акта созидания, присущего художнику, начинается обратное движение от Космоса к Хаосу. То же самое можно наблюдать в стихотворных текстах.
деза тереза там за окном анге ложный пасется тетя гермеса где гном агне целый огонь разольется мама хри сова авва свеча немеет как отлично хорошо прекрасно очень даже славно почему чмокается небо золотое шумит столица лицемерен песнь пески скала мое жилище жилое жрище вырвище ранье.Заметьте, тут нет взгляда на разрушение как на творческий акт, нет пафоса уничтожения и упоения погромом. Гран просто разбирает наш мир, как изношенный автомобиль, на исходные составляющие, это — деструкция в точном смысле слова (деструктурирование). Зачем Кудряков это делал — сказать трудно. Возможно, его неодолимо влекло к начальному Хаосу как таковому, и Борис стремился его реконструировать, подобно тому, как некоторые люди живут мечтой о воссоздании по ДНК живых динозавров. Но может быть, его замах глубже, а дерзость вообще беспредельна — и Хаос для него не самоцель, он пробивался к Хаосу только для того, чтобы на его основе построить свой антимир, антикосмос.
Ответа на этот вопрос мы никогда не получим. Даже если бы Гран знал ответ, он не стал бы отвечать ни нам, ни себе — привычка быть непостижимым даже для самого себя стала ему императивом.
Тот же дуализм (художник — антихудожник) был присущ Грану во всем, что он делал. В частности, и в фотографии.
Проводя мастер-класс в фотошколе, он учил слушателей:
— Не ищите специально сюжетов. Снимайте, что есть вокруг. Пусть это будут фотографии ни о чем, но через несколько лет вы получите огромное удовольствие, снимая на этом же месте.
Понятно, слушатели про себя улыбались: маэстро советует отснять незнамо что и лишь через несколько лет посмотреть, что из этого выйдет. Посоветовал бы лучше, как сделать эффектный снимок к ближайшей выставке!
Сам же Гран-Борис следовал своим рецептам. Он снимал то, что просто лежит. Он почти никогда не выставлял фотографии как таковые, а создавал комбинированные объекты. Их составляющими были сами снимки, порой замаскированные под старые любительские карточки, надписи на фотографиях, рисунки Грана и рукописные тексты, иногда свои собственные, а иногда — потертые листки из чьих-то школьных тетрадей. Эти сложные и странные артефакты с удивительной точностью передавали настроения тех или иных прошлых лет и аромат ушедшего времени. В этом жанре Борис выступал как хотя и своеобразный, но в основном вполне нормальный художник-созидатель.
В «застойное» время его серия туманных городских пейзажей Петербурга была опубликована в швейцарском «Зуме», и для нас это было тогда прямо-таки сенсацией. На границе бдительные таможенники выдрали из журнала все страницы с «обнаженкой», но снимки Грана, к счастью, не пострадали.
Гран умел передавать настроение, но в его фотографиях было и другое. Вместе с Пти— Борей они иногда ставили натюрморты из горючих предметов, поджигали их и далее делали снимок за снимком. Затем передвигали, деформировали это пылающее нечто и опять снимали, снимали, снимали. Нужно ли говорить, что зачинщиком этого пожароопасного искусства был Гран?
У Пти-Бориса поставленный натюрморт еще до начала съемки являл собой произведение искусства. Гран же понимал натюрморт как возникшее естественным образом скопление случайных предметов, ни в коем случае специально не организованное. «Съемка непосредственной неотстроенной предметной среды, просто брошенное помещение, в котором что-то лежит» (Александр Китаев).
Отношение к Борису Кудрякову собратьев по объективу было парадоксальное: не считая его собственно фотографом, они тем не менее ценили его и уважали именно как фотографа. Причем это были не какие-нибудь фотографы, а такие, как Борис Смелов и Леонид Богданов!
«Его нельзя назвать фотографом, поскольку для него фотография не была единственным языком общения с миром, а всего лишь одной из его реалий» (Александр Китаев). Но далее тот же Китаев рассказывал:
— Однажды он показал снимок, которым я был потрясен. Он отснял рядовой петербургский двор, но я в нем узнал двор моего детства. Двор был мощен булыжником, по периметру — дровяные сараи, обшарпанные брандмауеры — не могу перечислить всех деталей, создающих ощущение времени, но это был двор моего детства. Я не встречал на фотографиях ничего похожего.
Подходящую для фотографов формулу нашла Ольга Корсунова: «Он был философом от фотографии».
У Грана никогда не было профессиональных «навороченных» фотоаппаратов, он снимал по большей части дешевой простенькой «Сменой», а в свои последние годы, уже после смерти Пти-Бориса, пользовался старинными деревянными камерами. И писал он свои сочинения пером и чернилами, не только не освоив ни компьютера, ни пишущей машинки, но пренебрегая даже авторучкой. Во времени его постоянно тянуло назад, и деструктор, антихудожник становился в нем все сильнее. Казалось, он хотел вернуться к истокам бытия, чтобы «переписать» наш мир заново и совершенно иначе.
«Не социальные условия, не какое-то конкретное общественное устройство — жизнь как таковая не нравится лирическому герою или рассказчику», — писал о Гран-Борисе Михаил Берг. И к нему стоит прислушаться, ибо он посвятил исследованию творчества Кудрякова много времени и чуть ли не половину своей диссертации.
Гран пытался исследовать изнутри то, что у обыкновенного человека вызывает ужас даже на расстоянии — смерть, небытие, первобытный Хаос, Внешнюю Тьму. Его тяга к «истокам антимира» была непреодолима.
Легко догадаться, что Борис не был человеком религиозным. Он не интересовался церковью, но какие-то свои представления о Боге у него были. И весьма непростые, как и отношения с Ним. Гран не богоборец и не еретик — он не хулит и не искажает Бога. И все же он, при всей своей тихости и скромности, наверное, самый радикальный и дерзкий из всех известных мне оппонентов Творца-Демиурга. Грана не устраивает то, что совершенно напрасно сотворил (натворил) Бог, и он, не вступая в полемику, на своем литературном и философском уровне стремится к построению своей, радикально другой реальности, антимира… Грана, скорее всего, следует сопоставлять не с людьми типа Вольтера, а с теми дикими японскими сектантами, которые, голые и грязные, добровольно взяв на себя все грехи мира, роют тоннель под горой Фудзияма, веря, что как только его пророют, наш неправедный мир рухнет, Борис тоже рыл свой тоннель во Внешнюю Тьму, к неукрощенному Хаосу с его невообразимой энергией, которая в наш мир просачивается лишь по капле. Допускаю» что Гран-Борис вполне мог согласиться с Мигелем Серрано, считавшего акт Творения великой катастрофой, а результат ее — нашу Вселенную — «сказкой, рассказанной идиотом».
Для того чтобы последовательно занимать подобную позицию и, вообще, чтобы прожить жизнь так, как ее прожил Гран-Борис, нужно иметь большое мужество, пресловутую «длинную волю» и мощный внутренний императив, природы которого мы никогда не узнаем. Трудно представить, чтобы такая личность, как Борис Кудряков, могла возникнуть где-либо, кроме как в Петербурге.
Леонид Богданов Возвращение имперской столицы
Белой, мертвой, странной ночью, Наклонившись над Невою, Вспоминает о минувшем Странный город Петербург.
Николай АгнивцевО том, что архитектура — мощный излучатель энергии, знали еще в Древнем Египте. Знали в свое время и строители Петербурга. И, безусловно, обязан знать каждый живописец, график или фотохудожник, берущийся изображать наш город. Это хорошо знал Леонид Богданов.
Но одно дело — знать, и другое — уметь добиваться, чтобы эта энергия свилась в световой пучок, прошла через объектив и в конечном итоге вселилась в изображение на фотобумаге. Это удается немногим, и отнюдь не в каждой работе. Если трансляция не состоялась, мы говорим, что в снимке «нет нерва», фотография «не цепляет». Именно энергетика причина тому, что два фотографа могут снимать из одной точки и в одно и то же время, а снимки получаются разные.
Нужен вообще мощный волевой посыл, творческий драйв, чтобы решиться снимать нечто, замусоленное миллионами пресыщенных и равнодушных глаз, замызганное миллионными тиражами открыток, рекламных плакатов и телевизионных заставок. Вся эта продукция производит в душе зрителя «духовные короткие замыкания», настойчиво вдалбливая ему, что красивое должно быть в каком-то смысле красиво. Заставить энергетику архитектурного ансамбля выплеснуться на фотоэмульсию можно только дополнительно активируя объект съемки собственной энергией и собственным нервом. Как это удается художнику — одна из непостижимых сторон творческого акта, но если это случилось, глуховатый хлопок затвора доставляет фотографу чувственное наслаждение. Анри Картье-Брессон не раз говорил: «Я чувствую себя хорошо только одну двадцать пятую долю секунды, в момент щелчка затвора».
Энергетические затраты фотографа в эту самую двадцать пятую долю огромны. Потому-то турист, гуляя по городу, может, не ощущая усталости, отщелкать своей «мыльницей» или «цифрой» несколько сотен снимков, а фотограф-профессионал, отсняв две пленки, возвращается домой измочаленный и измотанный до предела.
Заметим, что у живописца так остро вопрос не стоит, ибо красочный слой сам по себе есть носитель энергии, а затраты самого художника растянуты во времени.
Не случайно до сих пор идут дискуссии о возможностях цифровых камер. «Цифра» дает прекрасное изображение, но его активация — это пока проблема. Если мастера серебряной фотографии научились насыщать свои снимки энергией, то для цифровой фотографии это еще впереди.
Леонид Богданов работал в разных фотографических жанрах, но живет он в нашей памяти прежде всего как художник Петербурга, и разговор о Леониде хочется начать именно с этой темы. Он автор целого ряда прекрасных альбомов о Петербурге, изданных в России и за границей. Их охотно покупают и увозят на свою родину иностранцы, так что в разных концах света есть немало людей, получивших представление о Петербурге исключительно сквозь линзы богдановских объективов. Он снимал не архитектуру, не дома, не ансамбли, а именно Город во всей его красоте и пугающей непостижимости.
С энергетическим насыщением снимков у Богданова все в порядке. Настолько, что он может себе позволить прятать энергетику фотографии в глубине изображения, так, чтобы она не бросалась в глаза зрителю. У него нерв снимка, его мускулатура — не на поверхности, это внутренняя пружина, прикрытая внешней сдержанностью. Помимо трансляции энергии путем предельной внутренней концентрации в момент съемки, он использует для этого и чисто изобразительные средства. В частности — наложение ритмов. Ритмы окон, деревьев, чугунных решеток, гранитных плит, даже трещин в асфальте — они взаимодействуют, интерферируют и создают ощущение динамики, внутренней напряженности города, которая сродни пружинистой энергии зверя, готового к прыжку. Богданов точно чувствует сложный многозвучный пульс города. У него пульсирует все — свет и тень, вода и небо, листва, окна, асфальт и даже глубокая тьма теневых участков ночных снимков. Это одно из удивительных и уникальных свойств богдановских фотографий — живая пульсация и смысловая значимость совершенно черных пятен.
Судьба Леонида Богданова, биография и творческие проблемы во многом типичны для высококлассного профессионального фотографа в России, точнее — для петербургского фотографа. Его краткая биография могла бы звучать так: фотографией начал увлекаться в детстве и ни на что другое больше не отвлекался. С третьего класса школы Леня начал посещать фотокружок во Дворце пионеров, тот же самый, что и Пти-Борис. Но учились они там в разные годы, познакомились и подружились позднее. Руководитель кружка Ритов, о котором они всегда вспоминали с теплотой и благодарностью, привил обоим бескомпромиссную требовательность к техническому качеству негативов и отпечатков. Эта полученная в детстве «прививка» и для Лени, и для Бориса была козырем на протяжении всего творческого пути.
В положенное по возрасту время Богданов окончил Институт киноинженеров. Три года работал штатным фотографом ТЮЗа, потом — в издательствах «Аврора»и «Художник РСФСР». По заданиям издательств много снимал в Эрмитаже и Русском музее — картины, скульптуру, интерьеры, предметы прикладного искусства, ювелирные украшения. Хорошо знал не только экспозиции этих музеев (как, впрочем, и некоторых других), но и фонды. Постепенно стал универсальным и признанным музейным фотографом. Его фотографиями заполнены такие прекрасные альбомы, как «Подвиг Эрмитажа» (текст С. Варшавский и Б. Рест), «Наследие Романовых» (текст 3. Беляковой) и «Скрытые интерьеры» (текст К. Голицыной).
Помимо работы в издательствах Богданов в 1970 — 1979 годах еще вел фотокружок при Дворце культуры работников пищевой промышленности (в просторечии — «у пищевиков»). Мастерская располагалась на Большой Московской улице, у Владимирской площади, и по вполне понятной аналогии среди фотографов именовалась «лавкой». Днем там Леня учил детишек, а вечерами тусовались фотографы, для которых «лавка» сделалась постоянным центром притяжения, своеобразным клубом. Там бывали такие фотографы, как Пти-Борис, Гран-Борис, Сапроненков и многие другие. Показывали свои фотоснимки, рассуждали о фотографии и вообще об искусстве, много спорили и, понятное дело, предавались возлияниям. Оттуда же начинали свои маршруты, выходя на ночные съемки. Из тогдашних детишек-учеников Богданова некоторые стали теперь известными фотографами, например, Сергей Фалин.
Леня не раз становился жертвой традиционной бестолковости русской жизни. Однажды он для «Авроры» три месяца снимал в Эрмитаже сервиз «Зеленая лягушка». Заказчицей альбома была Сандра Веджвуд, потомок фарфорового фабриканта Веджвуда, который когда-то в восемнадцатом веке и изготовил этот ныне знаменитый сервиз. Вскоре Сандра потребовала, чтобы на снимках были не тарелки и блюда целиком, а изображенные на фарфоре пейзажи крупным планом. Издательство же заявило, что у нас так не снимают, а если снимают, то за дополнительную плату. Пока они собачились, Леня отснял более тысячи предметов. Издательство, расторгнув договор с англичанкой, заплатило фотографу сущие гроши по рубрике «местная командировка». Тот обиделся и подал на издательство в суд — по советским временам, шаг беспрецедентный и рискованный. К изумлению друзей, Леня процесс выиграл, однако победа была исключительно моральная: суд постановил передать слайды в собственность фотографа. Красивые, но совершенно бесполезные цветные слайды (18x24 см) до сих пор хранятся в Лениной семье как реликвия. Зато Богданов тогда приобрел репутацию человека, которого надувать не стоит, и вообще фотографа с европейскими замашками.
Эту репутацию Леня вскоре подтвердил еще одной непривычной для России акцией. Обычно наши фотографы своих снимков без необходимости никому не давали, опасаясь (и не без основания), что опубликуют и не заплатят. А Богданов отобрал целую пачку превосходных слайдов, архитектуру и интерьеры, и разослал их по несколько штук в разные иностранные издательства подходящего профиля. Спустя полгода из-за границы стали время от времени приходить какие-то деньги, и имидж Богданова как человека европейской складки, окончательно укрепился.
Поездки по музеям продолжались — на Байкал, в Омск и Новосибирск. Всего не перечислить. Потом начались съемки в рамках проекта «Русское барокко». Москва, Подмосковье, Ярославль, Кострома, Великий Устюг, Сольвычегодск, Киево-Печерская лавра. По разбитым дорогам Средней полосы Леня ездил на своем автомобиле, с женой Тамарой и руководителем проекта П. А. Тельтевским. Леня вел машину, а Тельтевский, сидя рядом, говорил часами, не закрывая рта, и все об архитектуре. Проект в конечном итоге провалился по идиотской причине: разрушающиеся памятники выглядели столь неприлично, что их публикацию можно было бы счесть идеологической диверсией. Зато Леня волей-неволей стал разбираться в русской архитектуре восемнадцатого века.
В 1982 году Леонид, вместе с эрмитажным фотографом Владимиром Теребениным, работал в музее Кабула. Условия жизни были не фронтовые, но вполне военные, и артиллерийская стрельба и разрывы ракет стали для обоих на полтора месяца постоянным звуковым фоном. Снимали последние археологические находки — клад античного времени, найденный на левом берегу Пянджа, и материалы из раскопок некрополя на холме Тилля-Тепе. Подвески, пояса, серьги, кольца, браслеты, бусы, бляшки, украшения оружия — золото и самоцветы, сотни и сотни слайдов. Результат — большой роскошный альбом «Золото Бактрии» (текст В. Сарианиди). Ныне этот альбом, как и отснятые слайды, для археологов вообще бесценен, ибо в процессе войн и революций кабульский музей был полностью разграблен.
В общем, жизнь Леонида Богданова была беспокойная, но интересная. Я не случайно перечислил так много поездок Лени (хотя далеко не все) — чтобы читатель мог сам уловить сходство с биографией, например, Картье-Брессона, который как репортер «Магнума» исколесил всю Юго-Восточную Азию. Только вот платили Богданову во много раз меньше. И Леня не всегда был склонен к репортажной съемке.
Так или иначе, Леня считался процветающим фотографом и фотохудожником с европейским отливом, да, в общем-то, таковым и был. Но что-то в подобной судьбе его русскую душу не устраивало. И вот теперь мы приоткроем совершенно другую сторону жизни Леонида Богданова.
Русский менталитет требует разделения низкого и высокого, а высокое предусматривает поиски истины, если не последней, то хотя бы весьма существенной. «Высоким» для Леонида Богданова был Петербург, и главная истина заключалась в создании своими фотографическими средствами подлинного, незамутненного образа нашего города. Ему хотелось проникнуть в самую суть, в тайную жизнь Петербурга. И на этот свой личный, если можно так выразиться, эзотерический проект, Леня тратил и сил, и времени едва ли не больше, чем на оплачиваемую работу.
У Богданова с городом сложились удивительные и уникальные, личностные отношения. Леня видел в Петербурге прежде всего его историческую сущность, столицу империи, и относился к нему корректно, внимательно, уважительно. А Город платил ему взаимностью, позволяя заглядывать в свою странную метафизику.
Леонид общался с Городом напрямую, без посредников и консультантов, и ни с кем об этом не говорил, разве что, может быть, с Пти-Борисом.
Леня вообще не любил лишних разговоров, как и парадных речей. В 1999 году в галерее «Дельта» состоялась его выставка, приуроченная к пятидесятилетнему юбилею, и он выставил ровно пятьдесят работ. Дня за три до вернисажа директор галереи Ирина Болотова предложила:
— Давай договариваться, как будем открывать выставку.
Она-то имела в виду, кто и в каком порядке будет говорить речи.
— А как ее открывать? — удивился Леня. — Развесимся да выпьем.
Леонид редко снимал Город днем, он предпочитал свет утренний или вечерний, и еще ночные съемки. И любил Город в тумане. Он снимал, конечно, и днем, но это была в основном уличная, жанровая фотография.
Иногда Леонид ходил на ночные съемки с друзьями, чаще всего — с Борей Смеловым. Снимали с одной точки, а фотографии получались очень и очень разные. Богданов снимал город имперский, а Боря — обиталище человеческих душ. Можно даже сказать — они снимали разные города. Птишке было наплевать на все империи и столицы мира, к этим институтам он не испытывал пиетета, и его Петербург насыщен человеческими эмоциями, более того, будучи постоянной сценой для проявления людских страстей, город Смелова и сам очеловечивается А Петербургу Богданова нет дела до людей с их мелочными заботами, его Город в своем имперском величии невозмутим и порой надменен и живет непостижимой для нас, иной жизнью, где вдох или выдох длятся десятки лет. Пти создавал Поэму о Петербурге, а Леня — Гимн Великому Городу.
Петербург — один из немногих городов мира, изначально не предназначенный для житья в нем людей. В отличие от городов, возникших естественным путем, как результат развития населенного пункта, Петербург «стал зримой манифестацией воли одного человека» (А. Секацкий). Город строился по мандельштамовской формуле «казармы, парки и дворцы», то есть для императорского двора, гвардии и управленческого аппарата. Узкоспециализированная столица империи. Люди как таковые подобному городу не нужны, требуются только строители и обслуга. Их насильно «сволакивали» со всех концов страны, они же злонамеренно разбегались и вымирали. Так было по крайней мере всю первую сотню лет бытия Петербурга. Нынче принято думать о людях (или говорить об этом), но сам город отлично помнит, для чего его строили.
Существовали в истории и другие города, не предназначенные для заселения людьми, — например, египетские города мертвых. Их населяли покойники и призраки. Когда в Петербурге стали появляться египетские сфинксы, они легко вписались в общий облик города и до сих пор чувствуют себя здесь как дома. Попробуйте-ка представить себе сфинкса в Москве или Архангельске! А ведь сфинкс, вообще говоря, плохо уживается с людьми, ибо он — символ города мертвецов.
Леонид Богданов — один из немногих фотографов и художников, подметивших уникальную самодостаточность нашего города, и показывал он ее с изысканным изяществом. Можно даже сказать — он художник этой самодостаточности. На большинстве богдановских фотографий Петербурга людей нет вовсе, и Город в них не нуждается, без людей он не мертв и не пуст и отлично живет своею собственной жизнью. Петербург Богданова — это гигантский гранитный театр, персонажи которого — дворцы, площади, набережные — разыгрывают свои драмы и трагедии, и время действия пьесы может измеряться столетиями.
У Леонида есть снимок, который мне кажется символическим. Крупным планом снят сфинкс, из тех, что на Фонтанке. Он огромен и неподвластен времени. На заднем плане — дома, они значительно меньше сфинкса и ниже его постамента, в них светятся крохотные окна и за ними суетятся маленькие люди. Словно тушканчики, вырывшие свои норки под лапами сфинкса. А сфинкс безразлично смотрит вдаль, в одному ему ведомую точку и не замечает городских мелких букашек. Снимок красивый, полный скрытой энергии, он оставляет чувство щемящего беспокойства.
Петербург — самый литературоцентричный город на свете. В его основании нет мифов, легенд, никаких сказочных персонажей («вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были»). Его метафизическое пространство населяют только призраки, и в основном — литературного свойства. На снимках Богданова четко различаются литературно-исторические эпохи. Летний сад — эпоха Державина, она несет беззаботность барокко, в других листах можно различить Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского. А трещины, разбегающиеся по асфальту Исаакиевской площади, — это жутковатое напоминание о зыбкости самой основы города — ведут в Петербург Андрея Белого.
Когда художник постоянно изображает город, тот превращается в зеркало, и снимки Богданова, вместе взятые, — его своеобразный автопортрет. Петербург Богданова — столичный, корректный, внешне даже холодноватый. Когда на выставке идешь вдоль стены с фотографиями Богданова (то есть, по сути, с ним вместе по Петербургу), кажется, что все время слышен точный размер метрического стиха.
И еще одну особенность Петербурга с обостренной чуткостью художника подметил Богданов. Город строился там, где строить не надо. Над тектоническим разломом материковой плиты, на островах, по своему произволу ежегодно менявших очертания. Противостоять враждебной природе можно было только строгим поддержанием формы. Четкая геометризация Петербурга — не германофильская прихоть царя, а жесточайшая необходимость. Вся история Петербурга есть история непрерывных волевых усилий поддержания формы (А. Секацкий).
У Лени есть целый ряд снимков, где видно, как хаос запустения наступает на Город. Особенно мне памятен один снимок, для Богданова на первый взгляд неожиданный. Конная статуя Николая Первого снята со спины, издали, от солнечных часов, что на Мойке. И в этом ракурсе с полной достоверностью видно, что задние ноги прекрасного коня императора — о ужас — подламываются самым натуральным образом. Продолжая вглядываться в снимок, замечаешь, что и в кавалергардской посадке всегда бодрого моложавого Николая чувствуется усталость. А внизу, под ногами коня — непросыхающие лужи и сетка глубоких трещин в асфальте, грозящих разрушить и окружающие дворцы, и сам памятник.
Что это — карикатура? Нет, ничего подобного, просто констатация факта Просто император устал. И его конь тоже. И асфальт устал. Вся Россия устала.
Снимок, полный горечи и, пожалуй, страшный.
Противостояние Города подавленной, но не прирученной природной стихии особенно заметно на ночных снимках Богданова. Ночью реки и острова, сама болотистая земля под асфальтом, вспоминают о своей былой дикой вольности и готовы сбросить стесняющие оковы — гранит и асфальт. Ночной город Богданова затаился в обманчивой тишине, он полон внутренних страстей, коварен и опасен. Любой из ночных снимков Богданова можно назвать «Петербургские тайны».
Уникальная особенность ночных снимков Богданова—в них встречаются совершенно черные участки, которые живут, нормально работают как полноправная часть изображения и не вызывают отвращения у зрителя. Большинство художников старается вообще не пользоваться черными красками, а значительные черные площади на полотне (например, черный фон), позволяют себе единицы. В этом случае, чтобы картина не получилась мертвой и мрачной, живописец, как правило, пишет черное с помощью мазков почти черных, с разными оттенками. Иными словами, живописец изображает черный цвет, используя разные краски. А как быть фотографу?
Если Леонид Богданов решает, например, что данное конкретное здание на фотографии должно стать сплошным черным пятном, он, как говорят фотографы, его «запечатывает», то есть увеличивает экспозицию при печати, добиваясь желаемой черноты. Но при этом он следит, чтобы отсветы на стенах, блики на стеклах и т.п. не исчезли с листа полностью, а остались бы в виде почти незаметных следов, которые уже не читаются как часть изображения, но все же как-то воспринимаются глазом. То есть он изображает черноту все-таки с помощью света, и такая чернота живет, дышит, пульсирует, она может пугать или завораживать.
Петербург Богданова, как правило, столичный. Есть только один район, с которым у него отношения не имперские, а скорее интимные, родственные. Это Коломна. Он провел в ней немалую часть жизни, здесь, неподалеку от Аларчина моста, помещалась его мастерская. Сюда он не выезжал на съемки, а просто бродил с фотоаппаратом по улицам, и здесь Петербург показывал ему то, что обычно имперские столицы стараются прятать, — задумчивое запустение, темные закоулки, людей-призраков и всевозможных неприметных своих обитателей, коих «так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе». Старушки, старики, алкаши, дети, собаки и голуби. Есть у Богданова два странных кадра, красивых и отчасти пугающих. Из арки подворотни вырывается солнечный свет и ложится на асфальт полукруглым пятном, слепящим на фоне темноты стен. И в этом пятне, как на предметном стекле микроскопа, — три напоминающие насекомых черные фигурки, фантомы Города. На самом деле это всего лишь дети, мальчишки. Это — коломенское.
СЕРГЕЙ КОРОВИН
Хренов как роман
Помни, гибель героя — предлог для его бытия.
РилькеВот если когда-нибудь меня строго спросит — какой-нибудь, например, следователь или исследователь, — когда и при каких обстоятельствах ты познакомился с Сергеем Александровичем Хреновым, русским, 1956 года рождения, то я — хоть режьте — смогу только пожать плечами. Откуда я помню? Да и прошло с тех пор ой-ой-ой, сколько времени. Ведь то ли конец семидесятых, то ли начало восьмидесятых — не суть, тогда все друг с другом знакомились, такая была пора, все консолидировались. Зачем-то. Кстати, почему-то помню, как познакомился с Борисом Ивановым: это мы с Аркадием Драгомощенко взяли не помню уж что, и искали, где бы выпить, а он говорит: пошли к Боцману, тут рядом, на Гривцова. Приходим в котельную, представляют меня какому-то дядьке сильно меня постарше, а тот и говорит, мол, я слышал, что вы в армии служили, ну и как там — очень интересно — с гомосексуализмом? Ах, ты, думаю, хрен моржовый, за кого ты меня принимаешь? Ну, молись, что ты такой авторитетный — я-то про него и про «Часы» давно слышал, — а то дал бы я тебе в рыло. Короче, взял себя в руки: отлично, говорю, обстоит, не наблюдалось у нас в дивизионе никакого гомосексуализма. Словом, не понравился мне этот Иванов, хоть и рассказки мои читал, и в редколлегию пригласил. Да, он и пить с нами не стал — на что-то сослался, а я такого тогда еще не видал: тут ему наливают, а он: спасибо, не буду. Возмутительно себя вел. Ну и я ему, наверное, тоже не сильно приглянулся. Потом уже, бывало, придем его поздравлять co Светлым Воскресением, а он крашенки мои непременно разыщет в общей куче и испортит. И «Приближаясь…» три года в «Часы» не пускал, сушил. Ладно, Господь с ним, ни к кому претензий не имею.
А с Хреновым — забыл. Впрочем, однажды, завалился в котельную на Адмиралтейской. В какую? Да, наверно, в шестую, потому что не в десятую и не в двенадцатую точно. А там дежурила оператор по фамилии не то Бесогонова, не то Чертолясова — обе такие работали, — сами посудите, как не перепутать? Нет, хочется верить, что первая, потому что фамилия более светлая, что ли. Так вот, а были мы сменными мастерами, то есть я, Юра Колкер, Саша Кобак и Славка Долинин, ну и ходили по очереди по объектам Второго Октябрьского участка. Нас не ваяли учиться на операторов, сказали, что мы и так достаточно образованны, и предложили ответственные должности на все те же сутки через трое. Причем я ездил на велике. Стало быть, приезжаю я на Адмиралтейскую, а там оператор подает мне сменный журнал. Расписываюсь. И вижу между страниц небольшую такую фотографию какого-то концерта, типа курехинского с Бобиком или что-то в этом роде, и там, на сцене, среди обезумевших музыкантов, свое спокойное вдумчивое лицо. ????? А это вам, говорит мне Бесогонова, просили передать. Кто там, что там, я спрашивать не стал, во-первых, потому что никогда не был любопытным, как, например, Иванов, во-вторых, что тут удивительного — тогда на нашем участке если и работали две-три настоящие старушонки операторами, так это еще ничего, а все остальные — исключительно гуманитарии, свои люди. Олег Охапкин, Драгомощенко, Пудовкина, да тот же Боцман, Володя Ханан и прочие. Всех не перечислить, ей-Богу. Забыл. Такие были традиции. Потом и Шагин работал, Женьки: Кушнер, Волковыйский, Пазухин, Дима Григорьев, но уже после нас, может, и сейчас кто работает. И это не случайно, смотрите сами: сиди себе на смене в котельной, а занимайся, чем хочешь, — читай, пиши, переводи, рукописи редактируй, самиздат составляй, в некоторых котельных даже пишущие машинки постоянно стояли привинченные, и библиотеки приличные, — в общем, живи, только присматривай за температурой, а если у тебя паровой, так чтоб воду не упустить. И друзьям удобно тебя навещать, если им выпить негде, — центр ж города. Ну, а где поэзия, там и девушки, и вино.
А потому, когда при очередном обходе объектов на Адмиралтейской, 6, из тени котла выступил какой-то молодой человек, ну не в мундире Политехнического, а просто в коричневом пиджачке и клетчатой рубашечке под ним, но с неким таким политехническим отпечатком, я не удивился: к хорошенькой девушке пришел аккуратненький мальчик — всюду жизнь. Девушки не человеки, что ли? Честно признаюсь, что лучшего места для романтических свиданий, чем котельная, в те годы я и не воображал. Впрочем, и не я один. Что-то, возможно, и вправду было, способствующее любовникам, в вечных сумерках за низким оконцем, в гуле горелок, в шелесте сетевого насоса, в тихих и непредсказуемых, как икота, щелчках невидимых бойлеров.
А он возьми и представься, мол, Хренов. Очень, говорю, приятно. А, однако, Хренов, запашок у вас занятный. Да запашок как запашок, отвечает, вот, извольте, «Монтекристо» кубинские, черный табак. Как? Не может быть, кричу, ведь и у меня «Лигерос». И где берем? На Ваське, на Седьмой линии не переводится. Так ведь и я на Седьмой отовариваюсь! Вот тебе раз. Тут дежурный оператор Бесогонова сразу говорит: чайку прикажете? Словом, попили мы чая, покалякали, и сразу все выстроилось: и фотка с концерта, и сам он подозрительно кого-то напоминающий лицом, и прочее — все к одному, и масса у нас общих траекторий и пересечений: Курехины там, Драгомощенки, Гребенщиковы, Останины… (Очень может быть, что так все и было.)
Возможно, потому что тогда, в то замечательное время, некое провидение, как увеличительное стекло рассеянный свет, собирало нас в одну яркую точку на плоскости Северной столицы, и от этого места начинал идти дым. Мир сужался и расширялся одновременно. Мы даже не удивлялись постоянному счастливому стечению обстоятельств. То есть кого бы ни доводилось встречать — будь то прямо на улице, в компании, на концерте, в библиотеке, на факультете, а то и у себя дома, — оказывался замечательной личностью и непременно автором. Например, Наль Подольский однажды с похмелья обнаружил у себя за окном мансарды какого-то длинного незнакомца, мирно спящего на кровельной жести. Кто ты такой, спросил он, и что ты тут делаешь у меня на крыше? Тот ответил: я, мол, художник Вальран и нахожусь здесь потому, что вчера пришел в гости к замечательному Налю, но его почему-то не встретил. Так это как раз я и есть, сказал Наль, и они немедленно сбегали и сделались друзьями. О, а девушкам в ту пору было и вовсе непросто, в смысле, кому ни дай, тут же становишься музой, потому что найти себе хоть какого-нибудь простого благополучного парня оказывалось совершенно немыслимо — кругом одни бедные поэты: то Драгомощенко, то Ширали, а то и Кривулин или прозаик Звягин.
Но в тот день у нас никакого дыму не поднялось — да и какое это знакомство за чаем? — у каждого были свои задачи. Я поехал дальше по участку, Хренов остался со своей Бесогоновой. Но с этого момента мы с ним уже стали обращать внимание друг на друга, где бы ни встречались: у того же Боцмана, в Клубе, в Сайгоне. Но про Сайгон — после, потому что это вообще отдельная глава в истории как города, так и самого Хренова. И страшное, скажу вам, было место, форменная «долина смерти», то есть пойдешь — не вернешься.
Иными словами, появление Клуба-81 было совершенно естественным — просто давно сформировавшаяся общность литераторов получила название, ну и площадку для встреч. А это была в то время очень важная штука: кругом царил тоталитаризм — КГБ, МВД, принципиальная общественность, дружинники ходили за нами попятам. Даже посудомойка в котлетной, бывало, возьмет и не даст стакан, и что делать? Из горлышка в парадной? Ну, вдвоем-втроем еще можно пристроиться хоть на подоконнике, а если больше, то мигом приезжает упаковка. В этом плане значение Клуба было неоценимо. И я что-то не помню ни одного собрания, где пили бы чай. Чай пил только Иванов.
В Клубе Хренов вначале закорешился с шайкой переводчиков типа Иосселя, Хазина, Магида и др., которые несколько обособились, с легкой руки Драгомощенко, на Чернышевского, где еще размещалась театральная студия Горошевского. Клуб был, разумеется, образованием неоднородным, и какие-то творческие контакты зачастую определялись чисто профессиональными или личными склонностями: прозаикам веселей квасить с верными друзьями и ветреными незнакомками, критикам с поэтессами, а переводчикам любо выпивать с коллегами и иностранными разведчиками «с выразительными серыми глазами». Переводчики вообще воображали себя некой элитой и даже завели собственный журнал — «Предлог», название которого, кстати, придуманное тем же Аркадием, достаточно полно выдавало его отнюдь не метафизическую сущность. А что, подготовка и выпуск номера разве не предлог? Во где у них шел дым! Журнал был абсолютно классный, то есть в любом плане, и, на мой взгляд, ни один из ныне здравствующих до него не дотягивается даже на цыпочках. Даже сейчас такая подборка переводов авторов звучит завораживающе, и я ее приведу: В. Ален, Ф. Арабаль, Дж. Барт, Р. Барт, С. Беккет, Э. Берджесс,М. Бланшо, Х.-Л. Борхес, М. Бубер, Р. Гарри, С. Дали, Ж. Деррида, М. Дюрас, Ж. Жене, И.-Б. Зингер, Ф. О'Кон-нор, Ж. Лакан, Ч. Милош, С. Мрожек, М. Олдис, А. Ормсби, Дж. Оруэлл, Я. Пасерба, Г. Пинтер, Р. Руссель, Т. Стоппард, Дж. Толкиен, П. Целан и прочие, — все не вспомнить. Что уж говорить о тех дремучих временах марксистко-ленинской философии и социалистического реализма, когда большинство этих имен знали только считанные умники, а широкие массы интеллектуалов нет? Проблема была налицо, и «Предлог» с ней успешно справлялся. Тут следует сказать даже не столько о роли самиздатских журналов в жизни Северной столицы вообще, потому что это и так понятно, сколько, в частности, о тех, кто выпускал эти журналы. «Обводный канал» делал совершенно конкретно Кирилл Бутырин, «Митин журнал» — Оля Абрамович, «Часы» — Борис Иванов, а «Предлог» делал Хренов. То есть он себе и главный редактор, и корректор, и координатор, и финдиректор, а порой и машинистка, и переплетчик. Это была его идея и его реализация, и какие-то немыслимые для самиздата тиражи — приложения выходили чуть не по сто экземпляров. О компьютерах тогда только слухи ходили, к множительной технике было не подобраться, а подберешься, так на следующий день схлопочешь статью 190 Уголовного кодекса РСФСР, и конец твоему журналу. Вообразите себе гору специальной тонкой бумаги, которую еще нужно где-то отыскать, купить и таскать на себе по городу из одного дома в другой, вообразите копирку, вообразите машинистку, у которой не все дома, то есть и дома никого — она одна, а в голове и вовсе чума, и начинает по своей инициативе править тексты. Вот и прикиньте, что, например, Борис Иванович Иванов регулярно делал «Часы» на протяжении пятнадцати лет, смиряя себя постом и молитвой, а Хренов выпускал «Предлог» шесть лет, ни в чем себе не отказывая. Да, вот уж где действительно шел дым, так это в круге «Предлога». Видите ли, в компании с Артюшковым, Лапицким и Драгомощенко постников я не видел.
Но, насколько я помню, Хренов, вообще долго вел себя хорошо, то есть не пел, когда выпьет, и не топал ногой — ну, это «хорошо» относительно меня, потому что я никогда не топал. Кстати, Серега Артюшков, который тоже провел с Хреновым немало дней жизни, говорит, что точно помнит, когда тот начал топать ногой и петь. Утверждает, что эти особенности Хренов приобрел после просмотра мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».
Где-то показывали такое кино, а с проходкой было напряженно, и они как-то все-таки проникли с черного хода, но не в зал, а на сцену, по то сторону экрана, и в компании таких же проходимцев плодотворно провели время, попивая и покуривая, за просмотром фильма с изнанки. Потом они куда-то пошли в гости, и там уже, в продолжение вечеринки, Хренов как раз и запел, и затопал.
Знаете, есть один удивительный момент в человеческой памяти, какая-то избирательная амнезия, но когда сегодня я спрашиваю различных знакомых про Хренова, то практически все помнят, только как он топал и пел.
Вот даже Лапицкий, например, первым делом вспоминает про то, как они где-то что-то праздновали, а Хренов начал петь «строубери филд форева», и их замели в опорный пункт во дворе «Хроники». Ну, там на Лапицкого посмотрели и отпустили, и барышню — оказывается, с ними еще и чья-то спутница затесалась — тоже отпустили. Но Лапицкий сказал, что без Хренова не уйдет и долго убеждал ментов, что Хренов, по сути, совершенно тихий и безобидный, что произошло досадное недоразумение. Те по-чему-то поверили и сказали, ладно, мол, катитесь отсюда Однако далеко им уйти не удалось, потому что во дворе снова зазвучало «строубери филд форева», а там такая акустика, что менты тут же выскочили и сцапали Хренова обратно. Тогда эта барышня пошла его вызволять, и все повторилось с буквальной точностью, как в той Хреновской песне: строубери филд форева.
Пел и топал. Ну, казалось бы, что такого? Вот сидят (или стоят, что тоже часто бывало) обыкновенные необыкновенные люди — литераторы там, их поклонницы, просто какие-нибудь с ними добрые пьяницы, — выпивают, беседуют, смеются чин-чинарем, как положено в таких случаях, потому что травят анекдоты, или обсуждают, например, программную статью Э. Гуссерля «Кризис европейского человечества и философия», и вдруг Хренов, кстати, переводчик обсуждаемой работы, ни с того ни с сего начинает напевать какую-то песню советских композиторов на стихи народного даргинского поэта Расула Гамзатова со словами: «исчезли солнечные дни, и птицы улете-ели, и вот проводим мы одни неделю за неде-елей, пусть у тебя на волоса-ах!." — это он поет уже громче, а как только дело доходит до „любимая-любимая-а!“ — совсем во всю глотку. Дальше идет проигрыш, и Хренов, сжимая в руке воображаемый гриф, достаточно громко, сладострастно изгибаясь во все стороны и тряся хайером, изображает дикий запил гитариста Ляпина: „пи-пи-пи-пи-у-пиу-пиу-пиу“ на несколько минут, а потом соло Болучевского на альте: „па-а-а-а-фа-фа-фа, фью-фью-фью, ду-фа-фа-ду“ — кошмар, при этом он еще задней ногой в ботинке отбивает за Корзинина на воображаемой установке: „бум-бум-бум!“ (Думаю, такой состав собирался только в голове у Хренова.) Народ, если это происходит в общественных местах, конечно, шарахается, а друзья ему говорят, хорош, Хренов, тебе шуметь, давай уже выпьем по-человечески, и он возвращается к реальности с ощущением, будто умылся чистой и теплой водой, — во всяком случае, такое у него выражение лица.
Нет, еще много зависело от тусовки. С нами, например — со мной, с Артюшковым — он никогда не топал, а уж куда мы только ни закатывались. Не осталось, наверное, в городе ни одной пивной, ни одного разлива, ни одной шашлычной-чебуречной, где бы мы не оттягивались по полной программе в узком кругу, и все без последствий. Праздновали все подряд, и дым шел широкой волной до самого неба по нескольку дней. А случись кто еще, или вообще без нас — сколько угодно последствий, вплоть до совсем уж нелепых. Раз зацепился Хренов со Светкой Беляевой (сейчас она знаменитая фифа Кониген с собачкой, на каком-то московском канале ведет про деликатесы), с Митей Волчеком (тоже теперь известный бонвиван) и пошли в театр Ленинского комсомола. Не, не на спектакль, а потому что им не хватило, и они решили догнаться, — Светка тогда, чуть чего, сразу кричала: эй, поехали, мол, в театр Ленинского комсомола, там еще выпьем. Что там такое было в этом театре, что всегда можно было выпить, так и осталось неизвестным по той простой причине, что в театр тогда они не попали, а попали в отделение — их менты сняли с крыши дома, который как раз напротив театра. Ну, этим-то что? Веселые приключения — подержали и отпустили, а Хренову припаяли пятнадцать суток, хотя пили вместе. Впрочем, может именно на примере этой несправедливости Митя впервые задумался о нарушениях прав человека и преследовании инакомыслящих в Советском Союзе и пошел работать на радиостанцию «Свобода»,и Светка следом. А уж более инакомыслящего, чем Хренов, я и вообразить не могу.
Вот, например, звонит как-то его Ровинская и говорит, типа, ты там будешь в «Сайгоне», так пульни Хренова домой — он тут вчера за морковкой пошел, — пора бы, мне ж надо суп варить. Прихожу, смотрю — вот он в шляпе, один, но уже с кем-то видно встречался. Встретились и мы. Потом я ему говорю: поехали? Он говорит: поехали, и мы приезжаем на Театральную, идем, идем, идем, идем, идем, вдруг он останавливается. А куда мы идем, спрашивает. Так Ровинская тебя ждет, говорю, суп она хочет. Не, мотает он головой, отказать! Я еще, говорит, морковки не купил. И обратно в «Сайгон».
Знаете, есть люди, кого занимают проблемы вроде того, что вот был, например, Чапаев когда-то — реальный унтер-офицер, полный георгиевский кавалер, потом красный командир; и есть герой романа Фурманова; и ходит по свету персонаж анекдотов, так вот: как они все между собой соотносятся? Но мы тут не будем ломать свои головы: как, как? Да неизвестно как, потому что всю твою жизнь от рассвета до заката — фабулу трагедии и все детали — знает только Бог и никому не говорит, а Фурманов, хоть и был знаком с тем красным командиром, в своем произведении решает задачи сугубо сюжетные — нечеловеческие, и Чапаев у него какой-то немыслимый пидарас, выкованный с головы до ног из чистой стали, а что до анекдотов, то традиция пародийной травестии известна с гомеровских времен и ничего не отражает — там Геракл — обжора и пьяница, а Одиссей, чтобы уклониться от участия в войне, симулирует безумие в дурацком колпаке, то есть, конечно, анекдот — народная мифология — пересказывает отдельные моменты сюжета, но без эпического пафоса. Пафос совершенно чужд обыденной жизни, вот почему анекдот переводит героя на арену повседневности, тем самым занижая его до уровня обыкновенного человека. Помните Фауста и его вроде бы законное маскулинное желание оказаться на месте Париса? Так вот, этому мизантропу и в голову не приходило, что он своим желанием не возвышает себя до уровня героя, а опускает Елену до простодушной потаскушки, которую можно без всякого пафоса трахать, простите за резкость, во все дырки. Потому что в трахании, хоть кого, нет никакого пафоса, но есть что-то другое.
Кстати, рассказывают, что однажды Курехин, который пафоса никакого не любил и никаких Елен для него не существовало, с приятелем высунулся в окно и заметил прогуливающуюся по улице незнакомку. Учтиво обратившись, он предложил ей присоединиться, а она возьми и поднимись к ним на второй этаж. Тогда Курехин, все также учтиво, предложил ей немедленно с ним соединиться, и она немедленно соединилась. Но когда его приятель тоже выразил подобное желание, девушка сказала, мол, с удовольствием бы, да не могу — у меня там муж за арбузом стоит.
К чему это я? Да к тому, что если бы мы спросили Чапаева, где он хотел бы обрести бессмертие, то есть персонажем эпоса, романа или анекдота, то неизвестно, что бы он выбрал. Ну, выбор Курехина мы знаем, хотя некоторые модные писатели лепят из него Евгения Онегина, а каково было бы желание Хренова?
Помните, почему Фауст связался с чертом? Потому что хотел человеческого бытия — знание не давало ему никакого удовлетворения. Но главная его проблема была в том, что желать-то он желал, а желать не умел. Умом ничего не пожелаешь, и бес постоянно бедолагу за это выстебывает, желание родится где-то в другом месте. Нет, нет, нет, не там, где вы подумали, — там дети родятся. А это место находится вообще за пределами тела, и с телом связано постольку, поскольку мы обитаем в нем, в теле. И если вы не пошлые материалисты, то поверьте, что хотеть попить, пописать, купить красные сапоги, написать роман о событиях невероятных, поймать крымскую жужелицу или метровую щуку, соблазнить девчонку, похудеть на шесть килограммов, выйти замуж за итальянца и жить у лазурного моря — отнюдь не желания, а мелкие нужды тела. Подумаешь, захотела, расхотела. А вот если хочется обосраться и обмазаться, то это, скорее всего, настоящее желание, ибо оно иррационально и непреодолимо. И Хренова подобное желание периодически извлекало из повседневности.
Видите ли, мертвых нужно любить по-другому, они за пределами сферы контакта, но с ними можно и нужно работать. Если хотите, то это и значит за них молиться. Меня, например, всегда занимало, для чего он периодически совершенно намеренно являет на всеобщее обозрение свое критическое опьянение — ну там всякие сопли по бороде, бессвязность, беспомощность и прочее. Приходишь в «Сайгон», в «Придаток», на Пушкинскую, в «Гастрит», а он там чуть сидит на подоконнике, чуть не валяется, уже ни петь, ни топать не может и пить не в состоянии, но попытки его увести ни к чему не приводят — упирается, сопротивляется. Только если менты его берут, тогда идет покорно и спокойно, крестным путем, а потом безошибочно возвращается, будто кого-то ждет. И так, бывало, три дня сидит и за эти три дня семь раз попадет в вытрезвитель. Вот, что это такое: детский эксгибиционизм, мистическая трансформация, шоу юродивого, политическая провокация, гражданское самоубийство? Вы скажете: у парня была проблема с алкоголем? А я скажу: нет, не угадали, это для девушек водка — любовный напиток, отсюда у них проблемы с алкоголем. Не было у него с этим никаких проблем, Хренов не пил в одиночку, не прятался, не таился от земли и неба. Мы сколько раз вместе обедали в городе, принимая приличные за едой кружки, стопки, бокалы, фужеры, графины, бутылки, а после расходились по делам, и никакого продолжения, то есть он не заводился от первого глотка, как некоторые. А сколько мы ездили на всякие конференции в Москву, в Смоленск, мотались неизвестно зачем по каким-то Прибалтикам, по российским губерниям и, как всякие путешественники, непременно впадали в излишества на чужбине, но нигде и никогда я не видел Хренова в таких обстоятельствах. И с работой у него не было никаких проблем — все в срок сдавал. Мог работать дома совершенно спокойно неделями и месяцами, но в какой-то момент сила желания — а что же еще? — переносила его на лобный подоконник. Кого он ждал на нем?
Ну, будь аналитиком, я бы сразу поинтересовался, как у него обстояло с эдипами-шмедипами. Но я же не любопытный, как Иванов, и никого ни о чем не расспрашиваю. Да нормально вроде обстояло, ходил Хренов чистенький и аккуратненький, с помытыми хайерами, с расчесанной бородой, с ликом Спасителя, писанным Васнецовым или Врубелем, с ясным взором, в котором и ум, и доброта, и все, что хотите. Короче, хорошенький такой мальчик, и девочки на нем висли гирляндами, как сосиски. А матушке его это было очевидно, в смысле девушек, ведь она же его тоже любила, да еще как, а для взрослого мальчика, как известно, нет ничего страшнее материнской любви. Она проецируется на все его отношения — на всех его женщин во всех его домах, а он был не то что окружен женской любовью — она лезла к нему отовсюду, он ею захлебывался. И когда его начинало от этого тошнить на все четыре стороны, он и отправлялся на тот подоконник, чтобы обмыться у всех на виду презрением и брезгливостью.
И что же, он просто сидел? Да кто его знает, впрочем, наверное, сидя в говне, человек направляется навстречу недостижимым Еленам и Семирамидам, которые вроде уже и не женщины и которых можно желать сколько угодно — потому что безнадежно. И тут ничего не поделать — желаниями правит любовь, а кто такой любовь вам скажет любой папа римский.
А однажды Хренов не дошел до подоконника, хотя явно направлялся туда. «Азбука» в тот день с ним наконец рассчиталась за переводы, он бабки домой занес и пошел, потому что был уже на кочерге, а я свои редакторские чуть раньше получил, и мы встретились почему-то у Волковыского, Крусанов еще был, завтракали в поплавке на Кронверке. Мы еще с ним потом пообедали на Васильевском где-то, и больше я его живым не видал. А буквально через день звонит Ровинская: так, мол, и так.
Обстоятельства его гибели крайне загадочны и не поддаются рациональному. Он выпал в окно у себя на лестнице с третьего этажа. И когда это стало известно в «Сайгоне», то кто-то сказал: Юлька позвала, — и мы вспомнили некую рыжую, которая иногда заходила в собрание, манила его пальцем, и он послушно оставлял компанию. Говорили, что она училась в Пермеде, что однажды на глазах у своих однокурсниц вывалилась из окна со второго этажа и того. Вот так, а он уже женился на Ровинской, и Игнашка родился, и прочее. Ну, все сходится: три — число мужское, два — женское. Как после этого можно вообще водиться с этими бабами?
Когда его хоронили, я уже был в Усть-Нарве — обстоятельства, визы какие-то, короче, никак целый месяц. И сильно переживал, что не простился, — всегда ведь есть, за что попросить прощения. А на какой-то день он вдруг является мне собственной персоной, как наяву — аккуратненький и спокойный — машет мне ручкой. Не заморачивайся, старик, говорит, все ништяк.
Я ему сразу поверил и старался жить спокойно, но долго ли спокойно проживешь с досадой от непоправимости, да еще когда ничего не понимаешь. Но вот что нашел я вместо утешения, в качестве некой примочки для ссадины. Это фрагмент из книжки, которую Хренов тоже любил:
«И в самом деле, только он об этом подумал, как сразу почувствовал, что тот Минк Сноупс, которому всю жизнь приходилось мучиться и мотаться зря, теперь расползается, расплывается, растекается легко, как во сне; он словно видел, как он уходит туда, к тонким травинкам, к мелким корешкам, в ходы, проточенные червями, вниз, вниз, в землю, где уже было полно людей, что всю жизнь мотались и мыкались, а теперь свободны, и пускай теперь земля, прах, мучается, и страдает, и тоскует от страстей, и надежд, и страха, от справедливости и несправедливости, от горя, а люди пусть лежат себе спокойно, все вместе, скопом, тихо и мирно, и не разберешь, где кто, да и разбирать не стоит, и он тоже среди них, всем им ровня — самым добрым, самым храбрым, неотделимый от них, безымянный, как они: как те, прекрасные, блистательные, гордые и смелые, те, что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали вехами в долгой летописи человечества, — Елена и епископы, короли ангелы-изгнанники, надменные и непокорные серафимы» note 1.
А еще я пою: «в жопу клюнул жареный петух» — но никогда не топаю.
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Богданов Леонид Борисович
Родился 17 февраля 1949 года в Петербурге. Занимался фотографией с одиннадцати лет в фотокружке Дворца пионеров. Окончил Институт киноинженеров. Работал фотографом ТЮЗа, затем сотрудничал с издательствами «Искусство», «Художник РСФСР», «Аврора» и многими другими. Основные темы произведения искусства, архитектура, интерьер, городской пейзаж, промышленная и пейзажная съемка, фотомодели. Признанный «профи» музейной съемки. По заданиям издательств, помимо работы во всех главных музеях Петербурга, исколесил всю Россию и снимал коллекции даже в Кабуле. Участник многих выставок. Участник и автор более ста альбомов по искусству и архитектуре. В новогоднюю ночь — 1 января 2003-го — умер в Петербурге от инфаркта.
Гоосс Владимир Константинович
Родился 26 октября 1950 года в Сумгаите (Азербайджан), где отец проходил военную службу. Отец — потомственный петербуржец, дед был художником Мариинского театра, мать — из Воронежа. С 1951 года жил в Ленинграде. Поступил в Серовское художественное училище и почти сразу после этого был арестован за незаконное проникновение на охраняемую территорию Смольного. Оказал сопротивление при задержании и получил три года лагерного срока. После лагеря отслужил в армии. Вернувшись в Ленинград, занимался живописью и графикой. Принимал участие в известной выставке в ДК «Невский» (1975) и далее — во многих выставках ТЭИИ. Был арестован за хранение гашиша и получил два года «химии». После отбытия наказания принимал участие в выставках в России, а также Лондоне, Берлине, Венеции. Работы хранятся в частных коллекциях у нас и за границей. Убит в Петербурге ножом 25 января 1998-го во время ссоры с психически неуравновешенным человеком.
Григорьев Олег Евгеньевич
Родился в эвакуации, в Вологодской области 6 декабря 1943 года. Мать — фармацевт. С двух лет жил в Ленинграде. Несколько лет учился в СХШ, был исключен «за формализм». Работал сторожем, кочегаром, дворником. Занимался живописью и графикой, дружил с художниками так называемого «Арефьевского круга». Принимал участие в известной выставке в ДК «Невский» (1975). Опубликовано около десятка книжек, более половины из них — посмертно. Дважды подвергался аресту. В первый раз — в 1971-м, после чего был сослан «за тунеядство» на два года в Вологодскую область. Во второй раз — в 1989-м, «за дебош и сопротивление милиции», но дело, к счастью, кончилось условным сроком. За полгода до смерти был принят в Союз писателей. Умер в Петербурге 30 апреля 1992-го от прободения язвы желудка.
Жилина (Нейзель) Наталия Владимировна
Родилась 25 декабря 1933 года в Петербурге. Родители — потомственная петербургская интеллигенция. Окончила Серовское художественное училище. Как график работала с научными издательствами. С начала перестройки много выставлялась. Живопись пользовалась успехом у коллекционеров. Работы хранятся у детей и многочисленных коллекционеров, в основном в Петербурге и Москве. Опубликовала книжку лиричных автобиографических рассказов. Замужем была трижды. Первый муж — известный художник Владимир Шагин, их сын Дмитрий Шагин — один из основателей художественного объединения «митьки». Во втором браке родилась дочь, ныне известный фотограф Мария Снигиревская. Третьим мужем был Борис Смелов. Умерла в Петербурге 26 июня 2005-го от инсульта.
Кривулин Виктор Борисович
Родился 9 июля 1944 года в Луганской области. Отец — кадровый политработник, мать — военный фельдшер. В Ленинград семья переехала в 1947-м. Инвалид с детства (полиомиелит). Ходил, опираясь на палку, при этом отличался большой подвижностью. Окончил филологический факультет Университета. С появлением литературного андеграунда стал одним из его лидеров. Огромное количество, исчисляемое сотнями, публикаций как в самиздате, так и во всевозможных «толстых» и «тонких» журналах, сборниках, альманахах, даже в газетах. Автор более десятка книг. С начала перестройки, отчасти под влиянием Г. Старовойтовой, увлекся политикой — писал статьи на политические темы, принимал участие в митингах и собраниях, баллотировался в Законодательное собрание СПб. Был женат несколько раз. Умер в Петербурге 17 марта 2001 —го от рака легких.
Кудряков Борис Александрович
Родился 28 мая 1946 года в Петербург Прозаик, поэт, фотограф, художник. Закончил фотографическое училище. Работал фотографом в шахтах, на заводах и в НИИ. В «застойные» годы как фотограф участвовал в квартирных выставках, иногда выставлялся заграницей (Чехословакия, Франция, США). Подборка фотографий опубликована в журнале «ZOOM». С начала перестройки выставлялся в России уже официально. Автор многих рассказов, четырех романов, семи пьес, большого количества стихов. Печатался в самиздате, в «толстых» журналах, выпустил две отдельные книжки — «Рюмка свинца» (1990) и «Лихая жуть» (2003). Лауреат литературной премии Андрея Белого (1979) и Тургеневской премии правительства Москвы (1998). Женат не был, жил уединенно. Умер от инсульта в Санкт-Петербурге 11 ноября 2005-го.
Курехин Сергей Анатольевич
Родился 16 июня 1954 года в Мурманске в семье военного. В детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. С юношеского возраста увлекался музыкой. В 70-е работал концертмейстером, играл в «Большом железном колоколе», впоследствии увлекся джазом и выступал с квартетом ленинградского саксофониста Анатолия Вапирова. В начале 80-х играл с «Аквариумом». Известен как пианист-виртуоз, композитор, актер и первый шоумен страны 80-90-х годов. В 1984-м создал небывалый синтетический коллектив «Популярная механика». Помимо работы с «Поп-механикой», выступал с сольными концертами, писал музыку к спектаклям и кинофильмам (более 20 лент). Снялся в картинах: «Лох — победитель воды», «Два капитана-2». Умер 9 июля 1996-го в Санкт-Петербурге от редчайшей болезни, диагностированной как «саркома сердца».
Науменко Михаил Васильевич
Родился 18 апреля 1957 года в Ленинграде в семье преподавателя технического ВУЗа и библиотекаря. Окончил английскую школу, после чего поступил в ЛИСИ, откуда ушел после четвертого курса. В конце 70-х играл с «Союзом любителей музыки рок» и «Капитальным ремонтом», а также сотрудничал с «Аквариумом» в качестве приглашенного электрогитариста. В мае 1978-го вместе с Борисом Гребенщиковым записал акустический альбом «Все братья — сестры». Летом 1980-го записал сольный альбом «Сладкая N и другие». Осенью того же года собрал собственную рок-группу «Зоопарк», с которой выступал, гастролировал и записал следующие альбомы: «Blues de Moscou», «Уездный город N», «Белая полоса», «Музыка для фильма». Кроме этого, летом 1982-го был записан студийный соло-альбом «LV». Помимо музыки, занимался переводом с английского. Наиболее известны следующие переводы: Р. Бах «Иллюзии» и Э. Ф. Рассел «Ближайший родственник» (совместно с сестрой Татьяной). 27 августа 1991-го был найден соседями лежащим у дверей своей комнаты без сознания. Вечером того же дня, не приходя в сознание, умер.
Новиков Тимур Петрович
Родился 24 сентября 1958 года в Ленинграде. Воспитывался матерью, без отца. С 6 лет занимался в кружке рисования при Доме пионеров Дзержинского района. Несколько работ того периода были представлены на выставке детского рисунка в Индии. Учился в школе-интернате с углубленным изучением хинди. Не закончив его, уехал на Новую землю, где его мать поступила на службу в Северный флот секретарем-машинисткой. По возвращении занимался в Клубе юных искусствоведов при Русском музее, учился в Техникуме химической промышленности, работал киномехаником в кинотеатрах, оператором газовой котельной. В 1977-м вошел в группу художников «Летопись». В 1982-м создал собственную художественную группу «Новые художники». В 1989-м организовал Новую Академию Изящных Искусств. За несколько лет до смерти тяжело заболел и ослеп. Умер 23 мая 2002-го в Санкт-Петербурге.
Ордановский Георгий Владимирович
Родился 2 октября 1953 года в Ленинграде. Рок-музыкой увлекся еще в школе, тогда же освоил гитару. В 1971-м вошел в состав «Россиян» и в скором времени занял в группе лидирующее положение, так что к середине 70-х репертуар «Россиян» практически целиком состоял уже из его песен. Во многом благодаря именно Ордановскому, во второй половине 70-х — начале 80-х «Россияне» обрели выразительное звучание и стали самой популярной концертной группой Ленинграда. 13 января 1984-го, незадолго до премьеры новой программы группы, намеченной на февраль 1984-го, пропал без вести в районе поселка Семрино, где собирался праздновать с приятелями Старый Новый год. 10 мая 2001-го Федеральный суд Красносельского района СПб вынес решение о признании Георгия Ордановского умершим.
Панов Андрей Валерьевич
Родился 20 марта 1960 года в Ленинграде в семье танцоров Кировского театра. После школы поступил в ЛГИТМИК, однако через год бросил театральный и устроился работать продавцом в магазин радиоаппаратуры. Создатель первой в России панк-группы «Автоматические удовлетворители» («АУ»), которую собрал в 1979-м. Весной следующего года группа дебютировала с концертом в кафе «Бриг». Не мыслил себя без скандала как на сцене, так и в жизни, что создало «Автоматическим удовлетворителям» блестящий имидж. С успехом выступал в Москве, Прибалтике, Киеве. В мае 1988-го был приглашен в качестве вокалиста и основного автора песен в группу «600». В середине 90-х, помимо традиционного панк-рока, играл с собранной им из профессиональных музыкантов группой «Аркестр АУ» псевдо-танцевальный фанк. 20 августа 1998-го умер в петербургской больнице от перитонита
Смелов Борис Иванович
Родился 13 марта 1951 года в Петербурге. Фотографией занимался с тринадцати лет, поступив в фотокружок Дворца пионеров. Учился в Оптико-механическом институте и на факультете журналистики Университета. Участвовал во многих выставках и публиковался в разных изданиях, в России и за границей. Оказал большое влияние на становление петербургского стиля, среди фотографов до сих пор бытуют понятия «смеловский Петербург» и «смеловский натюрморт». Работы имеются в коллекциях ЮНЕСКО, в галереях Вашингтона и Парижа, а также во множестве частных коллекций России, Европы и Америки. Умер в Петербурге от переохлаждения 18 января 1998-го, заснув пьяным сном на садовой скамейке и тем самым реализовав свое постоянное присловье «я хочу умереть от водки».
Хренов Сергей Александрович
Родился 27 декабря 1956 года в Ленинграде в семье инженеров. Закончил Ленинградский политехнический институт. Работал по специальности. Увлекался иностранными языками, литературой, современной музыкой, писал стихи, прозу, переводил стихи, романы, эссе, критические и философские тексты. С 1982-го — постоянный автор «Часов», член Клуба-81. В 1984-м основал самиздатский журнал «Предлог» и выпускал его до 1990-го. Был основателем вместе с А. Канном Клуба современной музыки. С 1990-го активно сотрудничал с издательством «Северо-Запад», а в последующем — с издательством «Азбука» как профессиональный переводчик. В 1994-м удостоился премии «Странник» за перевод Дж. Кейбела «Сказание о Мануэле». Погиб 11 июля 1995-го в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая.
Цой Виктор Робертович
Родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Отец кореец, мать русская. С ранних лет увлекался рисованием, занимался в художественной школе. Поступил в училище им. Серова, однако вскоре был оттуда отчислен. Впоследствии учился в ПТУ, где осваивал профессию резчика по дереву. В 1981-м собрал группу «Гарин и гиперболоиды», год спустя переименованную в «Кино». С середины 80-х группа получила широкую известность и стала чрезвычайно популярна в молодежной среде. Записал альбомы: «45», «Это не любовь», «Ночь», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Черный альбом». Снимался в фильмах «Асса», «Конец каникул», «Игла» и ряде других любительских и студенческих работ. 15 августа 1990-го погиб в автокатастрофе под Юрмалой.
Note1
У. Фолкнер «Особняк». М., 1965. Пер. Р. Райт-Ковалевой
(обратно)

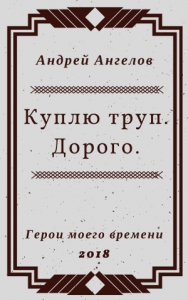

Комментарии к книге «Беспокойники города Питера», Павел Крусанов
Всего 0 комментариев