Константин Дмитриевич Воробьёв
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
1950-1960 гг.
ТИШКА СУРОВЕЦ
...Маленькая хатенка о двух оконцах. (Из пуньки.) Семья придурковатая, за исключением матери. Старший сын - Тишка. За папироску, в которую засыпали порох, босиком бегал по снегу 15 км.
Потом он женился. Полоска их земли подходила одним концом к лесу, где дед Большак вел пасеку. Так как пчелы в июле особо сердиты, то люди, чья земля прилегала к этому лесу, пахали, косили - с рассветом до тех пор, когда пчелы начинают сбор меда.
Но Тишка выехал метать пар (июль), когда солнце на дуб поднялось в небо. Не успел он объехать и круга, как на потную лошадь - пчелы не любят человечий и лошадиный пот - сел целый рой пчел. Вместо того чтобы выпрячь из оглоблей сохи кобылу, и она бы или начала кататься по земле, или скакнула в кусты,Тишка, оставив кобылу, не спеша направился трусцой домой за роевней.
- Птушка, Птушка, рой на нашу кобылу сел! Давай роевню!..
Жена заплакала (она была умна, но бедна).
Взяв роевню, Тишка побежал огребать рой. Подходя к полосе, он увидел вздувшуюся горой свою лошаденку, завалившуюся в оглоблях. Лошадь сдохла, зажаленная пчелами, сотни трупиков которых валялись на земле около околевшей кобылы. Подумав с минуту, Тишка выломал из сохи оглоблю и, взвалив ее на плечо, ринулся в пасеку к деду Большаку.
- Сука-сын! Ты што распустил своих пчел!
И начал оглоблей охаживать дублятки деда.
КАК ДВАЖДЫ ПОГИБЛА РАДОСТЬ
У меня был сильный жар. На заре я задремал, и мне приснилась долина цветов. Цветы обыкновенные - ромашки, маки, дикий клевер, васильки... Но я никогда наяву не ощущал так живо и светло (именно светло!) краски цветов, их оттенки, строение и малейшие трепетания лепестков. И оттого мне было легко и грустно, как не бывает наяву.
Но я сразу проснулся, и очарование исчезло. Тело ломило, во рту было сухо, а настроение погано. В окно пробивался рассвет. Он все синел и ширился, и от большой тишины, какая бывает обычно на рассвете, в моей комнате плавал тонкий звон. На улице был мороз, я стал глядеть в окно, не поворачивая головы на подушке, но вдруг внимание мое привлек один замечательный узор на стекле. Нет, не замысловатый, а сказочный. Было: наш сибирский таежный лес. И с луком в правой руке, непокрытый, в разрисованной гарусом шубе Иван Царевич, как я привык его в детстве видеть на картинках.
А на самом широком верхнем стекле с поразительным мастерством была изображена баталия. На возвышенности, выбросив ногу в огромном ботфорте и со шпагой в руке, стоял усатый большой человек. Даже любой школьник, увидя его, сказал бы, что это Петр. И ясно было, что это - Полтавская битва.
Когда же из-за крыши соседнего дома выкатилось солнце, узоры на стекле брызнули таким ярким алмазным светом, что я невольно засмеялся вслух и закашлялся. Кашель бил меня долго. И когда я оправился от него и взглянул на окно - по стеклам сверху вниз тянулись длинные безобразные потеки - солнце растопило и Ивана Царевича, и Полтавскую битву.
Стало скучно и тоскливо, как бывает только наяву в наши дни.
* * *
- Насчет радостей... Это дело такое - кому что. Вот я как-то наблюдал такую штуку. Заметил я на оконной шибке малюсенькую мошку, меньше булавочной головки, она чуть заметна. Думаю: ну что за смысл ей жить! Ну какие в ней могут быть потребности, чувства, так сказать, желания? Никаких! Без смысла живет. Думаю и наблюдаю за ней. А она, шельма, за какие-нибудь три минуты пару раз из конца в конец пересекла шибку. Да с таким восторгом перебирает ножками, так энергично подрагивает крылышками, что просто диву даешься! И ведь что! Я тогда и понял - есть у ней радость бытия. Огромная. Она ведь покрыла по стеклу свои сотни тысяч километров за эти три минуты. А эти наши минуты для ней вечность, может, целая... - Рассказчик умолк.
Я спросил:
- Ну, а потом?
- Что потом?
- Ну, конец этой мошки проследили вы?
Рассказчик ответил не сразу, уже более смиренно:
- Проследил... В углу окна сидел небольшой паук. Ну и того, заметил ее, стервец... убил одним махом.
- Вот видите?
- А что ж тут. Все законно получилось, обрадовался найденной логике рассказчик.- И жила радостно, и гибелью своей другому удовольствие сделала. Законно все.
СЦЕНА С НАТУРЫ
Сегодня 5 ноября. По городу вывешиваются флаги, дует холодный ветер, и идет первый снег. На здание консерватории, где с балкона члены местного правительства приветствуют в праздники демонстрантов, поднимается огромный портрет-барельеф Ленина и Сталина. Его тянут на трёх блоках несколько человек, а командует ими, отойдя на противоположный тротуар, маленький юркий человечишка. Взмахивая короткими ручками, он подпрыгивает и кричит:
- Раз-два - взяли! - и сам делает вид, что тянет. Но портрет тяжел и не поддается усилиям.
- Раз-два! - прыгает человечишка.
И в этот момент сверху, от группы тянущих рабочих, глухим голосом скатывается:
- Вот потянул бы ты сам их, как мы, тогда узнал бы, как оно...- и закончил угрюмой матерщиной.
Прохожие торопятся и делают вид, что не слышат.
* * *
Ну что, Воробьев, гибнешь?
- Нет, я еще держусь, это мне надо... жить надо, а то, что пистолет постоянно рядом, что мне стоит протянуть руку - и я прекращу эту глупую возню,- это мне помогает жить. Я всегда свободно, по собственному желанию, уйду отсюда, и никто, никогда, ни за что не заставит меня уйти из жизни, если я того не захочу сам!
* * *
Лишения, страдания и унижения у нас возведены в некую доблесть. Об этом всевозможные жулики от так называемой советской литературы написали множество баллад, романов и еще черт-те чего.
... Тихонов написал:
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!
Все это в угоду одному: лжи, всесветному обману. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни счастья, ни успеха. Горе человека не красит, и Тихонов это знает, что "несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга". Это Чехов сказал.
* * *
- Ты писатель, сказали мне. А это плохо. Нельзя ничего выдумывать в жизни, пусть даже это будет красивое. Нельзя врать!
* * *
У нее было ярко-оранжевое платье, и она, директриса, проходила по залу как хозяйка великосветского салона надменно-приветливо и гордо-снисходительно к тем, что сидели за столами.
Куда ты денешься от себя, человека из норы!
* * *
Вошел человек, что-то женско-мужское, бледно-землистое, что-то совиное, от летучей мыши.
* * *
За столом напротив сидела группа из четырех человек. Женщина в черном, тонкая, худая, потрепанная, но сама не согласная с этим, с гладко зачесанной головой - маленькой, как у змеи. Курила она жадно, с затяжками, и я понял, что она - окололитературная бабочка.
* * *
Написать рассказ о тех, кто сулит рай в будущем. Природа этого. Жить тем, что будет после тебя? В этом страшная ложь. И люди должны противиться ей. Человек должен сделать себе радость при своей жизни. Себе. И это останется потомкам. Это очень просто.
* * *
Если не вдохновит тебя тишина, закатная заря, одиночество в лунной ночи или пронизанная солнцем листва,- иди и удавись: выше и торжественнее этого ничего на свете нету!
ЭТАПЫ ПИСАТЕЛЯ
Вначале - горячее поощрение - в тебя не очень верят.
Затем - ирония - "неужели ты всерьез думаешь о себе?".
После - "мы его вытащили, он бы так и продолжал торговать дегтем".
Предпоследнее: обида, учет каждого твоего шага, желание и ожидание твоего первоначального "положения", предположение о твоем мнимом богатстве, подозрение в аморальности, самоуверенности, пьянстве, разврате, пижонстве, эгоистичности, скупости,- словом: рьяная зависть, и если ты средний, если ты то дерьмо, которое нужно твоему времени,- ты удовольствуешься этим подаянием, будешь сытым, гибким, внимательным, лысым и приятным,- но и только.
А надо: послать всех, особенно тех, кто тебя "вытащил", к такой матери, ибо "вытащил" тебя - ты сам, и написать такое, которое повергнет твоих "друзей" в состояние удивленного, молчаливого, тайного или явного - это их дело - восхищения.
Тогда они и в самом деле поверят в тебя.
1960-1973 гг.
Кузнецов, стало быть, не любил Родину и свой народ. Я и без него знаю, что написать три антисоветских романа при пяти верноподданнических значительно легче, чем написать один "возможный" к публикации "Чертов палец". Я знаю это потому, что положил жизнь на это. Еще бы! Пожалуй, за "Момича" и за "Это мы, Господи!" я получил бы там денег больше, чем Кузнецов, но...
Он совершил смертельную ошибку. Если он в самом деле талантлив, то больше трех лет там не продержится физически: или сопьется, или сойдет с ума. А кроме того...
* * *
В Библии сказано, что ничто не остается и не останется без возмездия,- и это хорошо, потому что безнаказанность преступления по своей сути аморальна, она разлагает человека, общество, наконец нацию, ибо является прецедентом для повторения зла.
* * *
Д. - командир партизанского отряда. По окончании войны ему предложили работу в НКВД. Он сообщил об этом своему старику отцу. Тот, подумав, сказал:
- Тебе сейчас нельзя.
- Почему?
- Вначале надо операцию сделать.
- Какую?
- Совесть вырезать.
Д. не пошел.
* * *
Пленный над умершим плачет горькими, безутешными слезами, причитая по-бабьи: "Братишечка мой милый, дорогой..."
Он обращается к пленным и даже к полицейским с просьбой помочь ему похоронить "по-людски" братика, и все отходят, и, оставшись один, "плакальщик" догола раздел покойника, а вечером уже "торговал" его обмундированием. Славянская подлость!
Тот не был ему, конечно, братом. Уловка, рабская, уничижающая мерзость.
* * *
Ночью освещенные коробки домов были похожи на громадные соты. Только это, конечно, не мед и не пчелы!
* * *
Он говорил о море, как о женщине: то безбожно выдумывая и привирая, то застенчиво утаивая и храня, и в зависимости от смысла слов у него менялось выражение глаз: то они были нахальны и бессмысленны, то задумчивы и серьезны.
* * *
Он стал просыпаться рано, а иногда среди ночи, и, как ни старался, не мог заснуть до утра. Старость.
И вот однажды он проснулся от какого-то необъяснимого страха. Лежа в темноте, он чувствовал, что этот страх не проходил. И он вник в него и понял, что это страх за прожитое,- как прожил он свою жизнь. Несерьезность жизни. Случаи легкомыслия. Но именно это выдвинуло его над всеми.
Что было бы, если бы он поступал как все? Была бы обеспеченность. Сытость. Покой. Свинский хлев.
И когда он это понял, он успокоился. Страх прошел. Может быть, потому, что в окно пробивался осенний рассвет?
* * *
Когда он проезжал мимо кладбища, ему вдруг стало плохо с сердцем, и он тотчас же выжал газ до предела...
* * *
Он должен думать, что не прав, когда смотрит на них с гневом и презрением, что надо с любовью и участием, но участия не было. Любви тоже.
Всё, что я видел, не годилось для записной книжки: тут земля не была в цвету, а те радости, что начинались во дворах и хатах, стоили слишком дорого и никак не окупали себя.
* * *
Я не могу писать. Не хочу жить. Да свершится всё, чему суждено, и противиться смерти не надо.
* * *
Человек из б. высшего общества бежит от этой жизни. Становится рабочим сцены. Видит жизнь ту, от которой бежал.
Ходит, носит бревна. Люди эти смотрят на него с интересом, и он чувствует, что это ему льстит.
Вопрос - ну а дальше что же?
Он повесился ночью на сцене.
* * *
Я любил этого человека, но каждое утро в меня вселялось облако тоски, и я приносил себя мрачного, некрасивого - к нему, и он думал, что это моя нелюбовь к нему, и мы ссорились.
* * *
Да, в самом слове "Аргентина" все это есть - немеркнущее солнце, тонкая лазурь неба, неумолчный шум океанских волн...
* * *
Это звучит маняще и загадочно, как слово "Рио-де-Жанейро".
* * *
Романтический бунт во имя несбыточных грез.
* * *
Он уже давно не мог засыпать без путешествий в свое детство. Или он залезал на дуб, или бродил по болоту в поисках утиных и чибисиных яиц, или запружал ручей под "Грибакиными", или гнал в ночное мерина, или собирал в "Большом лесу" пазабник (так называлась в Шелковке земляника).
* * *
Широкая, поросшая травой дорога. И бойко катится по ней телега. И путник все время оглядывается назад, и почему-то ему кажется, что уже не встретить на дороге того, что было, чему он был свидетель...
В тревожной дымке неизжитого теряется близкий конец пути-дороги. Что-то там?
А позади - радости незабвенных встреч, зелень весны и беспричинный смех дерзновенной юности...
* * *
Говорил он спокойно, ласково, почти нежно, и до того бесстрастно, что было страшно. И хоть бы рассердился, накричал, вспылил. Нет! Ведь такие угробят любое дело, любого человека - и с улыбкой и нежностью. Гад!
* * *
Это было в апреле 1940 года в Польше в лесу. На стройной березе, начавшей распускаться, было несколько грубых топорных ран. Из них крупными светлыми монистами стекал сок - кровь березы или слезы. Береза плакала горько и безутешно. Я сидел под ней 40 минут и видел эти слезы.
* * *
Какое-то порочное убожество мысли, какое-то злое мещанство и желание видеть в жизни людей подрывные стремления.
Если проследить природу подобных тенденций, то можно безошибочно сделать следующее заключение - человек, во всем выискивающий "крамолу", непременно сам отягощен каким-то непотребным для нашего общества грузом. И мнимая "крамола" нужна ему для воровского приобретения некоего политического капитала.
* * *
Да, конечно же! Опустошенность не что иное, как одна из стадий нравственного развития. Отречение от ложных богов, признавать которых и проще и выгоднее, требует от человека исключительного мужества и нравственной высоты. Чтобы достигнуть нравственности, писатель должен забыть все то, чему его учили, а он должен научиться смотреть своими глазами, "видеть все ясно и цельно", как говорил Хэм.
* * *
Он мог назвать их палачами и выродками, а сердце упрямилось поверить в их людоедскую жестокость, потому что в физическом облике их все было от обыкновенных людей.
* * *
Я заметил, что так называемые руководящие товарищи вместе с должностью и чином обязательно приобретают глупейший способ передвигаться пешком. Тогда они ходят вперевалку, как селезень, голову держат ни высоко ни низко, никогда не поворачивая ее, а вертят всем корпусом; в ходьбе неторопливы, носки ног ставят вразброд, а ноги чуть враскоряку, давая возможность расти даже в пути на службу своему животу.
* * *
Было поздно, и я долго стерег такси. Наконец я поймал его, и когда сел, то шофер, молодой, с волевым чистым лицом, погнал "Волгу" километров на 80, улицы Москвы были почти пустынны. И вдруг нас бархатным рокотом обошла "Чайка". Шофер покосился на нее и сказал чисто и жестко:
- Слуга народа поехал.
Я промолчал. Искоса оглядев меня и решив, видно, что я тоже имею отношение к этим "слугам", он высказался до конца, с удовольствием, сознавая безнаказанность свою:
- Раньше, бывало, придет агитатор, и чуть что - он тебе: "Вам что, Советская власть не нравится?" А теперь: "Ну, слушайте, идите отголосуйте - и конец волынке! Мне ведь тоже надо домой! Что, я не такой, как ты? Один ведь хрен!" Ну и идешь. И все по-прежнему.
* * *
Прискорбные умом сотрудники!
* * *
До чего же унылый и рабский мотив:
А снег идет,
А снег идет!
* * *
Седой, пухлый, похожий на раскормленного мальчика старик со значком лауреата, увидев при подъезде к Туле раскаленную груду - огненную лаву,воскликнул:
- Что это?!
- Шлак, - сказал его собеседник военный, тот, что говорил про паровозы, что они смазаны, законсервированы и оставлены на запасных путях "на случай войны", а в простонародье называют это кладбищем.
- Шлак?! - восхищенно воскликнул лауреат.- Ах, какой красавец!
Он был именно божий одуванчик, не божий, конечно. Восторженный младенец-негодяй, получивший за свой порок награду.
* * *
Он заметил, что в тесных и грязных домах живут некрасивые и кривоногие люди.
* * *
Они пили водку и закусывали подснежниками.
* * *
Писатели - это та часть общества, которая никому не нужна. Ни при жизни, ни после. Кто сейчас читает Толстого и Достоевского? Бунина? Чего они добились в жизни? Чего добился я сам?
* * *
И вот я закончил эту повесть*. И вижу, что в нее вошло 60% того, что у меня было. И даже не 60, а 55 или 56: я все боялся, что все не опубликуют, не примут, а мне так хотелось рассказать или пожаловаться людям. О чем же я умолчал? Чего боялся и кого страшился? Ну, страшился и боялся, понятно, прежде всего редактора, цензора, среднего грамотного читателя, который сразу же пишет в "Литературку" протесты, негодования и пр., а я хочу ведь, чтобы повесть опубликовали.
* "Вот пришел великан...".
* * *
Жизнь очень тревожна, люди в ней напоминают мне голубей, которых кормят на веранде ресторана,- кто больше и скорее склюет.
* * *
- Ну?! - крикнул он.
Тот сидел и изумленно-растерянными глазами глядел на допросчика, и тогда он быстро выбросил руку и погасил окурок папиросы в глазу того.
* * *
Русский человек любит порассказать о своих страданиях. Если их не было выдумает и говорит о них с тайным упоением и радостью. Между прочим, эта же черта наблюдается и у евреев. Это оттого, что эти народы в самом деле много и долго страдали и страдают. Они уже не верят в хорошее. И получается, что без страдания нет достоинства. Страшно!
* * *
Это был молодой клен. Он рос, тесно прижавшись к липе. Я увидел его в конце октября, и его листья поразили меня чем-то: они были желтые и в темных круглых пятнах. Они напоминали мне что-то далекое, забытое, грустное. Я вспомнил: то было платье.
* * *
Стояли сухие, почти жаркие дни августа, свет был прозрачен, негуст, и в тени тянуло прохладой, и во всем проступала печаль по изжитому, ушедшему.
* * *
Марево всегда было голубым, синим, и оно всегда струилось, как речка, и от этого было чуть-чуть тревожно, но не опасно.
И там виднелась пелена той самой лазурной мглы, что никогда не была доступна суетному глазу советина.
* * *
Вороха битого стекла блестели зеленым льдистым светом.
* * *
Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским.
* * *
Он считал, что за 50 лет его жизни 20 лет сердце могло не биться,- годы прожиты тяжело, неправильно, гнусно.
Но сердце не знало об этом. Оно билось, и жило, и думало, верно, что жил и тот, для кого и в ком оно билось.
* * *
Это какая-то мстительная зловредность, свойственная бездарным людям, нечаянно, по праву безвременья оказавшимся в силе делать свои пакостные заметки на чужих рассказах. К ним уже стало невозможно относиться с брезгливым пренебрежением, потому что они назойливо и откровенно (потому что "работают" безнаказанно) утверждают, что они - враги всех и каждого, кто мыслит. Кто не знает, что есть жемчужные мухи, водка "Российская", что можно посмотреть отчужденно, а что-то сказать миролюбиво, что можно ощутить царапную боль в сердце; и есть ладанно-горький запах, и можно непростудно кашлянуть, что можно рыдать судорожно, редко и трудно*.
* Эта запись сделана в 1969 году, когда рассказ "Чертов палец" был возвращен автору редакцией журнала "Наш современник" с многочисленными пометами на полях рукописи.
У Анны Андреевны Ахматовой есть такое стихотворение:
Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро,
Сам изысканный Сатана:
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.
* * *
Этот партдеятель привык давно уже пробуждать, убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять других.
* * *
Меня всегда удивляет то, что среди современных даже чинных чиновников есть такие, которые с уныло-торжественным видом очень серьезно и длинно беседуют по ничтожнейшим пустякам.
* * *
В описании советскими писателями военных ритурнелей бесстыдно выпирает холопское "чего изволите-с" и "сколько дадите-с?". Подонки!
* * *
Это те, кого уже не убедишь, что Христос воскрес, кто не знает, что такое тихая ночь, и луна, и звезды, и покой в мире.
* * *
После полувекового черного гнета русский народ отворил чугунные ржавые двери всероссийской темницы... И вот взору его в этих бескрайних гулких подвалах представилась груда (вместо радостного ожидания встречи с заточенными) серых костей. И они, люди, оплакивают, отпевают хором погибших.
* * *
Это был обыкновенный шалман, но там уже по западному образцу стояли высокие круглые столики - почти до подбородка,- и он встал за одним спиной ко мне и начал есть колбасу, кефир и булку, пританцовывая, сгибая ноги в коленях каким-то непристойно-вожделенным приемом, и при этом толстые, на вате, плечи габардинового макинтоша топорщились на нем, а он все приплясывал, ел и пил, и я подумал, что советской власти не будет конца.
* * *
Не стало личностей, индивидуальности. Страх личной смерти, неспособность на подвиг и жертву, готовность на любую обиду,- лишь бы жить, читать газеты и совокупляться. Таким обществом легко руководить: делай что хочешь, грабь, режь, жги, торгуй родиной, только дай жрать и радио. Такие подлые твари, что заселили сейчас Россию, не способны на избавление от рабства.
Самоубийство - это уже божественный подвиг.
* * *
Дело было в том, что нельзя было не видеть глубокой порочности всего сущего, подтверждающего, как велик и уже необратим процесс распада человечности в этой гнусной антинародной и антижизненной системе власти.
* * *
Коммунисты, разорив в 29-30-е годы церкви, и казнив священников, и охулив перед народом веру в Бога, низвели этот народ до степени мерзостного стада обезьян.
* * *
Соцреализм - это полное лишение права писателя показывать действительность.
* * *
Во всей советской литературе нельзя найти такой, например, фразы - "с глубокой душевной болью". О чем совавтор может болеть?!
* * *
Ингредиенты эмоций советского человека напоминают мне составные части лагерной баланды - вода и костяная мука.
* * *
Эти семидесятилетние, со звездами, были, конечно, оплотом всего гнусного и страшного, что привелось испытать русскому народу. Иначе, если бы было наоборот, их не было бы в живых и они не были бы награждены.
* * *
На Руси были страшные времена, но подлее моего времени не было. Сохрани, Боже последние единицы, укрой их и защити!


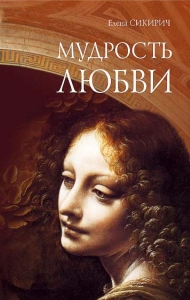



Комментарии к книге «Из записных книжек (1950-1960 годы)», Константин Дмитриевич Воробьёв
Всего 0 комментариев