В правление Союза писателей СССР
Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть «Верный Руслан», вы спохватились, много ли достигли долгим битьем «Трех минут молчания», — или просто рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус «неугодного», каким я всегда для вас был, и вы призвали меня «вернуться в советскую литературу». Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хёльмбакку, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом «Руслана» и отзывами норвежской прессы, — и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, политика не по его части, ему всё равно, где появляется русская проза — в «Гранях» или в «Дружбе народов»; там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше, кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать пригласительное письмо, чтоб никакой «Руслан» не упоминался, вас бы это устроило? — но для меня бы означало: отказаться от собственной книги; на унижение я не пойду. И так как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это моё письмо к вам — последнее. Отдавали вы себе отчет, куда призывали меня «вернуться»? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаешься издания книги, после того как её напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаях из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в «габариты повести»? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — она знает! Чего не претерпишь ради великого российского читателя, — да если была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, каждый предпочтёт издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надёжную в мире границу, и всё же — нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаться. Десять лет назад, в письме IV съезду, я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идет, куда более продолжительная, эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для вас палуба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные аэродромы. Но ведь советовал вам изгнанник, а вы не слушали: «Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века», впору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не посчитаться с нарастающей жаждой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными, — всё меньше у него охоты разбирать седьмые-восьмые копии, он хочет иметь — книгу. Россия всегда была страною читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бессчетных огнях. Чем ему только мозги не пудрили — и казенной хвалою, и списками сталинских, в Лету канувших лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и всевозможными анафемами, и публицистикой «знатных сталеваров», — и всё же не сплошь запудрили; выстояла, выкристаллизовалась лучшая его часть, знающая цену честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать, — принял ещё оброк, наложенный временем, сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранит Есенина, пока не дождался переиздания, ещё хранит машинописного Гумилева, уже хранит — «Ивана Денисовича» в «Роман-газете», принял на сохранение — «В окопах Сталинграда» с библиотечным штампом: зачитал ли, украл, выпросил? — но уберег от гильотинного ножа. Вы предлагали мне «определиться», сделать выбор, — но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои «новомировские» комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, и на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки, — и между вами, кто не выполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше бюро пропаганды не рекомендовало читателям встречаться со мною, ваша правовая комиссия не вступилась за мои права, попранные издательством «Советская Россия», знакомство с иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от «Гильдендаля». А могло ли иначе быть? Могли б вы на йоту отступить от главного своего предназначения? Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли власть предержащих, да со своей ещё ревностной инициативой, первоначально оформил дела, обрёк на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы, — слишком длинно, более 600 имён, — и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот, не просохли еще хельсинкские чернила, новые кары — изгоняя моих коллег по Международному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высвистели! — и как не воскликнуть словами третьего: «Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!» Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя все мятущееся, мятежное, «неправильное», чуждое соцреалистическому стереотипу, всё то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своем союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении, — и теплится надежда: на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость, с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима. Оставаясь на этой земле, я в то же время и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, «оформленных» к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас — из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чьё пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием. Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны — давите, преследуйте, не пущайте. Но — без меня. Билет № 1471 возвращаю.
Георгий Владимов
Москва, 10 октября 1977 г.


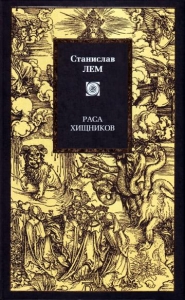
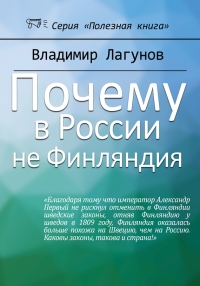
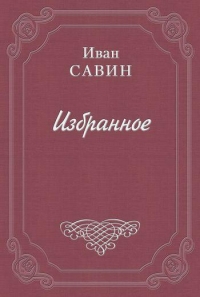

Комментарии к книге «Письмо в правление Союза писателей СССР», Георгий Николаевич Владимов
Всего 0 комментариев