Б. Б. Ванеев
Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина
Анатолий Анатольевич Ванеев родился 7 марта 1922 г. в Нижнем Новгороде. В 1924 г. вместе с родителями он переехал в Ленинград. После окончания средней школы в 1939 г. поступил на химический факультет ЛГУ. В 1940 г. призван в армию в сентябре 1941 г. ранен, демобилизован в 1943 г. После этого до 1945 г. работал преподавателем физики в школе № 33 в Ленинграде Тогда же посещал Студию начинающего автора при Ленинградском отделении Союза писателей. В марте 1945 г. арестован и приговорен Военным трибуналом войск НКВД к 10 годам лишения свободы (ст. 58-10 и 58-11). Сначала был в лагере в Архангельской области, потом в Молотовске, в Абези и Инте (Коми АССР). После освобождения осенью 1954 г. некоторое время работал электриком в Инте. После пересмотра (1955) дела реабилитировав и восстановлен на прежней работе, преподавал физику в школе № 33. затем в школе № 30 г. Ленинграда. С 1968 г. был заведующим кабинетом физики в Ленинградском Городском институте усовершенствования учителей. В январе 1976 г. заболел и вынужден был уйти на пенсию по инвалидности. Умер 5 ноября 1985 г.
В абезьском лагере Ванеев познакомился с Львом Платоновичем Карсавиным, привезенным туда весной 1950 г. и умершим там же в июле 1952 г. от милиарного туберкулеза. Этому времени посвящены "Два года в Абези", воспоминания Ванеева о Льве Платоновиче. Создавались они с перерывами с начала 70-х гг. Окончательная редакция относится к 1983 г. Это не совсем воспоминания. Ванеев определил жанр этой работы как "множественный идеологический диалог". "Все персонажи моей книги реальные люди. Но, давая им характеристику, особенно через разговоры, я стремился идеологически проявить каждого. В литературе, пришедшей к нам из прошлого века, ставилась задача этического проявления персонажей. Я видел свою задачу в идеологическом проявлении. <...> Идеология это не многотомные сочинения. Идеология это те слова, которые способны своим смыслом переключить нас в тот регистр, где истина является в прямой непосредственности". Это отрывок из вымышленного интервью, в котором давалось авторское пояснение к прочтению "Двух лет в Абези", чтобы они не воспринимались в стереотипе мемуарной литературы.
В лагере Карсавин записал сочиненный еще в тюрьме "Венок сонетов", написал "Терцины". Комментарии к "Венку" и "Терцинам" и несколько сочинений метафизического характера ("О бессмертии души", "О молитве Господней", "Об Апогее человечества" и др.). Написанное он отдавал Ванееву, своим знакомым для чтения, переписки. Вероятно, что существует некоторое количество копий их, хотя известно, что дошли не все. Ванеев переписывал работы неоднократно, отчасти это делалось просто для лучшей их сохранности. В Ленинграде он перепечатал на машинке имевшиеся у него в оригиналах или копиях лагерные работы Карсавина - для себя, для знакомых
Статья "Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина" была написана в 1979 г. Она как бы делится на две неодинаковые части. В первой представлена биография Карсавина, во второй - его идеи. О жизни Карсавина тогда известно было очень мало, а доступного для Ванеева материала еще меньше: некоторые справочные издания, некоторые письма Карсавина, рассказы о Карсавине. Поэтому биографическая часть коротка, в ней, наверное, есть неточности, "легенды", преувеличения и, конечно, недостаточно сведений о самом Карсавине. Но статья интересна - в этом ее главный смысл и ценность - своей второй частью, где Карсавин представлен идеологически, как русский религиозный мыслитель, - без подделки под понимание, без подгонки под схемы, существенно и свободно.
Е. В.
1
Среди начинаний, так или иначе связанных с возобновлением Московской Патриархии, было предпринято издание Библиотеки мистиков. Первым выпуском этой серии в 1918 году вышла книга "Откровения бл. Анджелы", перевод которой с итальянского был выполнен профессором общей история Петроградского университета Л. П. Карсавиным. "Скромна, - пишет он в предисловии, - но ответственна задача переводчика и редактора, усматривающего в своем деле выполнение религиозного и патриотического долга, который обязывает идти навстречу трудностям и опасностям". Предпосланное "Откровению" Предисловие само требует к себе внимания. Рассматривая духовные проблемы францисканских спиритуалов, автор, по существу, занят проблемами, обращенными к религиозности наших дней.
Этим открывается ряд последующих работ Л. П. Карсавина по вопросам религиозно-философского характера. Известный ранее своими работами по истории средневековой религиозности, он отныне публикует статьи и книги, в которых религиозно-просветительные задачи быстро уступают место заданию раскрытия и углубления религиозно-философских представлений или, по собственному его выражению, - заданию индивидуального раскрытия христианства.
Религиозно-философская мысль Л. П. Карсавина почти не поддается пересказу, поскольку она не сводима к системе, концепции или доктрине, а представляет собой как бы весьма широкий угол зрения, обращенный на христианское осмысление истории, жизни и отношения между Богом и человеком. Его мысль свободна и самостоятельна, но источник своих вдохновений находит в христианской догматике, открывая в ней жизненность, силу и осмысленность, необходимую, чтобы вернуть современному человеку религиозное равновесие. Он пишет: "Времена критицизма, можно надеяться, уже миновали, и пора провозгласить новый девиз: назад к христианской догматике" (ПЕРI АРХОN, 1928). Однако свободная догматическая мысль оказалась явлением столь неожиданным, что ни традиционное благочестие, ни воспитанная на секуляризованной философии критика не воспринимают ее в полной мере всерьез.
Л. П. Карсавин до сих пор принадлежит к числу сравнительно малоизвестных авторов. Его работам не посвящено ни одно сколько-нибудь солидное исследование. Известны, в лучшем случае, его ранние произведения. Впрочем, одну из причин этого можно видеть в чрезвычайной разбросанности его работ по случайным или малоизвестным и малотиражным изданиям.
2
Лев Платонович Карсавин родился 1 декабря (по ст. ст.) 1882 года в Петербурге. Его сестра, знаменитая балерина Тамара Карсавина, в своей книге "Театральная улица", которая вышла у нас в 1971 г., пишет об их семье. Отец - Платон Константинович Карсавин - артист балета Мариинского театра, впоследствии - учитель танцев в Театральном училище и в некоторых гимназиях. Мать - Анна Иосифовна, урожденная Хомякова, дочь двоюродного брата известного славянофила. Внешностью Лев Платонович очень похож на мать, которая, кстати, считала, что свои интеллектуальные способности сын унаследовал от нее, и надеялась, что он будет весь в своего двоюродного деда А. Хомякова.
Карсавины снимали квартиру в Коломне, то есть в районе Петербурга, населенном, в основном, небогатыми людьми. Об ограниченном достатке семьи говорит и тот факт, что местом занятий гимназиста Карсавина был кухонный стол. В этой семье, жившей интересами театральной среды, все были остры на язык, все - непрактичны, легко переходили из одной крайности в другую. "Дедушка с бабушкой, - пишет Ирина Львовна, старшая дочь Л. П. Карсавина, часто ссорились. В этих ссорах дедушка бывал театрален". Подобная артистическая атмосфера, по крайней мере впоследствии, сделалась Л. П. Карсавину неприятна. Человек по характеру очень мягкий, он категорически воспротивился намерению старшей дочери поступить в балетную школу.
Поступив на историко-филологический факультет Петербургского университета, K. П. Карсавин специализировался по медиевистике в группе проф. И. М. Гревса. Окончив университет, преподавал в гимназиях: в гимназии Императорского человеколюбивого общества (на Крюковом канале) и в частной женской гимназии Прокофьевой (на Гороховой улице). Женился в 1904 году, еще будучи студентом. Его печатные работы этого периода посвящены истории конца Римской империи.
Весь 1912 год он вместе с женой и двумя дочерьми живет в Италии, куда командирован от СПБ университета в связи с работой над магистерской диссертацией. После этого продолжает очень много работать, отчасти побуждаемый к этому материальной необходимостью, что можно видеть по перечню единовременно занимаемых им должностей в 1913 гону: приват-доцент Имп. СПБ университета, преподаватель на Высших (Бестужевских) женских курсах, на Высших курсах Лесгафта, в Психоневралгическом институте, учитель истории в гимназии ИЧО, казначей Исторического общества при СПБ университете. В то же время печатает статьи во многих журналах ("Вестник Европы", "Голос минувшего", "Научно-исторический журнал", "Церковный вестник", "Исторический вестник", "Историческое обозрение"), пишет статьи в Новый Энциклопедический Словарь (всего 39 статей) и, наконец, пишет свою докторскую диссертацию "Основы средневековой религиозности". Это - солидный труд, пронизанный острыми и смелыми обобщениями, изданный в 1915 г., но по условиям времени не получивший в ученом мире должного резонанса. Начиная с 1915 года Л. П. Карсавин - ординарный профессор Историко-филологического института. Он живет своим домом в университетской квартире на втором этаже того здания на Неве, где ныне расположен Восточный факультет. Его научная деятельность обеспечила ему (но - не надолго!) уверенное существование. Его рабочий кабинет помимо письменного стола с большим мягким креслом и стеллажа с книгами был обставлен красивой ампирной мебелью. На свободной от книг стене висела привезенная из Италии репродукция "Рождения Венеры".
Зимой 1918-1919 гг. учебные помещения университета не отапливались и участники семинара, который вел проф. Карсавин, собирались в этом его домашнем кабинете, размещались на ампирном диванчике перед овальным столом, а сам профессор сидел за тем же столом напротив.
Это время исключительно интенсивной работы Л. П. Карсавина. Его статьи и книги выходят одна за другой. С 1918 г. по 1923 г. напечатаны статьи: "О свободе", "О добре и зле", "Глубины сатанинские", "София земная и горняя", "Достоевский и католичество", отдельными изданиями вышли книги: "Католичество", "Saligia", "Введение в историю", "Восток, Запад и Русская идея" и еще - великолепная, достойная занять место среди лучших историко-философских произведений книга "Джиордано Бруно и совершенно особенная, личная, совсем не склонная раскрыть себя первому встречному книга "Noctes petropolitanae", которая своим названием свидетельствует, что, для работы за письменным столом у автора было только ночное время.
Дни заняты преподавательской работой и многим другим: беседами, встречами, вечерами, диспутами, заседаниями. Едва ли не каждый день происходят заседания - или Религиозно-философского общества, или Вольной философской ассоциации, или Петербургского философского общества, или вечера в Доме литераторов. Л. П. Карсавин присутствует, участвует в обсуждении, сам выступает с докладами и лекциями. Сотрудничает в редакции издательства "Наука и школа", в журнале "Мысль", в сборниках "Феникс" и "Стрелец". Это была очень интенсивная жизнь. В одном только Доме литераторов" за год (с января 1920 г. по январь 1921 г.) состоялось 207 вечеров, заполненных литературными лекциями, лекциями по вопросам философии, истории и социологии, "Альманахами" и т. п. Выступают А. Блок, А. Ремизов, А. Кони, Л. Карсавин, Е. Тарле, И. Гревс и многие другие.
После 1922 года высланный из Советской России Л. П. Карсавин вынужден жить за границей. Вначале жил в Берлине (в Штеглице), потом в Париже (в Кламаре). Как он сам говорит об этом времени - в общение с иностранными учеными кругами не вступал. Пишет по-прежнему много, наряду с работами на русском языке публикует статьи на немецком, на итальянском, на чешском языках. Эти иноязычные работы в основном знакомят иностранного читателя с содержанием и проблемами русской религиозной жизни, что нетрудно увидеть по названиям статей ("Дух русского христианства", "Вера во Христа в русской ортодоксии", "Старчество в русской Церкви" и др.). В какой-то мере сближается с русскими церковными кругами. Встречается с митрополитом Евлогием. Пишет книгу "Св. отцы и учители Церкви", предназначенную в качестве учебника для русской семинарии. Несколько раз сам, облачившись в стихарь, выступал с проповедями в православных церквах. Вместе с Н. Бердяевым, Н. Лосским и С. Франком участвует в сборнике "Проблемы русского религиозного сознания" (статья "О сущности православия"). Ряд работ на русском языке в этот период помимо "Св. отцов" наиболее примечательны книги "Философия истории" и статья "Апологетический этюд".
По свидетельству П. Р. Сувчинского, в 1927 году Л. П. Карсавин получил приглашение в Оксфорд, но, к огорчению своей семьи, этого приглашения не принял. Возможно потому, что уехать в Оксфорд означало бы остаться там навсегда. Зато, когда в том же году ему предложили кафедру в Литовском университете, тотчас согласился и выехал в Каунас. Семья осталась в Париже, в чем нельзя не ощутить сопротивления со стороны семьи, для которой по сравнению с Парижем Литва представлялась культурной периферией. Между тем сам Л. П. Карсавин свой переезд в Каунас воспринял с душевным подъемом, очевидным хотя бы по той энергии, с которой он взялся за изучение литовского языка. Уже в 1929 году, то есть через год с небольшим, стали выходить его работы, написанные по-литовски. С этого времени и, по крайней мере, до начала второй мировой войны в жизни Л. П. Карсавина наступает период относительно обеспеченного и устроенного существования, период затишья, дающего возможность с наибольшей отдачей уйти в свою работу. Лето он проводит в Париже с семьей, остальную часть года - в Литве. Литовская ученая общественность принимает его очень дружелюбно и, более того, - гордится тем, что имеет его в своей среде. В масштабах небольшой страны является достаточно заметным культурным событием издание написанной на национальном языке "Истории европейской культуры" в шести томах, над созданием которой Л. П. Карсавин работает около десяти лет. Но еще прежде чем взяться за этот историографический труд, и отчасти параллельно ему, Л. П. Карсавин с небывалым подъемом отдается стихии религиозно-философской мысли. В 1928 году он издает книгу "ПЕРI АРХОN" (с подзаголовком: "Идеи христианской метафизики"), в 1929-м - "О личности" и, наконец, в 1932 году - "Поэму о смерти". Если сравнить эти книги с тем, что написано ранее, видна эволюция мысли автора. Его мысль достигает теперь какой-то окончательной определенности, а его идеи - своего последнего масштаба, судить о котором едва ли бывает дано современникам. Эти книги написаны напряженным и плотным текстом, мысль многопланова до ощущения объемности, содержание передается концентрированно, без особых разъяснений и детализации, местами оставлен открытым рабочий ход мысли, как если бы, сосредоточиваясь на выявлении существа, автор не слишком заботился о литературной отделке. Отсюда известные трудности при чтении. Вместе с тем эти три книги достаточно полно представляют автора, в его религиозно-философском наследстве их не колеблясь следует назвать центральными. После выхода "Поэмы" литовские друзья Л. П. Карсавина говорят о нем: "Это наш Платон". Но изданы эти книги были малым тиражом в университетском издательстве, почти тотчас разошлись по рукам и домашним библиотекам и, благодаря такой, в общем, понятной ревности со стороны почитателей или просто местных книголюбов, практически оказались изъятыми из кругооборота европейской мысли.
В этом отношении показательно, что в статьях о Л. П. Карсавине в Большой Советской Энциклопедии (т. 11, с. 459-460, 3-е изд. М., 1973) и в Философской энциклопедии (т. 2, с. 466. М., 1962) не упомянута "Поэма о смерти", которую сам автор считал своим главным произведением (об этом см. ниже). Впрочем, библиография, приведенная в этих статьях, вообще весьма неполна, в одной статье не хватает одних книг, в другой - других, в обеих отсутствует упоминание о книге "Св. отцы и учители Церкви" и о шеститомной "Истории европейской культуры", не говоря уже о статьях, среди которых есть весьма важные для характеристики автора, например,- "О свободе". В БСЭ предпринята попытка охарактеризовать метафизическую "систему" Л. П. Карсавина, причем говорится о влиянии на него русской философии, "особенно В. Соловьева", и раннехристианских учений, обозначенных в целом: патристика, Ориген. Усматривается "известное сходство со схемой диалектического процесса у Гегеля". По этому поводу мы видим необходимость высказать некоторые соображения.
Как уже говорилось, "системы" в собственном смысле у Карсавина не было и нет. Что же касается влияний - это вопрос весьма спорный. Для утверждения о влиянии должны быть основания, но доказать отсутствие влияния, пожалуй, еще труднее. Во всяком случае, вряд ли можно говорить об "особенном" влиянии со стороны В. Соловьева. Л. П. Карсавин относился к последнему без особой симпатии, при случае отпускал шпильки в его сторону: "Хороша, нечего сказать, неподвижная Любовь" (о стихотворной строке "Неподвижно лишь Солнце Любви") или: "Не добро же надо оправдывать" (по поводу "Оправдания добра"). Из того, что и Соловьев и Карсавин говорят о Всеединстве, причем говорят отнюдь не одно и то же, совсем не следует наличие существенной связи между ними, в пользу такого предположения едва ли можно найти что-нибудь, кроме весьма внешних соображений. Из русских философов Л. П. Карсавин ценил А. С. Хомякова, Ц. М. Достоевского и С. Л. Франка. В отношении раннехристианских учений надо говорить не о влиянии, а о сознательной опоре на святоотеческую традицию, причем не на патристику вообще, а конкретно на труды св. Григория Нисского и св. Максима Исповедника. Вряд ли можно найти у Л. П. Карсавина хоть какие-нибудь следы "влияния" Оригена, если не считать названия книги "РЕСЙ БСЧПН". Не совсем понятно, что имеется в виду в замечании об "известном сходстве" с диалектической схемой Гегеля, поскольку "известное сходство" - понятие крайне растяжимое. Если диалектика Л. П. Карсавина к кому-нибудь и восходит, то не к Гегелю, а к Николаю Кузанскому, которого Карсавин очень ценил. Об этом см. его книгу "Дж. Бруно".
Вернемся к биографии. После установления в Литве Советской власти столица республики перенесена в Вильнюс и туда же вскоре переводится Литовский государственный университет. Еще перед этим Л. П. Карсавин перевез свою семью из Франции в Литву и теперь поселяется в Вильнюсе всем домом, за исключением средней дочери, Марианны Львовны, вышедшей замуж за П. П. Сувчинского и оставшейся в Париже.
О времени немецкой оккупации Л. П. Карсавин позднее в письме к Е. Ч. Скржинской пишет: "...при немцах не преуспел, так как был против них. С самых первых дней был уверен в торжестве России и хотел с ней воссоединиться". После освобождения Литвы в 1944 году Л. П. Карсавин назначен директором Вильнюсского художественного музея. Оставив университет, он читает лекции в Художественном институте по истории западноевропейского искусства и истории быта.
Все эти годы и последующие Л. П. Карсавин занят работой, замысел которой без преувеличений можно было бы назвать грандиозным. Он поставил себе задачу написать Всемирную историю, понятую в свете христианской метафизики. "Историческая наука, - пишет он, - осмысляя развитие человечества, осмысляет мир. Но она должна это делать сознательно и может достичь своей цели лишь излагая действительно общечеловеческую конкретную историю. Моя задача - дать общий (значит - абстрактный) обзор этого конкретного процесса". Однако эта работа осталась незавершенной.
В самые последние годы жизни Л. П. Карсавина изменившиеся обстоятельства дали повод к новому и несколько неожиданному взлету его религиозно-философской мысли: он написал стихи "Венок сонетов" и "Терцины". По содержанию это - стихотворный монолог, обращенный к Богу. Он использует эту форму, чтобы передать свои идеи, не рассеивая мысль в аргументацию и рассуждения, чтобы прямым именованием выразить онтологическое содержание действительности. В пояснение к стихам был написан "Комментарий", а затем были написаны статьи: "О Молитве Господней", "О бессмертии души", "Апогей человечества", "Об искусстве", "По поводу рефлексологии" и еще на литовском языке: "Дух и тело" и "О совершенстве".
Как многие петербуржцы, Л. П. Карсавин был предрасположен к туберкулезу. Жизнь на севере способствовала развитию этой болезни. Умер Л. П. Карсавин 20 июля 1952 года.
Помимо оригинальных работ в его наследстве есть несколько переводов. Кроме уже упомянутого "Откровения бл. Анджелы" им переведены главные труды Беды Досточтимого, Иоанна Скотта Эриугены и Николая Кузанского. Но своеобразие авторской судьбы Л. П. Карсавина, оставляющей на виду лишь небольшую и не самую значительную часть его работ, отразилось и на переводах. Философские переводы остались в рукописях, между тем как сделанный когда-то ранее перевод новеллы Конрада Фердинанда Майера "Плавт в женском монастыре" был издан в Москве в 1957 г. (Гос. изд. художественной литературы).
3
"Поэма о смерти" и написанные на десять лет ранее "Noctes" стоят несколько особняком по отношению ко всем другим произведениям Л. П. Карсавина, при том что они обе совершенно органично входят в его творческую биографию. Философская идея двуединства в них воплощена в литературное дву-единство лирического и личного, с одной стороны, и всеобщего, религиозно-духовного - с другой. Именно это важно понять раньше, чем переходить к какой бы то ни было характеристике этих книг. В них христианская идея находит себя в конкретном и, обратно, живое конкретное внутренне напряжено настолько, что разрешается в идею. В этом - вообще ключ к религиозно-философскому творчеству Л. П. Карсавина. Он не создает доктрин, для него идеальное не есть мир, куда можно воспарить мыслью, чтобы удалиться от реального, для него идеальное и реальное непостижимо совмещены, благодаря чему реальное - осмыслено, а идеальное - жизненно. Внешне это выражается в порывах к преодолению доктринального характера речи, что мы найдем и в других произведениях - в "Saligia", в "Софии земной и горней", тогда как "Поэма" и "Noctes" в этом отношении представляют собой два максимума, в которых порыв переходит в прорыв.
Двуединство, изнутри определяющее строй этих книг, отнюдь не является воображаемым или умозрительным, оно есть прежде всего действительное двуединство произведения и конкретной биографии автора, его интеллектуально-творческой жизни, с одной стороны, и его реальной судьбы - с другой.
Обе книги - и "Поэма", и "Noctes" - без каких-либо специальных посвящений обращены к одному и тому же лицу. Их неназванная героиня и вместе с тем их прямой адресат - Елена Чеславовна Скржинская, имя которой в "Поэме" передано, но тут же зашифровано литовским уменьшительным Элените. Метафизическая мысль Л. П. Карсавина имеет корень не в абстракциях, а в живой и конкретной любви - чистой, ясной, прекрасной и вместе с тем мучительной, не осуществившейся, но неизменной до порога старости. В письме к Е. Ч. Скржинской (от 1 января 1948 г.) он пишет: "Именно Вы связали во мне метафизику с моей биографией и жизнью вообще", и далее по поводу "Поэмы": "Для меня эта маленькая книжонка - самое полное выражение моей метафизики, которая совпала с моей жизнью, совпавшей с моей любовью". Всем, кто склонен скептически относиться к абстрактной мысли, нужно сказать: абстракции суть сокровенные формулы действительности. Абстрактная мысль Л. П. Карсавина своими корнями всегда живет в лоне конкретной действительности, его идеи есть результат - не то слово, - они есть плод активного религиозно-философского осмысления собственной жизни и человеческой истории.
Есть достаточные основания, чтобы в "Поэме" видеть второе рождение темы, впервые открывшейся в "Noctes", но при том, что "Поэма" является в своем роде антитезой по отношению к "Noctes". В "Noctes" личное взято под психологическим углом, с попыткой выразить восторги и взволнованность, за что сам автор впоследствии дал отрицательную оценку этой книге. В "Поэме" личный аспект передан в форме воспоминаний, не слишком детализованных и отличающихся какой-то, как говорят, акварельной прозрачностью. Философская линия "Noctes" направлена к охвату и систематизации, в "Поэме" мысли высказываются как бы в случайной последовательности, задуманность которой ощущается только по неуклонному нарастанию их внутреннего напряжения, В "Noctes" текст возбужденный, в речи не раз слышен скрытый ритм, в "Поэме" преобладает разговорная речь, автор то и дело впадает в диалог то с самим собой, то с кем-то еще, интонация звучит иронией, обращенной на самого себя. Надо заметить, что ироничность в отношении себя у Л. П. Карсавина появляется всегда, когда он говорит о чем-либо, для него лично безусловно важном.
Жанр этих двух книг не имеет прецедента в мировой литературе. При чтении они воспринимаются как нечто литературно-непривычное и вызывают сопротивление своей необычностью. Авторский почерк Л. П. Карсавина весьма индивидуален. Стремясь выразить себя с наибольшей полнотой, он тут же создает вокруг себя ограду, проход через которую открыт только тому, кто, по меньшей мере, хочет его найти.
Религиозно-философские работы Карсавина, или по крайней мере некоторые из них, нельзя рассматривать под углом представлений о характере академического или даже поэтического труда. Как раз в речевых отклонениях и в интонационных изломах угадываются заградительные барьеры самоконтроля, которыми оберегает себя от обнаружения сознание автора о чрезвычайном характере являющихся его уму откровений. И дело тут не только в индивидуальных особенностях автора, а в объективном двуединстве мысли и познаваемого ею предмета. Мысль о предмете сама как-то принимает в себя свой предмет, иначе не было бы познания. Мысль, имеющая предметом эмпирическое, сама тем самым эмпирична. Мысль об Абсолютном - в себе самой открывает свой абсолютный характер. Об этом, пожалуй, и не скажешь лучше, чем сказано у самого Карсавина в словах о "познавательном причастии".
4
Обращаясь к обзору религиозно-философских ("метафизических") идей Л. П. Карсавина, мы вынуждены прибегнуть к некоторой внешней систематизации и схематизации, которой сам Карсавин, в общем, избегал. С другой стороны, описательный пересказ идей не является лучшим способом их передачи. Поэтому мы позволим себе известную свободу в изложении, так как воспроизведение идей требует, чтобы они прошли через собственное понимание рассказчика.
Догма
Среди выдающихся представителей русской религиозно-философской мысли Л. П. Карсавин был первым и, по крайней мере, в свое время - единственным, кто в полный голос начал говорить об эвристическом значении христианской догмы. В. Соловьев касался вопросов догмы только в общем, Н. Бердяев склонен понимать догму в символическом значении, С. Франк с его наклонностью к фидеизму видит в догматике истину религии, не подлежащую философской мысли.
Однако - в чем именно эвристическое значение догмы и каким образом догма, понимаемая обычно в значении священных формул или даже оградительных определений против рациональных ересей, может заново наполнить собою живую мысль, чтобы дать ей силу справиться с проблемами современной религиозности?
Ответ на этот вопрос связан прежде всего с определенным отношением к истории. Христианская культура развивалась в сторону высвобождения секуляризованного гуманизма. Последний сам своими силами стремился выйти из-под опеки религии, и этот факт, более чем очевидный, заслоняет собой другой факт, что внутри религии идут процессы, внешним образом противодействующие, а в конечном счете - способствующие рождению гуманизма. Можно говорить о прогрессе, движимом материальными силами, но суть дела одна: христианство рождает гуманистическую и, наконец, современную атеистическую культуру, чего, вообще говоря, не наблюдается в других религиях. Секуляризации мысли в форме науки и философии и секуляризации этики в форме социологических учений внутри религии соответствует развитие консервативных сил и охранительных начал, консервирующих традицию и приостанавливающих догматическую мысль, достаточно свободную до конца средних веков, а затем все более тяготеющую к сравнительно неподвижной доктрине или даже к неприкосновенной формуле. Распространенному в наше время представлению, будто бы это и есть существенная черта христианства, следует указaть на то, что на самом деле это - динамический момент христианской истории, "предродовое" состояние христианства на пороге рождения атеизма или - предатеистическое состояние христианства, длящееся и поныне, особенно на Западе. Вместе с тем, тому факту, что массовая атеистическая культура уже родилась и имеет в мире прочное самостоятельное существование, внутри христианской религии должен соответствовать выход из "предродовой" скованности и возобновление того, что исторически подверглось погашению. Заданием христианства в современном мире является реализация своих резервов или, лучше, возобновление и возрождение тех действенных начал, которые несут в себе всю мощь христианской идеи. Отсюда - религиозный интерес к догматической мысли.
Христианство не только не должно поступаться своей разумностью, но, напротив, должно вернуться к тому, что, собственно, было ясно всегда: оно одно и есть единственно разумное, так как именно христианскому миру "возсия Свет Разума", который лишь преемственно унаследован секуляризованной гуманистической мыслью.
В постановке проблемы об отношении веры и разума последний ни в коей мере не должен быть взят в противопоставлении первой. Разум может быть противопоставлен чувству, но не вере, по отношению к которой он является ее собственным моментом. Вера целостно охватывает человека, верит весь человек, так как он предстоит Богу всей своей личностью, а не какой-либо ее частью. Вера равным образом актуализует себя и в чувстве, и в разуме. Настроения религиозного адогматизма есть лишь выражение односторонней актуализации веры, а потому и ее собственная недостаточность, так как она при этом не реализует себя в той полноте, которая ей доступна. Наша чувствительность к таинству веры должна воспитать себя настолько, чтобы видеть момент таинства в акте мысли вообще и в акте религиозной мысли в особенности.
Выражая отношение к Богу, Который есть источник всякой действительности, вера сама активно развернута на действительность, и потому осмысление содержания веры теснейшим образом соотнесено с действительностью, отображая ее, но и некоторым определяющим образом воздействуя на нее. Принятая на веру идея воспитывает нас, воспитывая наши чувства, восприятие мира и самый образ мысли. Догматическая активность мысли не есть, как думают, отвлеченная и оторванная от жизни изощренность ума, но действенно входит в нашу жизнь и потому ответственна за то, как мы организуем жизнь. "В религии, - пишет Л. П. Карсавин, - деятельность не отделима от познания, в ней все до последней йоты жизненно и каждой догматической ошибке, какою бы ничтожною она ни казалась, соответствует моральный грех" ("Восток, Запад и Русская идея").
Очевидная для всякой религии онтологическая действительность отношения человека и Бога в христианстве осознается как эмпирическая действительность нашего отношения к Иисусу Христу. Для христианства Абсолютное существует в эмпирическом и как эмпирическое, поэтому вера в Богосыновство Христа и в Его Воскресение необходимо раскрывается как вера в продолжающееся пребывание Христа в Церкви и в ее Таинствах. Если Христос положил основание нашего спасения, то продолжается Его дело и заканчивается - в нас. Такое понимание содержит религиозное оправдание человеческой истории и возможность ее наиболее полного осмысления. Но именно в этом - живой нерв христианства. Мысль есть нечто религиозно-избыточное (казалось бы, довольно культа и этики), но где нет избытка, там нет и действительной полноты. Законченность обязательно предполагает осознанность, последняя же дается в догматическом сознании и в догматической мысли.
Единый в Троице
Учение о Боге, Едином в Троице, представляет собой ключевое умозрение христианской мысли. В нем мысль достигает своего последнего предела, где в принципе содержится решение проблемы об отношении познания и бытия, которая лишь частично и односторонне раскрыта позднейшей философией. "Когда пришло время выяснить абсолютные начала бытия и знания, - пишет Карсавин, - то решили искать их вне христианской догматики. Декарт даже и не подозревал, что его cogito ergo sum представляет собой субъективизированное и ухудшенное изложение христианско-платонических идей, и даже великий ум Гегеля приблизился к христианской догме лишь сквозь заросли нехристианских построений" (ПЕРI АРХОN). Однако суть дела не только в теоретическом значении догмы, но в ее жизненной и религиозной силе. Стремясь показать это, Л. П. Карсавин неоднократно обращается к вопросу о Триединстве Божества.
Речь идет не об учительных разъяснениях, а о том, что "христианизация" мысли и воспитание в ней религиозного качества требует, чтобы она заново в себе самой открыла понятие о тройственном единстве, через которое ей только и доступно познание абсолютного.
Первоначально (в "Noctes") Карсавин, следуя тринитарной идее бл. Августина, усматривает тройственность в Любви. Чтобы любить, нужны двое, но полноты своей любовь достигает лишь тогда, когда есть третий. Однако при подходе со стороны бытия, отчетливо выявляющем необходимость двух, необходимость третьего остается неубедительной. Позднее Карсавин приходит к окончательному представлению, что троичная определенность абсолютного единства обоснована со стороны познания (см. "ПЕРI АРХОN"). Суть дела в том, чтобы от понятия Непостижимости (или Единства) в его мыслимой логической определенности перейти к осознанию Непостижимости в полноте ее действительности.
Бог противостоит нам как безусловно и непререкаемо Непостижимый, как трансцендентная внемирная Святость. Мы знаем, что ничего знать о Нем не можем. В этом пафос апофатического богословия и в этом же - основное противоречие веры. В силу нашей внебожественной и безбожественной природы мы сами из себя вообще ничего знать о Боге не можем, ни того, что Он есть, ни того, что Его нет, ни того, что Он - непостижим. И если знаем - значит, Он Сам открывает нам Себя. Но тогда противоречие веры ("не можем знать, но знаем") содержит или отображает не то, что присуще вере, а то, что присуще Богу, именно, совершенно непостижимый, Он, вместе с тем, совершенно открыт нам, так как, открывая Себя, по божеству Своему делает это совершенно, не отчасти, а вполне. Этим центр непостижимости как бы сдвинут, самое непостижимое это то, что Бог нам открыт.
Воспринимаем мы Откровение, может быть, и не полно, но Бог открывает Себя принципиально со всей полнотой, если это не допустить, мы накладываем на Бога ограничение, обнаруживая несвойственное нам сверхведение о том, что Бог не может или не хочет. С другой стороны, понимание непостижимости в прямом значении слова, т. е. как такой, о которой просто нечего говорить, означало бы не то, что Бог не подлежит нашему определению, а то, что мы делаем Его подлежащим нашему отрицательному определению. Апофатическое богословие без катафатического прямиком ведет к богоотрицанию.
Бог подлинно непостижим именно в том, что открыт нам, и не как-то иносказательно или абстрактно, а - прямо, эмпирически, прежде всего - в Иисусе Христе. Но и о Богосыновстве Христа нам по той же причине ничего знать невозможно, если же верим и знаем, это может означать только одно: Сам Бог из нас сознает Христа Самим Собой, Богом Сыном. Всем этим об одном и том же Боге сказано: Бог исходно непостижим и, открывая Себя, остается непостижимым, Бог открыт нам и явлен в мире, Бог из нас, т. е. из-вне Себя сознает Себя. Непостижимость Бога открывается нам как Его Триединство.
Далее Карсавин указывает на то, что в учении о Боге, Едином в Троице, не нужно видеть просто непонятную истину веры, подлежащую лишь благочестивому признанию, но - содержательную религиозную идею, смысл которой может быть раскрыт достаточно ясно и доступно.
Во-первых, догмат о Триедином Боге выражает знание Бога о Себе Самом или Его абсолютное самосознание. Бог есть абсолютная Личность, сознающая Себя через различение Себя от Себя и Себя от не-Себя.
Во-вторых, абсолютная полнота различения может быть понята только как прерывность Богобытия, и ненарушимое Единство Бога в Себе Самом - как Его непрерывность, выявляемая через прерывность. Догматически прерывность выражена в понятии Рождения и, особенно,- творения, непрерывность - в понятии исхождения Св. Духа.
В-третьих, истина о тройственно-едином Боге есть полная истина о Боге, в ней и через ее исповедание Бог целостно охвачен верою, осознан и как бы увиден как "весь" Бог, благодаря чему в акте христианской веры человек нацело "вынесен" из божества во-вне, чтобы найти собственную человеческую полноту (отсюда - гуманизм), и, вместе с тем, это есть единственный и действительный путь, которым человек вводится Богом в единство Сына Божия. Полагая в творении внешнюю границу Себе, Бог преодолевает ее, в Сыне соединяя человека с Собою.
Сознавая исключительную важность догмы о Триедином, Карсавин неоднократно обращался к вопросу о Filioque ("Noctes", "Восток, Запад и Русская идея", "ПЕРI АРХОN"), В его время, да и в наше тоже, серьезное отношение к проблеме Filioque выглядит курьезом. Всем давно ясно, что в определениях о Св. Духе, православном: "исходящем от Отца" и католическом: "исходящем от Отца и Сына" несогласие формулировок представляет собой не более чем "спор о словах". Между тем не берется во внимание, что за словами, выражая себя в них, скрывается та или иная религиозная интуиция и то или иное переживание действительности, которые непосредственно влияют на организацию всей религиозной жизни. Утрата слуха к тому, насколько существенна формулировка догматического определения, свидетельствует о том, что слово теряет в цене, воспринимается без должного понимания. Поэтому можно только удивляться тому, что Карсавин на фоне общего безразличия к вопросу о Filioque увидел и оценил его религиозную значительность. В переводе на общепонятный язык Filioque означает утверждение религиозной равнозначности Разума и Таинства. Карсавин развивает энергичную критику Filioque, и он прав, поскольку в этой поправке к Символу веры видел католический рационализм и соответственно связывал Filioque с историческими особенностями Западного христианства. Однако он не прав, поскольку не усматривает в Filioque указания на момент таинства в самом Разуме. В этом смысле религиозная идея, выраженная в Filioque, вполне православна, другой вопрос - есть ли необходимость вводить это определение в Символ.
Не усматривая указанной связи, Карсавин тем не менее как-то угадывал, что в его Критике Filioque есть некоторая недосказанность, и оставлял открытой возможность компромисса: Filioque приемлемо, если в нем видеть выражение не сущностного, а внутри-ипостасного единства Бога ("Восток, Запад и Русская идея"). И в своих последних работах он приходит к весьма примечательному и вполне удовлетворяющему наше понимание истолкованию: "Св. Дух действует силою, ипостасной в Сыне; Сын действует силою, ипостасной в Св. Духе".
Однако - зачем все эти тонкости? Не слишком ли они далеки от забот настоящего дня? Ответим: реализм подобных возражений обманчив. В действительности наша прямая и ближайшая задача - разобраться, разъяснить, выявить всю полновесность и осмысленность христианской идеи. Современная религиозность парадоксальным образом сознает себя в секуляризованных и религиозно-обесцененных формах мысли и поэтому, естественно, отшатывается от нее. Христианизация мысли есть единственный реальный путь к преодолению ее исторически наступившей секуляризации, и на этом пути не должно быть испуга ни перед трудностями, ни перед возможными издержками, ни перед непривычностью или даже неожиданностью истолкований.
Творение
Тема творения и осознания человеком своего отношения к Богу наиболее сильно раскрыта в "Поэме о смерти", в "Венке сонетов", в "Терцинах" и в двух "Комментариях".
Творение может быть вполне понято нами только в связи с учением о Боге, Едином в Троице. Надо иметь, однако, в виду, что в этом вопросе абстрактная мысль выражает себя не только в понятиях, но и в мифологизмах, поскольку ищет опору на некоторый образ.
Главная идея в том, что "Творение - самоотдача Творца творимому, полная, а потому совершающаяся чрез Смерть" ("Комментарий"). Выразить всеобъемлющим образом отношение Бога к человеку возможно только через богоотрицание, через осознание прерывности Богобытия (ср. у Бонавентуры: "Бога нет, следовательно, Он есть". Отсюда же религиозная значительность апофатики и, наконец, - основание атеизма).
Бог есть Любовь. Его любовь свободна, полна, совершенна, не останавливается ни перед чем. В силу единственности Бога нет никого, кого бы Он мог любить, кроме Самого Себя, но не замыкаясь в Себе, Он любит того, кого нет (иначе Его любовь не обладала бы полнотой свободы), и Свою собственную абсолютную действительность обращает в нашу эмпирическую действительность. Бог творит нас не около Себя, а вместо Себя. "Любовь - не иное что, как жертвенная смерть Бога ради Бога (в Троице) и ради того, чего нет, т. е. творение Им из ничего и вместо Себя иного" ("Краткий комментарий"). - Прерывность Богобытия, обусловленная внутренним саморазличением божественной Личности, доводится до последнего конца тем, что выводится во-вне, завершаясь в факте внебожественного и не-божественного (нашего) бытия, чем сразу же достигается и полнота собственного отличия Второй ипостаси (Сына), содержащей в себе "иное" (нас), от Первой (Отца). Любовью, обращенной во-вне, Бог чрез смерть творит человека и сразу же вбирает его в Себя, делая нас второй природой Сына Божьего, Который рождается дважды: от Бога Отца и от Духа Св. и Марии Девы.
Творимое возникает к бытию, поскольку свободно хочет быть (иначе оно было бы обусловленным и неспособным ни к бытию, ни к личному самосознанию), но может быть только "вторым" Богом, т. е. чрез становление Богом, поскольку существует, принимая и обращая в свою ту единственную действительность, которая есть действительность самого Богобытия. "Венок сонетов" начинается словами:
Ты - мой Творец, Твоя навек судьба - я.
"Я - судьба Божия именно потому, - поясняет Карсавин эти слова в "Комментарии", - что, сотворив меня свободным и предлагая мне приять Его всего, Он поставил Свой замысел и Самого Себя в зависимость от меня". Оберегая нашу свободу, Бог не знает, как человек ответит ему, как реализует себя в своей собственной человеческой действительности:
Не ведая Ты, приять хочу ли я
Всю Смерть Твою для жизни быстротечной.
Этим устраняется вопрос о какой бы то ни было теодицее. Ради нашей свободы Бог приостанавливает Свoe всеведение, лишает Свою мысль ("Бог мыслит бытием") ее онтологической бытиеобразующей силы, в чем надо видеть все ту же прерывность Богобытия. Однако это не исключает Промысла, последний соединим со свободой человека, так как в Промысле замысел Божий сообразован с тем, как человек из своей свободы отвечает (а всевременно - уже ответил, об этом см. статью "О свободе") Богу. Здесь начинается тема грехопадения и спасения. - Самостоятельный и свободный ответ человека - несовершенен. Призванный к ответной жертве собою, человек не хочет божественной полноты, удовлетворяясь ограниченным эмпирическим существованием.
Несовершенство бытия есть нечто невозможное, тем не менее это наше несовершенство действительно есть, поскольку Бог гарантирует наше существование Своей действительностью, но в Боге оно есть как Его "мука творчества и ожидания". Вообще все, что реализуется нами к бытию, сразу же есть в Боге и, собственно, только потому и реализуется, поскольку Бог осваивает нас, соединяя человека с Собою. Понять это можно в свете учения о пресв. Троице. О творческой жертвенной смерти Бога говорится в отношении Бога Сына, тогда как единение наше с Богом действительно через исхождение Св. Духа. Через прерывность выявляется непрерывность, полное выражение которой есть Воскресение, а эмпирическое ее выражение в том, что в нас и из нас Бог сознает Самого Себя. Ясно, однако, что человеку, кроме И. Христа, невозможно отождествить свое эмпирическое самосознание с Абсолютным самосознанием (см. "Джиордано Бруно", с. 263). Не мы - а Абсолютное самосознание отождествляет себя с нашим. В самосознании нужно увидеть его онтологическое и религиозное значение. В самосознании, в нашем личном бытии, в тайне личности - уже и изначально реализована наша соединенность с Богом, Который не только знает наши мысли, а - гораздо больше - все наше сознает как Свое. Наше несовершенство обращается страданием, которое действительно только тем, что с нами и в нас страдает Бог. В этом могут увидеть пантеизм, но это было бы ошибкой, пантеизм решительно устраняется утверждением, что мы в отношении Бога есть Его небытие, внебожественны и радикально не-божественны. Мы - вне Бога, но Бог - в нас и тем самым мы - в Боге постольку, поскольку Бог выше различия между бытием и небытием. Абсолютное есть сама действительность. И бытие и небытие, и то и другое являются действительностью, если мы говорим о том, что на самом деле, а не о чем-то иллюзорном. Действительность как таковая непрерывна и остается вне различения между бытием и небытием. В этом же - ключ к вопросу о Воскресении.
Смерть Бога свободна и потому полна, она является совершенной, законченной, достигающей такого последнего предела, на котором смерть сама уничтожает себя, наступает конец конца, и силой непрерывности в тайне Св. Духа полное конкретное отрицание восстанавливает отрицаемое, и это Воскресение. Действительность и полнота Воскресения обоснована в действительности и полноте Смерти. Небытие есть как процесс, имеющий конец, за которым возобновляется бытие. Но такой предел Смерти достижим только Богу. Человек через единение с Иисусом Христом причаствует Его Смерти и Воскресению. Для нас Воскресение означает возврат к бытию нашей земной жизни, чем гарантируется сохранение нашей эмпирической индивидуальности, и преображение ее или наше полное обожение в единстве (всеединстве) Сына Божия, Который есть двуединство Бога и человека, одно Я, сознающее Собою и Свое божество и Свое человечество. Подобным образом наше эмпирическое "я" сознает собой и свою надиндивидуальную разумность и свою индивидуальную телесность.
Человек - не Бог, поскольку становится Богом, поэтому творение должно быть понято как восхождение Бога к Самому Себе - от ничто до Его абсолютной полноты. "Бог творит нас для того, чтобы мы родились от Него" ("О Молитве Господней"). Сын Божий рождается, сразу имея в Себе всего Себя, сразу - как предвечный, нисшедший, воплотившийся, умерший, воскресший, сразу - как совершенный Бог и как творимый человек.
Абсолютное содержит в себе свое восхождение к себе, оно неизменно, но не потому, что не изменяется, а потому, что полнота его охватывает и содержит в себе все его изменения.
Смерть и Воскресение - не что иное, как божественная жизнь, Жизнь-чрез-Смерть, нескончаемая новизна, являющаяся из того, что каждый отдает себя всем и все становятся каждым. И обратно - действительность Смерти обоснована Воскресением. Не будь Воскресения, не было бы Смерти.
Всеединство
Догматы христианского вероучения представляют собой связное целое: независимые друг от друга со стороны определений, они обоснованы каждый в каждом. Историческая неодновременность их выявления лишь подчеркивает силу их внутреннего единства.
Христологический догмат о двух природах и двух волях в единстве Личности Сына Божия собственным и специфическим образом раскрывает учение о Троице и учение о творении. В Сыне Божием двуединство Бога и человека раскрывается как всеединство.
Сын Божий, по божеству Своему будучи одним, единым и единородным, Свое (ипостасное) от-личие от Первой ипостаси (Отца) осуществляет в том, что Его единство открывает себя и вообще существует только как множество своих моментов - индивидуальных людей. Единство абсолютно индивидуализируется в каждом своем моменте, так что вне моментов его просто нет. Это, во-первых, есть выражение Любви Бога и Его Смети в творении. Во-вторых, будучи одним, Богочеловек единственным личным образом, т. е. в собственном значении Сына Божия, индивидуализируется только в одном своем моменте - в человеке Иисусе Христе. Если Триединство есть принцип самосознания абсолютной Личности, то Всеединство есть принцип ее существования. Поэтому идея всеединства является основоположной для постановки любого вопроса, так или иначе связанного с проблемой личности, ее жизни, познания, деятельности и т. п. Помимо богословия и философии эта идея выступает как методологический принцип истории, социологии, психологии. Как абстрактная идея об отношении единого и многого она распространима на любые области знания. Активность догматического сознания не ограничивается сферой религиозности, но выходит за ее пределы и распространяется на все виды знания, так как задание ее в том, чтобы создать целостное христианское миропонимание.
Вопрос о всеединстве раскрывается Л. П. Карсавиным в "Noctes", "ПЕРI АРХОN", "О личности", "О бессмертии души", "О совершенстве". Вернее, однако, было бы сказать, что у него вообще нет работ, за исключением некоторых статей, посвященных частным вопросам, в которых бы не привлекалась эта идея в том или ином ее аспекте.
Идея всеединства усматривается Л. П. Карсавиным не из отвлеченных начал, а как конкретный образ обоюдной Любви Бога и человека и их жизни друг в друге как Жизни-чрез-Смерть.
Движимый любовью Сын Божий чрез смерть становится всеми, множеством Своих моментов, но так, что Сам является одним из многих и первым среди равных. В своем совершенстве каждый момент всеединства есть весь Богочеловек в его качественно-единственном, т. е. индивидуальном осуществлении. Имея в себе всю полноту богочеловеческого бытия, он - весь Любовь и, жертвуя собой, перестает быть, чтобы был другой: любовь конкретна. Он отдает себя другому и в нем - всем другим, как Бог - всем людям, как человек - одному Богу. И так каждый - каждому и всем, но именно поэтому переставший быть - воскресает, воскрешаемый ответной Любовью и ответной жертвой последующего - предыдущему и всех - каждому. Чрез Смерть и Воскресение Богочеловек есть каждый момент всеединства и все они сразу, и точно так же - каждый момент всеединства и все они - выше различия между бытием и небытием, всегда "есть и не-есть". Жизнь-чрез-Смерть есть принцип божественной жизни потому, что Бог, если бы не делал Себя подлежащим Смерти, был бы ограничен Своим бытием. Бесконечность Бога (Богочеловека) не в том, что Он не имеет конца (это была бы "дурная", несовершенная бесконечность), а в том, что Воскресением преодолевает Смерть, т. е. Свою и нашу завершимость.
Идея всеединства не есть нечто лишь умозрительно-представимое, она усматривается, хотя и несовершенно, в конкретной эмпирической жизни и, особенно, в жизни личности.
Личность - само себе тождественное "я" - существует только в своих конкретных "моментах" или - в конкретных актах жизни. Личность живет движется в своем времени или - по всей развернутой во времени последовательности своих моментов чрез их погибание и возникновение. Каждый момент есть весь "я" и любая их совокупность - весь "я", но каждый момент качественно отличен от каждого другого, отчего жизнь есть моя творящаяся новизна. "Я" - есть единство всех своих моментов, отдельно от них не существующее, но поскольку всех, значит, охватывающее их все - от рождения и до смерти. "Я" как законченное целое всей своей жизни и всего своего времени - одно и то же для каждого своего момента, чем обоснована тождественность "я". Ведь неизменна лишь законченная в себе полнота, которая в отрицании своем есть столь же неизменное ничто. Жизнь личности есть ее - в каждом моменте и в качестве его - возникновение и погибание, жизнь-чрез-смерть (другая жизнь нам неизвестна), поэтому личность в своем времени всегда "есть и не-есть". Поскольку личность актуализует себя в данном своем моменте - она есть как этот момент, и не-есть, поскольку все остальные ее моменты или уже деактуализованы (погибли) или еще не актуализованы (не возникли). Есть наше настоящее, не-есть наше будущее и прошлое. Отношение между "есть" и "не-есть" является динамичным. Во-первых, личность движется, последовательно актуализуя себя в своих моментах, так что каждый из них не-есть - есть - не-есть. Во-вторых, единство "я" и его тождественность самому себе в каждом моменте обеспечивает связь последнего со всеми остальными, на чем основана наша память, как и отдельные случаи предвидения будущего (в том числе и "научное предвидение"). В акте памяти и предвидения момент за счет собственной действительности в себе самом актуализует - воскрешает, хотя и неполно, другие моменты личности.
Личность есть живое всеединство своих моментов, индивидуальное для каждого человека, однако личность - не то же самое, что индивидуальность. Индивидуальность единственна, единична, выражена в характере и судьбе человека, люди различны между собой именно со стороны индивидуальности. В личности же своей человек раскрывается прежде всего со стороны общности с другими людьми: личность - социальна. Человек живет внутри общества, в историческом времени и в физическом пространстве. Вся сфера жизни личности есть сама личность.
Индивидуальное "я" само есть момент-индивидуация "высших", то есть имеющих над-индивидуальный объем, "я", или социальных личностей - семьи, народа, Церкви, человечества. Подобно тому, как вся личность человека актуальна всегда только в каком-то одном ее моменте (в конкретном акте жизни), социальные личности или над-индивидуальные единства актуальны только в конкретных людях, актуальны именно в составе сознания каждого человека, поскольку он переживает, как свою, жизнь данной социальной общности, живет ее интересами, говорит от ее лица и сознает себя ответственным за нее. "Я" человека - одно, но "пульсирует": то сужается до индивидуального "я", то расширяется, отождествляя с собой высшие. Помимо "горизонтального" движения по своему времени жизнь личности включает в себя "вертикаль" - жизнь чрез актуализацию в себе и как себя высших "я", последним пределом которых является единственное "Я" Богочеловека. По отношению к Богу Отцу есть вообще только одна-единственная Личность Сына, Богочеловека, раскрывающего Себя чрез Смерть во всех людях, но также и во всех "промежуточных" единствах, причем единственно-личным образом Богочеловек индивидуализован только в одном Иисусе Христе и только в одной социальной общности - Церкви. Индивидуальное следование индивидуальному человеку Иисусу Христу имеет целью единение с Ним в Его Личности.
Та или иная религия есть конкретное в своем содержании выражение отношения к Богу, одинаковое для всех людей данной религии, которая тем самым есть объективная над-индивидуальная реальность, хотя и существующая только в отдельных индивидуумах, являющихся по отношению к ней ее конкретными моментами. Она существует как их единство, но не в смысле суммы, а в смысле единящего начала, выражающегося в существовании общины, народа, культуры, качественно отличающихся от таковых же выражений другой религии. В этом смысле каждая религия есть социальная личность, живущая в своем историческом времени и в своем территориальном пространстве, тогда как разные религии, которые суть качественно разные выражения отношения к Богу, являются моментами религии как таковой, которая есть всеединство всех конкретных религий, среди которых христианская Церковь занимает такое же место, как Иисус Христос среди всех других людей.
История есть процесс развития человечества, народов, общественных групп, в конечном счете - отдельных людей. Но о развитии можно говорить только тогда, если есть субъект развития - тот, кто развивается. Субъект развития необходимо имеет определенность личности. В исторической науке следует видеть самопознание личности развивающегося человечества, народа и т. д., подобно тому как в автобиографическом произведении мы видим самопознание данного человека. "Историк, - пишет Л. П. Карсавин, - опознает себя самого как индивидуацию субъекта истории, а свое знание - как момент в самопознании этого субъекта". О том, как идея всеединства выступает в качестве методологического принципа исторической науки, см. "Введение в историю" (в переработанном переводе на литовский язык автор назвал эту книгу "Теорией истории").
Совершенство и несовершенство
Во всех проявлениях нашего несовершенства мы видим недостаток Любви, самоутверждение без восполняющей его самоотдачи или жертвы собою другим. Наша жизнь постоянно требует этого от нас, но именно самоотдача человека никогда не полна, он не хочет жертвовать собой, ожидая и требуя жертвы в свою пользу от других.
Эта недостаточность свойственна не только индивидуальному "я", но и актуализующимся в нем социальным "я", т. е. всему объему его личности. Человек эгоистичен не только в защите собственных индивидуальных интересов, но и в защите интересов своей семьи (которые он, естественно, отождествляет со своими личными), интересов общественной группы, к которой он принадлежит, и т. д. Общество эгоистично, поскольку образовано из эгоистичных людей, но главное в обратном: эгоизм общества в целом индивидуализуется в эгоизме его отдельных представителей, как качество социальной личности - в ее моментах.
Недостаточная самоотдача со стороны других людей и со стороны общественных групп и общества в целом, т. е. социальных единств, сознаваемых человеком в себе самом, по отношению к человеку есть внешняя "злая" сила или действительность зла. Последнее есть выражение несовершенства эмпирической действительности, само же по себе оно безсущностно и есть ничто (malum nihil est. - Св. Григорий Нисский) или оно есть как недостаток добра (privatio boni. - Бл. Августин). Внешнюю по отношению к человеку силу зла религиозное сознание персонифицирует в образе злой личности, за этим стоит действительность расщепления личности в акте греха, - вольная недостаточность личности есть, прежде всего, недостаточность ее внутреннего единства, которая, выходя во вне, становится отрицанием единства между людьми.
Наиболее резко несовершенство обнаруживается в том, что мы неизбежно подлежим страданиям, обвиняя в них чаще всего других, а в момент наибольшего сознания своей религиозной и этической ответственности - самих себя. Пределом такого сознания является сознание нашей виновности и нашей ответственности за самый факт нашего несовершенства, что выражается (но не объясняется) в учении о грехопадении.
Сознание нашей вины в отношении конкретного акта греха перерастает в необъяснимое сознание онтологической вины, т. е. нашей виновности за самый факт нашего несовершенного эмпирического существования. Попытка рационально ответить на вопрос - как вообще возможно наше несовершенство - приводит к богоотрицанию. Субъектом абсолютной ответственности может быть только Бог. С Его стороны - абсолютная мощь, с нашей - наше ничтожество, можно ли при таком соотношении говорить о какой-то нашей вине? Если мир зол, значит Бог зол, что равносильно тому, что Его нет. Это основной этический аргумент атеизма. Отсюда же потребность в теодицее. Иррациональное опознание абсолютной вины как причины несовершенства при отчуждении ее от Бога выражается в учении об отпадении и вечном осуждении высших ангельских сил.
Между тем абсолютная вина должна быть усвоена самому человеку.
Творимое - через сознание собственной абсолютной ответственности (вины) за свою тварность и выражающее ее несовершенство - само становится абсолютным и равным Творцу. И тогда выясняется, что абсолютная вина есть выражение Любви и представляет собой совершенный ответ твари своему Творцу.
Это - центральная религиозно-этическая идея Л. П. Карсавина, приоткрывающая нам, что вся его метафизика обоснована в этическом и каритативном начале. Главная работа, посвященная этой идее, - "Поэма о смерти".
Абсолютная вина сама конституирует себя из греха и этим делает себя относительной, т. е. соотносительной греху. Мы сознаем, что наша вина есть следствие греха. Но как раз в сознании вины дано преодоление и отрицание греха. И только так, через безусловное самоосуждение или осознание нашей вины, происходит снятие вины, ее полное про-яснение. В сознании абсолютной вины нам дано опознание конца несовершенства, такое, в котором несовершенство не уничтожается в своей действительности, но действительность его предстает нам как "преображенная светом Божьей Любви". Это как бы запредельное несовершенству осознание несовершенства из нашего совершенства, возможное потому, что "несовершенство есть средство усовершения" или само совершенство в своем самоотчуждении и движении к себе самому. Несовершенство есть момент совершенства, его моментальное состояние (данное нам в нашем настоящем), и только поэтому несовершенство действительно всей полнотой действительности, как действительно и наше знание о совершенстве. В себе самом несовершенство неодолимо, оно есть, поскольку совершенство дает побеждать себя или поскольку грех оказывается средством к тому, чтобы было сознание вины. Но несовершенство и преодолено чрез Смерть и Воскресение, "Ибо Бог жертвенно созидает и преодолевает Свое (и наше) несовершенство, дабы мир был и обожился" ("Поэма о смерти").
Через Вину и Смерть Тобой рожденный
Я в светлый мир Твой претворяю тьму.
"Терцины"
Такое, связанное с осознанием нашей онтологической вины или абсолютной ответственности, понимание отношения между несовершенством и совершенством и между человеком и Богом, понимание, которое переворачивает наши обычные представления, есть не что иное, как светопреставление, которое не только "впереди", но уже дано нам в нашей умопремене (так Л. П. Карсавин переводит евангельское слово metanoia, обычно переводимое словом "покаяние").
"Наша жизнь есть решающий час бытия".
Вся суть и глубина христианства, отличающая его от других религий, в том, что через посредство Единородного Сына, в Нем и вместе с Ним человек в Боге непосредственно узревает Божественного Отца.
Познать в Боге Отца - в действительности живого, личного, непосредственного отношения к Нему - есть последний предел нашей веры и ее последняя цель, так как ничего большего просто нет. Это отношение открывает нам, что человек есть творимое, поскольку абсолютен через свое отношение к Абсолютному, подобно тому, как Иисус Христос божественен через полноту и действительность Своего отношения к Отцу. Вера в своем пределе есть совершенное доверие Отцу, полная уверенность в Его надежности и Любви. "Неизъяснимым каким-то знанием, но несомненным, знаю Правду Твоей Любви". И это доверие становится жизненным принципом - доверием судьбе. Это не фатализм, который есть пассивная покорность. Наиболее совершенное выражение доверия в словах "Да будет воля Твоя" совсем не означает безучастного отношения к жизни или пассивного ожидания, как и в чем, независимо от нас, найдет нужным явить себя высшая воля. "Да будет" означает прежде всего готовность к тому, чтобы собственная моя судьба была реализацией этих слов. Доверие к судьбе требует жизненной активности и не безучастного, а может быть, впервые по-настоящему осмысленного отношения к окружающему.
Умопремена есть наше прямое, хотя и только "познавательное причастие" Абсолютному. Христианская вера действенно осуществляет себя в Таинствах Церкви, в нашем образе жизни, но и в нашем образе мысли. Было бы ошибкой думать, что актуализация в нас Абсолютного возможна без ее осознания, т. е. как-то иначе, чем через актуализацию сознания Богосыновства, которое уже дано нам в нашей вере в личное Воскресение и в то, что Церковь есть Тело Христово. Поэтому догматическое сознание есть существенное содержание нашей религиозности, в нем замыкается последнее звено, через различение соединяющее наше эмпирическое "я" с Абсолютным.
5
В нашем пересказе религиозно-философских идей Л. П. Карсавина главную задачу мы видели в том, чтобы передать их целостный характер или то "всеединство" его мысли, благодаря которому она, оставаясь тождественной себе, раскрывается в разных содержаниях.
Христианская идея в его индивидуальном увидении столько же своеобразна, сколько и сомкнута с традицией. Ничто из традиционных представлений не отрицается, не выбрасывается, не переиначивается, всякое исторически имевшее место понимание оставляется и, по существу мысли Карсавина, должно быть оставлено на своем месте, и вместе с тем предлагается все увидеть как бы заново, именно из совершенства или с точки зрения Абсолютного.
"Познавательное причастие" Абсолютному - звучит довольно скромно, если акцент поставлен на том, что оно - только "познавательное". Но если акцент перенести на то, что оно есть "причастие" самому Абсолютному,- в этом выражен религиозный экстаз мысли, осознание мыслью своей логосной природы, своего непостижимого соединения с Богом:
А я постичь Твою незримость чаю.
Отдав себя несущей ввысь мольбе,
Подъемляся, неясно различаю,
Что есть и то, что может быть в Тебе.
"Сонет XII"
Разум, сознавая в нас свою ограниченность и относительность, в этом и чрез это открывает нам свою безграничность и абсолютность. Ограниченное не может знать о своих пределах, если не выходит за них. Но если существует как ограниченное, то только потому и для того, что может и должно выйти за свои пределы, чтобы саму ограниченность познать как способ существования безграничного.
Наша жизнь несовершенна и преходяща, но мы сознаем ее течение и видим ее как наше развитие. И этим сразу ставится вопрос о нас как абсолютном субъекте развития. Чтобы было развитие, нужно, чтобы был тот, кто развивается и кто в целом есть один, хотя и существует во множестве своих индивидуаций. Наше несовершенство есть способ бытия нашего совершенства в его движении или восхождении к себе самому чрез эмпирическую действительность, смерть и Воскресение. Такой способ бытия означает не что иное, как то, что человек есть творимое, действительность свою имеющее от Бога, но и то, что Бог соединяет Себя с нами, так что в единстве Сына Божия всегда неслиянны, но и нераздельны Бог и человек. В нашей несовершенной эмпирической действительности мы живем, занятые заботами и проблемами этой действительности, не видя и не ведая, что она такое. Только религиозное сознание призвано дать и дает нам понятие о том, что мы есть на самом деле. - В таинстве покаяния мы уже в сфере последнего Суда. В таинстве Евхаристии мы уже причастны нашему Воскресению. В актуализующемся в нас чрез христианскую веру сознании Богосыновства мы уже причастны Богосыновству (ср. "Человек - Бог по благодати". - Св. Максим Исповедник).
Христианская вера должна сознавать свое содержание. В акте разумной мысли не надо видеть стремление к без-таинственному представлению обо всем, такова только секуляризованная мысль, задание которой осознать мир в его безбожественности. Ясно, что религиозность не может выразить себя в секуляризованных формах мысли. Отсюда - актуальная необходимость христианизации мысли. Неверно, как думают, будто христианство "приспособляется" к новейшим открытиям наук и секуляризованной философии,оно осваивает их, сознавая в них свое собственное содержание, и берет из них не какую-то "подходящую" для себя часть,- а восполняет их, сообщая им религиозную содержательность. Религиозная мысль исходит из божественной Тайны и - восходит к ней, на этом пути раскрывая безграничную содержательность отношения между человеком и Богом. Такое понимание сразу возвращает нас к христианской догматике, которая есть ключ и исходное основание для каких бы то ни было христианских умозрений.
В лице Л. П. Карсавина русская религиозная мысль имеет одного из оригинальнейших религиозных философов. Однако сказать о нем только это означало бы сказать о нем не все. В его религиозно-философских произведениях следует видеть выход догматического сознания на пути исповедничества. О том, что такой мотив был вполне сознательным, говорит, в частности, такой факт. На одном из первых вернисажей в выставочных залах Эрмитажа в 1922 г. Л. П. Карсавин, записав себя в книгу посетителей, вместо "профессор" написал "конфессор". Можно, конечно, предположить, что это была шутка с его стороны. И если даже так, эта шутка уж как-то очень метко обозначила пути его судьбы.
Ленинград, октябрь - ноябрь 1979 г.



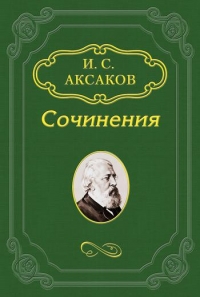
Комментарии к книге «Очерк жизни и идей Л П Карсавина», Б. Ванеев
Всего 0 комментариев