Грэм Харви Секс, еда и незнакомцы Религия как повседневная жизнь
Молли, с которой я повсюду видел, пробовал, слушал, щупал и нюхал религию, с которой я делил радость попыток понять и прожить религию в реальном мире. «Всегда».
Предисловие
Книга «Секс, еда и незнакомцы» выросла на плодородной почве, подготовленной многими другими, среди которых и коллеги-ученые, и последователи различных религий. В частности, невероятно обогатила мои ранние попытки взглянуть на религию по-новому глава «Религия маори» Те Пакака Тауваи (Te Pakaka Tawhai [1988] 2002), а также статьи из специального выпуска журнала Religion, посвященного религии американских индейцев (то есть Morrison K. M. 1992a, 1992b; Fulbright 1992; Detwiler 1992; Pflug 1992; Irwin 1992). В своих предыдущих работах я ссылался на эти исследования, оценивал их очень высоко (и сегодня вновь рекомендую их читателям), но, готовя эту книгу, я увидел в них много нового. Перечитывая их параллельно с более свежими публикациями (например: Plumwood 1993, 2002; Primiano 1995, 2012; Abram 2010; Latour 2010; Ingold 2011; Dueck 2013 и в особенности Vasquez 2011), я открыл для себя новые идеи, которые соединились со старыми и привели меня к более глубокому пониманию предмета. Сильное влияние, оказанное на мою работу Ирвингом Хэллоуэллом и его открытиями, сделанными в работе среди анишинаабе, подкреплялось тем, что многие произведшие на меня сильное впечатление коллеги также опирались на его публикации (особенно Hallowell 1955, 1960). Меня вдохновляло не только содержание его работ, но и то, как они побуждали к более внимательному исследованию принимавших меня туземцев, в особенности анишинаабе, микмаков, маори, гавайцев и йоруба. Моя огромная признательность за их щедрое гостеприимство (в особенности тех из них, кого шокировало мое веганство) смешивается с надеждой на то, что я пропустил не слишком много уроков, которые должен был усвоить.
Также я рассчитываю претворить в жизнь неиссякаемый потенциал этих и других источников вдохновения. Позже я подробнее опишу тот мир, который они научили меня видеть и в котором я пытался работать. Вкратце – это мир, в котором религия повседневна, в котором существа оказываются связанными друг с другом, хотя порой и нарушают границы между видами. Религия – комплекс, в котором воображение и близость оформляют изменчивые и адаптивные практики и образы жизни, всегда в связи с другими.
О религии (и религиях) я узнавал не только из публикаций уважаемых коллег. Я видел ее в действии, находился в ее сердце. Я благодарен гуманитарному факультету (Faculty of Arts) Открытого университета (Open University) за финансирование, поддержку и поощрение моих исследований. Также я благодарен своим коллегам по отделению религиоведения (Department of Religious Studies) и из других подразделений этого университета за поддержку моих усилий, в том числе за включение элементов моих исследований в нашу совместную работу по созданию ресурсов для преподавания и обучения, лучших из возможных и доступных. Я бесконечно признателен Британской академии за финансирование моих экспедиций в Нигерию (декабрь 2010) и Аотеароа и Гавайи (март 2011), позволивших мне самолично наблюдать религиозную жизнь этих культур. Я благодарен и тем, кто принимал меня, служил гидом, делился знаниями в этих поездках, в особенности Тайо, Джигеде, Давиду, Че и Мисси, Тони и Дотти, Тауваи Уанау, семейству Проктор, коллегам в университете Мэсси (Massey) и университете Те Уаре Уананга о Ауануиранги. Мои предыдущие исследования среди анишинаабе, микмаков и других народов в Северной Америке, а также язычников по всему миру нашли место в настоящей книге. Я благодарю Майсел, Ларри и Клэр, Шайн и Роберта, Селену и Денниса, Тима и других членов SOD (Светского ордена друидов), обоих Филиппов и их ордены – OBOD (Орден бардов, оватов и друидов) и BDO (Британский орден друидов), Университет Хеджа, группу не таких уж и сумасшедших шаманов, Кейт, Корвена и других почитающих Золотого короля[1] и иных из тех, кого мы можем есть. До работы в Открытом университете мне посчастливилось работать с теологами и религиоведами Университета Винчестера. Все они поддерживали меня в моих исследованиях и преподавании, что также обогатило эту книгу.
Все мои замечательные аспиранты серьезно повлияли на мои идеи не только о религии, но и о более эффективных способах ее исследования и включения в педагогическую практику. Обращая внимание на то, как именно люди исполняют, воплощают, материализуют, соотносят, помещают в пространство, используют в общении, воображают, представляют и меняют религию, они обогатили религиоведение, и я благодарен им за это, как и за ту веру в прекрасное будущее нашей дисциплины, которую они в меня вселяют.
Дженет Джойс из издательства Equinox и Тристан Палмер из Acumen также заслужили мою признательность не только за постоянную поддержку и ободрение в ходе подготовки этой книги, но и за неоценимую помощь в поддержке всех моих занятий, как исследовательских, так и преподавательских, в области религиоведения. Я многое приобрел в общении с Дагом Эззи на разных этапах написания и редактирования книги. Также я благодарен анонимным рецензентам за замечания и комментарии, позволившие мне сделать мои рассуждения и аргументацию более ясными.
Наконец, я благодарен Молли. Иногда я вынужден был оставлять ее ради исследований. Иногда она оставляла меня. Но мы никогда не были одиноки. Иногда мы изучали религию порознь, но, когда занимались этим вместе, то сосредотачивались на еде и музыке в зачарованных местах. Молли увидит, что целые части этой книги написаны исключительно благодаря ей, и, поскольку она была моим первым редактором, книга целиком совершенствовалась ее замечаниями. Пока я обдумывал и готовил черновики книги, мы с Молли наслаждались мудростью и близким общением с Соломоном (нашим котом, прожившим с нами многие счастливые годы). Пока я дописывал финальную версию, с нами поселилась Саломея, за что мы очень ей признательны.
В этой книге, конечно, найдутся недочеты и слабые места. Тому виной мои опечатки, ошибки, а может быть, и некорректные интерпретации. Но лучшее, что есть в научном сообществе, – непрекращающиеся дискуссии, поэтому я надеюсь, что книга станет поводом для обсуждений и дальнейших исследований. Я вижу, хоть и не без труда, как именно могут обогащаться наши совместные усилия в понимании религии, чем бы они ни обернулись. Я с нетерпением жду прироста знания, который происходит благодаря подобным дискуссиям. Так что эта книга – далеко не последнее слово.
Глава 1 О боге и козах
Иногда я ставил перед студентами задачу: рассказать, куда бы они взяли инопланетян, посетивших Землю, если бы те захотели увидеть религию. Я просил их представить себе, что такие маловероятные туристы сказали бы: «Мы наблюдали за Землей и видели спорт, политику, организацию питания, туризм, ботанику. Теперь мы хотим увидеть то, что вы называете религией. Что вы нам покажете?» Стоит студентам понять задание, они сразу же в нем преуспевают, при условии, что они сумеют преодолеть главное препятствие, а именно представление о том, что религия – это «вера в бога». Большинство моих студентов в британском университете уверены, что вера – нечто интимное, частное, личное и что бог трансцендентен, а ни то ни другое не очень-то доступно для наблюдения. Студентам и мне кажется, что есть лучшее решение. Мы задумываемся о том, что люди делают, и сосредотачиваемся на религии как на повседневной практике. И тогда мы можем решать задачу творчески. Мы задаемся вопросом, могут ли наши инопланетные гости использовать свои органы чувств иначе и не нужно ли им слышать или обонять религию. И тогда многоголосый Иерусалим или богатство запахов в храме, в котором приносятся в жертву животные и дымятся благовония, иллюстрируют этот мыслительный эксперимент.
Но не только моим студентам сложно представить, чем может быть религия. Многие ученые, даже имеющие дело с религиоведением в качестве исследователей и преподавателей, испытывают трудности с тем, чтобы видеть, обонять, слышать, осязать и ощущать вкус религии в действии. Эта книга может помочь и им, и их студентам. Она о том новом, что мы открываем для исследования, если перестаем воспринимать религию как набор каких-то особенных верований и странных выражений этих верований. Кажется, будто достаточно просто начать изучать конкретную религию – буддизм или язычество, например, – но что именно делает их религией? Буддизмом является все, что делают буддисты? А если они моют посуду или стреляют? Эти действия религиоведы тоже должны изучать или оставить другим специалистам? Куда мы должны отправиться, если хотим увидеть религию? И на что обращать внимание, когда мы там окажемся?
Я не первый, кто ставит вопросы о смысле термина «религия» и фокусе религиоведения. Однако меня не вполне удовлетворяют ответы, предложенные некоторыми из моих коллег. Именно поэтому я и предпринимаю еще одну попытку такого рода. Слишком часто то, что выдается за обсуждение религии и/или религий, следует из неудачных предпосылок, которые вынуждают нас уделять слишком много внимания странным верованиям и – более того – побуждают нас неправильно понимать само существо научного исследования. В этой книге я предлагаю затронуть эти сложные вопросы в поисках позитивного пути их разрешения.
Структура аргумента
Выводы книги «Секс, еда и незнакомцы: Религия как повседневная жизнь» содержатся в ее названии. Именно религия определяет те отношения, которые направляют, объединяют и вдохновляют людей в их повседневных делах в этом материальном мире. В частности, ключом к пониманию религии в реальном мире оказываются отношения людей с другими видами. Возможно, религия возникла как своего рода межвидовый этикет – в особенности поскольку представители одного вида вынуждены поедать представителей другого. Религия и сегодня регламентирует, принимают ли люди пищу вместе или порознь, вступают или не вступают в сексуальные связи, принимают или не принимают незнакомцев в свои сообщества.
Чтобы прийти к подобным выводам, нужно отбросить глубоко укоренившееся представление о том, что религия – это вера в бога. Оно не должно быть ядром академического религиоведения. Одни люди верят в божества, неэмпирические реальности, чудеса и другие удивительные вещи. Другие настаивают на том, что вера важнее рациональных доказательств. Но все эти факты суть частные аспекты разных религий, а не основание для определения религии; не они должны быть в фокусе нашего исследовательского интереса. Другими словами, религию можно с равной степенью точности определять как через «веру в бога», так и через «жертвоприношение коз». Верующие могут делать то или другое или и то и другое вместе, но ошибочно предполагать, что слово «религия» всегда и везде означает веру в бога или жертвоприношение коз. Я развиваю этот тезис в главах 1–4. Поскольку многие ученые уже продемонстрировали, что определение религии через веру в бога приводит к тому, что наше внимание соскальзывает с религии на другие явления, я сосредоточусь на некоторых феноменах, которые таким образом упускаются из виду. Я исхожу из того предположения, согласно которому следует уделять значительно больше внимания религии в контексте повседневности. Если бы мы, религиоведы, всерьез прислушались к тем нашим религиозным респондентам, которые говорят, что религия имеет отношение ко всему, содержится во всем, что они делают, возможно, мы бы смогли что-то сказать и об умывании как о религиозном действии.
Примечательно, что в научных книгах повседневная деятельность игнорируется так же часто, как и в религиозных. Второй тезис в нашем рассуждении – традиция определяет за нас, что следует считать важным. Религия определяется как личная вера в богов в силу столетней истории мирных и насильственных усилий по навязыванию этой идеи. Это часть становления модерна, оформленного европейской реформацией, но в наибольшей степени определенного становлением национальных государств и связанных с этим изменений (Cavanaugh 1995; King 2007)[2]. Лишь отметив влияние этих исторических оснований академического религиоведения на ряд упомянутых выше трудностей, больше внимания я уделю поиску новых перспектив и отправных точек для изучения религии.
Я предлагаю здесь не просто указывать на ошибки, проблемы и препятствия к пониманию того, что же все же значит «религия». Я хочу знать, чем стало бы изучение повседневной религии, преодолей оно силу притяжения модерна. Поэкспериментируем, начиная «где-то там» («elsewhere»). Эта идея пришла мне в голову, когда я редактировал учебник, посвященный повседневной живой реальности религий, – «Религии в фокусе» (Harvey 2009c), – о которой я чуть больше скажу в следующем разделе. Но и для настоящей книги тема «где-то там» оказалась и необходима, и продуктивна. Это способ покинуть иллюзорный мир, в котором религия – это вера, а ученые стремятся стать богоподобными в своей объективности. Размышляя «где-то там», мы можем понять повседневную религию в реальном мире движений, перемен, материи, погоды, ежей, зарослей какао, булыжников, блестящих муравьев-гостей и тысячи других существ, каждое со своими симбионтами и ограничениями, каждое с уникальными формами уважения и/или противостояния другим. В этом мире религия проживается людьми, которые едят, занимаются любовью, принимают гостей и опасаются незнакомцев. Это мир, в котором религия значима для людей, ее практикующих (performing) (для них самих и/или для других), поскольку и они, и мир продолжают меняться и развиваться. Это мир отношений и воздействий (performances)[3], наделенных энергией благодаря возможностям, которые открывают близость и воображение (intimacy and imagination)[4].
Но на карту поставлено больше, чем просто утверждение о том, что религия – это повседневная деятельность связанных отношениями материальных людей во взаимосвязанном материальном мире. Не менее важно, что действия ученых также являются материальными и включенными в системы отношений. Опасная иллюзия объективности богоподобного ученого устарела в силу объективных свидетельств телесности, пространственности, взаимосвязанности и необходимого соучастия всех нас как ученых. Другими словами, реальный мир «где-то там», в котором мы на самом деле живем, – мир дарвиновской эволюционирующей взаимосвязанности и квантового соучастия. Наше исследование религии и преподавание, вероятно, окажутся более эффективными, если мы попробуем жить в этом реальном мире и вести свои исследования в духе науки, избежавшей проклятия декартовского дуализма и других заблуждений. В главе 4 я критикую те способы изучать религию, которые считаю неверными, разрабатываемые как критически настроенными авторами как исследователями, так и последователями религий. Глава 5 – дань уважения другим авторам, рассматривавшим значимые стороны реального мира за пределами иллюзий все-еще-не-пост-реформационного модернизма. Здесь я указываю на некоторые пункты, которые могут стать основой для отвечающего требованиям XXI века научного подхода к нашему предмету.
Поэтому главы 6–11 предлагают ряд примеров подобных «где-то там», которые не только дают сведения о религии, но также провоцируют размышление над тем, как мы знаем, анализируем и обсуждаем религию. Обращаясь к трудам коллег-первопроходцев, предложивших определения и походы в связи с категорией отношения, эти разделы предлагают программу действий для исследования религии в реальной жизни. Внимательно слушая то, что люди нам рассказывают, мы можем найти новые перспективы и вопросы, заслуживающие дальнейшего исследования. То есть эти разделы посвящены как предмету, так и методам исследования, достойным внимания ученых, интересующихся религией.
Три задачи нашей книги (признание проблематичности определения религии через веру, критика существующих подходов и эксперимент по выходу «куда-то еще») объединяются в заключительной главе. Мы приходим к тому, что деятельность под названием «религия» – это то, что люди делают как в повседневной обычной жизни, так и на церемониях по особым поводам. Религия всецело связана с материальным миром, в котором мы, люди, живем в многовидовых сообществах. Она связана и с системами этикета в реальном мире взаимосвязей. К несчастью, в представлениях модерна господствует фантастический мир, в котором люди уникальны. Чтобы думать о религии иначе, нам нужно начинать «откуда-то еще».
Где-то там
В книге «Религии в фокусе» (Harvey 2009a) выражение «где-то там» (elsewhere) использовалось для привлечения внимания к повседневной жизни «обычных» религиозных людей (которые часто весьма необычны). Вместо того чтобы ориентироваться на официальные заявления проповедников и идеологов, эта книга фокусируется на том, как религиозные люди практикуют (perform) свои религии или говорят о них. В этом она следует призывам таких исследователей-пионеров, как Леонард Примиано (Primiano 1995, 2012) и Мередит Макгуайр (McGuire 2008). В каких-то случаях авторы книги писали о меньшинствах, группах мигрантов, о тех, кто был вытеснен с лидирующих ролей. Мы всегда стремились писать о том, как люди проживают религию (даже когда они являются идеологами или проповедниками). В поисках примеров для наших разделов «где-то там» мы обращались к зороастрийцам в Америке, христианам в центральных графствах Англии, иудеям Германии, индуистам в Южной Африке и т. д.
«Религии в фокусе» посвящена не писаниям, догматам, проповедям и манифестам. Мы отказываемся определять религию исходя из того, во что – как говорят авторитетные книги или проповедники – должны верить люди. Скорее, мы сосредотачиваемся на том, что люди делают. Здесь нет приоритета у прошлого или у основателей, великих лидеров религии; в центре внимания – деятельность людей сегодня. Она часто включает в себя признание лидеров, цитаты из писаний и/или реакции на речи, но проповеди и догматы не определяют религию и то, как она переживается. Иногда сложно избежать впечатления, что наилучшим образом наблюдать за религией можно тогда, когда религиозные люди совершают сложные церемонии. Тем не менее, хотя в книге «Религии в фокусе» рассматриваются свадьбы и медитация, праздники и посты, также она описывает протесты, пищу и способы ведения домашнего хозяйства в диаспоре и в центрах религиозной жизни. Все это – религиозная деятельность, а не просто деятельность, связанная с религией. Проект «Религии в фокусе» будет развиваться в других изданиях, посвященных реальной жизни современной религии, происходящей «где-то там».
Эта книга, «Секс, еда и незнакомцы», также начнется (и продолжится) «где-то там». Важно понять отправные точки нашего исследования. Точка зрения и позиция неслучайны и оказывают значительное воздействие на то, что ты слышишь, чувствуешь, на вкусы и запахи и прочие ощущения. Река под поверхностью отличается от вида сверху или сбоку. Рыба в воде отличается от рыбы в воздухе. Человек или цапля, ловящие рыбу, отличаются от человека или цапли, умиротворенно наблюдающих за рекой или рыбой с безопасного для нее расстояния. Я не просто призывают быть «осторожнее со своим багажом, практиковать epoche[5], размышлять о предпосылках», хотя это и хорошие советы, важные для исследовательской практики (cм: Harvey 2011a). Тем не менее этот совет нужен нам, поскольку мы долго находились под впечатлением, что исследование возможно из ниоткуда. Мы поощряли погоню за чем-то, именуемым «объективностью», и забывали, что в основе самой этой идеи – попытки имитировать всеведущего бога средневековой христианской теологии.
Возможно, мне не следует утверждать, что «это все ерунда». Лучшие из моих коллег по религиоведению оказались в плену представлений, согласно которым преследование объективности тождественно секулярному, нерелигиозному поиску. Любой намек на то, что это модерновая версия подражания трансцендентному божеству нежелательна (и невозможна), вероятно, будет воспринят как признание в преступлении против академической дисциплины. Но я преувеличиваю. Множество ученых признавали, что такая объективность из ниоткуда, объективность, очевидно, отсутствующего исследователя (того, кто никогда не признается, что побывал в центре празднества или ритуала), и бессмысленна, и бесполезна. Многие ученые за последние годы показали, что есть и другие достойные пути исследования. Достаточно часто можно прочитать о присутствии ученого там и тогда, где что-то происходит, или о рефлексии ученых по поводу того, что с ними происходило во время исследования. Иногда кажется, что такие диалогические и рефлексивные подходы куда более востребованы вне религиоведения, чем в его границах.
Инголд призывает коллег-антропологов противостоять клиффордовскому отделению полевой работы от письма, этнологии от этнографии (см.: Ingold 2011:241 о Clifford 1990:52). Тем не менее, несмотря на то что число исследователей, живущих среди респондентов, выросло, наиболее критическая часть книги «Секс, еда и незнакомцы» посвящена неудачным попыткам рассчитывающих на большую объективность исследователей сформулировать определение религии, которое отличалось бы от раннесовременного христианского, которое они, как им представлялось, отбрасывали. «Постулирование неэмпирической и контринтуитивной реальности» для меня звучит совсем как «вера в бога». Теперь, оговорившись по поводу объективности, вернемся «куда-то туда».
Все менее будучи удовлетворенным (как божественной, так и секулярной) «объективной» дистанцией, я стремился найти ряд мест, где смог бы обнаружить, как именно религия переживается или переживалась в повседневной деятельности. В частности, собираясь писать эту книгу (при щедрой поддержке Британской Академии) я жил в Аотеароа (Новая Зеландия)[6], Нигерии и на Гавайях. Мои более ранние исследования среди иудеев и язычников также заводили меня «куда-то еще». Здесь важна не география и даже не экзотичность или примитивность (primitivity). Люди, у которых мне посчастливилось учиться, не чужды все более глобальному модерну (слишком-модерну, как его назвали несколько моих друзей-туземцев)[7]. Скорее, они «где-то еще», поскольку их отношение к религии не отчуждено от социального мира, повседневной реальности, «обычных» людей, вернакулярной практики, телесной практики или действия (Primiano 1995, 2012; McGuire 2008; Vasquez 2011). «Где-то там» нет «верующих» и «тех, кто в них верит» (перефразируя Латура – Latour 2010). Я стремился уйти от парадигмы мировых религий (world religions), поскольку в ее рамках мы можем изучать только теологию, тексты, основателей, верования и трансцендентное. А мы достойны лучшего. Мне посчастливилось учиться и работать у коллег, продемонстрировавших величайшую ценность междисциплинарных, рефлексивных и диалогических походов к исследованию и преподаванию живой религии. Коллеги, исследующие религии коренных народов (indigenous religions), часто подают наилучший пример подобных развивающихся подходов, и мое желание следовать им объясняет, почему значительная часть данной книги касается материала именно этих культур.
Поскольку религия столь же повсеместна, что практики (performances) и идеи, которые мы запросто маркируем (и страстно обсуждаем) как этничность, класс, гендер, сексуальность, постольку я обнаруживал себя «где-то там» даже на отдыхе. Например, я скорее накорябал, чем напечатал один из первых черновиков этого введения после прогулки по оливковой роще, принадлежащей моим хорошим друзьям (Майклу и Ричарду), у которых Молли (моя жена) и я наслаждались расслабленным отдыхом в Опсе, в Провансе. Фасад церкви на рыночной площади там был сильно поврежден протестантами в ходе религиозных войн в 1574 году и гораздо позже был украшен девизом Французской революции: свобода, равенство и братство. Даже в отпуске я задумывался над тем, что «религия» значила для участников «религиозных войн» и, позже, республиканцев – любителей живописи. Разговоры за прекрасными обедами (всегда с местным отмеченным медалями оливковым маслом и хорошим вином) часто вращались вокруг вопросов религии и религий: от взглядов иудея на конфликт между Израилем и Палестиной до возможностей, которые ранний римский календарь открыл для структурирования современной жизни. В ответ на мою попытку суммировать доводы против определения религии как «веры в бога» мне было предложено еще больше вариантов и несколько радикальных тезисов, спровоцировавших меня оттачивать мою аргументацию. «Где-то там» может быть везде, но нужно приложить немного усилий, чтобы попасть туда, и еще больше – чтобы полностью оказаться там и вернуться обновленным.
Отдельные «где-то там», описанные в этой книге, – это отдельные жизни и деятельности реального мира. В главе 6 я начинаю с определения религии маори и рассматриваю значение табу и мана. В главе 7 я обращаюсь к межвидовым отношениям туземцев Северной Америки, их кланам, ритуалам и знаниям. В главе 8 в центр внимания помещается культурное разнообразие йоруба и другие образы жизни африканского происхождения в мире, полном соперничающих и сотрудничающих сил. Ежегодное паломничество становится поводом для пересмотра кашрута (системы пищевых и поведенческих запретов) в иудаизме в главе 9. В главе 10 речь идет об эклектике и заколдованности в мире современных язычников. Все эти «где-то еще» нужны не потому, что они представляют факты, не вписывающиеся в доминирующую в мировых религиях парадигму определения религии через «веру в бога», но потому, что они провоцируют переосмысление всех религий. Это, возможно, прояснит, почему заголовок главы 11 – «Христиане практикуют религию так же, как и все остальные» и при этом глава 3 провокационно утверждает: «Христианство – не религия». Этот путь от 3-й к 11?й главе особенно важен, а разнообразие «где-то там» должно обосновать кажущееся противоречие в заголовках.
Разминка перед путешествием
Прежде чем мы предпримем это путешествие – пытаясь и начать «откуда-то еще», и остаться там, – я предлагаю читателю немного размяться. Это нужно, чтобы подготовиться к путешествию «куда-то еще», радикальным образом изменить наше мышление. Некоторые из этих упражнений учат обращать внимание на то, что можно назвать эмпирическими данными, необязательно о религии. Некоторые касаются иных возможных подходов к размышлению или говорению/письму на разные темы (опять же необязательно о религии). Другие – движений, присутствия и чувств как способов познания вещей, которые могут оказаться существенно важными. То есть все они касаются того, как вести исследования «где-то там».
Сложно, конечно, переосмыслить то, что кажется обыденным и очевидным. Старые привычки трудно побороть. И хотя иногда отправиться «куда-то еще» достаточно просто, бывает сложно добиться того, чтобы оказаться там полностью. Мы привыкли брать с собой технологии, установки, образ мыслей, привычные нам дома. Например, камеры еще больше отдаляют нас от того места, в котором мы находимся. Они предлагают нам отстраниться, вернуться «к себе», где мы будем пересматривать или показывать другим свои фотографии и записи. Мы оказываемся не «где-то там» – мы берем «здесь» с собой. Мы пытаемся загнать всю странность мест «где-то там» в привычные шаблоны, которые мы захватили с собой. Наши привычки, образ мысли и действия не дают нам открыться новым возможностям и перспективам.
Часто говорят, что космонавты покидают Землю, но на самом деле они путешествуют в маленькой части планеты (собственно, в кусочке ее атмосферы, окруженной ее металлами и нефтепродуктами). Они просто наблюдают «космос» с несколько более удаленного и приподнятого участка Земли. К сожалению, их фотографии земного шара заставляют нас заблуждаться и считать, что вот так наша родная планета выглядит объективнее, чем когда мы гуляем по городам или лесам, окруженные бактериями и бюрократами. Космонавты не оказываются «где-то там», но их фотографии могут заставить нас считать, что мы не на Земле. Это та же история, что и с изучением реальной жизни и живой религии (которые, кстати, могут оказаться одним и тем же). Другими словами, вновь парафразируя Латура (Lаtour 2010), имплицитная мантра «Мы – знаем, они – верят» – это средство удерживать нас дома и броня, защищающая нас от более глубокого понимания того, что с нами происходит.
Упражнения, которые я предлагаю ниже, – это еще не способ оказаться «где-то там», но подготовка к нему. Думая иначе об описании или зарисовке таких кажущихся обыденными вещей, как стулья, или таких привычных действий, как ходьба, мы научимся иначе понимать религию и иначе смотреть на ее изучение. Эти упражнения уж точно помогут вам увидеть, на какие ухищрения я пошел, чтобы изучать религию иным образом.
Упражнение 1: ходьба
Ходьбу, кажется, просто определить. Даже люди, к ней физически неспособные, могут использовать это слово, говоря о других. Однако, если вы найдете достаточно публичное место, сядете там и какое-то время понаблюдаете за людьми, вы увидите, что на самом деле люди ходят по-разному. Можно понаблюдать за ходьбой по телевизору. Выбрав неправильное место или неправильный канал, возможно, вы вообще не увидите, как люди ходят. Многие будут или в машине, или сидеть. Само по себе интересно, является ли ходьба способом передвижения или какой-то специфической формой деятельности меньшинства. Ходьба – это спорт, хобби, необходимость или исключение из нормальных форм мобильности? Понаблюдайте за пешеходами и водителями: есть ли какие-то гендерные или возрастные закономерности? Ходят ли женщины и молодежь больше, чем мужчины среднего возраста?
Какие еще действия можно противопоставить ходьбе? Воспринимается ли ходьба как противоположность другим видам движения (бегу или езде на машине) или видам отдыха (лежанию или сидению на корточках)? Наблюдая за людьми, можно ли определить не только их гендер и возраст, но также национальность, классовую принадлежность, род занятий, цель или хотя бы направление движения по тому, как они идут? Каково место маршировки в семантическом поле ходьбы? Поскольку разные нации по-разному маршируют и даже в одной армии могут использоваться разные стили марша, какие конкретные движения стоп, ног и тела подразумевают «марш», а не «ходьбу»?
Ходьба босиком отличается от ходьбы в обуви? Присмотримся. Если вы привыкли ходить в обуви (как большинство из нас), вы не сможете ответить на этот вопрос, просто сняв ботинки и понаблюдав за своей ходьбой, поскольку мы привыкли к такому стилю ходьбы, который определяется обувью. Но стоит попробовать. Пройдитесь. Почувствуйте поверхность (пол, ковер, асфальт или траву). А теперь попробуйте обуться. Кажется ли поверхность или ваша походка более устойчивой и безопасной? Ношение обуви прибавляет или убавляет от переживания близости с миром? Имеет ли последний вопрос смысл? Как влияет погода на стиль ходьбы – от технической стороны, например выбора обуви, до практических моментов – длины шага, движения глаз, сканирующих поверхность на предмет луж? Кто-то из вас, я знаю, любит обувь на каблуках, другие (их я тоже знаю) предпочитают минималистичную обувь. Возможно ли одновременно ходить и обращать внимание на то, как тело ощущает себя и движется в обуви разных стилей (или в зависимости от высоты каблуков)? Проще ли заметить разницу движения у других, чем у себя? Может, вместо «тело ощущает себя» я должен был бы сказать «вы ощущаете себя»? В чем разница?
В связи с этим упражнением кто-то может заметить, насколько на меня повлияли работы Тима Инголда. Другие, возможно, захотят прочитать его работы, а также исследования его коллег на тему ходьбы (например: Ingold 2011:33–50; Ingold&Vergunst 2008; а также Amato 2004). Кроме того, чтобы призвать к внимательному наблюдению и рефлексии (сегодня ставшими более чем привычными исследователям), это упражнение имеет целью обратить ваши чувства к повседневной деятельности, телесности, материи, поверхностям, движению. Религия, чем бы она ни была, – это то, что люди делают в этом мире. На нее также влияют местные привычки, ожидания действий, уместных для отдельных возрастных групп и гендеров, а также погода и возможность доступа в те или иные пространства.
Упражнение 2: рисуем то, что не является стулом
Кратко рассмотрев весьма обширный, как оказывается, вопрос ходьбы (и связанные с этим тексты Инголда о жизни в мире), я предлагаю обратиться к работам Дэвида Тэрнера о «сновидениях» аборигенов Австралии. Точнее, на это меня вдохновил предложенный одним из учеников Тэрнера способ, позволяющий другим увидеть то, что Тэрнер узнал от аборигенов островов Грут-Айленд и Бикертон. «Сновидения» – не вполне точный и, возможно, вводящий в заблуждение перевод сложных представлений, опытов, систем и действий. В одной из своих книг Тэрнер рассматривает варианты одной особой темы, отречения[8] (Turner D. H. 1999). Он указывает, что повседневная реальность нашего опыта «отрекается» в этот мир с «другой стороны», определяя всю его жизнь и все живое, а впоследствии вновь «отрекается», но уже в пользу «другой стороны». Здесь нам не важно, что именно называется «другой стороной» и каковы последствия такого отречения для обычаев и образа жизни аборигенов или для Воскресной хоккейной лиги Канады (что также рассматривает Тэрнер). Я предлагаю сделать упражнение, позволяющее нам увидеть то, что люди называют подлинной реальностью (чтобы размяться перед другими упражнениями). В цитате из Тэрнера содержатся инструкции:
Джудит Ашер, моя бывшая студентка, графически изобразила это [движение и одновременное отражение «обеих сторон» реальности] на одном из занятий в Университете Торонто, убрав все с моего стола, поставив на него стул и попросив нас нарисовать «не-стул», то есть «место вокруг стула и его частей». Попробуйте и увидите, что это значит. Место вокруг стула – это своего рода стул в зеркальном отражении, не-стул, тень стула на «другой стороне» (Turner D. H. 1999:29).
Теперь попробуйте нарисовать «не-стул».
Кто-то еще, а может быть, и Тэрнер в другой работе, предлагал посмотреть – а не только вообразить – место, которое вы занимаете в ванне или душе. На что оно похоже, место, где вместо воды или воздуха вы сами? Не знаю, что проще – рисовать «не-стул» или видеть «место, которое вы замещаете» (хотя первое проще делать на публике). В любом случае, выполняя это упражнение (а не читая о нем, как делают некоторые из вас), вы начинаете готовиться – на что я, опять же, надеюсь – сделать усилие, необходимое для того, чтобы увидеть то, как другие люди описывают мир.
Я ни в коей мере не предполагаю и тем более не настаиваю, ни в этой главе, ни в книге в целом, что мы должны соглашаться со всем, что другие говорят о мире, о религиях или о чем-либо еще. Гости могут проявлять уважение к хозяевам тем, что не скрывают свои отличия и различия, – и гостеприимство необязательно исключает уважительный спор, имеющий целью поиск взаимопонимания и согласования действий. Однако я уверен, что мы должны иногда делать такие мыслительные упражнения, чтобы в полной мере осознать то, как живут другие люди (даже если они стремятся помочь нам и рассказывают это так ясно, как только могут). До этого все наши теории будут иметь отношение только к нам самим и к тому, какими мы желали бы видеть других. Но нет никакой гарантии, что этих усилий будет достаточно для объяснения привычек других людей, которые они принимают как данность, – я даже предполагаю, что некоторым вещам невозможно научиться в зрелом возрасте, когда у большинства исследователей вновь просыпается любопытство.
Несмотря на это, отметив успехи Дэвида Абрама (особенно Abram 2013), укажем, что на базовом уровне это упражнение позволяет более полно погрузиться в мир, в котором мы пытаемся изучать религию. Обращая внимание на стулья и тела, на текстуру и изменение поверхностей и вещей, мы безусловно оказываемся «где-то там», где большинство религиоведов представляет или надеется наблюдать предмет своего исследования.
Упражнение 3: описываем не-копии предметов
Если вы путешествовали за границу, у вас есть загранпаспорт, а в нем – ваша фотография. Найдите ее. Или, возможно, вы носите в бумажнике фотографию детей, жены или даже домашних животных. Можно взять ее. Вы говорили когда-нибудь «Это я» или «Это тот-то и тот-то»? Или вы обычно говорите «Это моя фотография»? Это занудство или вопрос по существу? Глядя на фотографию, скажите «Это я» или «Это [имярек]». А затем скажите «Это моя фотография» или «Это фотография [имярек]». Какой вариант кажется более правильным или напыщенным? (Это не взаимоисключающие варианты.) Вам приятно признавать, хоть в какой-то степени, что фото может каким-то образом быть вами или кем-то из близких? Или подобной мысли лучше избегать, предпочитая утверждать, что фото в лучшем случае репрезентирует человека, на нем изображенного? Этот человек присутствует или отсутствует на фотографии? Есть ли разница, если на фотографии не близкий человек, а незнакомец? Станете ли вы иначе говорить о фотографии незнакомца?
В чем разница между человеком (person) и его фотографией, рисунком или моделью? Или, что еще интереснее, в чем сходство между человеком и его образом? В юридическом смысле – при пересечении границы – фотография (иногда вместе с отпечатками пальцев, сканом сетчатки и/или подписью) принимается в качестве идентификации личности. С точки зрения закона идентичность этих предметов и нас самих позволяет чиновникам нас идентифицировать. Зафиксированная «репрезентация» и есть человек. Это не просто копии. Тем не менее уничтожение фотографии вызывает куда меньше эмоций, чем уничтожение нашего настоящего лица (например). Так что, может быть, «идентичность» слишком сильное слово. Какова же связь между предметами и людьми?
Некоторые религии печально известны расколами в вопросах физического облика божеств и других живых существ. Разные мнения и практики в отношении образов не только усиливали конфликты между религиями, но и порождали расколы внутри религий (например, между различными видами христианства). Как на вопрос «Это ты или твоя репрезентация?» возможны различные ответы, так же и на вопросы, касающиеся различия и сходства между человеком и его образом, можно ответить по-разному.
Прошу прощения, с последним предложением что-то не так. Вот мы размышляем об образах, и я пытался сформулировать предложение о людях и репрезентациях, которое не основывалось бы на каких-либо предпосылках. Однако, если образ (фотография, рисунок, статуя) личности и есть личность, как сказать об этом по-английски? Слова «образ», «репрезентация», даже «фотография» отражают культурную установку (привитую сотней лет влияния протестантизма на английский язык), в соответствии с которой образ – это не человек и не вещь. Хоть мы и не должны во всем соглашаться с другими людьми, мы точно не поймем их, если станем бездумно переводить их слова в понятия с противоположным смыслом. Если наша главная задача – полностью понять других, тогда следует осваивать их язык и их привычную, принимаемую как само собой разумеющееся деятельность. Так же происходит изучение любого языка: ты понимаешь, что достиг успеха, когда понимаешь шутки или видишь сны на этом языке. Часто нам также нужно отучиться от речевых привычек, а также быть внимательнее к тому, как мы говорим о том, что говорят другие люди. В нашем примере сложности вызывают слова «репрезентация» или «образ».
Отправимся «куда-то еще» в поисках другой точки зрения. У зуни (живших на юго-востоке того, что сейчас называется США) маска коко (качина) является священной, могущественной и личностной. Эти маски просто невозможно копировать. Не может быть симулякров (Бодрийар 2015) качины. Связано это не с техническими сложностями создания масок, костюмов или фигурок. Теоретически, почти кто угодно может сделать маску коко, но никто не может сделать ее копию. Если здесь видится загадка, то разрешается она просто – копия маски коко сама будет маской коко. Это не копия, а реальная вещь. Как показывает Пиа Альтьери, сделать маску коко можно, лишь основываясь на сакральных знаниях зуни, а в этом знании нет «копий», но лишь маски, т. е. те, кто (в качестве обладающих личностью существ) поступают определенным образом в этом мире (Altieri 2000). Сосредоточиться на изготовлении предмета, по крайней мере в этом случае, – значит неправильно интерпретировать факты. Да, маски создаются, но это же происходит и со всеми прочими личностями (как человеческими, так и не человеческими). В данном случае для зуни оказываются важны – и для тех, кто хочет понять и говорить об этих масках, – действия и представления (performances) с масками в различных контекстах.
По очевидным причинам я не прошу вас делать копии масок коко. Я лишь предлагаю поразмышлять, что может подразумевать создание маски, ношение маски, что может означать сделаться (performing) маской и быть (being) маской. С этой, вероятно драматической, точки зрения следует оценить и то, что могут значить другие религиозные предметы и какие роли могут они играть в соответствующих сообществах. Кроме того, что это упражнение помогает в наших поисках «где-то там» ответа на вопрос, что может считаться «религией», а также ставит новые вопросы о предметах и действиях, оно оставляет нас перед самым важным вопросом: как мы (религиоведы) собираемся «представлять» (represent), «предъявлять» (present) или «показывать другим» (make present to others) те предметы и действия, которые сочтем определяющими для религии «где-то там»? Одна из задач, стоящих перед нами, – показать, на что похожа «религия». Какие средства позволяют нам воспроизвести «религию» в книгах, лекциях и семинарах? Что делать с аурой аутентичности (Беньямин 1996), окружающей религию, которую практикуют те, кого мы исследуем, когда мы воспроизводим ее в других контекстах? Над этим предстоит поработать.
Упражнение 4: указываем на прошлое
Для этого упражнения снова понадобится встать и пошевелиться. Я хочу, чтобы вы взяли и заглянули в будущее. Для этого не понадобятся магические инструменты, не нужно искать машину времени или хрустальный шар. Я здесь говорю о метафорах и до мозга костей привычных движениях. Возможно, нелегко будет проделать это «естественным образом», но я прошу вас попытаться подвигать головой и/или руками так, как обычно делаете вы и ваши близкие. Кто-то из нас жестикулирует больше, кто-то меньше, но те, кто обычно скорее сдержан в движениях, во время этого упражнения часто их утрирует. Попробуем сделать так: встаньте (чтобы двигаться свободнее) и представьте, что вы кому-то рассказываете о вчерашнем дне или о каком-то моменте недавнего или отдаленного прошлого. Акцентируйте свои слова при помощи движений рук или ладоней, указывая – метафорически говоря, – где находится прошлое. Или, наоборот, представьте, что рассказываете о том, на что вы надеетесь, о чем-то новом. И снова, для усиления сделайте движение рукой или головой в сторону будущего. Вам это может показаться абсолютно бессмысленным, пока позже сегодня или на этой неделе вы не станете говорить о чем-то и неожиданно не осознаете, что при слове «вчера» или «завтра» вы киваете или взмахиваете рукой.
Давайте я расскажу, что, думается мне, сделают многие из вас. Говоря о прошлом, вы, скорее всего, укажете назад или слегка кивнете на что-то позади себя. Говоря о будущем, вы, скорее всего, руками или головой укажете на точку перед вами. Кажется, вполне обычно. Метафоры, которыми мы живем, воспроизводятся в движении – наши глубинные и принимаемые как данность философские установки воспроизводятся во плоти – буквально (Лакофф, Джонсон 2004; Lakoff&Johnson 1999). За годы культурной жизни мысли неизбежно впитались в наши кости (Grimes 2000), а потому они с неизбежностью проявляются в движениях. Привычное и повседневное поведение заставляет нас думать определенным образом.
И что же? А то, например, что туземные народы с противоположных берегов Тихого океана (из Аотеароа и Чили, если быть точным) говорили мне, что будущее позади нас, а прошлое – перед нами. Стоит задуматься, и это покажется вполне осмысленным (если уже не кажется). Мы знаем прошлое, мы можем остановиться и пересмотреть его, как будто оно распростерлось перед нами подобно широкому горизонту. Будущего мы не видим, как не видим того, что находится за нашей спиной. Скорее, будущее подкрадывается как будто из?за спины, медленно появляясь в поле зрения. Если свыкнуться с этой мыслью, превратив ее в привычку мышления, начинаешь двигаться иначе, говоря о прошлом и будущем. Поэкспериментируйте. Если такой пространственной метафоры о будущем впереди и прошлом позади нет в привычке, наши руки или голова будут двигаться противоположным образом.
В чем цель данного упражнения? Это еще один способ обратить внимание на то, как мы, исследователи, говорим, думаем и движемся, тем самым влияя на то, как мы воспринимаем и переживаем мир. Оно позволяет понаблюдать за нашими привычками, замечать, что другие люди говорят или ведут себя совсем иначе. Все мы, люди, можем употреблять слова «прошлое» и «будущее», но будем делать это по-разному. Мы, ученые, также можем общаться посредством движения, поведения и практик (performing) так, что это мешает пониманию привычек и знаний других. Чтобы понять происходящее «где-то там», нам придется многому разучиться, а не только научиться новым языковым, поведенческим, эмоциональным, ментальным привычкам. Религия – продолжаю настаивать я – остается сокрытой от многих ученых, поскольку ищут они только одно: сложившуюся в раннем модерне европейскую христианскую систему мышления, связи людей в сообщество и исповедания, одним словом – систему веры.
Две пока не решенные проблемы
Поясню, чего я хочу достичь этой книгой. Я пытаюсь решить две взаимосвязанные проблемы. Первая касается определения религии, вторая – того, как нам следует подойти к проблеме определения. Решения обеих проблем взаимосвязаны: чтобы адекватно определить религию, нам следует обстоятельнее заниматься исследованиями, а чтобы изучать религию, нам нужно понимать, что именно мы ищем. Недостаточно просто выйти «куда-то туда» (из кабинетов ученых) и увидеть религию, нам нужно быть «где-то там», а не в рамках принимаемых как данность практик (performative) академических институций, чтобы избавиться от складывавшихся веками интеллектуальных установок. Другими словами, меня спровоцировал призыв Бенсона Сэлера как осознать тот факт, что предпосылки наших научных исследований лежат в поле привычных нам «прототипических примеров религии» (в первую очередь христианства, ислама и иудаизма), так и поэкспериментировать с категориями, которые привычны изучаемым нами людям (Saler 1993:214, 263–264)[9]. Существует, однако, опасность, что мы останемся в ловушке кажущихся знакомыми «прототипов» и не сможем качественно изучать «народные» (folk) категории, заменяющие «религию» (т. е. дхарма, мана, табу, тотем) «в их собственных культурных контекстах», продолжая искажать их, как это, безусловно, происходило с учеными прошлого (Saler 2000:328).
Читая книги, подобно этой, посвященные тому, что же такое религия на самом деле, часто испытываешь потрясение. Вот ты наслаждаешься хорошим текстом о том, как еще можно размышлять от религии, и неожиданно осознаешь, что происходит нечто странное. Иногда это связано с тем, что автор решает высказаться прямо, иногда – наоборот, с тем, что авторы высказываются недостаточно ясно. В любом случае ты осознаешь, что читаешь не о религии, а о том, какой она должна быть по мнению автора. Это скорее теологическая, чем религиоведческая проблема, но многие наши учебники по-прежнему навязывают студентам взгляд, согласно которому религии определяются текстами, провозглашенными людьми религиозными в качестве определяющих и окончательных. (Эту же ошибку с упоением совершают некоторые «новые атеисты», но нас в данном случае это не интересует.) Навязывание идеальной формы отдельной религии, основанной на избранных в качестве наиболее представительных или авторитетных текстах или проповедниках, можно испытать на прочность, вспомнив, что среди таких архитекторов воображаемой реальности были теологи, поддерживавшие испанскую инквизицию или нацистскую идеологию. В любом случае огорчительно обнаруживать в процессе чтения, что речь идет об экспериментальных манифестах или воображаемых системах, а не о религиях, которые можно наблюдать в реальности и которые проживают реальные люди.
Короче говоря, самое время прекратить конструировать теории, не пытаясь при этом ознакомиться с тем, что делают люди. Настало время более предметного разговора о том, что Леонард Примиано (Primiano 1995) назвал «вернакулярной религией»[10]. Примиано отмечает, что, по большому счету, никакой другой религии и не существует, так что, следуя его рекомендации, мы должны говорить просто о религии. «Вернакулярная религия» не отделена границами от религиозных институтов, ритуальных специалистов, виртуозов проповеди (священников, пасторов, шаманов, лекарей, прорицателей, забойщиков скота, колдунов-тохунга и т. д.). Это религия «как она есть», а не «какой она должна быть» – хоть она и включает людей, которые представляют себе и даже провозглашают «как должно быть». Специализированное использование слова «религиозный» применительно к отдельным виртуозам на службе общества в целом (примерами может быть не только отношение католиков к монахам, но и схожее сюке (shukyo) в Японии VIII века, см.: Reader 2004a, 2004b) также не выводит таких людей за границы понятия «вернакулярный» в смысле Примиано. Скорее, оно указывает нам, что в рамках живой религии признается существование таких потребностей, которые наилучшим образом (или исключительно) может удовлетворить эксперт какого-то рода. Поэтому роль «где-то там» в переопределении того, как мы можем сделать подход к изучению религии более эффективным, состоит в стремлении понять, что же представляет собой многообразие поступков и эмоций религиозных людей.
Чем религия отличается от приготовления пищи?
Книга «Секс, еда и незнакомцы» родилась из подозрения о том, что исследования религиоведов имеют место в виртуальной реальности или, возможно, в мире фантазии. Даже когда некоторые исследователи говорят о религиях, как если бы речь шла о том, что делают реальные люди, чаще всего они воображают нечто принципиально иное. Кто-то даже не удостаивает своим вниманием живую религию. Они пишут о том, что говорят религиозные тексты. Они повторяют то, что идеология предписывает делать религиозным людям. Подобные заблуждения легко отложить в сторону. Меня интересует изучение религии, понимаемой как действия, которые люди совершают (perform) в том или ином месте. Места, в которых происходит религия, – части реального мира. Но я убежден, что изучение религии всегда происходило где-то в другой реальности.
Есть ученые, заявляющие, что термин «религия» нельзя использовать в достаточной мере критически. Иными словами, они утверждают, что это слово не обозначает ничего, что можно распознать в качестве какой-то независимой социальной сущности, которая отличалась бы от того, что обычно называется «культурой» или любым другим понятием. Религия, утверждают они, – это не критический термин: слишком неопределенный, с нечеткими границами, нагруженный религиозными смыслами, а потому он не позволяет сказать ничего полезного о человечестве или мире. Я полностью согласен с тем, что религия – как ее часто определяют ученые, – действительно лишь малый фрагмент семантического (минного) поля. Действительно, «религия» в обычном понимании употребляется неправильно по отношению к предположительно религиозным феноменам. Применительно к тем случаям, в рамках которых люди не «верят в бога» и не ограничивают эту веру своим внутренним миром (разумом или душой) и своей приватной, а не публичной или политической жизнью, термин «религия» – как он часто понимается – применяется неверно.
Очевидная ошибка состоит в том, что в рамках модерна, вследствие модерна и ради того, чтобы ему соответствовать, многие религиозные люди, чьи религиозные предки не «верили в частном порядке» или не рассматривали такую формулировку как сколько-нибудь удовлетворительную для определения чего-то значимого и важного, теперь называют себя верующими. Они добиваются права верить и выражать частные, внутренние верования свободно при условии, что такие выражения не противоречат законам и не вредят другим. На самом деле многие из них не слишком переживают по поводу закона или возможного вреда другим: они просто отстаивают свое право. Впрочем, суть в том, что такая перемена является частью предмета нашего религиоведческого исследования. Но, безусловно, не лучшая идея использовать такое новое, глобализированное, но при этом очевидно раннемодерновое европейское христианское определение религии для очерчивания предмета целой науки религиоведения.
Скорее, ученым следует не столько отбрасывать данные, которые как будто подпадают под зонтичный термин «религия» (например, постулирование трансцендентного), сколько покинуть мир фантазий и начать заново «где-то там», в реальном мире. Коллеги, изучающие питание, мне думается, не должны практиковать epoche или избегать готовки или приемов пищи. Любопытно, как модерновый конструкт религии делает из нее какого-то неприступного жуткого монстра. Ошибочно принимать религию за систему верований – вот что породило боязнь того, что наша рациональность может быть повреждена, как будто заражена допущениями. По счастью, сосредотачивая фокус на повседневной религии как деятельностной (performative) и материальной практике, мы не только обогащаем понимание религиозной жизни, но и значительно более преуспеваем в качестве исследователей и преподавателей. В следующих четырех главах я обосную эти утверждения и предложу пространства для более эффективного исследования.
Краткий обзор содержания
В главе 2 я приведу – в несколько произвольном порядке, но, надеюсь, в достаточной степени увлекательно – некоторые данные для иллюстрации того, что может значить «религия». Я постараюсь показать, что некоторые из этих данных идут вразрез с достаточно частым определением религии как «веры в бога». В этой книге я постараюсь вплотную подойти к определению «религии», которое в большей степени соответствует тому, что делают люди, когда практикуют религию. Пока же мы все еще слишком сосредоточены на основателях, текстах и идеологических фантазиях о том, какими религии должны быть.
В главе 3 я, напротив, утверждаю, что христианство – это не религия, поскольку альтернатива состоит в том, что это единственная религия. Я не буду повторять тезис, согласно которому «вера – христианская категория», во многом потому, что его уже утверждали неоднократно. Скорее, мне важно, что наша дисциплина по-прежнему чересчур сосредоточена на процессах, почти полностью являющихся продуктами реформированного христианства и процесса формирования модерновых государств. Впрочем, и это ранее утверждали многие и многие исследователи.
В главе 4 я покажу, что иные попытки определить религию не в полной мере преодолевают силу притяжения христианской и модерновой сосредоточенности на вере, трансцендентности, духовности, внутренних свойствах личности и т. п. Скорее, в этих попытках преобладает тенденция заменять слова «вера в бога» на другие, едва ли соответствующие куда более радикальным намерениям авторов. В значительной степени сложность в противостоянии стандартной модели нашей дисциплины (определение религии через веру) связана с формообразующей ролью, которую христианство (в особенности в своих наивысших, элитарных формах текста и проповеди) сыграло в риторике и ритуалах модерна, рационализме Реформации и версиях секуляризма, вдохновленных нациестроительством.
Отсюда, в главе 5 я описываю реальный мир, в котором имеют место, практикуются (are performed), воплощаются, задействуются и материализуются религии и, что еще более важно, религиоведение. Если религиоведы являются не трезвыми мыслителями (в чем нас всегда убеждали), которые противостоят вдохновенным верующим, но вполне телесными исполнителями внимательных отношений, мы сможем добиться более глубокого понимания и эффективного анализа практики религии в реальном мире.
Следующие четыре главы посвящены вопросам, придающим оформленность моему пониманию религии. Глава 6 связана с моими исследованиями среди маори и их родственников в Океании. Она начинается с утверждения Те Пакака Тауваи о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается… совершение насилия безнаказанно» (Te Pakaka Tawhai [1988] 2002:244), и продолжается указанием на то, что мы извлекли далеко не все из применения полинезийского слова «табу» в качестве научного термина. В главе 7 я следую за Ирвингом Хэллоуэллом, Кеном Моррисоном и другими учеными, исследовавшими анишинаабе и родственные им народы. В частности, но не исключительно, эта глава посвящена анимизму (повсеместным межвидовым взаимодействиям) и тотемизму, который входит в круг анимизма в качестве элемента, предполагающего более тесные межвидовые связи. В главе 8 я сосредоточился на отдельных аспектах анимизма, следуя анализу «анимистического материализма» Гарри Гаруба в Западной Африке и анализируя те способы, которыми люди связывают себя с создаваемыми ими предметами (иногда называемыми «фетиши»), и с существами, «овладевающими» ими. В главе 9 я делаю выводы из практики паломничества у иудеев-ультраортодоксов, включающей намеренную попытку контакта (физического и некоторых других) с давно умершим ребе. Это приводит меня к пересмотру классических научных трудов о чистоте, границах, трансгрессии и освящении. Я прихожу к выводу (довольно привычному для иудеев и исследователей иудаизма), что эта религия не сфокусирована на устремлении к божеству или служении ему. А если иудаизм нельзя определить как «веру в бога», то почему любая другая религия должна определяться таким образом?
Следующие за этими главами, в которых локально значимые действия, термины и знания рассматриваются в контексте их важности для нового определения религии, две главы расширяют поле дискуссии. Глава 10 описывает то, каким именно образом исследование новой религии, язычества в том виде, в каком оно складывается в модерне, подвергает сомнению сложившиеся знания о модерне и религии. Синкретизм, гибридность, смешение рассматриваются в контексте постулируемого расколдовывания, интеллектуализации и рационализма модерна. Намеренное продолжающееся изобретение традиции, которая отчасти и, вероятно, лишь до определенных пределов противостоит проекту модерна, сглаживая его мнимые противоречия (например, рационализм и сосредоточенность на опыте), указывает на недостатки привычных способов теоретического осмысления религии.
В главе 11, обогатившись исследованием «где-то еще», я вновь обращаюсь к христианству. Если его рассматривать как живую реальность, т. е. в контексте, в рамках которого внимание следует уделять вернакулярным действиям и риторике «обычных» людей, христианство предстает совсем не похожим на «вероучение». Вместо экспорта лейтмотивов христианской теологии (вера, трансцендентное, основатели, тексты и символы веры) и тем самым усиления идеи «мировых религий» я постараюсь показать табу, взаимосвязанность, материальность и неукоснительное соблюдение обычаев в жизни христиан.
Глава 12 сводит результаты всех разделов воедино и имеет предметом ценность переопределения религии – и академических к ней подходов – как повседневной практики (performed everyday), часто растворенной в социальной и личной жизни.
При написании этих глав меня удивляло то, что я стал пересматривать общепринятые понятия. Я не планировал обсуждать табу, мана, тотемизм, фетишизм, синкретизм, чистоту, перезаколдовывание (re-enchantment) и другие термины, которые были частью технического инструментария религиоведов и культурологов с XIX века, если не раньше. Я не буду детально обсуждать все высказывания теоретиков религии прошлого и современности. Сложный труд диалога с академическими предками по вопросу понимания религии великолепно и убедительно взял на себя Мануэль Васкес (Vasquez 2011). Его книгу должен прочитать всякий, кто захочет понять, как использовать наработки предшествующих теорий для того, чтобы сформулировать более эффективное определение религии, которое учитывало бы ее деятельностные (performance), телесные, пространственные, связанные с жизнью на Земле аспекты. В последующих главах я писал об этих принимаемых и оспариваемых терминах только потому, что они используются по отношению к людям, у которых мне повезло учиться. В процессе работы я понял, что некоторые исследователи религии и культуры неправильно понимали тех людей, в культурах которых эти слова (или их смыслы) возникли. Это неудивительно, поскольку ритм, заданный христианской реформацией и государственностью раннего модерна, был таким громким, что тихие мелодии «откуда-то еще» были едва ли уловимы. Я тоже испытывал подобные трудности, но этой книгой попытался начать слушать более внимательно.
Глава 2 Практика религии где-то там
В сообществах маори нгати-иэпохату, происходящих из окрестностей Руаториа (в Аотеароа), по словам Те Пакака Тауваи, «целью религиозной деятельности… оказывается ‹…› совершение насилия безнаказанно» (Te Pakaka Tawhai [1988] 2002:244). Тауваи приводит речи о делах и свойствах божеств и предков, но, говоря о «религии маори», слово «вера» он использует лишь единожды. Также он всего-навсего упоминает понятие «миф», столь же мало подходящее для обозначения «древних объяснений» мира его народом, объяснений, которые гибко, но настойчиво (performatively) определяют направление споров, приводящих к разрешению вопросов, актуальных сегодня. Вместо того чтобы представлять религию связью с трансцендентным, Тауваи описывает мир, в котором религиозная деятельность имеет место тогда, когда люди рубят деревья и выкапывают кумару (сладкий картофель). Такие акты интимного насилия или насильственной близости просто необходимы для того, чтобы строить дома и готовить пищу, чтобы приютить и накормить гостей. В свою очередь, эти действия являются продолжением процесса эволюции и происхождения людей. Но мы забегаем вперед: глава 6 будет посвящена религиозной деятельности маори и других народов Океании, а также почерпнутым из них техническим терминам, без которых едва ли возможно представить серьезное исследование важнейших социальных процессов, имеющих место в других культурах.
В этой главе я обращаюсь к материалу – факты о религии (религиях), – осмысление которого должно нам помочь предложить такое определение «религии», которое учитывало бы реальную жизнь реальных людей. Часть этих фактов самоочевидна и широко известна, часть – самоочевидна, но при этом нередко упускаются из виду не только солидными академическими теориями, но и элементарными описаниями религии. Большая часть этих фактов не подпадает под стандартную парадигму религии как «веры в бога», «нерациональных утверждений» или откровенно иррациональных выдумок. Даже коллеги, которые отказываются определять религию через «веру в бога», порой продолжают при этом ошибочно интерпретировать религиозную жизнь и деятельность как «выражение религиозной веры» или «воплощение постулируемых идей». Им не удается избежать соблазна стандартизировать живую реальность по лекалам определенной модели. Следовательно, наша ориентированность на сведения о живой религии (которые будут подробнее изложены ниже) имеет целью предложить такой взгляд на вещи, который должен учитываться любым работающим определением «религии».
Мой тезис, повторюсь, состоит не в том, что ученые должны всегда соглашаться с религиозными людьми, но лишь в том, что слишком часто теории религии (или очевидные их фрагменты – теории ритуалов, мифов, социальных институтов, индивидуального опыта и т. п.) применимы к неким идеальным формам религии, а не к живой реальности. Пришло время теорий, которые имеют предметом и объясняют религии реального мира – и я в данном случае вовсе не имею в виду «мировые религии» (world religions), т. е. ключевой компонент критикуемой парадигмы. Если мы не объясняем религию такой, какой люди проживают ее в реальном мире, мы можем лишь вступить в сговор с идеологами и проповедниками, которые воображают, будто бы некая чистая форма их собственной религиозной традиции (и, возможно, других традиций) существовала в прошлом или, возможно, восторжествует в будущем. Постулирование совершенных форм религиозного действа, общины, верности религиозной традиции и т. п. – те аспекты религии, которые, помимо прочего, подлежат исследованию, они не определяют религию, а представляют собой элементы религиозной практики (performance). Мы должны обратиться к религии такой, какой она наблюдается, какой она проживается, к религии как глаголу («Religioning», Nye 2004:8) в реальном мире. Религия для нас должна означать действия и жизнь религиозных людей (religionists)[11], (включая и результаты их воображения).
Практика религии от Апулея до зуни
Начнем с описаний как будто бы религиозных неудач и отметим, почти случайным образом, другие примеры, важные для нашего исследования. Кен Доуден приводит сделанное Апулеем «уничижительное описание нечестия (impiety) его оппонента Эмилиана в суде» (Dowden 2000:65) в 158 году н. э.:
Он вплоть до этого самого времени не молился никаким богам и не посещал никаких храмов. Проходя мимо какой-нибудь святыни (fanum), он считает грехом поднести руку к губам в знак почтения. Даже деревенским богам, которые его кормят и одевают, он вовсе не уделяет первин от своей жатвы, виноградника или стада. В его поместии нет ни одного святилища (delubrum), ни одного посвященного богам места или рощи. Да что говорить о роще и святилище?! Те, кто бывали в его владениях, говорят, что не видели там даже камня, умащенного маслом, или ветви, украшенной гирляндой (Апулей 1956:57–58).
Благочестие (piety), согласно Апулею, означает уважительное поведение по отношению к святыням, камням и деревьям, а также принесение жертв божествам в знак признательности за пищу и одежду. Принятый в отдельной местности этикет, связанный с демонстрацией уважения, подразумевает как минимум, что человек, проходя мимо святилища, целует пальцы, умащивает камни и вешает на ветвях деревьев венки. Подобное проявление благочестия можно наблюдать и в обычном поведении людей, проходящих мимо почитаемых мест, во множестве религий. Так, православные в Бухаресте (Румыния) часто крестятся, проходя мимо церкви по дороге в магазин. Традиционалисты хотя бы немного склонят свои головы перед Эшу, проходя мимо его дома в Ибадане (Нигерия). Когда вполне светские французские мужчины-туристы снимают головные уборы, посещая развалины аббатства Клюни, мы видим историческое влияние религии на поведенческие стереотипы.
Иногда люди считают, что это другим людям требуются инструкции или информация о правильном поведении. Религия, кажется, не может быть предметом индивидуального выбора, здравого смысла или личных предпочтений. В Иерусалиме около 1980 года неподалеку от ворот Яффы была неиспользуемая синагога (сейчас она разобрана). На иврите (и только на иврите, хотя в то время большинство надписей были на арабском и английском) было написано «Святое место. Мочиться запрещается». Можно подумать, что слов «Святое место» было бы достаточно, но тем не менее наличие эксплицитного указания говорит само за себя. На это и похож, и не похож другой пример: в 1990?е годы список категорий родственников, между которыми запрещен брак (официально именуемый «Таблицей родства и свойствa», которая входила в «Книгу общих молитв» Церкви Англии), вывешенный на внутренней стороне двери церкви в Литтл Симборн в Хэмпшире, Великобритания, судя по всему, должны были видеть те, кто собирается в этой церкви в тех редких случаях, когда там происходят службы. Каким бы ни было значение этих текстов, они очевидно указывают на то, что одних верований и духовного умонастроения (attitude) недостаточно, что они, вполне возможно, даже не являются центральными, а вот телесность и межличностные отношения имеют религиозное значение.
На территории отеля в Вайкики (Гавайи) стоит статуя принцессы Бернис Паухи Бишоп (1834–1881), читающей книгу маленькой девочке, сидящей рядом с ней на скамейке. Эта статуя знаменует значительный вклад принцессы в образование коренных гавайцев. Надпись на статуе гласит: «КАПУ. Мы признательны за уважение к статуе принцессы Бернис Паухи Бишоп и традиционному гавайскому саду. Пожалуйста, не подходите близко к клумбам, статуе и фонтану. Махало!» Капу – это гавайский диалектный вариант полинезийского слова «табу», которое вошло в различные европейские языки для описания некоего странного поведения. (Значение этого слова подробно обсуждается в главе 6 и существенно важно для предлагаемого нами определения религии.) Как и другие публичные памятники на Гавайях, бронзовые фигуры принцессы и девочки украшены леис (leis), сделанным из ярких цветов. То есть помимо избегания принято выражать уважение к этим статуям посредством украшения.
Это также побуждает нас к обобщению: нечто в событиях религиозной жизни, судя по всему, всегда требует особых одежды и/или аксессуаров, которые люди считают подходящими. Кому-то и в каких-то ситуациях необходимо полностью скрывать тело – чтобы не было видно чувственных, плотских форм или даже участков кожи. Другие ситуации подразумевают полную обнаженность. Ни одна из этих крайностей, конечно, не является безусловной и абсолютной. В книге Эммы Тарло (Tarlo 2010) приведено множество свидетельств того, как британские – и не только британские – мусульмане ищут компромисс между скромностью и модой, между благочестием и украшениями, в рамках которого головные платки (в частности) могут не только свидетельствовать о скромности и благочестии, но оказываются и модным, красивым аксессуаром (Yasin 2010). А Марко Вейссон в работе «Обряды вдовства в северо-восточной Гане» (Veisson 2011) отмечает изменение в ходе похоронных обрядов ожиданий, связанных с обнаженностью, которое драматически влияет на статус и положение вдов. Другой пример: ожесточенные споры об использовании буддийских изображений на женских купальниках – несмотря на подчеркнутый эротизм по крайней мере части буддийской иконографии и статуй (Shields 2000).
Для практики религии важны не только демонстрация или сокрытие тела. Повсеместно также встречаются различные способы модификации тела. Обрезание, калечащие операции на женских половых органах, татуировки, стрижка или отращивание волос, анорексия, самоистязание, пирсинг, боевые искусства, режимы питания – все это так или иначе показывает, что человеческие тела несовершенны, а потому требуют намеренного изменения и придания завершенного вида; или же демонстрируют, что тела, в особенности женские, по какой-то причине не соответствуют религиозной практике или религиозным целям в должной мере. Уже эти примеры сводят на нет противопоставление «природа – культура», ведь тела редко воспринимаются как исключительно «природные», а их модификация также не считается чем-то исключительно «культурным». Тела растут и конструируются. Даже (естественно) обнаженное обрезанное тело может восприниматься как (культурно) одетое (Eilberg-Schwartz 1994:171). Подобно этому иногда люди с татуировками утверждают, что они «никогда не бывают обнаженными». В этом сложном мире противопоставления такого рода постоянно оспариваются самой жизнью, идеологией, близостью и воображением.
Важно, что эти практики получают разнообразные и противоречивые объяснения. Например, средневековые христианки, морившие себя голодом, вероятно, не презирали свои тела и не стремились наказать себя за свою женскую природу. Их логика предполагала обратное: возможно, именно любимое тело оказывалось достойным жертвы. Как указывает Джон Левенсон (Levenson 1993), анализируя логику жертвоприношения – действительного или символического – детей как в культурах Древнего Средиземноморья, так и в наследующих им, «жертвы» обладают ценностью именно потому, что они важнее всего, они всегда «возлюбленные». Каролин Уокер Байнам утверждает, что в Средневековье самоистязания женщин, в том числе голодом, были способом соединиться со «страдающей телесностью Христа» (Bynum 1987:243). Монашеские элиты использовали другие «технологии себя» (Фуко 2008:72), с помощью которых они могли тренировать воплощенную самость, дабы стать тем, что они полагали идеалом (Asad 1993:134). Такие техники включали в себя самоограничение, пищевые запреты, но также нередко структурирование времени и контроль за его использованием, различные виды деятельности, созерцательные и трудовые, предполагающие определенные позы и энергопотребление. Монашеские и аскетические практики многих религий могут расширить ряд примеров, связанных с модификацией тел, соответствующих поз и движений. Эти примеры также побуждают к размышлению над категориями центра и периферии [религиозной традиции], нормы и эксцентричности, элитарных и низовых практик, а также над другими различиями, которые, вновь, в реальной жизни всегда значительно сложнее.
Возможно, эти примеры экстремальны. Стоит отметить, что примеры выступлений против конкретной телесной модификации также изобилуют в религиях. Те, кто практикует обрезание, возможно, не приемлют татуировки, или наоборот. В том же духе, повсеместно распространено утверждение, что «природные» тела (что только в редких случаях означает обнаженность или отсутствие какого-то специального ухода) достойны уважения. Не один мусульманин говорил мне, что, хотя всем мусульманам предписано при наличии возможности совершить паломничество в Мекку, есть более обыденные признаки «хорошего мусульманина». Все они использовали один пример: мусульман, которые носят правильные мусульманские усы, гораздо больше, чем мусульман, намеренных стать hajjis (совершивших паломничество). Этот пример приводился не в качестве осуждения (ни себя, ни других), но, скорее, как указание на то, что, хотя великие дела важны, в таких повседневных вопросах, как скромность, гигиена и культурная норма, люди истинным образом подражают пророку. Тем самым исследование религии должно обращать внимание на тела, позы, движения, одежду, украшения (или их отсутствие), диету и все то, посредством чего люди потребляют, ограничивают или выставляют себя напоказ.
Несмотря на то что ученые используют специальные термины или теоретические понятия, под которые, как будто, подпадает деятельность, характерная для множества религий, есть существенное различие между формой, функцией, структурой, декларируемыми целями и желаемыми результатами тех действий, которые подпадают, например, под категорию «паломничество». Значительное различие может иметь место и между тем, как паломничество представляют их организаторы или координаторы, и тем, что от паломничества ждут «обычные» участники. Так, кроме важных моментов «отъезд, перемещение, прибытие и возвращение» или «обхода» вокруг некоторого числа важных территорий (Pye 2010), паломников в Акко, Мешхеде, Мелмаруватуре, Ошогбо, Сантьяго де Компостела, Умани, Вашимия[12] и других местах едва ли что-то связывает. А если мы будем иметь в виду еще и виртуальные паломничества (множество которых доступно в виртуальной реальности, в некоторых случаях копирующей места из реального мира), возможностей для наблюдения и вызов для интерпретации станет еще больше.
Вот несколько сходств и различий, которые приходят мне на ум: одни паломники путешествуют, чтобы почтить божество, другие – чтобы стать божественными самим, кто-то стремится воспроизвести (re-enact) события древности, а некоторые – повторить действия вымышленных персонажей аниме и манги; одни – почтить бессмертных, другие – одолеть смертельные болезни; кто-то – укрепить свою связь с религией, кто-то еще – оздоровить тело; кто-то хочет пожертвовать свои богатства, кто-то мечтает их приобрести; кто-то стремится влиться в элиту, другой ищет свой собственный путь; один хочет приблизиться к вечности, другой – улучшить свою жизнь в этом мире. И это лишь некоторые возможности. Различные оценки гендера, телесности, здоровья, финансового благополучия, общинного единства, социальной и физической мобильности и многого другого – все это образует комплекс, реализуется в практике, обрастает плотью. В данном случае принципиально важно не возводить непреодолимых границ между терминами «паломничество» и/или «религия», исключавших бы какие-то намерения тех людей, которых к путешествиям побуждает религия. И официальное воображение, и вернакулярное исполнение (performance) в равной степени являются предметом для исследования.
Уильям Ляфлёр открывает свое эссе следующим пассажем: «Уже тот факт, что „тело“ становится одним из базовых терминов религиоведения, в то время как „мистицизм“, к примеру, в значительной степени выпадает из обихода, свидетельствует о серьезных изменениях в том, как мы изучаем религию. Двадцать или тридцать лет назад ситуация была обратная» (LaFleur 1998:36). Истина, конечно, немного сложнее. В недавней коллективной монографии о Каббале (которую словари определяют как «иудейский мистицизм») слово «мистицизм» используется в названии лишь двух глав (Huss 2011). И в названиях других глав этому слову авторы предпочитают «духовность». В любом случае действия и/или деятельность, обозначаемые как «духовность» или «мистицизм», часто являются совершенно телесными. Например, в описании Цви Марком «современного возрождения бреславского хасидизма: ритуал, тиккун и мессианизм» (Mark 2011), мы читаем про граффити, пение, стиль одежды и конфликты вокруг родословной. Однако для людей, о которых идет речь, именно это и есть духовность или мистицизм; читая об этих явлениях, мы имеем дело – на уровне описания, а не в результате редукции – с духовной мистикой (spiritual mystics). Мы узнаем, что именно люди (а не ученые-скептики) склоны считать – словом и делом – духовностью. Так, в ходе массовых ежегодных паломничеств в Умань (Украина) бреславские хасиды посещают могилу ребе, читают десять псалмов и жертвуют на благотворительность. Это их форма соучастия и стремления к Тиккун а-Клали, «Всеобщему исправлению». В центре этого тиккун (исправления) – искупление серьезного греха недозволенного излития семени (в частности, ночных поллюций). В это же время взгляд человека может «обратиться к добру, а не просто отвратиться от зла» (Ibid 111) во всех областях жизни. Не случайно, что паломничество происходит во время Рош ха-Шана, иудейского Нового года, когда мир создается заново. Итак, изучение мистицизма, ритуала, мифа и календаря – т. е. явлений, которые часто перечисляются в качестве наиболее существенных элементов, определяющих религию, – возможно исключительно в связи с исследованием очевидно земных проявлений телесности.
Васудха Нараянан на вопрос о ее мнении по поводу учебников, посвященных религиозным традициям Индии, ответила «c некоторой заминкой ‹…› что ни один из них не освещает некоторые важные черты этой традиции» (Narayanan 2000:761). На вопрос о том, что именно обычно упускается из виду, она ответила:
Пища, – сказала я и продолжила: – Бабушка на праздники всегда готовила особую чечевицу. Благоприятную. Мы готовим одни овощи и бобы по счастливым и радостным поводам в праздничные дни, и другие в неблагоприятные дни (inauspicious), дни поминовения предков и похорон. И ни одна из книг не упоминает благоприятные и неблагоприятные времена (Ibid).
Ситуация не сильно изменилась. В статье Нараянан предлагает обширный круг элементов религиозных традиций Индии, которые «подкрепляются ‹…› уходят в прошлое ‹…› подвергаются сомнению ‹…› испытывают подъем ‹…› [и], что важнее всего, передаются от поколения к поколению» (Ibid 776) всей жизнью и практикой (performing) жителей Индии. И хотя многие исследования отдельных религий упоминают «праздники» и «неблагоприятные церемонии», с ними редко связываются еда и бабушки. Ни Нараянан, ни я не утверждаем, что академическое и религиозное описания [практик], академическое и религиозное определения религии или отдельных религий должны быть тождественны. Однако академические описания по меньшей мере должны иметь в виду то, что люди делают и как они живут. Задать такой базовый уровень нашей работы, предшествующий категоризации, анализу и теоретизированию, жизненно необходимо, в противном случае мы не будем иметь дела с изучаемой религией и дискредитируем само понятие нашей научной дисциплины, «религиоведения» или «изучения религии(й)».
Подобно тому как еда и питье не являются существенной частью наших теоретических рассуждений о религии, не является ею и уборка. Когда я со студентами посещал Греческую православную церковь на юге Англии, монахиня, которая обычно была нашим проводником (пока однажды ее не сменил священник, заподозривший, вероятно, что мы услышим от нее нечто неподобающее), очень радовалась тому, что мы счищали всю грязь с ботинок, прежде чем зайти в церковь. Конечно, это вопрос практический и таким образом мы проявляли уважение к хозяевам, которые, в конце концов, мыли этот пол. Однако, когда мы оказались в самой важной части церкви подле алтаря (привилегированного сакрального пространства), монахиня радостно объявила, что «за иконостас могут заходить только мужчины, только священники… но поскольку я должна делать там уборку, я тоже прохожу туда, так что могу вам сказать, что происходит в алтаре». Я предполагаю, что в монастырях Афона или в Мар Саба, в которых женщинам нельзя даже заходить на территорию, ситуация отличается. Однако нотка бунтарства у этой монахини сочеталась с глубоким почтением к своей традиции и священному пространству. Уборка была частью ее религиозного служения и обязанностей.
Что нам делать с утверждениями приверженцев разных – если не всех – религий, что каждая сторона жизни суть часть религии? Если это так, разумеется, то, как накрывают стол или моют посуду после еды, оказывается важным. Если нам нужно учитывать приготовления к ритуалам, если многие ритуалы предполагают пир или пост, то определения религии не могут исключать такие приготовления и последующую уборку. Действительно, мы можем заключить, что уборка определенно является ритуалом или религией, а не просто предваряющим или завершающим их этапом. Поэтому нас может заинтересовать не только samu, «(ритуальный) труд» уборки опавших листьев в дзен-буддистских храмах (Reader 1995), но и обычная работа по дому, наведение порядка, в которой может корениться религия, придавая смысл повседневной жизни.
Иэн Ридер в этом же ключе отмечает, что
домохозяйки, подметая двор, в отличие от членов новых религиозных движений ‹…› не участвуют в эксплицитно религиозной деятельности. Тем не менее, они совершают действия, обладающие отчетливо ритуализованным (и, добавлю, имплицитно религиозным) содержанием, смысл и сущность которых очевидно находятся за пределами простого акта уборки (Reader 1995:227).
Ридер подтверждает, что и подметание храма, и подметание дома оказываются значимыми элементами в деле оформления мира и установления порядка:
Разумеется, [уборка] предполагает не только удаление нечистого, поскольку, как убедительно продемонстрировала Мэри Дуглас (2000), деление на чистое и нечистое само оказывается делом большого культурного и ритуального значения. Следовательно, уборка сама по себе изначально связана с идеями восстановления или установления порядка в окружающем мире. Она, тем самым, свидетельствует о заботах и потребностях того социального окружения, в котором происходит (Reader 1995:227).
Пример религиозного поощрения (обыденного) подметания представляет собой буддистское наставление, в соответствии с которым «что бы мы ни делали, это следует делать аккуратно, с правильными мыслями. Мы можем учиться, готовить, подметать пол ‹…› чем бы мы ни занимались, мы можем стараться делать это в ясном сознании (clear mind)» (Sangharakshita 1998:133). Хорошо бы увидеть параллели этой мысли в других религиях. Подметание и уборка, возможно, могут стать частью определений религии, даже когда они совершаются вне храмов теми, кто утверждает, что «вся жизнь» – это «религиозная жизнь», без остатка и исключений.
Тому, чтобы принять этот ход размышлений, как будто препятствует тот факт, что религии часто подразумевают труд экспертов. По крайней мере некоторые аспекты практики религии являются исключительно вотчиной священнослужителей, шаманов, тохунга, предсказателей, пасторов, жрецов, целителей, теологов и прочих обученных и/или инициированных учителей и знатоков ритуала (ritualists). В исключительных контекстах религия вообще может быть областью деятельности лишь экспертов. Так, понятия «религиозное» и его японский аналог, shukyo, по крайней мере иногда используются как технические термины для обозначения посвященных представителей власти, в противоположность «обычным», «простым» людям (Reader 2004a, 2004b). У амазонских хиваро все, в том числе маленькие дети, имеют возможность или поощряются участвовать в том, что мы называли бы шаманской практикой, – употреблять растения, вызывающие видения, позволяющие предвидеть будущее, а также, что не менее важно, нормы правильного, достойного и здорового совместного существования (Rubenstein 2012). А сибирские шаманы «назначены своей общиной» представлять ее в переговорах с нечеловеческими существами разного рода (Hamayon 2013, см. также: Pentikainen 2009); схожая виртуозность предполагается в культурах Монголии (Humphrey&Onon 1996), Кореи (Kim 2003) и, вероятно, амазонских марубо (Werlang 2001). Подобное противопоставление между тем, что позволено делать всем, и тем, что могут делать только эксперты, наблюдается во многих культурах и в разной степени.
Грейс Дэйви описывает похожую ситуацию, вводя понятие «замещающая» или «викарная религия» (vicarious religion) (Davie 2002:46), которая определяется как «религия, исполняемая (performed) меньшинством от лица большинства, которое (по крайней мере имплицитно) явно одобряет действия меньшинства» (Davie 2007:22). Несмотря на возражения Стива Брюса и Дэвида Воаса по поводу того, что «хотя викарная религия, безусловно, существует ‹…› она, видимо, является скорее исключением в современном мире» (Bruce&Voas 2010:245), я подозреваю, что термин можно весьма успешно заимствовать и эффективно применять к гораздо более широкому кругу явлений. Дэйви прямо утверждает (и подтверждает это в своем ответе Брюсу и Воасу в 2010 году), что она стремилась описать европейский феномен, существовавший в определенное время: намеренное сохранение людьми принадлежности к религиозным институтам, несмотря на их неучастие в религиозных практиках и несмотря на признаваемую ими собственную секулярность.
Так или иначе, кажется возможным отнести большую часть религиозных церемоний к викарным, т. е. таким, которые осуществляются меньшинством от лица пассивного большинства. Примеров этому немало: литургия у православных христиан, совершаемая за иконостасом только клириками, таинства, вершимые священниками, повернувшимися спиной к пастве; уход в транс тех, кто желает быть «оседлан» божеством или духом предков; участие в герметических мистериях или претерпевание лишений на благо или во имя просветления многих; осторожное обращение к гневающимся из?за чьих-то проступков предкам или «хозяевам животных» для их умиротворения – все это примеры того, как меньшинство выполняет религиозные действия от лица большинства.
В других местах и действиях религия тоже может быть или становится заметной. Описывая каббалистические ритуалы, Марк отмечает, что «даже в кратком путешествии по стране [Израилю] нельзя не заметить присутствие бреславских хасидов: граффити с мантрой „Na, Nah, Nahma, Nahman me-Uman“, мужчин в особых вязаных белых хлопковых ермолках, фургоны, вокруг которых радостно пляшут хасиды» (Mark 2001:101).
Воображаемый путешественник, описываемый Марком, подобен тем инопланетянам, для которых я прошу студентов придумать примеры того, что входит в категорию «религия». Какие вещи или действия нужно им показать, чтобы расширить их понимание? Граффити, скульптуры, здания, в которых собираются группы, – все это хорошие примеры для обсуждения. Иногда и названия улиц могут кое-что рассказать о религии. Иногда это окаменелости давно исчезнувших религий, как едва ли не все названия, отсылающие к священным источникам (holy wells) в Британии. В других случаях организация городов и деревень вокруг «церковной улицы» указывает на нечто заслуживающее внимания из области «священной географии». Пример серьезнее: в Нигерии хозяева многих магазинов открыто заявляют о своей принадлежности к той или иной религии: булочная «Святое семейство» или фотомагазин «Бог велик[13]». Исследование названий может подтвердить известный факт, что население Нигерии на 50 процентов состоит из мусульман, на 40 из христиан и на 10 из приверженцев традиционных верований. А вот исследование служебных помещений этих магазинов (на предмет наличия там «традиционных» амулетов или других изображений божеств orisha), несмотря на исламские или христианские отсылки на вывеске, может подтвердить факт, что в Нигерии 50 процентов мусульман, 40 процентов христиан и 90 процентов приверженцев традиционных верований.
Если иметь в виду всю ту религиозную практику, что имеет место вне религиозных зданий, то что же происходит в них? Все ли, что происходит в таких зданиях, религиозно? Иногда я спрашиваю студентов, как они ответят воображаемым наивным марсианам на вопрос, являются ли глоток вина во время Евхаристии и глоток чая или кофе в здании церкви одинаково показательными для «религии»? Конечно, есть различия в практике (performative differences): разумеется, вина пьется совсем немного, а у кофе и чая, скорее всего, стимулирующий эффект будет ощутимее. Действия эти будут производиться в разных частях здания (или комплекса построек). Вино, скорее всего, будет в руках у человека в гораздо более замысловатом одеянии; в каких-то церквях чай и кофе будут скорее наливать женщины, а вино – исключительно мужчины.
Тем не менее даже нередукционная интерпретация этих актов потребления (не сводящая их к действию, в котором общество просто выражает или конструирует само себя [если не в этом вообще суть всякой религии]) демонстрирует, говоря на языке христианской теологии, что и вино, и чай или кофе питают и объединяют общинное «тело Христово». Являются ли чай или кофе также подлинно евхаристическими? Насколько я знаю, есть христианские церкви, в которых вино, чай и/или кофе под запретом. В этом случае мой вопрос относится к виноградному соку или воде.
В подобном ключе можно рассмотреть также смысл и воздействие составления букетов и проповедей в практиках, связанных с церковью. Они могут пониматься как проявление чувств, чествование, выражение любви к дорогим людям или как усилия по объединению конгрегации и, вероятно, еще во множестве смыслов. Проповедь, как может показаться, более очевидно соответствует смыслу и назначению религиозных зданий, но причиной этому доминирование официальных и элитарных представлений. Возможно, столько же людей будет комментировать цветочные композиции, сколько и обсуждать содержание проповеди. Возможно, цветы даже важнее для общины, чем проповеди. Нередко исследователи слышат от собеседников: «О, да мы не слушаем, что там викарий проповедует, мы не для этого в церкви», но, что важно, они будут считать себя обманутыми, если викарий не станет произносить проповедь. То есть и проповедь, и цветы воспринимаются в этих социальных группах как элементы ритуальной жизни, а если они являются ритуалами или ритуализированными действиями, они могут существенно обогатить наши размышления о том, где следует искать и как теоретически осмысливать религию.
Другим любимым упражнением для моих студентов стал поиск любых отсылок к «религии» в газетах. Результаты бывают удивительными. Если бы они были единственным источником информации, газеты могли бы создать впечатление, что религии далеко не всегда имеют отношение к вере, благу, единению общины, ожиданию вечности или воспеванию сострадания; напротив, они скорее разделяют людей, играют на предрассудках, полны лицемерия и попросту опасны. Например, в то время как англикане (епископальные христиане) участвуют в «межрелигиозном диалоге», основанном на представлении, согласно которому «люди веры» могут принести пользу обществу, если будут сотрудничать, для медиа значительно важнее расколы по вопросам гомосексуальности и гендера. С начала нового тысячелетия, если не раньше, «единство» рассыпалось – по крайней мере если верить медиа – вследствие различных позиций по поводу гомосексуального и женского священства.
В последнее время даже возможность рукоположения женщин-епископов вызывала крайнее недовольство. Некоторые христиане принимают существование священников-гомосексуалов, если они практикуют целибат. Другие в это же время официально требуют, чтобы христианские группы были выведены из-под области применения прав человека. Тем самым утверждается, что они просят разрешения быть нетерпимыми и на словах, и на деле. «Брак», как нам часто говорят, по определению возможен лишь для гетеросексуалов, и мы должны поверить в то, что документы, освящающие это определение, уникальное в истории человечества, не могут изменяться (что маловероятно).
Мировые СМИ пишут о Римской католической церкви обычно по поводу либо заявлений папы о контрацепции, либо сексуальных скандалов, в которые вовлечены священники. Опять же, создается впечатление о том, что религия прямо-таки сфокусирована на сексуальности и гендере. Имея в виду то, как теологи представляют и укрепляют образ христианства, квинтэссенцией которого является вера, Том Бодуан указывает, что «теологи рискуют впасть в декаданс, если их работа не будет соотноситься со скандалами, насилием и властью, а также сопутствующим этому переопределением религиозной практики» (Beadoin 2012:242), намекая на «физически-духовное насилие по отношению к тысячам юных душ за последние десятки лет» (Ibid 236).
В 2011 году в кенийских газетах (да и в СМИ по всему миру) появились сообщения о том, что неудачные попытки католических иерархов пресечь насильственные действия священства привели к требованию вызвать папу в Международный уголовный суд (Mutiga 2011). Как бы исследователи ни подвергали сомнению достоверность сообщений медиа, для религиоведов-то вопрос состоит не в том, как можно предотвратить сексуальное насилие. Нас интересует то, как инкорпорировать секс, гендер, насилие, злоупотребление и фанатичность в наши определения религии.
Существует тенденция к отождествлению религии с ее благими намерениями. Скорее, она распространена среди людей религиозных, чем среди религиоведов, но и последним она не чужда. В соответствии с обычной реакцией на конфликты в Северной Ирландии, столкновения иудеев и мусульман в Израиле и Палестине, буддистов и индуистов в Шри-Ланке, насилие во множестве других стран, все это – проявления не религии, но национализма, экономики, политики, истории или безнравственности. Таким же заблуждением, пусть и прямо противоположным по содержанию, оказывается сведение насильственных конфликтов к «фундаментализму», как если бы был опасен исключительно чрезмерный религиозный энтузиазм. Когда идея национального государства перекраивала Европу в период раннего Нового времени, ее подспорьем была ровно та же риторическая увертка, которая до сих пор склоняет нас к тому, чтобы говорить о «религиозных войнах», а не о «войнах нациестроительства» (King 2007). Принципы формирования общин и транснациональные устремления католицизма и протестантизма должны были быть делегитимированы, дабы государство сосредоточило контроль в своих руках. Почему-то мы до сих пор уверены, что легитимным является насилие со стороны государства, а религиозное насилие как будто невзначай демонстрирует собой, насколько несовременна и нелегитимна религия. Термин «фундаментализм» можно употреблять в угоду этой полемики. Напротив, можно видеть в таком отказе от субъективизации, интернализма и индивидуализации религии акт противостояния нарастающему насилию модернизма.
Мы не имеем в виду, что религиозное насилие должно считаться приемлемым или поводом для радости. Мы лишь рассчитываем переосмыслить отношения между религиями и другими социальными комплексами (государствами), причем в противовес совершенно определенному пункту полемики раннего модерна.
В любом случае нетрудно обнаружить повсеместные примеры переплетения религии и насилия. Христианская доктрина открытия (discovery doctrine), на которой основывалась колониальная экспансия европейцев по всему миру (направлявшаяся папскими буллами и хартиями европейских монархов), разумеется, является свидетельством тесной связи между религией и насилием (Newcomb 2008). Одно лишь отсутствие «христианского правителя» территории обосновывает право на ее завоевание, последующие порабощение народов и их геноцид. Никакие отсылки к проповедям мира или благотворительности не компенсируют торжество подавления и господства «христианской цивилизации». Впрочем, другие экспансионистские религии с универсалистскими амбициями порождают подобные идеи повсюду. И разумеется, определение религии, игнорирующее насилие, расколы и самовозвеличивание, не будет адекватным.
Несколько иначе понимаемая связь религии и насилия подтверждает теорию «рикошетного завоевания» Мориса Блока (см.: Bloch 1992), предметом которой является родственная взаимосвязь насилия и ритуала. Кроме обрядов инициаций, на которых строится эта теория, свидетельства в ее пользу можно найти в общественных и национальных празднованиях, которые увековечивают память погибших в военных конфликтах. Военные мемориалы и парады являются ключевыми элементами традиции, в которой окончательность смерти и скорбь ставятся под сомнение (хотя и не преодолеваются) и становятся источником начала (новой) жизни. Парады и строения пробуждают специфическое воображение, которое участники должны принять и воплотить. Те, кто ищет альтернативу подобной гражданской религии, обычно обращаются к ритуализованным действиям из того же репертуара. Сторонники (не милитаризированного) мира и (не государственной) справедливости мобилизуются для участия в паломничествах со свечами, цветами и другими мерами «против смерти» (Davie 1997).
Другой пример того, насколько жизнеспособны попытки раннего модерна подчинить религию, – определение ее как того, чему следует оставаться в стороне от «политики» (подобно тому, как «политика» порой определяется как то, чему следует держаться подальше от «спорта»). Это общее место, и примеров тому множество. Значительная доля споров о секуляризации ведется относительно того, в какой степени религия отделена от политики. Но есть и обратный пример. После общения с лидером одного из советов коренного населения мой друг сказал: «Здесь больше политики, чем духовности». Я с ним не согласился. Лишь духовный характер интимных отношений с местом (т. е. сообществом представителей множества видов, связанных друг с другом взаимной ответственностью) и забота об общественном, телесном и материальном благополучии позволяет тому или иному лидеру политически и дипломатически взаимодействовать с политиками, которые выступают от лица всеподавляющего государства. Скорее, речь идет не об отсутствии духовности, а об успешном противостоянии полному растворению в ограничениях модернового государства (вторя Cavanaugh 1995).
Религия также часто противопоставляется экономике. Кажущиеся бесконечными споры об этике и морали вращаются вокруг вопроса о том, дискредитируют ли как будто «благое» дело те финансовые (или «мирские») выгоды, которые оно приносит. Благотворительность можно определить как дар ресурсов нуждающимся исключительно из щедрости дарителя. Однако мусульманские и иудейские системы благотворительности свободны от тягот, налагаемых попытками «растворить» дарителя. Согласно традиции и вероучению, иудеи и мусульмане должны давать другим – и их можно за это чествовать. Дарителям не следует полагать, будто они морально превосходят тех, кого одаривают; просто они более успешны экономически. То, что у акта благотворительности есть свидетель, не снижает его значения. Кантианская идея о том, что «правильным» поступок остается лишь до тех пор, пока он совершается исключительно в силу его правильности, а не потому, что человек хочет лучше выглядеть, уместно в проповеди, но едва ли описывает истинные мотивы поведения.
Когда религиозные лидеры или группы зарабатывают деньги, их зачастую обвиняют в недостаточной духовности или моральности. Часто предполагается, что зарабатывание денег, и особенно больших, исключает «религиозный» характер деятельности. Какое место в определениях религии находит зарабатывание денег? Должны ли такие действия квалифицироваться отрицательно, как «не-религия» или «анти-религия», что поможет нам яснее увидеть, что такое религия на самом деле? Интересный материал для размышления дает пример капиталистов-христиан, а также последователей нью-эйдж и сайентологии. Так, Сюзан Фислуэйт отмечает, что, «согласно некоторым христианам-консерваторам, нерегулируемый капитализм, со всем его неравенством, соответствует Божественному замыслу» (Thistlethwaite 2011). Она предлагает здравую критику этого взгляда и утверждает, что «нам нужно понять не только то, что „христианский капитализм“ не является христианским капитализмом, но и то, что он является извращенным капитализмом» (Ibid). Но поскольку она и те авторы, которых она цитирует, определяют других и как «христианских фундаменталистов», и как «рыночных фундаменталистов», мы можем заключить, что вне зависимости от того, христианство это или нет, в каком-то смысле это религия. Нью-эйдж часто воспринимают как торговое предприятие, этакий «салат-бар», в котором продавцы предлагают легковерным покупателям продукты из реальных религий, понятые случайным образом, но затейливо смешанные.
Более тонкую критику предлагают Джереми Карретт и Ричард Кинг (Carrette&King 2005). В наше время, когда у всего есть цена и рыночная ниша, наивно полагать, что религия будет другой. Однако гораздо важнее, что связь между современной духовностью и современными экономическими отношениями может подтолкнуть нас к тому, чтобы присмотреться и к более ранним, и к иным отношениям между религией и экономикой, политикой, обществом и другими элементами сложной действительности.
Сайентологию же «коммерческим предприятием» (business enterprise) сочло правительство Германии (Kent 2009:507), как если бы это означало, что движение не является (также и) религией. Почти все, касающееся публичного образа сайентологии, воспринимается наблюдателями – от студентов и журналистов в погоне за сенсацией до ученых, в других обстоятельствах более основательных – так, будто этот образ развенчивает претензии сайентологии на статус религии. Как если бы католицизм объявлялся не-религией, потому что в церквях стоят статуи, а ислам – потому что в мечетях статуй нет. Бессмысленно использовать то, что люди объявляют важным в рамках их религиозных практик и идеологии, как повод, чтобы это игнорировать. Точно так же ни одна ключевая черта какой-либо религии не может стать мерилом для оценки других религий.
Соответствуют или нет отдельные религии, религиозная деятельность или религиозные люди той планке экономики, морали и политики, которую установили для них недоброжелательные наблюдатели (которые, кстати, весьма неуклюже эту планку регулируют), но одним формам религии изначально присуща большая степень гибкости, чем другим. Иными словами, неизбежным является то, что люди идентифицируют себя как буддистов, христиан, иудеев и одновременно с этим как полноправных участников «альтернативной духовности» (или мероприятий, терапии, сообществ, которые она предлагает). В самом деле, существуют квакеры-язычники, буддисты-христиане, иудеи-ведуны (Jewitches) и все те, кого Жизель Винсетт называет «фьюзерами» (fusers) (Vincett 2008). Сама идея, согласно которой религии – дискретные явления (т. е. существует некое христианство, отличное от религии Африки или Амазонии, или японский буддизм, не представляющий важности для тех, кто практикует синтоистские ритуалы, и т. д.), весьма сомнительна в том случае, если в фокусе исследования оказывается жизнь реальных людей в реальном мире.
На пляже Дурбана в ЮАР люди, называющие себя христианами, проводят обряды очищения, на первый взгляд неотличимые от тех, которые практикуют приверженцы местных традиционных африканских религий. Нигерийские торговцы и политики, которые называют себя христианами или мусульманами, не считают это поводом не обращаться за помощью к «традиционным» предсказателям Ифа. Кафедральный собор в Лунде, Швеция, участвует в организации паломничеств в Сантьяго де Компостела, несмотря на то что среди «паломников» не только католики или лютеране, но и вполне секулярные люди, которые ищут не спасения, но проходят путь по каким-то иным причинам. Таких примеров можно привести множество. Все они подводят нас к тому, что такие слова, как «гибридность» или «синкретизм», – не более чем ярлык, маркирующий вполне обыкновенный процесс, в рамках которого люди что-то узнают и заимствуют друг у друга.
Очевидно, что ярлык «синкретизм» часто используется как порицание тех, кто неправильно и нелепо смешивает, например, католицизм, традиции йоруба и амазонский анимизм во что-то вроде кандомбле или Санта Дайме. Сторонясь подобных споров и видя в них бесполезный пережиток представлений элит о безупречных изначальных традициях, мы считаем фьюзеров нормой, а не исключением. Мы добьемся немногого, если с одержимостью будем выискивать исламские и индуистские корни сикхизма и при этом игнорировать его реальную продолжающую развиваться жизнь.
Впрочем, нам следует обращать внимание на полемику, дифференциацию, враждебность и предубеждения как на общие аспекты или элементы религиозности. Границы религии могут быть текучими, но часто для их возведения религия использует специальные обряды и риторику (нередко созвучные упомянутым ранее «очистительным» и совершенствующим тело практикам). В предельных своих формах эти тенденции ставят нас перед необходимостью учитывать обвинения в ведовстве, колдовстве и дьяволопоклонничестве, что заставляет нас включить в определение религии и научные ее исследования не только укрепляющие социум, формирующие идентичность и прочие положительные аспекты религии, но также и негативные, например распри и насилие. Я надеюсь показать, что такой подход окажется менее спорным, если мы начнем поиски «где-то там», а не среди религиозных лидеров и текстов, которые пытаются убедить других в благопристойности религии.
Там, где буйствуют трикстеры (Malotki&Lomatuway’ma 1984), где творца этого довольно сложного мира, полного болезней, засухи и дисгармонии, вовсе не приветствуют (Platvoet 2001), где божества хотят напиться человеческой крови (Whitehead&Wright 2004), – там можно во всей полноте увидеть негативные аспекты, функции и последствия религии. Маловероятно, что аккуратное исследование явных нелицеприятных черт религий заставит «новых атеистов» (на деле старомодных атеистов-протестантов с несколько более тонким пониманием эволюции и новой аудиторией) понять, что последователи религии вполне осознают, что их божества необязательно «хорошие». Религиозные люди не всегда считают и используют религию в качестве успокоительного опиата, снижающего болезненные ощущения от реальности до тех пор, пока не появится более сильное средство. Узнать религиозные взгляды на «теневые» вопросы (например, о расколах и демонах) – значит преуспеть в наших попытках честно определить религию на основе широкого спектра доступных данных.
Когда отдел маркетинга Открытого университета подбирал фотографии для буклета, посвященного работе отделения религиоведения, нам предложили изображение под названием «человек наедине с богом». На нем был изображен мужчина со склоненной головой, сложивший ладони перед собой и сидящий на склоне горы то ли в сумерках, то ли на рассвете. Картинка должна была иллюстрировать что-то очевидно религиозное – нечто, что может быть названо духовным, мистическим или нуминозным опытом. Моей первой реакцией был вопрос, сидит ли человек на своем боге. Мои коллеги и я отказались от этой картинки, поскольку, хотя мы и сообщаем студентам о религиозном опыте, мы не считаем его определяющим наш предмет.
Напротив, Уильям Джеймс предлагал в этом смысле провокационное определение: «Условимся под религией подразумевать совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием устанавливается отношение ее к тому, что она почитает Божеством» (Джеймс 1993:34). Рудольф Отто был еще радикальнее, редуцируя «опыты» Джеймса к опыту, определенно религиозному, а именно к охваченности нуминозным (Отто 2008). Комментарии Мелиссы Рафаэль (Raphael 1994), Брайана Бокинга (Bocking 2006) и Мануэля Васкеса (Vasquez 2011) убедительно показывают, что не только «опыт» Отто имел место и оформлялся в контексте его собственной религиозности, но также и то, что параметры изучения такого опыта определяются модерновым (постпросвещенческим) понятием индивидуальной самости (selfhood).
Поразмышляв, мы можем заключить, что нет необходимости препарировать «человека наедине с богом» (будь то Джеймс, Отто или безымянный любитель горных склонов) на предмет его индивидуальной психической жизни, но, скорее, этот образ провоцирует на размышления о материальной, телесной, пространственной деятельности, включенной во взаимосвязи. Существование школ и систем мистики доказывает, что религиозные опыты тоже могут быть и общими, и заимствованными. А возведение сложных зданий, календари, литургия, музыка, повествования, пища и эмоционально нагруженные события показывают, какие усилия прилагаются для того, чтобы сделать религиозный опыт повторяющимся. Изучение религиозных обрядов (Whitehouse 2004) и эмоций (Davies 2011) углубляет и обогащает это направление исследований.
Место (location) и практика становятся все более популярными терминами в академическом изучении современной религии (в особенности «альтернативных религий») и тех, кто идентифицирует себя скорее как «духовных», нежели «религиозных» людей. И хотя это противопоставление само по себе заслуживает внимательного изучения (в рамках исторического и кросс-культурного сравнения), на сегодняшний день проникновение именно этих категорий в критические исследования обогащает нашу дисциплину. Соотношение пространства и религиозной деятельности не является сюрпризом: история и этнография отдельных религий постоянно обращали внимание на конкретные пространственные локусы и то, что в них происходит. Распространяются строительство и использование святилищ, храмов, домов собраний, жертвенников, мест для литургии и обучения. Прослеживаются ориентация на восход или другие космические связи. Тем не менее повсеместная соматофобия ученых (Spelman 1988:126–132) и страх перед материальным (Pels 2008:266)[14] мешали или вовсе сводили на нет последовательный материалистический подход к исследованию религии. Возможно, сейчас ситуация меняется. Если феминистские исследования религии вернули нас к исследованию телесности (и связанных с этим тем гендера, сексуальности, перформанса, повседневности, власти и многих других), материалистские исследования (например: Vasques 2011) ведут религиоведение к диалогу с антропологическими разработками (например: Ingold 2011) и широкими междисциплинарными дискуссиями (например: Latour&Weibel 2005).
Я убежден, что исследователи религий коренных народов заслуживают более значительной роли на этой сцене, и за уже внесенный, и за будущий вклад в наше понимание религии в реальном мире. Предвосхищая весомую аргументацию Латура (Latour 2010) о фетишах и «фактишах» (factiches), Джон Фулбрайт в своей статье (Fulbright 1992) (см. также и другие материалы этого специального выпуска журнала Religion) уже продемонстрировал возможности пересмотра множества базовых терминов и классических споров в нашей дисциплине. Если бы другие религиоведы обратили больше внимания на то, как обращаются и взаимодействуют хопи и зуни со своими молитвенными палочками, мы бы получили более глубокое представление о важности категорий отношения и материальности для определения и исследования религии.
Итак
Целью этой главы было представить некоторые факты из множества явлений, возможностей и споров, к которым мы можем обратиться с целью понимания живой реальности религий. В следующей главе мы обратимся к одному из двух препятствий к изучению практики религии, т. е. того, что требует преимущественного внимания религиоведов. Речь пойдет о представлении, в рамках которого религию следует определять как «веру». Главы, следующие за ней, будут посвящены второму, и значительно более серьезному затруднению, а именно теологической по происхождению идее о том, что эксперты могут и должны быть объективны.
Глава 3 Христианство – не религия
Нередко и христиане, и религиоведы утверждают, что чертой, определяющей христианство, является «вера в бога». Ни одну другую религию нельзя в строгом смысле определить в понятиях веры и верований. Одно из двух: либо христианство – единственная религия, либо вовсе не религия. Эта идея не нова, но я сформулирую ее резче, чем авторы, которые высказывали ее прежде. Утверждение о том, что верование и вера (belief and believing) не являются ядром религии – хотя они могут быть ядром христианства, – банально. Если так, эти элементы не должны подчинять себе наше внимание при изучении и преподавании других религий. В этой главе мы вновь призываем поразмышлять о том, что может значить «религия». Сделать это мы предлагаем, обратившись к тезису о том, что вера имеет определяющее значение для христиан, но использовать веру в качестве элемента, определяющего религию вообще, будет ошибкой.
Важно отметить: утверждая, что христианство – не религия, я не имею в виду, что христианство не является творением человека. Я не имею в виду, что оно чем-то отличается от других социальных и культурных феноменов. И я уж точно не считаю, что христианство есть боговдохновенная истина. Некоторые христиане делают такие благочестивые утверждения, настаивая на уникальности христианства и заявляя, что «религия» – это творение человека (если не дьявольская уловка) и, тем самым, отлична от (их собственного) христианства. Когда так пишет Карл Барт (2007), его внутрихристианское и полемическое понимание христианства является хорошим примером риторики, подлежащей научному исследованию. Он проповедует и тем самым показывает, насколько теология отличается от религиоведения. Но нам это известно. В любом случае отставим ограниченность Барта и отправимся на поиск лучшего понимания религии и лучших подходов к ее изучению и преподаванию.
В этой главе мы задаемся следующим вопросом: какая именно черта христианства заставляет его идеологов и тех, кто находится под их влиянием, определять религию как «веру в бога»? Чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются ученые, интересующиеся религией, нам нужно понять, что вера – понятие исключительно христианское и потому бесполезное для определения других религий. Поскольку это утверждение носит намеренно полемический характер, я намерен пойти до конца, заявив, что вера и верования также дают о себе знать в колониальных и глобализационных явлениях модерна, сконструированных по образу христианской веры.
Исключительная вера
Уилфред Кантвелл Смит утверждал, что
специфическое место, отведенное вере в истории христианства, – монументальная характеристика, обладающая огромным значением и относительной уникальностью. Она настолько определяла христианство, что ничего не подозревавшие европейцы (westerners) ‹…› считали возможным и о других религиозных группах задавать вопрос «во что они верят?», словно этот вопрос был первоочередным и бесспорно правомочным (Smith W. C. 1962 (1978) 10).
Этому тезису вторит Кен Доуден, отмечая, что «исследователи религий Античности прекрасно знают, что в язычестве „вера“ не играет заметной роли», что словосочетание «верить в…» входит в «специфический жаргон новозаветного греческого языка (pistis eis)» и что «язычество было не столько вероучением, сколько по сути системой соблюдения ритуалов» (Dowden 2000:2). Константой в развитии древнего христианства в богатой среде средиземноморских культурных контактов оставался особый акцент на вере в Христа. С тех самых пор распространение христианства по миру было и остается проповедью веры. Христиане не только проповедовали веру в своего бога, но часто искали следы некоей веры у пока еще не христиан. Или на практике, или в процессе переписывания истории постфактум, уже после состоявшейся христианизации, миссионеры обычно создавали иллюзию существования изначальной (но при этом ложной или неадекватной) веры, которая провозглашалась предпосылкой к постижению истины.
Все остается по-прежнему. В самом деле, связь веры с религией настолько прочна, что сегодня всем религиоведам – и студентам, и состоявшимся ученым – приходится слышать вопросы от таксистов или новых знакомых «Во что же ты веришь?». Возможно, мы сами в этом виноваты, так как никогда всерьез не оспаривали связь религии с верой – и связь изучения с убеждением. Так, Том Бодуан ставит вопрос:
Насколько этично оценивать, являются ли люди христианами, основываясь на своем опыте? ‹…› я имею в виду, насколько этично создавать у людей впечатление, что вот именно это считается христианством? Что именно вот это и ничто иное значит быть религиозным? Ученые, задавая вопросы о религиозных верованиях и практиках, преумножают в медиасреде не только сведения о религии, но и способы ее понимания, способы размышления о ней, которые осваивают другие ученые, студенты, журналисты, чиновники и образованная общественность (Beaudoin 2012:239).
В главе 4 я намерен показать, как ученые, интересовавшиеся религией, не всегда справлялись – несмотря на заверения в обратном – с задачей исключения из определений религии этой тирании «верований» или «веры» («belief» or «faith»). Пока же следует остановиться на рассмотрении христианства как веры (believing).
Малькольм Руэл цитирует приведенный выше фрагмент из Уилфреда Кантвелла Смита о специфическом месте веры в истории христианства в качестве удачного резюме его собственным аргументам в пользу того, что «христиане – верующие» (Ruel 1997). В одном из своих «размышлений о религии банту» он приходит к выводу о наличии четырех «скрытых ошибок», демонстрирующих, насколько несуразно приписывать веру нехристианам. Первая ошибка заключается в убеждении, что «вера – ядро всех религий в той же мере, что и христианства». В качестве иллюстрации Руэл пишет:
Многие критические замечания [Мартина] Саусволда [о «религиозной вере»] имеют большое значение для любого исследования религии, но к чему сосредотачивать такое исследование на сущности веры? Разве подобная постановка вопроса не предопределяет ответ, а именно, что «базовые религиозные представления являются 1) эмпирически неопределенными, 2) аксиоматическими, 3) символическими и 4) коллективными» (Southwold 1979:633)? Христианская Вера исторически и концептуально определяется куда точнее, чем это делает предлагаемый Саусволдом набор характеристик, однако стоит взять веру вообще (эту неясную идею) и применить к другим религиям (можно было бы заимствовать из иудаизма понятие torah или другое, сопоставимое с ним), и соответствие между ними тут же окажется неопределенным и непрямым (символическим) (Ibid 56).
Здесь Руэл объединяет два критических тезиса: вера не является ядром всех религий, и христианская вера – это не только «вера», но «вера в». Неважно, означает вера принятие идей, согласие с доктриной или преданное отношение к некоей личности, она не только обладает содержанием, но это содержание жизненно важно в христианстве. (В главе 5 я воспользуюсь имплицитным приглашением Руэла к размышлению о том, что произойдет, если «заимствовать из иудаизма понятие torah или другое, сопоставимое с ним» и применить к определению религии – но для этого мне придется доказать, что центральным [элементом этого понятия] будет изучение (studying), а не текст.)
Второй ошибочный тезис, по Руэлу, состоит в том, что «вера человека или людей обосновывает их поведение и может потому считаться его достаточным объяснением». В качестве иллюстрации он ссылается на свой опыт преподавания:
Как, без сомнения, и многие другие, я регулярно задаю студентам, начинающим изучать социальную антропологию, написать эссе на тему колдовства азанде, обычно в первые недели занятий. Одна из тем, которые я обычно предлагаю, такая: несмотря на то что оракулы азанде часто ошибаются, почему азанде продолжают верить в магию? При нормальном развитии событий я получаю скучный пересказ ситуационного анализа Эвансом-Притчардом логики азанде (Evans-Pritchard 1937). Но нередко события развиваются не по плану, и мое (теперь я полагаю, что ошибочное) использование слова «верить» в широком смысле понимается в узком смысле: свидетельства индивидуального скептицизма среди азанде, приведенные в книге, игнорируются, наряду со всем прочим, для того, чтобы приписать азанде такие незыблемые убеждения, которым позавидуют и кальвинисты (Ruel 1997:56–57).
Далее он отмечает, что эта ошибка ведет к «релятивизации» предполагаемых «верований» азанде как «чего-то связанного с ними самими (а не с миром, который они переживают)». Эти «верования» невозможно сравнивать с тем, как «переживаем мир» мы, так как если «у всех нас свои верования, у каждого человека свои верования». Тем самым, в рамках релятивизма все мы существуем в аккуратных и определенных религиозных или мировоззренческих ячейках, которые едва ли имеют отношение к реальному миру (если такой вообще существует) и потому не могут и не должны сравниваться. Аргумент Руэла здесь созвучен традиции критики релятивизма, разделения науки и религии, а также изобретения учеными модерна «верующих», примеры которых мы можем обнаружить в работах Мишеля де Серто (de Certeau 1985) и Бруно Латура (Latour 2002; Латур 2014) (к которым мы обратимся в двух следующих главах).
Третья ошибка, на которую указывает Руэл, состоит в том, что «вера по природе своей индивидуальна, она является психологическим состоянием». И снова корни этой ошибки обнаруживаются в использовании вполне конкретной версии христианской веры для описания других религий или иных направлений христианства. В то время как, например, Лютер и другие глашатаи христианского вероучения имели, по крайней мере иногда, внутренний психологический опыт веры или индивидуальное видение реальности, они также утверждали, воспроизводили и воплощали в действии официальное христианское учение. Более того, в том случае если антропологи приписывают веру, например, азанде, то «предположение о том, что наше представление об их вере обладает той же силой, как если бы они говорили „Мы верим…“, означает непонимание семантики этого глагола и безосновательный перенос на них христианских представлений» (Ruel 1997:57).
Наконец, Руэл обращается к четвертой ошибке, касающейся веры, а именно к тому, «что определение (determination) веры оказывается гораздо важнее, чем определение (determination) статуса того, что является ее объектом» (Ibid 59). Он поясняет:
В христианстве быть верующим значит открыто заявлять о верности христианству и декларировать идентичность; человек не всегда должен вникать во всю полноту содержания собственных верований. Перенос такого положения дел на нехристианские религии не имеет смысла. Утверждение, что люди «верят» в ту или иную абстракцию (колдовство, Бога, духов предков, гуманизм), отделяет их представления о мире от самого мира, превращая их «верования» в то, что свойственно только им и никому более, в отличительный знак их индивидуальности, тогда как знание мира становится нашей привилегией и монополией (Ibid).
Иными словами, ученые претендуют на обладание знанием, тогда как все остальные – лишь «верующие».
Все эти ошибки приводят к тому, что «вера» оказывается чем-то, что иногда свойственно некоторым христианам, или чем-то, на необходимости чего некоторые христиане настаивают. Но, даже изучая христианство, мы вынуждены признавать, что христианам важна не только «вера», принципиально важен ее объект/субъект. Христиане, утверждающие важность веры, пылко отстаивают необходимость верить правильно (то есть в правильные факты, реальность и персон). Именно потому, что христианская вера специфична (ведь за словом «верить» должны следовать предлог «в» и другие слова), «веры» не может быть достаточно для определения религии.
Производство и перепроизводство религии
Длительная традиция веры в христианстве обстоятельно описана и проанализирована во множестве научных публикаций, в том числе процитированных выше. Краткий обзор основных исторических вех этой традиции может прояснить, что именно христиане называли «верой» (faith and belief). Дональд Лопес пишет:
Религиозная вера зачастую не поддается противоречащим ей свидетельствам и закрывает глаза на негативные последствия. Парадокс Тертуллиана гласит: «credo quia absurdum, верую, ибо абсурдно». Фома Аквинский утверждал, что вера (belief or faith) начальствует над разумом, поскольку она согласуется с трансцендентной истиной, и что верить (credere) по определению значит верить в то, что истинно; если ее объект ложен, она не может быть верой (fides) (Lopez 1998:23).
Если у Фомы вера нераздельно связана с трансцендентализмом, то у Августина мы находим поощрение ее интериоризации: «Вне себя не выходи, а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке» (Vasquez 2011:88)[15]. О взаимовлиянии интериоризации и трансцендентализма свидетельствуют парные референты «духа» (spirit) в христианстве: вера связывает «истинную внутреннюю личность» с «божественной реальностью».
Тела, хоть и являются в рамках христианской идеологии локусом воплощения и искупления грехов, требуют дисциплины и (порой) сурового подчинения, дабы (внутренний) дух мог правильным образом соединиться с трансцендентной божественностью. Тертуллиан и Ориген служат примерами того, как «раннехристианские общины сделали тело распятого спасителя моделью истинной веры: дабы достичь полноты жизни, верующий должен окончательно утратить себя, буквально умереть для мира» (Ibid 28). Мученичество и монашество – два типа дисциплины тела на благо одухотворенного верующего или верующего духа. И хотя в этом источник дуализма отдельных христианских традиций, доминирующие (элитарные) традиция и воображение последовательно утверждали ценность для верующих телесных страданий. Почитание мощей католических мучеников или самоограничение пиетистов-протестантов принадлежат к одному континууму воплощенной в теле и узаконенной веры.
Мученичество (c пользой для нас) связывает веру одновременно и с неверием, и с ложной верой. Мучения, на которые христиан обрекали неверующие, описываются в статье Лопеса на примере распятия «двадцати шести японских мучеников» в Нагасаки 1596 года (Lopez 1998:27). Лопес отмечает, что, хотя «вера, описываемая как внутреннее состояние, и использовалась» для христианского объяснения этих смертей, по сути она была «прикрытием более осязаемых причин» [смерти]. В частности, Лопес предполагает, что эти люди были убиты, поскольку оказались вовлечены в смертоубийственный дележ груза затонувшего корабля.
Мэтью Бансон, отдавая должное исключительной вере и вероятному мученичеству этих жертв, все же указывает на множество причин. Он также противопоставляет веру миссионеров и быстро растущее число христиан «традиционно признаваемому божественному происхождению» императора. «Вера» единственного правителя в то, что разрешение на строительство «такой церкви может помочь установить торговые отношения с Европой», противопоставляется преследованиям, начатым, как утверждается, по причине «быстрого роста новой веры». Преследования означали, что христиане «принуждались… к отречению от своей веры». Более того, «сегуны верили в то, что новая религия может ограничить влияние буддистских монахов, порой создававших проблемы». Бансон отмечает отличие миссионеров-иезуитов от всех остальных «католических миссионеров – коих было множество, – которые не были столь же искусны, как прибывшие в Японию иезуиты, и не справились с выполнением распоряжений папы Григория» (Ibid). Вероятно, Бансон имеет в виду францисканцев, но не может этого утверждать, не ставя при этом под сомнение подвиг по меньшей мере шести мучеников. Короче говоря, причиной насилия были либо различные виды «веры», либо различные политические и материальные интересы. Переплетение «веры» (христианской) с другими видами веры, мысли, планирования, ожиданий и чаяний превалирует в статье Бансона (и других ей подобных), несмотря на противопоставление христианства, буддизма и поклонения императору. И хотя вероятно, что мученики свою смерть считали свидетельством веры (суммируемой в сентенции «Нет пути ко спасению, кроме пути христианства»), они также должны были подозревать, что причиной их проблем мог стать конфликт по поводу груза и лидерства.
В главе 7 у нас будет возможность еще раз рассмотреть расхождения между христианским дискурсом о вере и тем, как его понимают потенциальные обращенные. Например, я подытожу аргументацию Кена Моррисона (Morrison K. M. 2002) касательно того, что с точки зрения иезуитов и восточных алгонкинов стояло на кону во время их столкновения на северо-востоке Северной Америки. Схожее расхождение между мирами, знаниями и ожиданиями христиан и коренными народами прослеживается в том, как Клод Леви-Стросс резюмирует различия в оценках природы и культуры:
На Больших Антильских островах, вскоре после открытия Америки, пока испанцы создавали инквизиционные комиссии, расследовавшие, обладают ли дикари душой, эти самые дикари были заняты утоплением пойманных белых людей, чтобы выяснить, путем долгого наблюдения, подвержены ли их трупы тлению (Levi-Strauss [1952] 1973:384; см. также: Леви-Стросс 1999:87).
Длительные и обстоятельные рассуждения о человечестве и человечности как завоевателей, так и местных жителей вовлекли католиков в споры об «индийской» душе и рациональности, в то время как пуэрто-риканские «индийцы» все изучали и изучали тела испанцев. Вера в христианскую веру (belief in faith) была делом, важным для европейцев, но совершенно не совпадала с тем интересом к верованиям, который проявляло местное население, изучавшее естественность захватчиков[16].
Возвращаясь к теме мученичества: наряду с противопоставлением «верующих» и неверующих – или, точнее, «не верующих», – Лопес привлекает внимание читателей к противопоставлению истинной и ложной веры. Его пример «ереси» (примечательно, что именно таков антоним «веры» в христианском дискурсе) вновь имеет отношение к мученичеству. Смерть Петра Веронского (или Петра Мученика), зарубленного катарами-«еретиками» в 1252 году, дает жизнь католическим агиографическим текстам и изображениям, например тому, что Лопес описал во введении к своей статье (Lopеz 1998:21). На нем изображено, как Петр пишет на земле Credo, «Я верю», своей собственной кровью. Лопес отмечает, что в каких-то случаях надпись гласит Credo in deum, «Я верю в бога», или нарочито вызывающе в присутствии дуалистов-катаров, Credo in unum deum, «Я верю в единого бога» (Ibid 24). И снова Лопес подчеркивает, что причина насилия, возможно, была не только в различии в верованиях. Хотя Петр мог искренне считать причиной своей смерти стремление исповедовать свою веру (в смысле как свою внутреннюю веру, так и свою решительную поддержку католичества), у его преследователей могли быть совсем другие мотивы. Конфискация собственности катаров могла привести к найму убийц для устранения угрозы, которую Петр представлял для зажиточных семей. Лопес заключает, что «Петр был убит не за свою веру, но за свои дела» (26). Тем не менее официально действия Петра оправдывались «содержанием людских умов», их верой, а не собственностью. Будучи людьми, осужденными за ложную веру, они были приговорены к конфискации богатств, земли и даже к лишению жизни.
Вера была вопросом жизни и смерти в столкновениях между католиками и не верующими или ложно верующими, но еще более очевидным это стало в протестантизме. В самом деле, проповедь необходимости веры и того, во что следует верить, заменяет собой всякую возможную деятельность из репертуара, определяющего христианство (во всяком случае, так выглядит официальное учение и его воплощение). Так, первая церковь, построенная как лютеранская, была спроектирована как место для того, чтобы говорить, слушать и отвечать на «слово Господа», с тем чтобы поддерживать, обосновывать и воплощать веру. Лютер в проповеди на освящение храма в Торгау 1544 года провозглашал: «То, что мы соединились в одно собрание, заслуга не моих слов или дел, но происходит по воле всех вас и по воле всей церкви» (Koerner 2005:415). То, во что верила община, и то, как она могла проявлять свою волю верить, единственно имело значение (и воплощало истинную, невидимую Церковь). Физически здание той церкви было по практическим причинам ориентировано на северо-запад, а не на традиционный (и сакральный) восток. Его настоящим архитектурным ядром оказывается кафедра, возвышение у северной стены. Кернер пошагово демонстрирует, что с кафедры «в своей первой и единственной речи, посвященной освящению храма» Лютер эксплицитно и систематически бросает вызов всему, что воспринималось как нормальная практика освящения церкви. Здесь он обосновывает лютеранский протестантизм на практике в той же мере, в какой он и другие протестанты устанавливали его риторически в декларациях, тезисах и исповедях. В принципе, произнести эту проповедь он мог в любом месте и по любому поводу. Он поставил общину верующих, актуальных и потенциальных, собрание тех, кто слушает чтение и разъяснение писания, по главу угла. Обряды, которые исполняли священники, отдаленные от прихожан и в идеологическом, и в пространственном смысле, были отвергнуты. Здание стало всего лишь легко опознаваемым местом для собраний.
Возвышение веры в качестве определяющей христианство черты можно проследить в цвинглианстве, кальвинизме и других реформационных движениях. Например, Цвингли настаивает на том, что евхаристическое «сие есть Тело Мое» «следует понимать не в реальном, буквальном, телесном смысле, но лишь в символическом, историческом и социальном», «намеренно вбивая клин между символом и реальностью» (Uberoi 1978; цит. по: Smith J. Z. 1987:99). Здесь, у истоков модернового дуализма материи/тела и духа/разума, христиане оказываются отделены от ритуала и воссоздаются исключительно как верующие – как верующие или вовсе не христиане. Им предлагаются символы, знаки радикально трансцендентного, что в значительной мере подтверждает тезис Мишеля де Серто о том, что, принимая их на веру, верующие откладывают благополучение до грядущей эпохи божественного пришествия и вознаграждения (de Certeau 1985:193–195; цит. по: Lopez 1998:28). Скромное слово «есть» отягощается до такой степени, что его изначальный смысл отождествления (хлеб есть тело, вино есть кровь, дух есть плоть, религия есть дела) практически переворачивается так, чтобы стать святилищем веры, интериоризации и трансцендентного.
Брожения по поводу «веры» продолжались (и продолжаются до сих пор) среди христиан и мыслителей эпохи Просвещения, которые, несмотря на свое предполагаемое постхристианство, проявляли склонность к христианскому возвеличиванию веры (а также духовного и трансцендентного), делая акцент на производном от него возвеличивании нефизического сознания, интенциональности в этике, интеллектуализма и прочих продуктах интериоризиции. Надеюсь, достаточно ясно, что ядром христианства является вера. Эта вера имеет особый предмет, поэтому христиане могут определять не христиан как неверующих, а христиан, принадлежащих к другим течениям, как еретиков или верующих неправильно. Но мы, вероятно, все же недостаточно ясно показали, что подобная одержимость верой не является центральной для других религий.
Вера в мировых религиях
Примерно в 1880 году буддизм стал «мировой верой» (world faith) и по крайней мере часть буддистов превратились в верующих, начали верить в Будду и буддизм. Это произошло, когда сооснователи теософии (полковник Генри Олкотт и мадам Елена Блаватская) посетили Шри-Ланку и были поражены одной из разновидностей буддизма. Когда Олкотт опубликовал «Буддистский катехизис» (Olcott [1881] 1947), этот своего рода буддизм стал, подобно христианству, сфокусирован на вере. Лопес полагает, что деятельность Олкотта была
неизбежным следствием идеологии веры, то есть выводом, сделанным из истории христианства, о том, что религия в первую очередь представляет собой внутреннее состояние согласия с определенными истинами. В викторианской Европе и Америке в Будде видят величайшего философа арийского прошлого Индии, а его учения считают совершенной философской и психологической системой, основанной на разуме и самоограничениях, противопоставляемой ритуалу, предрассудкам, клерикализму (sacerdotalism), и показывающей, как именно индивид может вести моральную жизнь, не попадаясь в ловушку институциональной религии. Такой буддизм можно было найти не столько в жизни современных буддистов Цейлона, сколько исключительно в текстах (Lopez 1998:31).
Именно такому буддизму – отчетливо протестантско-христианскому буддизму – Олкотт пытался научить цейлонцев. Язык, ощущения, проповедь и распространение этого буддизма – все посвящено вере. Приверженцы должны были возвыситься к учению об откровенных истинах. Возможно, достаточно отметить, вслед за Руэлом, что «Гомбрих на протяжении двух страниц мучительно ищет аналог глагола „верить“ или „верить в“, прежде чем обращается к термину („который лучше оставить без перевода“) дхарма» (Ruel 1997:50–51; цит. по: Gombrich 1971:60).
Мы можем искать аналоги термину «вера» повсюду. Мы можем даже обнаружить слова с похожим смыслом. Но нигде мы не встретим их выполняющими ту же обобщающую функцию, которую вера-faith или вера-belief выполняет в христианских текстах, проповедях и дискурсе в целом. Иудеи могут декламировать формулы, которые (в переводе) оказываются созвучны христианскому символу веры. Тринадцать принципов веры, предложенных Маймонидом в XII веке, до сих пор публикуются в молитвенниках различных иудейских движений. В «Молитвеннике на каждый день объединенных иудейских конгрегаций Британского содружества» Зингера (Singer’s Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth) они начинаются с утверждения «Я верю полной верой в то, что Творец, благословенно его имя, творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создает и будет создавать все сущее» (Singer 1962:93).
Несмотря на наличие и древность этой формулы, иудеи не делают большой проблемы из того, чтобы «верить полной верой». Они скорее будут спорить об обычаях или практике, чем о верованиях. Различные версии иудаизма обычно возникают в результате разногласий не в вопросах веры, но по поводу обычаев. Схожим образом в исламе, хотя мусульманин может называться «верующим», это, как указывает Руэл, скорее подразумевает «качество взаимоотношений, то есть сохранение веры, доверие», а не «содержание веры». Он пишет, что отличия мусульман сосредоточены вокруг центра учения ислама, т. е. «ответственности во взаимоотношениях: практика ритуала, следование мусульманским обычаям, соблюдение мусульманского закона» (Ruel 1997:50). Мусульманские «верующие» оказываются не просто мусульманами, они представляют собой идеал, образец полного подчинения и дисциплинированной преданности. Мы должны искать термины, выполняющие ту же роль, какую в христианстве играет «вера», в других аспектах ислама и иудаизма. Это должны быть столь значимые понятия, касающиеся наиболее важных и проблематичных вопросов, вне которых мусульмане и иудеи не осознают свою религиозность и без которых невозможны религиозные споры. Задача следующих глав как раз состоит в том, чтобы «где-то еще» понять, кто такие религиозные люди, если они не являются верующими.
Надеюсь, у меня получилось убедительно показать, что религии не сосредоточены вокруг веры и не похожи на христианство, особенно после его капитуляции перед модерновой властью государства (Cavanaugh 1995). Замечу, впрочем, что иногда религиоведы продолжают сравнивать религии именно в качестве вероучений. Сам термин «мировые религии» (world religions) – который слишком часто появляется на обложках книг и в названиях курсов – подразумевает олкоттовское понимание (истинных) религий как подобных христианской вере. Этот термин предполагает такой подход к религиям, в рамках которого знакомство с религией начинается с указания на ее основателя или почитаемых божеств, продолжается описанием ключевых текстов и утверждений, якобы выражающих основы веры, в особенности относящихся к трансцендентному, например включающие слова «спасение» или «просветление», и заканчивается перечислением наиболее выдающихся представителей. Современная жизнь этих религиозных традиций если и упоминается, то до неловкости кратко и часто скорее пренебрежительно в сравнении с вниманием к великим учителям и авторитетным текстам. Коротко говоря, до сих пор слишком многие исследователи верят в «мировые религии», а некоторые из них к тому же верят в веру.
Вера в веру
Хотя подробно этот вопрос рассматривается в следующей главе, здесь я хотел бы привести несколько примеров академической веры в веру. Я не имею в виду, что что тот или иной ученый принадлежит к той или иной религии. Возможно, это так, и это может расстраивать тех, кто призывает к «объективности». Здесь я имею в виду, что, несмотря на множество публикаций, авторы которых с предельной отчетливостью формулируют причины, по которым следует критически относиться к ничем не оправданному использованию термина «вера» в религиоведении (например Asad 1993:43–48; Ruel 1997; Lopez 1998; Nye 2004:105–128), термин по-прежнему весьма популярен. Так, Центр исторических исследований Шелби Каллом Дэвис (Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies) Принстонского университета недавно объявил о новом направлении исследований – «Вера и неверие». Объявление гласит:
Как провести черту между религией и другими формами глубокого убеждения: секуляризмом, секулярными религиями, политическими теологиями и т. п.? Рассматриваются не только вопросы демаркации и определения, но и процессы: секуляризация, прозелитизм, обращение. Как вера проявляет себя в живом опыте, ритуале, соблюдении запретов и других повседневных практиках? (Dav 2011).
Анонс завершается следующим образом: «Как и всегда, мы надеемся рассмотреть эти вопросы в контексте различных эпох, от доисторического до настоящего времени, и по всему миру». Это говорит о том, что традиционные темы, объединяющиеся вокруг «веры», живы-здоровы. Религия имеет дело с «убеждением» (conviction) и потому может противопоставляться другим интеллектуальным системам. По меньшей мере предполагается, что религия «проявляет себя» в деятельности, но на самом-то деле ее подлинным центром является «вера».
Подобным образом в объявлении о конференции в Колумбийском университете «Материи веры: Новые определения веры и ее смысл»[17] утверждалось:
В последние десятилетия социологически и антропологически мыслящие религиоведы стремились сместить внимание ученых с веры и доктрины на ритуалы, практики, идентичность и институты. Этот поворот от веры-как-доктрины помог ученым увидеть религию в качестве динамического явления, существующего за пределами сознания людей (sic!). В то же время не помешал ли этот поворот тому, чтобы ученые рассмотрели и другие способы, благодаря которым вера и верование продолжают быть центральными элементами в том, как именно люди понимают, что такое религия и как она действует? Предлагая пересмотр того, что значит «верить», эта конференция приглашает к размышлению над вопросом, имеет ли вера значение (Burchett&Vaca 2009).
Описание тем, предлагаемых для подачи заявок, убеждает в том, что организаторы не намерены отказываться от понятия «вера» и стремятся оживить этот отмирающий сюжет.
Удручающий эффект, который оказывает акцентирование внимания на вере, а также требование определять религии в терминах христианства, особенно заметен тогда, когда законодательные или судебные органы стремятся определять свободу религии (freedom of religion) как свободу вероисповедания (freedom to believe). Это очевидно, например, в тех случаях, когда язычники обязаны оформлять свою религию в качестве вероучения для того, чтобы получить статус благотворительной организации (charity status)[18] в Великобритании. Мы наблюдаем тот же эффект каждый раз, когда судьи в США выносят решение о равенстве, свободном исповедовании, установлении и отделении, упоминая «религиозные вероучения» (systems of religious belief) (например: Sullivan 2008). Оппоненты «религии» из числа «новых атеистов» как будто зациклены на той ерунде, в которую предположительно верят верующие. Религия в качестве веры закреплена на юридическом, образовательном и полемическом уровнях.
В качестве заключительного примера того, как «вера» продолжает сказываться на определении религии, мы упомянем описание в издательском каталоге книги Энцо Паче «Религия как коммуникация: речь о Боге» (Pace 2011). В книге предлагается «новый подход в религиоведении, развивающий положения теории систем с тем, чтобы рассмотреть религию как средство коммуникации, и представляющий критическую альтернативу теории секуляризации в объяснении сохранения религии в современном мире» (Ashgate 2011). И снова, при всей перспективности подхода к религии как коммуникации, утверждается, что «важнейший шаг от живого слова к священному писанию является фундаментально важным для строительства религиозного вероучения» (Ibid). Вновь, религия – это вера. Именно вера, а не тысяча других тем, интересующих и определяющих поведение людей, составляет содержание коммуникации.
В поисках религии под названием «христианство»
Академическая вера в веру и верующих уводила внимание исследователей от того, что является определяющими и порождающими аспектами религии. Экспорт из Европы модерновых форм государства, гражданства, индивидуальности и общества еще более возвышал исторически частные идеи христианства до элементов, необходимых для современного мира. Такие конструкты христианского богословия, как вера, дух и трансцендентное, дали жизнь множеству христианоподобных явлений – например, выражениям «во что верят буддисты», «ложно верующие» (wrong-believers) и «верования и практики» (belief-and-practice). Ученые изучали эти квазихристианства так, будто они были чем-то другим, например истинным буддизмом, народной религией или, благодаря рефрену «верования и практики», самой религией. Поэтому сейчас существуют гибриды (столь же влиятельные, что и описанные Латуром – Latour 1993), представляющие собой системы религиозных верований, подобные христианству. Из этого не следует, что нам следует подчиниться давлению господствующего подхода и определять религию как веру, «веру в…» или «верования и практики». Из этого следует, что мы должны исследовать веру лишь тогда, когда мы с ней сталкиваемся, не более того. В этом случае христианство будет религией, подразумевающей веру, а отдельные течения в буддизме – нет. Более важный вопрос, впрочем, состоит в том, а есть ли в этих новых гибридах религия в той же мере, что и вероучение или «христианалогизм» (Christian-like-ism). В самом деле, существует ли религия под названием «христианство»? Это тема главы 11, и здесь я лишь приведу некоторые данные, которые, как мне представляется, не вполне вписываются в доминирующее определение христианства как веры.
Когда в переписи населения Великобритании в 2011 году 59,3 процентов населения Англии и Уэльса назвали себя христианами (Office of National Statistics 2012), как нам следует понимать, что это за христианство? Коллеги утверждают, что растет число людей (по всему миру), которые «верят без принадлежности» (Davie 1990), «принадлежат без веры» (Halman&Draulans 2004) и называют себя «духовными, но не религиозными» (Fuller 2004). Эти данные говорят о христианстве или религии? Если да, насколько «религиозны» выступления христиан против рукоположения женщин в епископы, гомосексуальности и магии? А проповедь или свидетельство «веры» людьми, держащими в руках ядовитых змей, чаепития в церкви, полное погружение в море последователей Назаретской баптистской церкви и, видимо, общая для всех христиан манера интонировать молитвы странными акцентами и ритмом – все эти явления входят в религию под названием «христианство»?
Утрата веры в религию
Если христианство в самом деле есть только вера, возможно, его следует называть «вероисповеданием» (faith) или вероучением (belief-system), но не религией. Даже несмотря на то что некоторые религии заимствовали термины «вера» и «вероисповедание», христианство уникально тем, что полагает веру своим средоточием. Возможно, религии, изобретающие себя заново или перестраивающие себя в качестве вероисповедания или вероучения, уходят от своего прошлого, своей традиции и своей религиозности (religion-ness). Или так, или христианство действительно является единственной религией, а религиоведы, изучающие другие феномены, нуждаются в другом понятии, новой науке и подходах.
Некоторые исследователи утверждают (пусть и другими словами), что религиоведы в действительности и изучали только христианство. Другие явления привлекали их внимание лишь тогда, когда подгонялись под шаблон христианства. Или же – что порочнее и опаснее для нашей науки, но, по-видимому, вернее – процесс «изучения религий» в значительной степени был процессом конструирования христианоподобных явлений и тем самым превращения их в достойный предмет исследования. Кто-то утверждает, что этот факт настолько дискредитирует религиоведение, что мы должны отказаться от самого этого проекта. Другие намекают на то, что религиоведы должны хотя бы покаяться в том, что все это время они были теологами.
Более радикальным решением было бы вновь начать «где-то там», стремиться к такому пониманию религий, которое не предполагает христианства в качестве их модели. Здесь я пошел на один шаг дальше и предположил, что христианство вовсе не является религией. Если так, его нельзя считать моделью для чего бы то ни было, кроме него самого. Также более чем вероятно, что христианство-как-вера, возможно, всегда было не более чем конструктом, влиятельной моделью, к которой стремятся некоторые люди, а именно моделью того, как «верить» правильно. Мне не особенно интересно, как следует называть христианство-как-веру, если оно не является религией. Возможно, вероучения будет достаточно. Поскольку «вероучение» не играет роли в дальнейшем моем рассуждении, использование этого слова для обозначения того, чем христианство является (не будучи религией), не противоречит моему призыву к формулировке полезных и аккуратных определений религии. Этот вариант по крайней мере заслуживает внимания. Мы обратимся к нему в главе 11, после того как закончим «где-то еще» поиск альтернативного – и, надеемся, лучшего – понимания религии, которое позволит нам дать новое ее определение.
Есть множество других вопросов, требующих ответа. Понять, где мы находимся сейчас (где мы были до этого и откуда следует начинать заново), – лишь часть задачи. Если христианство – это вероучение, нам следует обратить внимание и на то, что христиане не только суть «верующие», но и «верят в». И если определение религии как «веры» является ложным, то мнимые (квазихристианские) предметы веры, например «священное» и «бог», также вводили ученых в заблуждение, заставляя их сосредотачиваться на том в нехристианских религиях, что было подобно христианству. Этот вопрос будет затронут в следующей главе, после чего мы отправимся «куда-то туда» и увидим, как религия выглядит там.
Глава 4 Говорить по-пиратски
В 2005 году была придумана новая религия: пастафарианство. Тот факт, что это пародийная религия, полемическая выдумка о творце по имени Монстр летающих спагетти, проливает свет на обыденные представления о том, из чего должна состоять религия. Не утверждая на этом этапе нашего исследования, что религии должны определяться каким-то каноном «необходимых и достаточных» элементов или набором семейных сходств (Витгенштейн 1985)[19], в этой главе мы обратимся к текстам и действиям тех, кто «испытал макаронное прикосновение» этого монстра, с тем чтобы дополнить наш аргумент в пользу того, что переосмысление и более эффективное определение религии следует начинать «где-то там». Пастафарианство не вполне «где-то там»: слишком уж оно воспроизводит лекала того феномена, которому себя противопоставляет, а именно попыткам протестантов-креационистов добиться преподавания в школах теории «разумного замысла» в качестве науки, а не религии. Именно из?за того, что пастафарианство намеренно оспаривает «иррациональные верования» или нефальсифицируемую метафизику, оно отражает всепроникающую современную одержимость верой. Но мы рассчитываем на нечто большее, чем просто подкрепление аргументации, предложенной в предыдущих главах.
В этой главе мы поднимаем пиратский флаг, отправляясь на перехват не только флагмана «веры» – в регулярном флоте есть и другие корабли, обещающие хорошую добычу. Груз, который несут многие учебники и даже исследовательские монографии, в конечном счете отчеканен из христианского теологического материала. Верования по поводу «священного» и слово «бог» в особом смысле вошли в оборот там, где от них стоило бы отказаться как от порождения частного, нисколько не универсального мировоззрения. Таким образом, задача, стоящая перед нами, – не просто захватить и поделить этот груз. Мы должны потопить глобализированную универсальность частного христианского толкования идей «веры», «бога» и «мировых религий», так, чтобы академическое религиоведение могло отправиться за настоящими сокровищами – лучшим пониманием живых религий (в прошлом или настоящем).
Итак, надвигаются пираты, готовые бросить вызов доминирующим дискурсам веры, а значит, негоциантам, продающим идеи «основателей» и «священных писаний», не светит спокойное путешествие – напротив, грядет оформление нового креольского языка, на котором можно говорить о религии. Моя мишень в этой главе – не условное конфессиональное религиоведение. Выражусь яснее: я постараюсь показать а) что некоторые религиоведы были введены в заблуждение христианскими теологами, что выражалось в предпочтении вполне конкретного определения божества, и б) что некоторые из нас усвоили вполне конкретное представление о божестве (как трансцендентном, безучастном и всеведущем)[20], но при этом провозглашают его «объективным». Для этого мы рассмотрим некоторые предположительно не-религиозные феномены (пастафарианство и рационализм) и ряд «альтернативных» явлений (джедаи, ситхи и движения, основанные на сериале «Стар Трек»), чтобы показать, в какой мере сегодня самоочевидно определение религии через веру и трансцендентное. Исследование того, как употребляются и с чем ассоциируются понятия наподобие «сакрального», послужит аргументом в пользу того, что уникальная траектория развития христианства доминировала в свойственных модерну способах конструирования мира. Это доминирование неслучайно и неестественно, но представляет собой агрессивную колонизацию идей, а также людей, наций и экосистем, которая обедняет мир и ставит его под угрозу. И хотя в этой книге мы не вдаемся в детали, все же мы бросаем вызов тому нездоровому влиянию, которое на академические притязания на объективность оказала идея божественного всеведения.
В конце концов, наша задача промежуточная. Мы стремимся подчеркнуть тот факт, что религия и наука до сих пор определялись неправильно. Однако на кону больше, чем просто указание на то, что «секулярное» – лишь оборотная теологическая сторона «сакрального». Этимологии редко преуспевают в чем-то, кроме усугубления наследственных заблуждений. В случае успеха в этой главе мы продемонстрируем острую необходимость отправиться «куда-то еще» в поисках лучших путей для научного изучения религии. Последующие главы расширят наш словарь за счет более емких критических терминов и теоретических подходов. И вместо того чтобы искать тень какого-то особого христианства в (других) религиях, мы сможем сконцентрироваться на повседневных феноменах живой религии. Вероятно, когда мы вновь обратим внимание на то, что делают христиане (что произойдет в главе 11), христианство почти наверняка также окажется весьма похожим на то, как люди практикуют религию «где-то там».
Пастафарианские пираты
Пастафарианство началось с открытого письма Бобби Хендерсона Канзасскому образовательному совету (Henderson 2005). В нем он стремился подорвать усилия креационистов добиться введения в школьную программу в качестве науки учения о «разумном замысле». Основная часть письма является описанием того, что якобы «обеспокоенные граждане» верят в творение мира согласно «разумному замыслу» Монстра летающих спагетти, а любые противоречащие этому свидетельства либо ошибочны, либо намеренно оставлены Творцом, с тем чтобы вводить людей в заблуждение; кроме того, пастафарианство обязывает последователей носить полный костюм пирата. Хендерсон поясняет, что пиратские регалии не только являются волей его божества, но также сводят на нет эффекты глобального потепления, поскольку за последние двести лет «наблюдалась статистически значимая обратная зависимость» между среднегодовой температурой и числом пиратов. Письмо, очевидно, стало пародией на аргументы креационистов, пытающихся представить «религиозные верования» в качестве «научных теорий». Подлинная цель Хендерсона становится понятной из заключительного предложения: «Полагаю, мы все можем с надеждой смотреть в будущее, когда по всей стране, а вскоре и по всему миру, на уроках естествознания будет уделяться равное внимание трем теориям: треть „разумному замыслу“, треть Монстру летающих спагетти (пастафарианству) и треть – логичным предположениям, основанным на бесспорных эмпирических данных» (Henderson 2005). Сатира заключается в том, что уроки естествознания должны быть посвящены научным теориям, логике, наблюдениям и эмпирическим данным.
Хендерсон и быстрорастущее число пастафариан создали увлекательный и информативный сайт (). Повсюду на сайте, а особенно выразительно в дискуссиях на форуме, утверждается, что пастафарианская церковь несет «позитивное послание», а не просто является «сатирой и нонсенсом», хотя и их предостаточно. Жалобы (часто публикуемые на страничке «Письма ненависти») на то, что какой-то аргумент, полемика или пародия «не смешны», часто встречают отповедь, что они и не должны быть смешными, но должны побуждать к различию иррационального и рационального. Бросая вызов иррациональной вере (что может звучать тавтологично в пастафарианском дискурсе), сайт предлагает своим посетителям поэкспериментировать с созданием религий. Они игриво разрабатывают верования и их оправдания, ритуалы и тексты, которые повторяют или пародируют другие религии: например, раздел «Священная книга» Церкви, «Свободный канон»[21], называется «Торателлини» (FSM Consortium 2010). Этот проект тем самым проливает свет на расхожие представления о том, как определять религии: те, по общему мнению, должны включать в себя трансцендентное, но проявляющее себя божество, текст, космологию, ритуал, иерархию и, вероятно, добрую долю лицемерия.
Невидимый розовый единорог, джедаи и ситхи
Церковь Монстра летающих спагетти – не единственная в своем роде. Другие защитники рационализма и оппоненты религиозного иррационализма воспользовались идеей Невидимого розового единорога, «невидимого дракона, который пышет огнем, но не опаляет» (и живет в гараже Карла Сагана) и «космического чайника» Бертрана Рассела[22]. Все они ставят ряд схожих вопросов о рациональности, аргументации, логике, доказательстве и доказуемости. Они оспаривают «веру», как если бы религия определялась как ее полный синоним. Большинство настаивает на том, что вера в существование бога иррациональна и потому не научна. Пастафариане другие: хоть они и оспаривают рациональность религиозных идей и аргументов, в особенности «разумного замысла» креационистов, но не отрицают, что религиозные люди могут быть рациональны. На самом деле на сайте этой церкви часто обращают внимание на то, что, хотя многие христиане считают Библию вдохновляющей книгой, никто не воспринимает ее «буквально» (как «боговдохновенную», в терминологии фундаменталистов). Большая часть христиан – креационисты в той же мере, в какой соблюдают библейские предписания по поводу шаббата и кашрута.
Является ли пастафарианство религией, есть ли разница между «пародийной религией» и просто «религией», считать ли пастафариан атеистами или верующими – в действительности не самые важные вопросы. Скорее меня интересует то, что пастафариане предпочитают считать «религией». Вследствие основополагающего стремления или желания бросить вызов креационистским проектам значительная часть деятельности церкви сосредоточена на тех верованиях и идеях, которые наилучшим образом иллюстрируют привилегированность протестантизма (зараженного модерном) в современных идеях относительно того, что же составляет «религию». И хотя их собственные утверждения о верованиях регулярно противоречат рациональности и научному методу (который можно суммировать как наблюдение, логика, эксперимент и факты), «вера» остается определяющей. Часто подчеркивается необязательный характер ритуала, хотя наряжаться пиратами, особенно по еженедельным или ежегодным праздничным поводам, весьма популярно (и оказывается важным средством евангелизации). Уважительное поведение по отношению к другим, в том числе стремление вести спор с ответственностью, занимает важное место среди этических предписаний, разделяемых пастафарианами. Это также резонирует с протестантской и просвещенческой исторической подоплекой религии.
Пастафарианство – не единственная выдуманная недавно религия. Есть и другие группы, смешивающие науку и религию, или по крайней мере технологии и ритуалы. По всему миру можно наблюдать попытки добиться признания «джедаев» и/или «ситхов» в рамках переписей населения, включающих вопросы о религиозной принадлежности, идентичности или практике, и эти попытки породили значительный интернет-трафик. Также существуют группы, заигрывающие с сочетанием религии и популярных субкультур или литературных жанров. Англиканские церкви проводят «готические мессы» (где «готический» не имеет отношения к готической архитектуре), а друиды проводят ритуалы Стар Трека. В общем и целом это бушующее разнообразие иллюстрирует доминирование в определении религии модерновых, протестантских, просвещенческих подходов. В рамках этих подходов ритуалы проводятся исключительно для личностного саморазвития (прироста «веры» или «внутреннего знания»), социальные сети состоят из в общем-то одиноких индивидов, которые считают институты необязательным элементом, а также разрабатываются скрупулезные рациональные интерпретации, подпитывающие индивидуальный духовный рост.
Все это делает пастафарианство и другие пародийные или игровые (playful) религии идеальными отправными точками для путешествия по более изведанным водам – спорам о религии, сакральности, секулярности и теойлогии (многобогословии)[23].
Нет ли чего святого?
Как уже отмечалось, обычно люди ставят в вину церкви Монстра летающих спагетти насмешки над серьезными вопросами или искренней верой. Подобную критику можно суммировать в популярном выражении «Неужели нет ничего святого?!». «Где-то там» свобода слова порой утверждается или, наоборот, попирается, когда комики, карикатуристы и мультипликаторы высмеивают верующих людей, их действия или идеи. Вероятно, свобода высказываться о религии нелицеприятно или грубо становится определяющей для прав, свобод и секуляризации, которые стали результатом нациеобразующих войн (выдаваемых за «религиозные войны» протестантов против католиков) и последовавшей за ними эпохи европейского Просвещения. Но на кону не только столь же модерновое представление о том, что люди должны уважать друг друга. Мнимое противопоставление «сакрального» и «секулярного» или «профанного» (которое включает в себя – помимо прочего – то, что можно или нельзя говорить публично) всегда было важным аспектом некоторых модерновых определений религии.
В терминологии римской сакральной архитектуры классического периода существуют «профанные» зоны, буквально – то, что снаружи храмов. Этот термин был перенесен в качестве метафоры и на пространства (физические, дискурсивные или воображаемые), которые были «не сакральны». Они отделены от религиозных пространств (что бы те собой ни представляли) и/или подчиняются другой власти и организации. Эти различия нарастали медленно, в контексте различных политических экспериментов, и в конечном счете они внесли свою лепту в современное представление о том, что религиозные вопросы должны быть отделены от политических и всех остальных. «Профанное» также порождает идею «профанности»: это уже не просто пространственное противопоставление внутреннего и внешнего (хотя это противопоставление имплицитно влияло на представление о достойном поведении), но также синоним «неправильного по своей сути». Профанность сейчас является (почти) непростительной грубостью, осквернением. Все оказалось зафиксировано и конкретизировано. Любой достойный римлянин-язычник мог перемещаться изнутри сакральных храмов в их профанные окрестности, не подвергаясь риску. Сегодня, как показывает пример Монстра летающих спагетти, сакральность и профанность как будто разделяет пропасть.
Подобным образом и другое латинское слово стало выполнять куда больше функций, чем ему было присуще изначально. «Секулярный» когда-то означало «этой эпохи», «современный», «нашего поколения». Но христианское теологическое представление о божестве, пребывающем вне времени, каким-то образом отделенном от физического космоса, спровоцировало распространение понятия «секулярного» на противопоставления вроде «сейчас» и «вечность», «имманентный мир» и «трансцендентная реальность», «земные нужды» и «небесная литургия». Появилось место для «секулярных» правителей и «религиозных» лидеров.
Далее в этой книге (в особенности в главах 6 и 9) я постараюсь предложить более динамичное понимание переходов сакральное – профанное и религиозное – секулярное. Возможно, эти слова приобретут больше смысла, если отметить, что эти термины скорее уместны в виде глагола, описывающего действие. Предметы могут профанироваться (становиться обыденными или в определенном смысле нежелательными), они могут сакрализовываться, в особенности в ходе жертвоприношения. Полноводие этих потоков истощается в современной повседневной дихотомии «сакрального» и «секулярного». То, что когда-то было профанным, находясь вне храма, все же оставалось связанным с сакральным внутри этого храма. Жертвенные животные выбирались из числа прочих, предназначенных для «обычной» пищи. Жрецы, руководившие ритуалом, должны были соответствующим образом вести себя (например, отстраненно) в период подготовки к вхождению в храм. Но современная «секулярная» реальность отделена от религии. Или, скорее, предпринимаются усилия для отделения религии от политики, церкви от государства, сакрального от области секулярного. Внутренние противоречия в одной религии сотворили мир, который теперь слишком часто принимается как естественный, единственно возможный и нормативный.
Как пишет Тим Фитцджеральд,
необходимой частью идеологического процесса создания современной категории религии была попытка концептуализировать нерелигиозное. Этому процессу поспособствовало то, что внутрихристианская средневековая дихотомия религиозного – секулярного превратилась в предположительно универсальную для всех обществ… Творение секулярного – нерелигиозного, научного, естественного, присущего миру, каким он предстает в рациональном наблюдении, – в этом свете может восприниматься как мистификация, как проект западного империализма, поскольку оно маскирует западную эксплуатацию мира и неравные отношения, существующие между нациями. Одна из наших задач – проанализировать роль, которую в этом процессе играет современная категория религии (Fitzgerald 2000:14–15).
Критика Фитцджеральдом проекта мистификации эксплуатирующего империализма и частично замаскированных процессов основывается – что особенно важно – не только на анализе «западных» текстов и практик, но также на исследовании буддизма, индуизма и религии в Японии. Коротко говоря, Фитцджеральд «где-то там» отрабатывает, проверяет и обогащает свою аргументацию – хотя отмечу, что его данные и рассуждения ставит под сомнение, среди прочих, Иэн Ридер (Reader 2004a, 2004b). Я стремлюсь сделать нечто похожее, но в другом ключе. Меня воодушевляют возможности, открываемые исследованиями «где-то там», – они дают мне надежду показать, что модернизм как проект не является данностью; однако при этом меня не вполне убеждает тезис о том, что «религия» непереводима на неевропейские языки. Скорее, мне кажется удачной идея, согласно которой религия (всегда и повсюду) в реальной действительности лучше определяется посредством терминов, вопросов и интересов, обнаруживаемых «где-то там», а не навязанных европейской традицией дуализмом и сверхразделением.
На данном этапе путешествия я предлагаю принять, что модерн все же не представляет собой обычного моря, по которому мы все плаваем. Скорее, это имперский военный корабль, скрывавший (что странно ввиду нашей метафоры) свой подлинный класс и маскировался дорогостоящими иллюзиями. Главная среди них – искусственное разделение разума и материи, культуры и природы, человечества и космоса. Но снаряжается пиратский флот, у которого в арсенале подрывающее все и всяческие иллюзии утверждение: мы противостоим «модернизму», но не «модерну» – навязчивому проекту по внедрению модернизма, но не простому описанию той или иной современности. Если Латур был прав в том, что «Нового Времени не было» (Латур 2006)[24], то не только потому, что модернизм всегда был невозможным проектом (создававшим собственные немодерновые гибриды, помимо других трудностей), но и потому, что мы и мир всегда ему сопротивлялись. Но мы вернемся к этому вопросу и богам-фактишам (Latour 2010) модернизма позже. Следует обсудить «сакральное», чтобы лучше видеть обманную химеру модерновых различий и противопоставлений.
Священное – существительное и прилагательное
В «Свободном каноне» (FSM Consortium 2010), «собрании реально важных слов» (или зарождающемся писании) церкви Монстра летающих спагетти термин «священное» встречается четырнадцать раз, причем исключительно в качестве прилагательного. Он характеризует определенные места, деревья, связанные с макаронами продукты (в том числе пиво), пиратов и один «закон», связанный с публичным этикетом. Примечательно, что слово это никогда не превращается в варварское субстантивированное «сакральное» (the sacred), ошибочное употребление которого отслеживали Джонатан Смит (Smith J. Z. 1978), Билл Пикеринг (Pickering 1994), Терри Томас (Thomas 1994), Мелисса Рафаэль (Raphael 1994), Веикко Анттонен (Anttonen 1996, 2000, 2005) и Ким Нотт (Knott 2009). Этот неологизм XIX века был без особой пользы противопоставлен «профанному» в социологии Эмиля Дюркгейма (например, Дюркгейм 2018), но подлинно расцвел в теологии Рудольфа Отто (Отто 2008) и Мирчи Элиаде (Элиаде 1994). Ему так и не удалось избавиться от теологического провинциализма: выдаваясь за понятие, способствующее объективному, кросскультурному и/или критическому изучению религий, оно обычно лишь укрепляет тенденцию универсализации христианских элементов.
«Священное» иногда соединяется с «опытом», искушая нас уверовать в то, что можно исследовать некий универсальный опыт некой всеобщей религиозности (вроде нуминозного Отто). Иногда уже само использование понятия «сакральное» подрывает попытку понять других, распространяя заразительные утверждения о том, что любой опыт трансцендентного божества неизъясним. Вкратце, «сакральное» не открывает нам новые возможности для кросс-культурного или межрелигиозного диалога и не служит по-настоящему критическим термином, полезным для его обсуждения. Скорее, этот термин служит не слишком плотной завесой, сквозь которую проглядывает лик божества современного протестантизма, а в сочетании с «опытом» он призывает верить. Завеса эта весьма ветхая и должна быть сорвана.
Если «сакральное» не должно становиться в религиоведении существительным, традиционное его использование в качестве прилагательного по-прежнему обладает потенциалом. Пусть мы можем и не признавать существование священных людей, мест, времени и предметов, но нам не удастся понять динамику, чрезвычайно характерную для религии, если мы не признаем, что другие люди к подобного рода материям относятся всерьез. Для достижения этой цели я вернусь к данной теме далее, в особенности в главах 6 и 9, в которых, в частности, я попытаюсь подчеркнуть динамическое переживание вещей, людей, мест, времен и прочее, меняющееся в зависимости от того, к каким сферам жизни оно имеет отношение. Так мы рассмотрим, в частности, феномены tapu/tabu и qadosh – лишь отчасти имеющие отношение к понятиям маори, полинезийцев и евреев. Наконец, я надеюсь показать, что (контекстуальная) динамика этих терминов в значительной мере обогатит наше понимание и использование понятия «священное».
Здесь же, утверждая, что «сакральное» и «религиозный опыт» суть лишь неловкая маскировка христианских теологических понятий, мы намерены пролить свет на еще два момента. Во-первых, имеет место неудачная попытка обнаружить божество, подобное богу элитарной христианской теологии, там, где подобных сущностей нет и никогда не было. Во-вторых, ученые стремятся уподобиться этому божеству.
Поиск божества и захват земель
Макаронный Монстр – в первую очередь и по преимуществу творец. На самом деле Монстр – подлинный творец, разумный конструктор, изобретатель, пусть и довольно эксцентричный и увлекающийся. Он (будучи определенно существом мужского пола) может быть и пьяницей, и лентяем и скорее будет игнорировать своих последователей, чем преследовать своих врагов. И, несмотря на это, во многом он похож на бога некоторых направлений протестантской теологии. В частности, это божество, требующее веры в иррациональную ненаучную метафизику. Впрочем, он не отличается всеведением или бесстрастием. Кроме того, поскольку он, в конце концов, является пародией, он провоцирует соперничество, споры и вызовы. Пастафариан едва ли соблазнят пути расколов или фундаментализма. Они даже регулярно противопоставляют себя фундаменталистам-атеистам без чувства юмора.
Суть здесь в том, что божества не подобны друг другу. Но, несмотря на это, агрессивная экспансия европейского империализма основывалась на двух положениях: а) есть лишь один истинный и абсолютный бог; и б) те, кто не верит в него, должны по крайней мере верить в божество, похожее на христианского бога. Нескольких примеров будет достаточно для того, чтобы проиллюстрировать равно далекие и от иронии, и от справедливости результаты опустошительной реализации этой теополитики[25].
Когда подданные Альфонсо V Португальского и, чуть позже, Фердинанда и Изабеллы Арагонских и Кастильских прибыли на новые (для них) территории, они искали признаки присутствия на них христианства. Им нужно было знать, существовал ли у народов, с которыми они сталкивались, христианский правитель. Также им было нужно знать, были ли местные жители христианами или, по меньшей мере, в достаточной степени людьми, чтобы быть способными к обращению в христианство. Первое обстоятельство (связанное с христианским правителем) было особенно важным. Если таковой не находился, то подданные христианских монархов обязывались «захватывать, одолевать и подчинять сарацин, язычников и других врагов Христовых», «порабощать их на веки вечные» и «забирать все их имущество и владения» (Newcomb 1992; цит. по: Davenport 1917:20–26).
Это распоряжение, закрепленное папой Николаем V в булле Romanus pontifex (1452), еще более укрепил Александр VI в булле Inter Cetera (1493). Оно отражается в ряде указов европейских правителей, оправдывающих вторжение, порабощение и разорение (т. е. колониализм). Оно лежит в основе претензий Соединенных Штатов на владение территориями автохтонного населения, на которые они распространялись. Оно созвучно (хоть и на варварский лад) идее terra nullius, озвучившей фантазию, согласно которой – вопреки всем свидетельствам обратного – то, что сейчас называется Австралией, было пустующей, ничейной и неуправляемой землей до прибытия европейцев. Множество других направлений развития идей европейского землевладения и рабовладения могут дополнить нашу мысль примерами со всего мира.
Специфическая система представлений о законной власти и землевладении в этом и подобных контекстах фундаментальным образом связана с представлениями о божестве. Стремление обнаружить свидетельства возможности уверовать в существование и милосердие того бога, который наделял завоевателей властью, играло значительную роль в определении человечности и/или прав местных народов и отдельных индивидов. Так, неудачи Самуэля Марсдена (1765–1838) в деле обращения и окультуривания аборигенов Австралии представляют собой разительный контраст, по крайней мере в его представлении, с его успехом у маори. Он говорил об аборигенах: «У дикарей нет Разума (Reflection) – нет ни привязанностей, ни желаний», а о маори он пишет как о «весьма развитых в отношении мыслительных способностей, нуждающихся лишь в знакомстве с торговлей и искусством, ведь они обладают естественной склонностью к воспитанию трудолюбия и морали, открывающей путь к знакомству с Евангелием» (Marsden; цит. по: Yarwood 1967).
Христианские миссионеры по всему миру нуждались именно в том, от отсутствия чего получали свои дивиденды христианские колонизаторы – а именно в представлениях (местных народов) о землевладении и божестве, которые европейцы могли бы опознать. Они ошибочно считали, что у аборигенов нет ничего подходящего для диалога с христианами. Столь же ошибочно, хоть и принципиально иным образом, они заблуждались насчет наличия у маори «примитивных» и «рудиментарных» представлений о землевладении и божестве. Как и во многих других случаях, европейцы искали индивидов, обладающих собственностью, властью вести переговоры, способностью к внутренней «вере» в трансцендентное божество. На деле же, находили они таких индивидов или нет, было не важно, результат оставался неизменным: людей переселяли с их земель, их мнения игнорировались, а традиции умалялись (или превращались в курьезы). Та часть проекта европейской экспансии, которая касается религии, – что, вероятно, иронично – выражена Уильямом Джеймсом в его определении религии: «совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием устанавливается отношение ее к тому, что она почитает Божеством» (Джеймс 1993:34). Процесс цивилизации повлек за собой разрушение местных сообществ, превращение людей в сверхразобщенных индивидов и низведение религии до случайных, но ошеломительных опытов подчинения, которые, парадоксально, могли объединять отчужденных индивидов.
Даже у маори то, что обнаружили Марсден и другие, было скорее общинным и менее сверхъестественным (если использовать одну из сторон пресловутого дуализма), чем теология христианских элит. Всеведущее, вездесущее, в значительной степени трансцендентное, вероятно, бесстрастное, безусловно единственное и определенно творящее все сущее – это божество отличается от всех других богов и уж точно отделено от всех других существ. И хотя в других элитарных монотеистических теологиях представлен схожий комплекс представлений, в соответствии с которыми единый бог определенно «иной», в живой реальности практики отношения большинства христиан с этими духовными существами не столь трансцендентны: они просят о помощи в телесных и материальных коллизиях, ищут эмоциональной поддержки от присутствующей здесь и сейчас, часто материализованным образом (в теле или камне), сакральной личности. Но обычно миссионеры ожидают от людей (христиан или потенциальных христиан) большего. Они ищут представления, которые смогли бы использовать в проповеди желательности «чувств, действий и опыта индивидов», индивидов, которые на основании этого в полной мере переживают встречу с божеством и должным образом себя с ним соотносят.
Бог в академическом мире
Поисками по всему миру «высших богов», которых (не в их пользу) можно сравнивать с христианским, занимаются не только христианские миссионеры. Эти поиски также сказываются на тех предположениях, которые некоторые ученые делают по поводу того, какого рода существа обозначаются словом «бог». За исключением имперского бога экспансионистской Европы, остальные божества редко бывают всеведущими, вездесущими, всемогущими и т. д. Некоторые, возможно, участвовали в актах творения, но скорее они придают форму или присматривают за фрагментами космоса, а не миром вообще. К ним можно обращаться за советом, но нет никакой логической причины, по которой какое-то могущественное существо должно оставаться благорасположенным к другим существам сколько-нибудь продолжительное время. Согласно многим религиозным традициям, есть веские причины проявлять заботу во всех взаимоотношениях, особенно с теми, кто славится самолюбием. Вероятно, где-то до появления христианства и ислама люди допускали существование каких-то существ помимо множества личных божеств, предков и людского сообщества в земной жизни. Возможно, одно-единственное существо считалось ответственным за весь космический процесс. Но такие существа редко интересны людям – так же редко, как они сами проявляют интерес к миру. В тех редких случаях, когда «мать-земля» или «отец-небо» в принципе упоминаются, едва ли можно говорить о посвященных им системам ритуалов. Например, у маори скорее распространено обращение к детям неба и земли и взаимодействие с ними – это куда более распространенная практика, чем почитание «бога» как единственного, уникального существа.
Анализ природы божеств я продолжу в главе 8, посвященной представлениям йоруба об ориша, что поможет лучше понять, как можно значительно более эффективно определить религию в связи с близкими и доступными божествами, нежели в связи с трансцендентным богом. Подобным образом, в главе 9 мы обратимся к примеру иудаизма, который показывает, что «бог» необязательно означает род существ, постулируемый в проповедях и догматическом богословии христианства.
Ничто из сказанного не вынуждает соглашаться с тем, что все божества суть проекции человеческих забот или антропоморфизм. Скорее, мы предлагаем воспринимать всерьез утверждение, повсеместно встречающееся в культурах коренных народов, в соответствии с которым мир – сообщество личностей, большинство из которых не являются людьми, но все они (по меньшей мере здоровые) способны на взаимоотношения, коммуникацию, намеренные действия. Идея личности (или ее характерных свойств) определяется не человеческим типом личности: он лишь один из типов личности, наряду со многими, в чем-то похожими друг на друга. Божества похожи на людей лишь настолько, насколько они похожи на любое живое, вступающее во взаимодействия существо. Разумеется, некоторые люди изображают божеств и (возможно) переживают опыт встречи с ними в антропоморфном виде. Но это другой вопрос. Здесь важно, что гораздо проще размышлять и говорить о божествах в разных культурах, если мы не нагружены понятиями, заимствованными лишь из одной религии. В частности, наследие христианской богословской мысли об одном божестве не должно использоваться в качестве определяющего везде и всюду. В самом деле, возможно, что божества «где-то там» могут поспособствовать нашему пониманию повседневной христианской жизни. Экология божеств кажется более достижимой, если они рассматриваются как фрагменты более широкого, многовидового сообщества. Но это справедливо и в отношении экологии человечества, как покажут следующий раздел и следующая глава.
Одним из очевидных следствий заимствования академическими теориями религии христианского представления о божестве становится то, что слишком часто в фокусе внимания оказываются разнообразные виды дуализма. Некоторые ученые слишком привычно используют дихотомии, например естественное – сверхъестественное, имманентное – трансцендентное, мирское – божественное и т. д., как будто те естественны и универсальны. Подобно «секулярному» в связке с «религиозным» или «священным», в каждой из этих пар одно подразумевает другое. Поэтому, называя язычество «естественной религией», мы противопоставляем его предположительно религиям «сверхъестественным» или сфокусированным на трансцендентном. Еще меньше пользы от следующего из этого предположения о том, что есть «сверхъестественная» реальность, противопоставленная «естественной», природе. Из-за подобных дихотомий Кен Моррисон считает необходимым довольно пространно критиковать описание Оке Хульткранцем «понятия сверхъестественного в примитивных религиях» (Hultkrantz 1983) (Morrison K. M. 2002:37–58). Исследования Моррисона (и в указанной работе, и в других) демонстрируют, насколько важно придавать значение тому, как понимаются отношения между божеством и индивидуальностью (personhood) в локальных культурах и как оно могло бы обогатить наши критические исследования. И язычество, и религии коренных народов, которые описывает Моррисон, не порождаются дуализмом и не определяются им. Такого рода дуализм неизменно проблематичен даже в тех контекстах, в которых он возникает, коль скоро попытка применить его в отношении реальности противоречит таким нашим неотъемлемым свойствам, как телесность, пространственность и взаимосвязанность. Следует с осторожностью относиться к утверждениям о том, что религия по определению имеет дело с другим миром, даже когда она и в самом деле предполагает взаимодействие с божествами.
Возможно, еще больше ущерба попытке понять отдельные религии в их собственных границах наносит расхожее предположение, согласно которому «бог», а следовательно, и «религия» должны иметь какое-то отношение к предельным вопросам (ultimate concern) или высшим ценностям. Вероятно, отчасти эта тенденция возникает благодаря стремлению быть более инклюзивным или плюралистическим. Так, для не-теистических буддистов, поли-теистических индуистов и а-теистических гуманистов «предельные вопросы» оказываются предметом диалога. Также, отчасти, она может возникать из желания найти для «религии» место за пределами тех вопросов, которые ныне колонизированы науками. В процессе создания модерновых государств религиозность принудительно вытеснялась во все более индивидуализированную приватную сферу (Cavanaugh 1995), и наряду с этим требовалось обращаться к богу лишь с не-повседневными вопросами: жизнь после смерти, предельные ценности и смысл сущего. Какие-то божества и какие-то религии, разумеется, по крайней мере иногда, проявляют заботу о таких вопросах. Но не стоит загонять религии в гетто и/или подчинять некоей статичной норме. Нам следует обратиться к критике Клиффорда Гирца (Гирц 2004:108) Талалом Асадом, который призывает нас обращать внимание на те практики телесности, материальности, власти и порядка (discipline), которым обычно не придается большого значения, вместо того чтобы определять религию как символическое выражение предельных интересов (Asad 1993).
Очевидно, что, как только религиозные проповедники возвышают божеств или религиозные цели над заботами и обстоятельствами обыденной жизни, в дело вступают «меньшие» божества и цели. В данном случае нам важно не столько место святых, икон, статуй и других почитаемых персон (в том числе предметов-персон[26]) по отношению к «высшим богам», сколько последовательное противостояние идее, согласно которой религия и «бог» наилучшим образом определятся связью с предельным, трансцендентным или сверхъестественным состоянием или событиями. Как провокационно заявляет Бруно Латур,
религия даже не пытается ‹…› достичь чего-то по ту сторону, а только предъявить присутствие чего-то, обозначаемого конкретным техническим и ритуальным выражением «Слово воплощенное», означающим, что оно здесь – живое, – а не мертвое там, далеко ‹…› Религия, в этой традиции, делает все, чтобы моментально переключить внимание, систематически пресекая желание уйти, игнорировать, быть равнодушным, заскучать или пресытиться. А наука не имеет ничего общего с видимым, отчетливым, непосредственным, осязаемым, с живым миром здравого смысла – с миром упрямых «на самом деле» (Latour 2010:110).
Как показывает этот пассаж о науке, эта влиятельная полемика заслуживает дальнейшего обсуждения. Но сейчас я привожу эту цитату, соглашаясь с Латуром в том, что модернисты неверно идентифицировали и религию, и науку, заставляя последнюю (в условиях модерна) «отказаться от своей цели – заново репрезентировать то, чему она посвящена, оставляя нас изумленно и бездумно вглядываться в невидимый мир запределья, причем у нее нет ни оборудования или компетенции, ни власти или возможности не то что ухватить его, но даже приблизиться к нему» (Ibid 112).
В двух словах: религия весьма и весьма связана с той жизнью, которая является материальной, физической, телесной, которая проживается в конкретных пространствах и действиях. Таким образом, я полагаю, что такие слова, как «божество», «божественность», «бог» или «богиня», называют иные типы личности, нежели существо, называемое «богом» христианскими теологическими элитами. Настало время обратиться к тому, как люди воплощают (perform) религию в жизни, когда их не разрывают на части неправдоподобные противопоставления, навязанные элитами. Но для этого мы должны затронуть проблему того, что некоторые из нас, ученых, пытаются подражать этому всеведущему трансцендентному божеству.
Просветский надзор
Научная объективность может быть отпечатком божественной трансцендентности. Мы приобретаем знания огромным множеством способов, и множество путей ведут к достоверности. Практика этнографических дисциплин трансформировалась от наблюдения и включенного наблюдения к другим формам исследования, предполагающим еще большую вовлеченность. Тем не менее идеология, которую разделяют многие ученые, безусловно настаивает на желательности и возможности объективности в самом строгом смысле. То есть подобно тому, как трансцендентное божество обладает еще лучшим, чем с высоты птичьего полета, обзором положения дел, обученный и дисциплинированный ученый также должен быть способен целиком и полностью отражать реальность для других. Но не существует такой удаленной позиции, с которой реальность видится и целостно, и адекватно. Всегда есть другая сторона (внешняя или внутренняя), которую нельзя увидеть, потрогать, понаблюдать. Заключение в скобки[27] работает лишь в том случае, если исследователь признает, что его перспектива ограниченна, и откажется от претензий на то, что ему под силу охватить все существенные вопросы.
По счастью, разумеется, большинство из нас (ученых) хорошо понимают, насколько безумно претендовать на едва ли не божественное могущество. Мы стремимся к пониманию посредством особых отношений, которые мы налаживаем с теми, кого исследуем. Мы стараемся до такой степени, что ищем способы выразить то, относительно чего другие убеждены в невыразимости (религия) или солипсизме (скептицизм). Но когда мы читаем или слышим о противопоставлениях вроде «объективность и субъективность», «аутсайдеры и инсайдеры», «наблюдение и участие», «рациональность и вера», мы оказываемся свидетелями «позы беглеца»[28] (если использовать резонансный термин, введенный Джеральдом Вайзнером – Vizenor 1998), того божества, которого наши коллеги, как они считают, отвергли. Бог не заполняет пробелы в знании, он бесстрастный наблюдатель. Его следы обнаруживаются в трансцендентном, безучастном наблюдении и достоверном знании.
Васкес предлагает новые способы рассмотреть модерновое «я» (self), в особенности «я» ученых, его протестантскую родословную и техники наблюдения. Два момента особенно созвучны нашим мыслям. Во-первых, основываясь на идеях Айвана Стренски (Strenski 2006), Васкес утверждает:
Возвышение феноменологии религии в качестве ключевого метода религиоведения было результатом соединения немецкого идеализма, протестантского пиетизма и гуссерлианского (кантианского и картезианского) искушения трансцендентным и его верности призыву Августина «Вне себя не выходи, а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке» (Августин 1999:488). Феноменология религии оперирует представлением о том, что «я» (self) обладает «зеркальной сущностью» (Рорти 1997), что религиозный субъект потенциально прозрачен для самого себя (self-transperent), обладает привилегированным доступом к своим мыслям, чувствам и эмоциям, которые, будучи обобщенными, могут стать основанием теории религии. Пиетизм и раннее творчество Гуссерля объединяет недоверие к «внешнему» миру и практическому действию в нем, ведь первый стремился избежать посредничества в отношениях между верующим и Богом (отрицая эффективность труда в католицизме), а последний видел в сопряженности с внешним миром препятствие к раскрытию трансцендентального эго (Vasquez 2011:88).
Антикатолические настроения, особенно в форме антиритуализма, сводят на нет все попытки иметь дело с практикой религии в тот самый момент, когда (пере)-обращают внимание на запредельное или трансцендентное. Наука, может, и становилась светской, но полностью (если вообще) просвещенной не стала – и то и другое связано с тем, что она сфокусирована на трансцендентной реальности, а не на здесь и сейчас этого реального мира.
Сходным образом Васкес развивает идеи Фуко, показывая, что
картезианское «я» оказывается центральной эпистемологической величиной эпохи модерна ‹…› Фуко утверждает, что эпоху модерна характеризует дуальное устройство «я», как субъекта и объекта одновременно. Это расщепление оказывается возможно благодаря обобщенному использованию рефлексии, обращенной на себя, той же самой оптики, которая ведет к отчуждению безумцев. ‹…› Модерн определяется «аналитикой конечного человеческого бытия» (Фуко 1994), где человеческое «я» занимает место Бога, и как суверенного наблюдателя мира, и как объекта собственного наблюдения (Vasquez Ibid:134; цит. по: Фуко 1994).
Это созвучно идеям Линды Холлер, выявляющей избирательную шизофрению Декарта и других философов (Holler 2012). Васкес и Холлер предлагают своим читателям материальную, воплощенную, деятельностную (performative), локализованную практику науки и конструирования «я» (в первом случае связанную с религией, во втором – с моральной рефлексией и агентностью) и ставят под сомнение то, что привычно людям модерна.
Возражения против религиозного характера феноменологии религии имели место неоднократно (например Flood 1999), но у Васкеса мы видим наиболее широкий диапазон этой критики. Модерновая рационалистическая наука также требует от протестантского (по стилю) субъекта стать (по-протестантски) подобным богу: всеведущим и вездесущим бесстрастным наблюдателем. Поиск смысла за пределами «непосредственной реальности», в некоем трансцендентном, дающем о себе знать материальными формами и отношениями, намекает (если не громогласно заявляет) на следы все тех же старых-добрых поз беглеца. Так, Васкес (основываясь на Asad 1993) обоснованно критикует Клиффорда Гирца (Гирц 2004) и других исследователей, предлагавших концепцию религии, которая
коренится в представлениях о том, что «социальная реальность в основе своей символична» и что наше восприятие мира не является полным и непосредственным, но всегда остается неясным и частичным, всегда «полностью сопряжено с объяснительными процедурами, предшествующими и сопутствующими ему» (Рикёр 2008:41, 42, цит. у Vasques 2011:215).
По ту сторону критики
И ошибочное само по себе, и – к тому же – неправильно понимаемое протестантское определение религии как «веры в бога», «веры в духов» или в «постулируемую метафизику» – не самый разрушительный результат академической науки, служащей интересам одной-единственной религии. Куда больше вреда нашей науке нанесли те академики (порой заявляющие исключительные права собственности на именование «учеными»), которые изо всех сил старались быть трансцендентными, всеведущими и бесстрастными.
Недостаточность критики какого-либо подхода к изучению религии на основании того, что он «религиозен», подтверждается тем фактом, что модерновый способ научной деятельности сам по себе является религиозным. «Секулярное» не отделено от «религии» – на самом деле большой вопрос, понадобилось ли бы нам это слово, не будь оно включено в качестве понятия в словарь религиозной культуры. Когда религиоведы продолжают искать нечто из христианского теологического пантеона в сообществах и практиках (в том числе и христианских), которым подобные вещи чужды, они продолжают христианскую миссию, просто другими средствами. Определение религии через отсылку к трансцендентному и предельные ценности выдает следы таких партизанских вылазок. Но их же выдает допущение того, что научная выучка способна вылепить модерновое «я» по образцу всеведущего божества.
Здесь нам могут помочь иные представления о божестве. Трикстеры и другие божества, которым мир совсем не безразличен, могут, например, вдохновить нас переосмыслить, на что нам следует обращать внимание в поисках религии в реальном мире. Летающий спагетти-монстр может напомнить нам о том, что не все божества должны быть всеведущими или абсолютно рациональными. Я не уверен, что какое-то «где-то там», а не до сих пор доминирующее, чрезмерно нормативное «здесь» определенного протестантизмом рационалистического модерна задаст лучшее понимание религии. Возможно, что я лишь прибавлю еще один местечковый довод к тому буйному разнообразию, которое изучают религиоведы, и к тому, как они его изучают. Однако я полагаю, что, начиная «где-то там», размышляя о практике (performance) и материальности, динамике повседневного и обыденного, мы будем продвигаться к более богатым формам сопричастности и понимания мира. Большие и малые пиратские подвиги, потопление доминирующего картезианства и трансцендентности (как божеств, так и ученых) могут, я думаю, отточить наше умение маневрировать в живой реальности, с которой мы имеем дело. В следующей главе я попытаюсь пробудить ощущение реального мира, в котором существуют религии и наука.
Глава 5 Реальный мир
Две вещи я узнал, вслушиваясь в пение птиц. Во-первых, несмотря на то что мир «за пределами человека» полон общения, оно по большей части не адресовано человеку. Во-вторых, несмотря на то что по большей части это общение адресовано не нам, мы не исключены из него. Мы не являемся его центром, но мы и не отсутствуем в нем. Хотя другие виды не разделяют нашу одержимость антропоцентризмом, мы не отделены от них, а они – от нас. Птицы и все те, с кем мы связаны, нас не игнорируют, мы для них не чужаки, ведь мы живем в одних и тех же местных сообществах (place-communities) и стали тем, чем стали, в одном и том же мире. Наши действия в определенном смысле важны для них, но и наши действия и действия по отношению к нам – не единственные значимые события во Вселенной. Как птицы существуют не для наших выгоды и пользы, так и их не особенно мотивирует каждый наш шаг или фантазия. Но иногда случается и так.
Мы все являемся частью общины жизни, сообщества обитателей Земли. Мы живем рядом с другими видами, наши жизни переплетены, все наши действия со-творят все происходящее, минута за минутой. Нет окружающей среды, отделенной от жизней – и наших, и других видов. Есть только одна экосистема: действия множества связанных друг с другом видов, для которых она является домом. Наша природа, материальная, телесная, а возможно, и плотская, не отличается от природы живущих на Земле существ. Мы не являемся и не можем быть индивидами (несмотря на все усилия Брайана, не-мессии «Монти Пайтон»). Мы с необходимостью являемся общинными (communal) существами. Более того, наше «здесь», наша экосистема-дом-Земля не создается вокруг – и независимо от – нас, пока мы делаем, что делаем, «она» складывается из соединенных действий всех нас, здесь существующих. И в данном случае нет различия между обитанием как существительным и глаголом; мы живем в мире как дома. Границы наших пространственности и телесности совпадают.
На самом деле не важно, что вы думаете по поводу моей фразы о понимании птичьего языка. Она в одинаковой мере поэтически и слегка иронически выражает строго научное понимание взаимосвязанности всего сущего и своего рода анимистически-мистический настрой. Пение птиц, скорее всего, не ведет к откровению и не является необходимым этапом в определении «религии». Эта глава посвящена не религиозной интерпретации реальности или религии: я здесь не смешиваю все то разнообразие, из которого состоит или которое предполагает религия, в очередное описание реальности (не важно, насколько адекватную версию такого описания я мог бы предложить). Я не намерен оценивать правдоподобие или ценность религий на основании их соответствия каким-либо представлениям о реальности. Религии не обязаны вписываться в какую-то иную космологию, кроме их собственной. Как быть с тем, что традиционные или усвоенные мировоззрения не согласуются с какими-то еще взглядами (научными, религиозными или и теми и другими), – решать самим религиозным людям. Что еще важнее, это им решать, как им следует жить, действовать, поступать, вести себя религиозным образом в реальном мире.
Моя цель состоит в развитии изложенной в предыдущей главе идеи о том, как ученый может преуспеть в исследовании и преподавании в реальном мире. Таким образом, я намерен понять, что мы можем сделать большего, нежели критика и деконструкция. Не хотелось бы растрачивать время и силы на доказательство того, что мир недостаточно хорошо описывается картезианскими или посткартезианскими модернизмом, постмодернизмом или слишком-модернизмом[29]. Множество выдающихся ученых (Plumwood (1993, 2000, 2002, 2009), Latour (1993, 2002, 2010), Damasio (1994), Abram (1997, 2010), Spretnak (1999, 2011), Ingold (2000, 2011), Holler (2002), Midgley (2004), Barad (2007), Vasquez (2011) и многие другие) демонстрируют это с той степенью обстоятельности и полноты, на которую я не могу и надеяться. Кроме этого, и активисты феминистского движения, борцы за права туземного населения, защитники окружающей среды, своими словами и поступками делают мир лучше.
Нам недостаточно просто знать, что старые карты ошибочны. Если «Нового Времени не было» (Латур 2006), необходимо поставить вопрос: а что же было? К сожалению, по справедливому выражению Латура, мы, живущие в условиях модерна, внутри модернистского проекта, прилагали множество усилий к тому, чтобы быть (или стать) современными, и мы вольно или невольно вносили свой вклад в модернизацию. Подобным образом Майкл Штайнберг (Steinberg 2005:143), вероятно, тоже прав, утверждая, что «мы становимся видом наиболее приспособленным к капиталистическому миру». Впрочем, по счастью, он продолжает: «От нашей старой жизни остается еще достаточно, чтобы этот процесс казался нам болезненным». Не все потеряно. Но я хочу большего! Я хочу понять, чем мы можем стать, если перестанем притворяться людьми модерна наподобие раскольников-фантазеров вроде Декарта.
Отметив опасения Штайнберга по поводу упрощенных решений («оглядываться», «вглядываться в себя», «выглядеть сексуально», «выглядеть загадочно») и не желая участвовать в бесконечной деконструкции, я при этом не хочу и прибегать к конструкции. Как, я уверен, говорилось уже много раз, это назойливая и поднадоевшая метафора. Мы с готовностью и вполне обоснованно предполагаем, что сконструировано все – наши дома, пабы, университеты, суды, стадионы, рестораны, сады, фермы, транспорт и сети коммуникаций. Об этом и говорить не стоит. Однако самое время подумать о том, как мы живем и действуем в нашем мире. Настало время посмотреть, как живут и действуют в этом мире другие. Пришло время найти академическую практику для мира, который отличается от того, который мы воображали. Или, скорее, нам следует задаться вопросом о том, как заниматься наукой в мире, который мы начинаем понимать заново, теперь, когда сооружение, возведенное на Декартовой ошибке, рухнуло. Например, как мы можем заниматься исследованиями не в качестве индивидов, а в качестве симбионтов? Как мы можем осмыслять практику религии в многовидовом мире, в котором люди и не отделенные, и не исключительные величины, но помещены в пространство и интегрированы?
Мне бы хотелось суммировать и обсудить ряд работ, демонстрирующих, как следует вести исследования в реальном, «глубинном» мире[30] – выражение, которое может подсказать, что я кое-что усвоил из работы Рональда Граймса (Grimes 2002). Поскольку мы не можем по-настоящему перестать жить в реальном мире, несмотря на обилие и соблазнительность наших иллюзий, наших замысловатых мировоззрений, я постараюсь сосредоточиться на разнообразных знаках, показывающих, где же мы находимся на самом деле. Нет, метафора не самая удачная: это не знаки, которые указывают на что-то, скорее это каирны, груды камней, призывающие нам остановиться, оказаться здесь и сейчас и добавить свой камешек. Но все же реальный мир обнаруживается где-то еще, не там, где царит модерновый индивидуализм, консюмеризм и сепаратизм эпохи позднего антропоцена[31], с их доминирующим для науки способом действия.
Реальный мир может также находиться «где-то там», где какая-то конкретная религия что-то провозглашает о реальности, но это не особенно интересно. На самом деле это совершенно непримечательно, коль скоро мы ищем лучший способ изучения религий. Вернувшись наконец куда-то туда, где мы на самом деле всегда и были, в реальный мир, мир наших тел и взаимоотношений, мы сможем продвинуться вперед и в качестве исследователей. Мы можем изучать религиозные миры такими, какими они проживаются в реальном мире (не важно, «вписываются» они в этот мир или нет). Отчасти меня раздражает тезис о том, что определение религии как «феномена культуры» (Гирц 2004) или как «естественного феномена» (Dennett 2006) требует от нас также определения «культуры» и «естества». Не используем ли мы слова таким образом, чтобы на самом деле предотвратить понимание мира? Понимая, что мир не дуалистичен, как обычно предполагает использование терминов вроде «культура» и «природа», я предлагаю суммировать альтернативные точки зрения. Причем нередко я буду сопоставлять идеи и подходы, которые, как мне кажется, интересным образом согласуются друг с другом (хотя, возможно, не всегда так, как ожидали их создатели).
Быть добычей (не отделенной)
Вэл Пламвуд предлагает тонкий, вдохновенный и в конечном итоге вдохновляющий анализ ситуации модерн(изм)а, в которой мы пребываем. Она пишет:
Антропоцентризм – комплексный синдром, состоящий из сверхотделения людей в особый вид и сведения не-людей к их полезности для людей, иными словами, инструментализма. Нередко утверждается, что это единственная возможная позиция, осмотрительная и рациональная.
Я, напротив, заявляю, что такой антропоцентризм не в интересах ни людей, ни не-людей; более того, он опасен и иррационален (Plumwood 2009).
Такая картина реальности находит источник в раннем эссе Пламвуд «Быть добычей», в котором она писала: «Мы перекраиваем этот мир как свой собственный, наделяя его смыслом, переоткрывая его как разумный, как тот, в котором можно выжить, в котором есть место надежде и уверенности» (Plumwood 2000). Автор поняла, что такая мироперестройка – опасная фантазия, когда на нее напал крокодил. Когда она пишет о смерти в связи с восторжествовавшим мороком антропоцентризма, она описывает не этот инцидент, в котором она едва не погибла, но продолжающееся насилие человека над миром. В своих публикациях она последовательно предлагает скрупулезный анализ принудительной сверхотделенности человека от того, что слишком часто называется просто «окружающей средой», «природой» или всего-навсего «миром», который в то же самое время низводится до ресурсов и собственности. Этот процесс выражается и осваивается в том, что Пламвуд называет «дематериализацией» – умелым игнорированием физической стороны связи человека с миром (см.: Plumwood 2008, в которой она развивает идеи Ehrenreich 2003).
Мы вовсе не отделены и не обособлены от других видов живых существ. Мы добыча. Мы еще и хищники – мы должны так думать, чтобы справиться с избыточным потреблением и разного рода несправедливостями, однако именно «быть добычей» (пищей) способно практически полностью разрушить иллюзию смещенности, сверхотделенности и исключительности человечества. Мы в полной мере участвуем в тех процессах, благодаря которым все тела растут и распадаются, все питательные вещества совершают свой оборот и все существа продолжают преобразовываться. Нет такого места, в котором мы могли бы утолить свои фантазии об отделенности от других и возвышении над ними.
Пламвуд выявляет последствия нашей встроенности в сложные и подчас трудные взаимодействия с помощью эффективного синтеза феминистских и экологических подходов. В своих публикациях она последовательно утверждает, что нам следует присмотреться к нашим сложным иллюзиям (сверхотделенность, объективация, антропоцентризм, консюмеризм) и к своему [действительному] положению в системе взаимоотношений, в которой мы должны вести себя ответственно и осторожно (не в последнюю очередь будучи хищниками и добычей). Как она пишет: «Это вовсе не дилетантский проект». Скорее, учитывая гендер, тела, материю, место, труд, иерархию и многое другое, мы вносим серьезный вклад в проект обнаружения «себя в диалоге с другими видами существ и другими видами разума, будучи при этом ограниченными их потребностями» (Plumwood 2009).
Некруглый мир и фу-фактор
Согласно Мэри Миджли, мы являемся существами, на которых, по праву, воздействует «фу-фактор» (yuk factor) – «ощущение отвращения и возмущения» при столкновении с действиями, которые мы считаем предосудительными, и мы живем в мире, у которого «не получается быть круглым» (Midgley 2004:105, 129)[32]. Предположительно несовершенная человеческая рациональность соотносится с предположительным несовершенством мира. Тем самым Миджли подталкивает нас к заключению: кое-что из того, что наши интеллектуальные предшественники сочли несовершенством, на самом деле могло быть позитивными факторами. Наши эмоции столь же важны, что и наша рациональность, а наше родство с другими в этом беспорядочно развивающемся мире призывает нас к уважительному поведению по отношению ко всем телам.
Миджли развенчивает «символизм возвышенности» (Ibid 145), чтобы продемонстрировать, что мы познaем себя, свой мир и свой космос лучше, если прекратим воображать «линии отрыва», позволяющие отделить тело от разума, материю от сознания, людей от других животных. Не можем мы и продолжать отделять мужское от женского (идет ли речь о телах, разуме, эмоциях, знаниях, труде или чем-то еще), после чего наделять мужское привилегиями. В новом мире вдохновленной Дарвином эволюционной теории, в который академическая культура вошла далеко не в полной мере, нам следует переосмыслить отношения не вертикальным, но горизонтальным образом. Даже дарвиновская метафора эволюционных отношений, «древо жизни», может привести нас к ошибочной мысли о высших и низших видах. Напротив, ничто не прекращает развиваться, ничто не застревает на примитивных этапах эволюции, не существует «живых ископаемых». Есть лишь существа, продолжающие совместно эволюционировать в постоянно изменяющемся мире, из которых одни лучше приспособлены к своему текущему положению, чем другие.
Фантазия о том, что люди (иначе говоря, белые, рефлексирующие существа мужского пола) – это та точка, в которой Вселенная приходит к осознанию себя, является пережитком фантазии о том, что космос был создан для нас. Мы не являемся необходимым этапом эволюции, тем более ее вершиной или целью. Скорее, мы участники продолжающегося эксперимента реальности. Как и у других животных, наши органы чувств со-развиваются вместе с воздухом, светом, водой и почвой, которые и формируют, и информируют нас. Вопреки Декартову сомнению, мы сознаем, будучи протяженно-телесным-сознанием, а не сверхотделенным [от пространства и тела] сознанием.
Эмоциональное «фу-факторное» знание, которое подвигает нас желать улучшения мира, делать его более справедливым и пригодным для жизни, не менее важно, чем телесное знание, благодаря которому в нас проникают свет, звук, вкус, запах и осязание. Последние, в свою очередь, не менее важны, чем наше знание-вместе-с-другими (knowing with others), которое имеет место тогда, когда мы реагируем на коммуникацию за пределами кожаных мешков наших тел. На самом деле все эти аспекты взаимно переплетены и могут быть отделены друг от друга лишь эвристически – так, например, на некоторое время может быть ограниченно полезным взгляд на себя изнутри «кожаного мешка». В реальности же эвристическая ценность подобных разделений умаляется тем, что они фантастическим образом сопрягаются с беспощадным атомизмом и редукционизмом, отрицающими наше соучастие во взаимодействиях внутри живого/проживаемого мира/сообщества.
Место сознания-тела
Блог Адриана Харриса «Bodymind place» (Harris 2013), основанный на его неопубликованной диссертации (2008), – превосходный путеводитель по хитросплетениям современных дискуссий о нашем месте в мире и нашей природе и непревзойденный источник для вдохновляющих идей и споров. Так, он утверждает, что, хотя мы обладаем тем, что Гендлин назвал «телесно ощущаемым знанием» (bodily sensed knowledge) или «ощущаемым знанием» (felt knowledge) (Gеndlin 1981), которые позволяют нам действовать осмысленно без необходимости осознанного размышления, рационального взвешивания и систематической рефлексии, нас не определяет разум, целиком фиксированный внутри «кожаных мешков тел» (цит. по: Clark 1997). В действительности «внешний» мир – это «часть нашего бытия» (цит. по: Lаkoff&Johnson 1999), «организм и среда вплетены друг в друга» (Varela et al 1991), а в соответствии с еще более сильной формулировкой, «организм (сознание-тело) и окружающая среда (место) – „одна неразделимая тотальность“» (цит. по: Ingold 2000). Так что мы «телесно помещены» в «живой ландшафт» (Abram 1997).
Значение работы Харриса уже в том, что он смешивает и дистиллирует эти многочисленные идеи, позволяя найти новые формулировки для того, как мы понимаем себя и мир, как мы говорим о мире и о себе. Представленный им калейдоскоп идей соединяется в цельную картину динамической материализации в разнообразных взаимодействиях тех человеческих «я», которые мы можем называть «размещенными в пространстве телами» (placed-bodies). Мы не являемся и не можем быть смещенными сознаниями. Не можем мы быть и смещенными личностями[33]. Отчуждение происходит из ложнонаправленной попытки игнорировать наши тела и наш мир, точно так же, как отчуждение от результатов труда следует за ложнонаправленной попыткой игнорировать тела и миры других (перефразируя Маркса и Эренрайх). Таким образом, и нам, и миру будет лучше, если мы приложим свои усилия в другом направлении. Время, проведенное в мире-не-только-людей, особенно в местах-вне-господства-человека (которые мы и почтительно, и поэтически можем называть «глушью» (wilderness) – см.: Harvey 2012b), способствует пробуждению глубинного чувства/знания нашего места в мире.
Кролик Питер и локти
Может показаться ироничным, что, как порой утверждается, попытки разместить людей в отношениях с другими животными или рассуждать о сознании или личности животных иных, нежели человек, являются антропоцентризмом или антропоморфизмом (т. е. ненамеренной проекцией человекоподобия). Напротив, признание родства человека с другими животными и с жизнью на Земле в целом предполагает, что мы свергнем «Человека» с пьедестала и научимся видеть множество сходств и подобий между всеми существами. В этом ключе Ирвинг Хэллоуэлл (Hallowell 1955, 1960) рассматривает следствия из (индейской) онтологии и эпистемологии анишинаабе. Он показывает, что «личность» может использоваться в качестве зонтичного термина для всего многообразия видов, в связи с чем он пишет о «человеческих и не-человеческих личностях». Тем не менее критики (Bird-David 1999) увидели в таком подходе реставрацию человечества «на троне», а следовательно, антропоцентризм и антропоморфизм, но это просто неправильное прочтение Хэллоуэлла и его учителей. Если следовать концепции Хэллоуэлла, то вполне можно говорить о и «медвежьих и не-медвежьих личностях» или «скальных и не-скальных личностях». (В случае каждой конкретной локальной культуры речь будет идти о ежах, вомбатах, воробьях, москитах и прочих видах.) Здесь акцент делается на слове «личность», и все виды оказываются под его зонтиком. Другими словами, «личность» относится к сходствам между разными видами, а названия видов – к различиям. Действительно, умение найти различие в сходстве (и наоборот) может стать поводом для того, чтобы порадоваться глубокой динамической взаимосвязи воображаемого и близкого.
Когда Беатрис Поттер писала и иллюстрировала сказки о кролике Питере и других персонажах, она не просто приписывала животным человеческие черты. Хотя на ее рисунках Питер одет в синий пиджачок, она «критиковала Кеннета Грэма (автора книги „Ветер в ивах“) за описания м-ра Тоуда, Жабы, который „приглаживал волосы щеткой“ ‹…› Неправильно идти против природы – лягушка может носить калоши, но я не вынесу жабу с бородой или в парике!» (письмо к М. Е. Уайт, 26 июня 1942 года, цит. по: Victoria and Albert Museum 2012a).
Дотошность Поттер в описании животных, насекомых, растений, деревенской жизни, мебели и костюмов подтверждает ее мысль о том, что «все детские писатели должны подробно представлять себе, как выглядят вещи» (Ibid) и, тем самым, как они ведут себя. Поэтому в ее рассказах животные – не просто метафоры людей, хотя и это может быть увлекательно и познавательно, но у нее «коты едят мышей, крысы пугают котят, кролики могут угодить [в пирог]» (Victoria and albert Museum 2012b, последние слова опущены в оригинале). Также она писала о семейных отношениях животных. Но Поттер – это не только написанные ею «книжечки» для детей.
Беатрис Поттер начала писать свои бестселлеры после того, как ее кропотливые наблюдения за лишайниками (и открытие того, что они являются симбиотическими сообществами) были отвергнуты Обществом Линнея. Эта исключительно мужская организация не только не позволила Поттер представить свои исследования, но и не приняла всерьез теорию симбиоза. Даже таких ботаников, как Симон Швенденер и Антон де Бари, встретили насмешками, когда те выступили со сходными аргументами и доказательствами. Но Поттер и другие доказали: лишайники действительно являются симбионтами, взаимовыгодными объединениями грибов и водорослей. Их исследования стали ортодоксальными и воодушевили других авторов, стремящихся понять природу отношений в «мире природы».
Несмотря на всю увлекательность и важность биографии Поттер (как показывают множество сайтов, статьи и биография за авторством Линды Лир, Lear 2007), именно внимательное исследование симбиоза оказывается наиболее важным для нашей попытки переосмыслить мир. Разве человеческое существо не еще одно симбиотическое сообщество? Признаю, это не лучшая терминология. Но следующий пассаж из New York Times указывает, что, подобно тому как наука со времени отвергнутых идей Поттер продвинулась вперед, нам нужны и более подходящие слова, чем те, что входят в антропоцентрический лексикон английского языка. Николас Уэйд (рассказывая о статье в Genome Research) пишет:
Поскольку люди зависят от своего микробиома [совокупность всех микробов, живущих в человеке] во множестве важнейших сфер, в частности пищеварении, личность (person) следует с точки зрения микробиологии рассматривать как суперорганизм, состоящий как из его собственных клеток, так и из всех симбиотических [питающихся с того же стола, что и люди, для взаимной выгоды] бактерий. Число клеток бактерий в десять раз превышает число человеческих клеток; если бы клетки могли голосовать, люди были бы в меньшинстве в своем собственном теле (Wade 2008).
Не только наш кишечник полон «хороших бактерий», без которых мы бы не смогли переваривать пищу, но и локтевой сгиб:
Вожделенная недвижимость, специальная экосистема, просторный дом не менее чем шести бактериальных колоний. Даже после мытья на квадратном сантиметре кожи все равно находится миллион бактерий ‹…› в обмен они делают много полезного, помогая увлажнять кожу, перерабатывая жиры, которые она производит (Ibid).
Едва ли «шесть бактериальных колоний» беспорядочно питаются у нас на локтях исключительно из собственной щедрости, дабы «увлажнять кожу». Тем не менее, в чем бы ни состояла их выгода, она выгодна нам. Чем мы были бы без бактерий? Были бы мы людьми, но с плохой кожей? Полагаю, единственный вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что люди являются симбиотическими сообществами. Большая часть клеток нашего тела не является полностью или исключительно человеческими. Бактерии генетически богаче, чем не-бактерии в составе сообщества, которое мы называем «человек». Мы не «суперорганизм» в смысле «элиты» (только потому, что бактерии «помогают» нам), «мы» – симбиотическое сообщество людей и бактерий. Даже прежде чем человеческой кожи коснется мех животного или кора дерева (или мясо или древесина), мы уже полностью и неизбежно оказываемся участниками взаимоотношений, неиндивидуальными, сопричастными, вовлеченными в локализованные и материальные живые сообщества. Эволюция, как оказывается, движима не соревнованием между индивидами, а взаимностью и кооперацией симбионтов и других существ, включенных в системы взаимоотношений (Wakeford 2001; Bartley 2002). Те, кто обвиняет других в антропоморфизме, обычно игнорируют эту взаимосвязанность, вместе с тем исследуя выдуманную реальность, разодранную сверхразделениями.
Мы не намерены ограничиваться этим чрезмерно коротким размышлением о людях как симбионтах. То необходимое, что делает нас самими собой, не должно вернуть в права индивидуализм или представления о каком-то сущностном ядре, например самосознании, человеческом интеллекте или руководящей и собирающей нас воедино «душе». Наша взаимосвязанность определяет нас во всех (лишь эвристически отличимых друг от друга) аспектах и рассматривается в этой главе с разных точек зрения. Одно радикально важное для религиоведения следствие из этой идеи всепроникающей взаимосвязанности состоит в необходимости исследовать наш предмет (религию, религии и не-религии) как деятельностные (performative) и материальные занятия, в которые вовлечены телесные, пространственные существа, объединенные в отношения.
Марс, Америка и другие тела
Извечным обещанием на американских президентских выборах, начиная со Второй мировой войны, было отправить мужчин (до них собак, обезьян, а после – флаги и женщин) в космос, на Луну или Марс. Несмотря на нашу неспособность хоть как-то соотнести себя с жизнью на Земле или даже с другими людьми, кое-кто, кажется, помешан на решении вопроса, есть ли жизнь в местах настолько отдаленных, что даже положительный ответ не будет иметь никакой практической значимости. (Я в данный момент борюсь с искушением поразмышлять над сообщениями о том, что ученые из Ватиканской обсерватории надеются евангелизировать инопланетян.) Этим мы не слишком отличаемся от предыдущих поколений, которых также занимал вопрос о жизни и/или человечности существ, открытых в дальних странах.
В главе 3 я обратил внимание на замечание Леви-Стросса о разных средствах, используемых европейцами и индейским населением Пуэрто-Рико для определения человечности друг друга. Леви-Стросс противопоставляет изыскания испанской христианской инквизиции на предмет того, есть ли у индейцев душа, и индейские проверки того, были ли европейцы телами. Исследования, проведенные среди народов Амазонии, позволили Эдуарду Вивейрушу де Кастру дополнить это знаковое обсуждение различия культуры и природы. Он пишет:
Космологии Амазонии, имеющие отношение к тому, как люди, животные и духи воспринимают себя и друг друга ‹…› дают возможность переопределить классические категории «естества», «культуры» и «сверх-естества», основываясь на понятии перспективы или точки зрения. Исследования показывают, в частности, что противоречие между двумя особенностями мысли туземцев – с одной стороны, «этноцентризм», который отрицает свойства человечности у других групп кроме людей, и, с другой стороны, «анимизм», распространяющий подобные качества на существа других видов, – может быть разрешено, если принять во внимание различие между духовной и телесной стороной этих существ (из аннотации Viveiros de Castro 1998).
То есть, с одной точки зрения, сходства и различия между видами наблюдаются в границах культурных черт, поведения и идей, а с другой – в границах природных, телесных или физических черт. В терминах Леви-Стросса: могут ли индейцы верить? Гниют ли испанцы? Еще радикальнее Вивейруш де Кастру утверждает, что, если порожденный европейским модерном дискурс подразумевает различие между «природой» (в единственном числе) и «культурами» (всегда во множественном), как нечто само собой разумеющееся и самоочевидное, в амазонском дискурсе все наоборот. В рамках этого дискурса возможно, даже необходимо, говорить о том, что все живые существа делят общую «культуру» (обитать в жилищах, есть приготовленную пищу, организовываться в семьи и кланы), но различные «природы», тела, у которых есть различные точки зрения. Каждое существо видит то, как оно само производит культуру, но лишь в экстремальных ситуациях (например, в шаманском трансе) видит, как это делают другие виды. Поэтому необходимо проверять, что за тело, а не что за разум или душа тебе встретились.
Европейцы могут с легкостью говорить о «мультикультурализме», а жители Амазонии могут легко понять ценность введенного Вивейрушем де Кастру термина «мультинатурализм». Вопрос этот становится все более сложным, поскольку в последнее время растет круг сведений о культурах животных. Не только птицы и некоторые млекопитающие демонстрируют использование острия, крючков, камней; было замечено, что представители одного вида используют эти и другие орудия иначе, чем их родичи. То есть они отвечают минимальным требованиям к культуре. Сходным образом, кажется чересчур прямолинейным утверждение, что животные и растения коммуницируют, в особенности если использовать пугающие кавычки (животные «коммуницируют») для того, чтобы говорящий всячески подчеркнул нежелание сказать слишком уж много. Храбрецы вроде Марка Бекоффа, впрочем, предлагают изобилие свидетельств, основанных на тщательном длительном наблюдении, в пользу того, что животные не только коммуницируют в пределах ожидаемого (т. е. в связи с территорией, размножением, страхом и агрессией). Вот один из примеров:
Коровы, например, чрезвычайно интеллектуальны. Они испытывают тревогу, когда чего-то не понимают, и переживают моменты «Эврика!», когда решают какую-то задачу, например, открывают особенно мудреные ворота. Коровы коммуницируют вглядываясь (by staring), и, вероятно, мы не совсем понимаем их едва уловимые способы общения. Также они вступают в близкие и продолжительные отношения с родственниками и друзьями и не любят, когда их семейные и социальные связи нарушаются (Bekoff 2011).
Здесь и в других текстах его блога «Эмоции животных» для журнала Psychology Today (и в других публикациях, например Bekoff 2004, 2008a, 2008b, 2010; Bekoff&Pierce 2009) Бекофф показывает, что коровы и другие животные планируют, ожидают, надеются, радуются, любят, горюют, играют, связывают себя обязательствами и делают многое из того, что предполагает наличие навыков коммуникации. Речь идет также о представлениях о самосознании и взаимоотношениях. Желание открыть ворота означает, что у коров есть идея лучшего будущего. Выражение горя, когда забирают их телят, показывает, что коровы и люди не так уж различаются.
Человеческие отношения с другими животными и, возможно, растениями находятся в центре работы Дебби Роуз о «тотемизме» (Rose 1998; см. также: Rose 1992, 2004). Она утверждает, что понимание родства, взаимной ответственности и инклюзивности аборигенами Австралии выходит за видовые границы. Все обитатели какой-то местности, как ожидается, должны стремиться к благополучию сообщества, состоящего из них и всех связанных с ними существ. Каждый вид играет определенную роль по отношению к другим, но все вместе, будучи единым сообществом, предпринимают меры по ограничению сверхпотребления и других угроз обществу в целом. Исследования туземных представлений об окружающей среде или, шире, традиционного экологического знания часто касаются тел обитающих рядом растений и животных. Чтобы выглядеть научно, кажется, нужно меньше говорить о разуме, эмоциях, желаниях и способах коммуникации – в привилегированном положении не культура, а природа. Но сегодня, когда все больше исследований размывают границы между природой и культурой и делают сами эти термины все менее надежными, нам, вероятно, следует пересмотреть свои взгляды на мир.
Для этого вернемся к ситуации, в которой туземцы и европейские иммигранты размышляли над природой и культурой друг друга. Кен Моррисон называет вопросом, важнейшим для алгонкинов северо-востока Северной Америки, столкнувшихся с иезуитами, торговцами мехами и поселенцами/захватчиками, следующий: к какому типу личности относятся европейцы? (Morrison K. M. 2002). Достаточно ли они культурны, чтобы видеть хорошее в других, или же они каннибалы, индивиды, одержимые сверхпотреблением всего, что встретят? В интерсубъективном космосе (Morrison K. M. 2000), при невысоком интересе к иерархическим делениям природы, культуры и сверхприроды (Morrison K. M. 1992a, 1992b), важными оказываются вопросы о родстве, соседстве, взаимности, статусе гостя, участии, даре и другие маркеры и способы (установления) локальных взаимоотношений.
Меж-действующие муравьи и пауки
Как утверждает Карен Барад, «Вселенная – это становящаяся меж-деятельность (intra-activity) агентов» (Barad 2007:141). В своей работе «На полпути к Вселенной» она пишет о том, что «объединенные размышления» множества ученых «сделали возможным понимание взаимосвязанного соразвития „социального“ и „природного“ (и других важных сопутствующих) факторов, необходимых в борьбе за ответственную практику науки» (Barad 2011:4).
Что такое понимание нам дает, так это видение мириад действий множества игроков – действий, определяемых их реализуемой в практике (performative) меж-деятельностью, – наделяющих смыслом всю Вселенную так, что это ставит под еще большее сомнение наше (научное и обыденное) отделение природы от культуры или социальности. На всех уровнях, от квантов до физика, который социально освоил научную деятельность в рамках определенного аппарата, Вселенная построена на отношениях, каждый агент-актор соотнесен с другими как материально, так и дискурсивно. Это побуждение заниматься наукой и иными способами участвовать в жизни по-другому может серьезно повлиять на наш подход к религии.
Воодушевленный влиянием Барад на Васкеса (Vasquez 2011) в переопределении точек зрения на реальный мир, в котором имеет место практика и науки и религии, я предлагаю признать, что мы живем среди других, которые скорее похожи на нас, чем отличны. В пользу этого свидетельствуют не только причудливые результаты этнографических наблюдений, но и строгое научное наблюдение и теоретическая физика, которые показывают, что материя осознанно, намеренно и всегда взаимно действует по отношению к материи. Ошибочно полагать, что животные, растения и бактерии реагируют лишь инстинктивно или механически. Такие существа также совершают выбор и меж-действуют совместно на пользу локальным многовидовым сообществам, даже когда сами пользы не извлекают. В таком соучастном космосе (в котором люди со-развивались вместе с другими меж-действующими родственными видами) как можем мы принимать за религию внутреннюю интеллектуальную жизнь одиночных индивидов?
Вслед за Барад обратим внимание и на то, как Тим Инголд предостерегал нас от излишне строгого употребления термина «агентность» («agency»). Он пишет:
Именем «агент» мы называем тот элемент материи ‹…› [который], предположительно, должен приводить ее в движение и без которого она остается неподвижной. Но если мы сосредоточимся на активных элементах природной жизни вместо того, чтобы редуцировать их к мертвой материи, нам не нужно прибегать к внешней «агентности», дабы вновь их оживить (Ingold 2911:16–17).
По счастью, использовать термин «агент» можно, не приписывая действующим существам магическое свойство «агентность». «Агентный реализм» Барад не нуждается в этом, как и латуровский «муравей» (АСТ) (Латур 2014), хотя Инголду по душе больше «паук»[34] в качестве шутливой альтернативы предельно серьезному использованию идеи сети (Ingold 2011:89–94). В то время как «муравей» Латура, как может показаться, требует взаимодействия индивидов, связанных в сети, Инголд акцентирует внимание на взаимодействиях, из которых возникают действия и связи. Важно не то, какая из моделей корректна, но то, на что мы хотим обратить внимание в каждый конкретный момент. Задача обеих моделей – продемонстрировать всепроникающее сотрудничество многих существ (основанное на их меж-действии и деятельности), которое формирует (без предопределения и планирования какого-либо согласованного результата) что-то, что шаг за шагом образует реальный мир.
Текучая реальность
Впрочем, Инголд прав: есть потоки материи, слияние деятельностей, но не существует постоянных, определяемых в границах светского индивидов[35]. Выражение Зигмунта Баумана «текучая современность» (Бауман 2008) суммирует эти потоки неопределенности, сложности и проницаемости, которые периодически ввергают нас, индивидуализированных потребителей вечно изменчивой эпохи глобализации, в жизнь. Существующие институции (религиозные, политические, рекреационные, экономические и пр.), провозглашающие собственную обязательность и автономность, нестабильны или проницаемы. Или же, даже будучи безопасными, они соперничают друг с другом за наше внимание и принадлежность. «Выбор» – это слоган, логотип и бренд настоящего момента. Как отмечалось выше, кажется, что «мы становимся видом наиболее приспособленным к капиталистическому миру» (Steinberg 2005:143) в его современной нестабильной форме ночного кошмара.
В каком-то смысле, впрочем, космос остается и всегда был текучим, потоком, неопределенностью, случайным образом генерирующей временные и локальные кластеры связанности. Тела (субатомные, микробные, в кожаном мешке, покрытые корой, скопление минералов) всегда проницаемы и динамичны. То есть, как настаивает Инголд (Ingold 2011), не существует границы между землей, небом, почвой и воздухом или между телами и средой, в которой они движутся. Вещи проницаемы: жизнь – это протекание посредством взаимодействия с другими.
В этих потоках религиозные институты и лидеры могут провозглашать достоверное знание, но они не одиноки. Тогда как любой поиск в интернете по запросу «религия и достоверность» покажет, насколько такого рода претензия повсеместна, так и поиск «наука и достоверность» откроет, насколько эта глубинная одержимость достоверным знанием стирает якобы строгую границу между наукой и религией. Подобно религии, науку нередко ошибочно считают совокупностью фактических утверждений о реальности. Бруно Латур завершает свою атаку на «Современный культ богов-фактишей» следующим образом:
Истину следует искать не ‹…› в соответствии ‹…› между оригиналом и копией (в случае религии) – но во вновь взятой на себя задаче продолжения потока, продления каскада опосредований еще на один шаг… (Lаtour 2010:122–123).
Латур предлагает «отставить веру в веру ‹…› и иконоборческие жесты» (Ibid x). Он утверждает, что практика (performance) науки, как и религии, не должна быть серией «стоп-кадров». Ни наука, ни религия не должны «обособлять картинки от потока, который и наделяет их подлинным значением, постоянно изменяющимся и предстающим заново» (Ibid 123). Вкратце – Латур проповедует такой способ заниматься наукой и быть ученым, который изменяется вместе с изменчивой реальностью космоса.
Бесполезно жаловаться на то, что, если эволюция не имеет предопределенной цели, у нее нет смысла. Лондон тоже не имеет смысла и цели. Это не объекты, а ярлыки для стоп-кадров, вырезанных из потока всего происходящего. Хотя такое кадрирование может помочь нам пронаблюдать момент потока, но, поскольку поток продолжается, стоп-кадр с необходимостью становится немым в отношении продолжающегося процесса. Если мы ищем смысл, то должны отправиться на эти поиски куда-то еще. Учитывая, что поток всего того, что происходит, – это продолжающееся меж-действие взаимоотношений, связывающих действий, мы должны искать смысл, вступая в поток, участвуя в продолжающейся эволюции беспорядочной реальности. Ритуалы могут быть точкой входа в такое соучастие.
Эксперименты с ритуалами
Рональд Граймс отмечает, что «очень немногие посчитают ритуалы эффективным средством спасения планеты от экологической катастрофы» (Grimes 2003:31). Несмотря на сомнения Грайса в возможности как либералов от религии, так и теоретиков ритуала понять возможную связь между ритуалами и защитой окружающей среды, он показывает, что необходимо производить эксперименты именно в качестве участников (ritualists) и теоретиков ритуала: «Мы не узнаем, что именно делают связанные с экологиями ритуалы, без экспериментов и критики ритуалов. Ждать, надеясь на получение достоверного знания прежде действия, – еще больший риск, чем надеяться приобрести знание путем действия» (Ibid 44). Это, по крайней мере отчасти, обосновывает эксперимент в его работе «Заклинательный рифф для шоу мировой медицины» под названием «Представление – это валюта экономики дара в Глубинном мире» (Grimes 2002).
Повторюсь, что цель этой главы – ввести в дискуссию множество способов соучастия в реальном мире и взаимодействия с ним. Так, я привожу в пример Граймса не для того, чтобы согласиться с ним и источниками его вдохновения в вопросе ценности представления (performance) или экономики дара в больше-чем-человеческом мире (хотя и для этого тоже). Скорее, его работа важна вследствие его стремления понять ритуал, основываясь на представлении о мире, пронизанном связями. Ритуализация предполагает проверку этой гипотезы. Если не считать, что мы живем и действуем среди связанных с нами других, ритуалы в самом деле бессмысленны. Возможно, что люди, практикующие религию, ошибочно находят намеренность там, где ее нет (на что указывают многие когнитивисты). Если божества или ежики не являются подлинно намеренно действующими агентами, они не могут взаимодействовать и даже просто действовать в ответ. В этом случае ритуальные действия будут иметь смысл (хоть и весьма бредовый) только для тех, кто понимает, что они наблюдают за безумными людьми. Но если космос насквозь пронизан взаимосвязями, остается шанс, что кто-то все же понимает ритуалы правильно, поскольку некоторые личности, относящиеся к другим видам, меж-действуют и соучаствуют. Вопрос религиоведам, живущим в таком мире – в котором Граймс предлагает ученым совершать ритуалы вместе с другими животными, – можем ли мы прекратить зацикливаться на якобы антропоморфных проекциях и признать наше родство и сходство с другими обитателями Земли?
Воображая рыб и гостей
Другой подход к вечному и, кажется, повсеместному вопросу о взаимоотношении культуры и природы предполагает обращение к смежному вопросу о взаимоотношении искусства и реальности. Из множества способов освоить этот материал я выбрал самый многообещающий, разработанный Тимом Инголдом в эссе «Пути мышления: чтение, письмо, рисование». Инголд завершает анализ «связи между территорией воображения и „реальной жизни“» двумя выводами:
Во-первых, нам следует раз и навсегда отказаться от устоявшегося мнения, согласно которому способность воображения состоит в умении создавать образы или представлять вещи в их отсутствие ‹…› даже если они существуют только как картинки в сознании, такие имитации принадлежат – вместе с заменяемыми ими отсутствующими предметами – тому же внешнему миру явлений, «элементов», программной музыки, фигуративности[36].
Во-вторых, во власти воображения мы должны видеть творческий импульс самой жизни, постоянно порождающей формы, с которыми мы сталкиваемся, будь то в искусстве, чтении, письме, рисунке, или в природе, во время прогулок по ландшафту. Помните: линия не представляет (represent) рыбу. Но рыба-в-воде может пониматься как одна из множества возможных эманаций линии (Ibid 208)[37].
Методологически, коль скоро в мире есть и рыба-плывущая-в-воде, и рыба-нарисованная-на-бумаге, и «природная» и «искусственная», мы можем испробовать более творческие (imaginative) способы научной деятельности. Более того, мы обязаны это сделать, если мир не конституируется разделением природы и культуры. Воображаемая рыба и рыба плывущая существуют в одном мире, они обе реальны.
Стремясь, опять же, ввести в наше обсуждение достойные внимания идеи и темы и надеясь, что странные тезисы окажутся плодотворны, я дополню тезисы Инголда результатами исследований Байроном Дейком взаимосвязи воображения и близости (intimacy). В своем исследовании коренных народов Канады и скрипачей-метисов (Dueck 2007) Дейк обнаруживает, как «миротворчество при помощи воображения» и «близость лицом к лицу» взаимодействуют, когда «широкая публика чужаков» (читатели со всего мира) видит интимную сторону туземной жизни, забот, слез, надежд и творчества. Здесь я нахожу язык, подходящий для описания мира связей, позволяющий нам говорить о таких предметах, которые прежде вызывали, кажется, непреодолимые трудности из?за бесполезных дуалистических терминов вроде репрезентации и объекта, сознания и материи, имманентного и трансцендентного, веры и факта. Вместо этого мы можем говорить о воображении всего, что только возможно (ритуальные встречи, эпические трапезы, единые теории, музыкальные рулады), все более приближаясь к их актуализации или материализации. Мы приводим в действие возможности и становимся ближе к получающемуся в результате миру.
В следующих главах, посвященных религиозной материальности и практике – ведь религия ничто без материальности и деятельности (performance), – я надеюсь обнаружить динамические взаимодействия между воображением и близостью. Здесь же меня интересуют академические способы быть и действовать в реальном мире. Воображение мира, разделенное проливом Декарта, привело ученых к устройству академической практики в границах, которые их коллеги оценивают как допустимо близкие. Будучи учеными, мы пытаемся исключить себя из мира чувств, страстей и эмоций, с которыми мы подлинно близки лишь в свободное время досуга. Но это отделение нас от мира предполагает, что мы лишь отчасти вовлечены в лишь отчасти понимаемую реальность. Сама попытка быть объективными приводит к этой неполноте. Вместо этого мы можем поэкспериментировать с потенциальной ценностью близости с каким-то другим миром, которому неведом картезианский разрыв.
В своих работах о «гостевании» как методе исследования (Harvey 2003a, 2005b, 2011a:227–228) я ставил вопрос о том, как нам следует проводить исследования в мире, основанном на взаимосвязях. У маори в Аотеароа, в Лондоне, в Элис Спрингс и на Гавайях я узнал, что возможность быть гостем у местных жителей чрезвычайно важна. Весь космос, кажется, работает вместе с людьми (состоящими в сообществах, определяющихся родством и местностью) для того, чтобы реализовать воображаемые возможности в более интимных сообществах. Чужаков призывают в пространство перед домами-предками и предоставляют им возможность стать гостями или врагами. Хозяева и гости взаимно учреждают друг друга, исследуют свои роли и подробно обсуждают все интересующие их вопросы. В таких уважительных взаимоотношениях открываются новые возможности, происходит обмен знаниями, их развитие и проверка. Так мне видится модель более эффективного научного исследования.
Мир рассвета
В реальном мире, в котором живут люди, взаимодействуют реальные тела, Солнце встает и садится. Это не менее научная точка зрения, чем надежное знание о том, что это Земля вращается вокруг Солнца, создавая впечатление рассветов и закатов. Нам недоступен опыт вращения Земли – и наши, возникшие на Земле языки (на которых говорят люди или чирикают птицы) продолжают свидетельствовать о таком переживаемом опыте рассвета и заката, несмотря на все достижения рациональной науки. Так же, как «Нового Времени не было» (Латур 2006), никогда не существовало совершенной объективности в духе картезианства. Мы пытались, и эти попытки приносили плоды – но мы не слишком преуспеем в понимании мира, в котором не существует сверхотделений, если мы будем вводить в него новые разделения. Скорее, академический проект должен иметь место в реальном мире. В любом случае было бы трудно исследовать то, как проживаются религии без опыта жизни в этом мире, в котором Солнце садится и встает. В конце концов, для слишком многих религий, церемоний, зданий или актов поклонения важна ориентация в пространстве, которую задает положение Солнца относительно Земли.
Подлинная Вселенная полна связей. Кроме связей, не существует ничего, не существует вещей вне связей. Есть встречи, контакты, общение, конфликты, потребление, перемещение… и множество других действий, взаимодействий, из которых складывается мешанина связной реальности. Мы позволили себе заблуждаться и верить в атомарных индивидов, независимых агентов, случайные события и других игроков. Возможно, этим описанием я также ввожу читателя в заблуждение. Индивиды и агенты существуют. Но они не являются и не могут быть независимыми и отдельными друг от друга. Вместо того чтобы отбросить слишком многое, я стараюсь начать с того, чтобы подчеркнуть – акты связанности являются ключевыми для космоса фактами. Именно их мы наблюдаем и переживаем. В этом контексте мы можем увидеть, что наши попытки понять религию будут куда успешнее, если мы переосмыслим ее не как независимый объект, влияние которого на людей мы можем наблюдать, но как деятельность, осуществляющуюся в постоянно изменяющемся сообществе, построенном на связях.
Это не определение религии. Это некая идея реальности. И ее необходимо сформулировать, поскольку научная деятельность прежде имела место преимущественно в воображаемом (пусть и весьма конкретном, политическом) мире. Академический мир по шаблону христианства западноевропейских элит и картезианства создавал и изучал фантомы. Индивидуализированные, нереальные объекты таких атомизирующих исследований едва ли могут существовать в реальном мире, подобно тому как в реальном мире не могут жить психотические, погруженные в депрессию и невыразимо печальные лабораторные животные, оторванные от рода и племени. Мы должны поступать иначе. Нам нужно найти себя где-то там, в реальном мире взаимосвязей.
Религия реального мира
Помимо прочего, знать реальный мир необходимо не только для того, чтобы его исследовать (что было главной темой этой главы), но и для того, чтобы понять, насколько непростую работу делают слова. В частности, такие слова, как «природный», «социальный» и «культурный», востребованы чрезвычайно, но могут и вводить в заблуждение.
Армин Гирц определил религию как «культурную систему и социальный институт, навязывающий и распространяющий идеальные интерпретации существования, а также идеальный образ действия (praxis) со ссылкой на постулируемые сверхэмпирические существа или силы» (Geertz 1999:471). Джеймс Кокс под религией понимает «легко различимые сообщества, которые основывают свои верования и переживания постулируемых нефальсифицируемых альтернативных реальностей на традиции, авторитетным образом передаваемой от поколения к поколению» (Cox J. L. 2007:85). Стив Брюс выбирает содержательное (substantive) определение: «верования, действия и институты, основанные на существовании сверхъестественных сущностей, обладающих силой агентности, или на безличных процессах, направляемых к моральной цели, которые определяют условия человеческого существования или вмешиваются в них» (Bruce 2011:1). Все эти определения подразумевают представления о природе, культуре и обществе. Они выражают дуализм природы и культуры, который отделяет людей от мира, а ученых – от предмета исследования. Пусть и отличаясь в выборе слов, по смыслу эти определения не так уж далеки от скромного предложения Дэниэла Деннета «определять религии как социальные системы, участники которых утверждают веру в сверхъестественного агента или агентов и должны искать их одобрения» (Dennett 2006:9). Он развивает свою мысль: «Разумеется, таким окольным путем мы говорим о том, что религия без Бога или богов – все равно что позвоночное существо без позвоночника» (Ibid). Этот тезис следует за замечанием автора о том, что для нужд законов по борьбе с жестокостью по отношению к животным «головоногие – осьминог, кальмар и каракатица – недавно были объявлены почетными позвоночными, ведь ‹…› у них потрясающе сложная нервная система» (Ibid 8). Деннет предполагает, что люди, верящие в одно или нескольких божеств, определенно религиозны, и те, кто постулирует иные формы существования, подобно им, также религиозны. Он признает, что это определение ориентировано на христианство, но, говоря «разумеется», он называет обманщиками тех коллег, которые поверили в то, что им удалось сказать что-то, что не относится к протестантской религии.
Подобные определения предлагают нам считать религию ошибкой культуры в интерпретации природы. В то же время нам предлагают видеть в религии ошибку природы, порождающую определенные аспекты культуры. Подобно постулированию сверхъестественного мира, недоступного той науке, которая не поддается вызову Латура, религия должна оставаться верой. Другими словами, такие определения предполагают, что религиозные люди неправильно социализируют то, что не является человеческим. Обнаруживая социальных существ вне человеческого сообщества, религиозные люди оказываются «верующими», постулирующими запретное трансцендентное. Однако если научные исследования во многих областях показывают, что люди – не единственные агенты в космосе, не говоря уже об обладании сознанием, дискурсом, рефлексией, и что они не уникальны в своей основанной на связях социальной практике культуры, то возможно, что религиозные люди вовсе не проецируют человекоподобие вовне в результате ошибки.
Может быть, скептики правы и религиозные люди во всем заблуждаются. Конечно, религия – это эволюционный механизм, практика или образ жизни, который развивается в реальном мире. Но если этот мир на самом деле социален, культурен, основан на связях, тогда, возможно, здесь имеет место нечто большее, чем просто постулирование антропоцентрической ошибки. Что же это может быть? Что делают люди, когда они практикуют религию в космосе связей, а не в антропоцентрическом космосе? Я не имею в виду, что религии не являются и не могут быть антропоцентричными. Это другой вопрос. Здесь я подразумеваю, что ученые, предполагающие антропоморфную проекцию, ложную атрибуцию агентности неодушевленным объектам или лишенным сознания животным, часто сами антропоцентристы. Именно их антропоцентрическая зацикленность на исключительности человека не позволяет им увидеть всестороннюю взаимосвязанность мира. Эта же зацикленность уводит внимание ученых от экспериментов, на которые идут религии, от того, что носители религий прекрасно осведомлены об изменениях в традиции, и вынуждает их продолжать верить в веру, а также использовать понятия модерна для того, чтобы говорить о сходствах и различиях религии и рациональности модерна.
Если мир населяют только социальные существа и если мы допустим, что он основан на связях, а не на Декартовой дихотомии, все течет. Я утверждаю, что рассмотрение религии в контексте деятельности (performance), материальности, взаимосвязанности будет оправданно по четырем причинам: наш мир преимущественно социален, наша главная потребность – вести переговоры с другими (в большинстве своем не людьми), наиболее желательным результатом переговоров является или взаимоуважение, или противостояние, но наиболее существенный их исход – открытость дальнейшим связям. В следующих главах я проверю эти предположения (пусть по большей части и неявно) относительно тех наблюдаемых явлений, которые следует считать религиями.
По ту сторону Декарта
Итак, академическое религиоведение во многом остается картезианским исследованием протестантизма. Ученые изучали и изучают протестантское христианство, протестантский буддизм, протестантский индуизм, протестантский синтоизм и протестантское язычество. Под изучением я, конечно, имею в виду, что они изобретали, пропагандировали и оспаривали эти интеллектуальные фантомы, эти вероучения или утверждения о трансцендентных, духовных и прочих чуждых не-реальностях. Будучи «объективными» (т. е. намеренно, осознанно и в результате серьезного усилия отключенными от реальности, отчужденными и безразличными), они с трудом могут изучать что-то, кроме порождений воображения, оформленных по лекалам раннего и нынешнего модерна. Впрочем, этот упрек несправедлив, по крайней мере потому, что такие субъекты не сами себя сконструировали по лекалам модерна. В реальном мире подобный стиль изучения религии получил и обоснование, и методологию: оно остается изучением идей, намерений и интеллектуальной деятельности (текстов и дискурсов), которое предпринимают в отношении квазипротестантских «верующих» квазипротестантские картезианцы модерна.
Религиоведы не одиноки в изучении не-реальностей. Насколько я понимаю, идет кампания, в которой некоторые экономисты наклеивают на учебники по экономике ярлыки: «Не использовать в реальном мире». То есть некоторые экономисты выступают против практики преподавания экономики, представляющей мир существенно отличным от того, в котором мы живем. Подобно тому, как слишком-модерность (most-modernity) протекает в мире, оформленном в послевоенном перерисовывании границ, предрассудков и убеждений в пользу колониализма бизнесменов и дельцов, религиоведение рождается в уловках модерна. Оно все еще пребывает в мире, сложившемся в результате европейских религиозных войн и индивидуализующей реформации того, что следует считать религией. Эта воображаемая религия бережно (в интеллектуальной практике, но никогда в реальной жизни) отделяется от политики и экономики, а также от тел и мест. Многие авторы (например: McCutcheon 1997, 2001, 2003; Wiebe 1999; Fitzgerald 2000; Mаsuzawa 2005; Wiebe&Martin 2012) говорили открыто или подразумевали, что религиоведение в значительной степени сохраняет уверенность в себе, лишь соответствуя параметрам, определенным людьми религиозными. «Религию» слишком часто определяют через то, что Лютер, Цвингли, Кальвин сделали с тем, что Августин, Павел и другие христиане посчитали главным в религии. Декарт едва ли свернул с этого пути; он лишь нанес свои граффити на их тексты, превратив «дух» в «разум», а «тела» в «res extensa» (все материальное). По какой-то причине архитекторы нового (но все еще протестантского) атеизма не замечают, что они по-прежнему реагируют лишь на близкие им по духу (религиозные) идеологии.
Поэтому наиболее проблематично даже не «религио-», а «-ведение». По счастью, это утверждение не ново. К несчастью, его нужно отстаивать с еще большим усердием. Открыта дорога к исследованию повседневной религии – которую иногда называют вернакулярной (Primiano 1995, 2012; Vаlk Bowman 2012), живой (McGuire 2009), практикуемой (performed) и материальной религией (Vasquez 2011). Но нам пора идти дальше. Пора нам отправиться куда-то еще и признать, что религии в реальном мире должна соответствовать и наука в реальном мире.
Глава 6 Безнаказанное насилие
Цель религиозной деятельности у нгати-иэпохату[38] поразила или даже шокировала меня, когда я впервые читал введение Те Пакака Тауваи к «Религии маори» (Tawhai [1988] 2002). Более того, на написание этой книги меня вдохновили слова Тауваи о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается ‹…› совершение насилия безнаказанно» (Ibid 244) – я стал думать, а можно ли отнести их к любой религиозной деятельности. Текст Тауваи в целом заслуживает места среди выдающихся исследований религии. Это пример тонкой рефлексии, уважительного отношения и добротного анализа данных. Он предлагает уточнения существующей практики изучения и описания религий. Но в связи с вопросом об определении религии статья Тауваи важна тем, насколько он далек от протестантского и просвещенческого понимания религии как веры сверхотделенных индивидов в трансцендентные божества. Скорее, он обращается к тому, как практикуют религию личности, объединенные в отношения, живущие в материальном мире соучастия.
Деревья и клубни
Тауваи иллюстрирует свое утверждение о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается поиск способа проникнуть на территорию сверхсущества и совершение насилия безнаказанно», говоря, что это значит «отправиться в лес и валить деревья для строительства, ухаживать за растениями, а затем выкопать клубни, чтобы накормить гостей» (Tawhai [1988] 2002:244). Не все жители Руаториа, неподалеку от восточной оконечности Аотеароа, занимаются садоводством или лесоводством[39]. И не все в Руатории возводят дома собраний в стиле предков, wharenui или wharetipuna. Но некоторые возводят. Среди маори множество отличных резчиков и плотников, а также садоводов и поваров – и в стране, и в глобальной диаспоре маори. Резчики, среди которых Джордж Нуку, возвели постройки в традиционном стиле из современных материалов (полистирена) в лондонском Британском музее. Как другие коренные народы, маори гордятся знаниями и умениями, связанными с обработкой дерева, в особенности с постройкой общинных зданий и домов собраний в традиционном стиле. Более того, сегодня этот искусный труд является одним из источников жизнеспособности культуры маори. Гостеприимство также обладает большим значением, будучи тесно связанным как со знанием традиционного садоводства, кулинарии и ораторского искусства, но также и с умением принимать гостей, подпитывать и распространять культуру.
Тезис Тауваи, тем не менее, не зависит от того, будет или нет больше садовников и плотников, чем есть сейчас. Он выбрал два вида деятельности, которые созвучны korero tahito («древним объяснениям»), выражение, которое он использует для того, чтобы познакомить с религией маори людей, прежде о ней не знавших. Всевозможные повседневные действия могут быть подходящим поводом и предметом религиозной деятельности. Но выбор Тауваи нельзя назвать и случайным. Религиозные действия в связи с деревьями и клубнями открывают путь к самому сердцу религии маори.
Тауваи утверждает, что у маори «религиозная деятельность не связана ни со спасением, ни с искуплением, не содержит посланий, выражающих восхваление или благодарность, но просит разрешения и предлагает умиротворение» (Ibid 244). Людям не нужно отвлекаться на восхваление божеств или поиск искупления до, во время или после выкапывания клубней или рубки деревьев. Но им нужно «просить разрешения и предложить умиротворение». Ведь это, помимо прочего, насильственные действия против живых существ. Дерево, которое можно срубить, обладает намерениями, желаниями и чувствами, возможно, даже страхом и неприязнью, в том числе уж точно по отношению к тому, кто угрожает его срубить. Дерево принадлежит к роду и связано другими отношениями в лесу. Kumara (сладкий картофель) тоже включен в родство. Он существует в мире не просто для того, чтобы быть съеденным. Прежде чем стать пищей, он – сладкий картофель. Насилие по отношению к деревьям и кумара – не нейтральное действие. Предпринятое должным образом, оно требует разрешения, которое не получается простым произнесением волшебного слова «пожалуйста». Также требуется умиротворение, которое может включать принесение извинений, уважительное поведение по отношению к деревьям и корнеплодам (включая части, непригодные к строительству и в пищу) и обращения к роду тех, кто был выкопан и срублен. Тауваи называет «религиозной деятельностью» то, что именно должен предпринять некто для того, чтобы сделать существ, чувствующих угрозу (например, деревья и клубни), менее враждебными и, быть может, даже готовыми пожертвовать своей жизнью ради других.
Часто результатом насильственных действий оказывается еще большее насилие. Убийство включенного в связи существа вовлекает совершивших его в дальнейшую конфронтацию с его родственниками. Превратности причины и следствия предполагают, что отнятие жизни предполагает наказание. Религиозная деятельность представляет собой вмешательство в эти процессы. Она стремится – без уверенности, но с надеждой – к установлению, поддержанию и улучшению здоровых взаимоотношений между родами или группами. Повседневные акты потребления, несомненно, суть акты истребления. Религия, по крайней мере в этом контексте, связана с поддержанием такого необходимого насилия. Она практикуется в связи с актами насилия и рикошетного насилия (Жирар 2000, 2010; Girard 2004) для поддержки противоположной динамики взаимности, выживания и интимности.
Может показаться, что в этой главе мы игнорируем слова (речи, молитвы и проповеди) в пользу действий (рубка деревьев, выкапывание сладкого картофеля); однако отметим значимость стратегически важного указания Томаса Чордаша (Csordas 2008) на телесность языка. Пояснить это можно на примере karakia, молитвы, с помощью которой маори обновляют свои отношения с рекой. Говорить – значит действовать, слова не просто выразительны, но чувственны, не представляют реальность, но являются ею:
Говорить – значит касаться звуков; язык – это ткань в плоти мира. Или, более яркий образ, представьте себе, что речь – это выделение; и если в этом утверждении вы чувствуете подозрительно эротический подтекст, я лишь напомню о том, что и разговор можно назвать «сношением», в чем тоже немало двусмысленности (Ibid 118).
Религиозная речь оказывается одним из взаимодействий человека с миром, и потому речевое действие[40] Тауваи кажется более чем адекватным.
Космическая генеалогия
Рассуждения Тауваи о насилии, наказании, получении согласия, умиротворении, деревьях и картофеле – продолжение его попыток приспособить понятие «древних объяснений» для новаторского определения «религии маори». Он начинает главу следующим образом:
Если, например, спросить в Руатории, где маори составляют большинство населения, о том, как они понимают религию, скорее всего, собеседник сначала почешет голову, задумается, а потом спросит: «Чью религию?» Слова «христианство» и «религия» могут казаться ему синонимами, но означать они могут самое разное, от «осознания человеком существования сверхчеловеческой контролирующей силы» до «проповедовать одно, но делать другое» (Tawhai [1988] 2002:238).
Если оставить в стороне ассоциацию религии с лицемерной проповедью (колониального христианства), цитата предполагает, что Тауваи согласился бы с тем, что «религия» должна определяться отсылкой к метафизике. Но, несмотря на такое искушение, было бы лукавством утверждать, что, хотя существа, которые могут считаться божественными, вовлечены в деятельность, о которой говорит Тауваи, и, хотя он называет их «сверхчеловеческими контролирующими силами», его интересует их присутствие в качестве деревьев, птиц и сладкого картофеля. Он пишет, к примеру: «к Тане, проявляющему себя в качестве Тане махута (деревья и птицы), обращаются те, кто отправляются в лес по делам. К Ронго в качестве Ронгомара’роа (сладкого картофеля) обращаются в сезон сбора урожая» (Ibid 244).
Но, хотя и справедливо, что «сверхчеловеческие контролирующие силы» у маори переживаются как деревья в лесу или овощи в огороде (и многое другое), есть и более серьезные основания утверждать, что религия маори является не «верой в богов», но межвидовым взаимодействием. Эти основания – указания на то, что божества, картофель, люди и деревья – все они являются участниками отношений, пронизывающих весь космос.
Тауваи предлагает краткое изложение korero tahito (древнего объяснения или традиционного повествования), рассказывающего об эволюции известной нам реальности:
Те Коре рос на протяжении эпохи и превратился в Те По. Те По тоже рос на протяжении стольких поколений, что человек не может сосчитать, пока не стал Те Ата (Рассвет). Затем из Те Ата возник Те Аотуроа (привычный нам день), из которого, в свою очередь, появилась Те Аомарама (замысел творения). Появляется Уаитуа (настоящее время используется для оживления повествования), знающий пространство. Несколько сущностей являют себя, и среди них Ранги потики и Папа, у которых рождается потомство, а именно: Тане, Ту Матауэнга (сокращенно Ту), Ронгоматане (Ронго) и Хаумие тикетике (Хаумие). Конец korero tahito (Ibid 242).
Это генеалогия или, скорее, фрагмент бесконечно развивающейся и становящейся все более разнообразной жизни. Тауваи обращается к нему, предлагая свое видение современной религии маори. Для моей задачи поиска материала – повсюду за пределами доминирующих сейчас норм, – адекватного для определения религии (не только маори, но любой), эта цитата содержит немало лишнего. Однако она важна для понимания того, что на жизнь (и живую религию как ее часть) гораздо сильнее влияют близкие, чем далекие отношения.
Тауваи поясняет, что Те Коре двусмысленно и может значить «Ничто» и «Не ничто», а Те По – это «бесконечное начало» (Ibid 242; цит. по: Arnold Reedy). От этих загадочных, далеких и беременных то ли состояний, то ли существ берет начало развитие, пока в «привычные дни» мы не распознаем пространство, а в нем – Ранги, Отца-Небо, Папа, Мать-Землю. И хотя Земля и Небо знакомы и на них можно положиться, скорее об их детях подумает «обычный маори на улице в Руатории», услышав выражение «сверхчеловеческие контролирующие силы». Как говорится в продолжении torero tahito о космической whakapapa (генеалогии), именно они станут божествами, к которым обращаются в церемониях и которые отвечают за жизнь этого мира. Они сверхчеловечны, но не сверхъестественны (если допустить, что понятие «сверхъестественное» имеет значение за пределами дихотомии культура – природа). Они – космические существа в общинном космосе. Они обладают властью по отношению к другим существам, но остаются родней.
Задать пространство, оставить место
Хотя я настоятельно рекомендую всем прочесть великолепный текст самого Тауваи, я кратко изложу, что, как он описывает, происходит дальше. Сокращая рассказ Тауваи, я отмечу, что он не хотел бы, чтобы его целенаправленное изложение знаний своего народа воспринималось как нечто застывшее и (как он сам на это указывает) как некая реплика, копирующая традиционный способ обучения религии. Рассказанное им богатое и текучее повествование устроено сложно, преисполнено гибкостью и изобилует возможностями. И хотя Тауваи находит ему новое применение, тот факт, что он обращается к местному знанию для решения насущной задачи, полностью соответствует традиции: объяснения древних всегда рассказывают в связи с конкретными сиюминутными проблемами или потребностями. Тем самым он приглашает нас к тому, чтобы научиться и показать в ответ наши приобретенные знания.
Вернемся к пересказу Тауваи (который сам пересказывает Арнольда Рида)[41]: по прошествии долгих эпох, когда космос медленно превращался в сообщество, все более походя на реальность нашего опыта, на пространство, в котором одновременно происходят самые значительные и самые интимные драмы жизни, среди мириад участников были Папа и Ранги. В любовных ласках они прижимались друг к другу. Дети, рожденные этой страстью, пребывали между телами родителей, в темноте, скрюченные – они желали простора, но едва ли могли даже вообразить себе возможность расти или хотя бы распрямиться. Со временем, несмотря на споры в семье, один из детей предпринимает титаническую попытку оттолкнуть Ранги от Папа, тем самым меняя их отношение друг к другу и ко всему живому. Ранги получает имя Ранги нуи – Отец Небо, а Папа становится Папа туануку – Мать Земля. Этот труд берет на себя Тане, который станет деревьями и птицами, божеством лесов и министром леса в космическом парламенте. Благодаря его усилиям продолжается эволюционное расширение пространства и распространение жизненного потенциала. Генеалогия продолжается. Aroha (любовь, симпатия) сохраняется – как между Небом и Землей, так и между родителями и их детьми. Ароха наполняет расширяющиеся пространства между множеством тех, кто теперь может процветать. Пространства между личностями, местами и моментами времени теперь всегда наполнены актами взаимодействия разной степени близости, поскольку «пространство» никогда не бывает пустым, но всегда является посредником движения, контакта и существования.
Это краткое изложение того, как вещи стали такими, каковы они есть, важно не только само по себе, но как основание знания, принятия решений и диалога. Определяя «цель религиозной деятельности», Тауваи обращается к деревьям, поскольку Тане является не только министром леса, но и самым высоким деревом в лесу. Тане – будучи и деревом, и лесом – продолжает отталкивать Небо от Земли, поддерживая пространство, задавая место своей высотой. Что же происходит, когда кто-то рубит дерево? Если дерево – это Тане, который отделяет, который создает пространство, чье действие делает возможным все прочие действия, что произойдет, если его устранить? Не поставит ли это под угрозу космический процесс расширения и дифференциации (для которого образцом и началом служит отделение Земли и Неба)? Это не только еще одна причина просить разрешения и умиротворения всех участников. Ритуалы в такой ситуации могут оповестить более могущественных участников о необходимости сохранять отделение Неба и Земли (любовное отношение, оставляющее потомкам место для жизни). Религиозные действия также могут поддерживать и претворять в жизнь (perform) знание о том, что лесорубы должны смирять свои топоры (акты насилия), ограничивать свое (человеческое) вмешательство в космос лишь необходимым и стремиться жить в рамках ограничений и обязательств, которые налагает сама жизнь в социальном мире взаимосвязей.
Кроме того, у рубки деревьев есть причина. Цель, которую упоминает Тауваи, – строительство, но речь идет о куда большем, чем просто о возведении повседневных жилищ. Аранжировка и перевод речи Арнольда Рида должны были, по словам Тауваи, пробудить «образы племенных мифов, с соответствующими жестами, со ссылками на символику, например искусство и резьбу, украшающую дома собраний» (Tawhai [1988] 2002:239). Срубленное дерево продолжает изменение космоса, создание мира, творение пространства Тане, становясь домом собрания, особенно его опорным, центральным столбом. Подобно тому как Тане отделяет Землю от Неба, а дерево – землю от неба, столбы отделяют в здании пол от крыши. Отделение, как выражается Тауваи, «только физическое» (Ibid 243): ароха поддерживает связи, конструирует близость и усиливает взаимодействия. На самом деле это дифференциация, а не отделение. Это перемена, а не слом. В каждом случае создание пространства позволяет, поощряет и провоцирует расширение от лица тех, кто перемещается в пределах пространства – посредника, совершая взаимодействия «между». Пусть Небо и над Землей, но деревья, люди и все обитатели Земли существуют в воздухе, благодаря воздуху, совместному дыханию, они укоренены в почве, делят питательные вещества, преодолевая видимые границы.
У любого рассказывания историй есть аспект, важный для понимания религии. Не только религия предполагает рассказы космологических мифов. Не только религия определяется как поддержание традиции группой людей. И даже не только религиозные повествования могут рассказывать об эволюции, сколь бы радикальной ни показалась эта мысль. Однако дело в том, что религия имеет отношение к тому, что происходит в лесах и домах собраний, когда люди (дети Тане, по крайней мере в случае маори) взаимодействуют с другими и используют пространства, которые их и связывают, и разделяют. Дело в уважительном потреблении. Поскольку это предполагает еду и гостей, нужно сказать и о сладком картофеле.
Поедание близких
Сладкий картофель – не исконное растение Аотеароа, он был привезен туда на тех же лодках, на которых маори пересекли океан. Маори и кумара поддерживали друг друга (маори экспериментировали с формами сельского хозяйства). Культура обоих развивалась с течением веков сожительства в Аотеароа. Любому садоводу понятна близость с растениями, которые он выращивает. Выкапывание или обрезка их может казаться насилием, но часто она сопровождается выражениями благодарности и удовольствия. Насколько эти отношения усиливаются, когда растение и человек происходят от предков, которые мигрировали вместе? За их отношениями стоит история. Это история регулярного, интимного, культивируемого насилия. Так, определяя в качестве «цели религиозной деятельности» «совершение безнаказанного насилия» по отношению к кумара или деревьям, Тауваи указывает нам на религиозные действия, вплетенные в уход представителей одного вида за другим и сбор урожая.
Статья Тауваи посвящена не ритуалам огородничества, связанным с посадкой, посевом, выращиванием или сбором урожая. Не упоминает он и готовку. Но он говорит о кормлении гостей. Это возвращает нас в дом собраний. Если плотник из деревьев делает дом собрания, то остальная часть сообщества делает возле этого дома гостей. Точнее, местные жители стоят перед домом своих предков и призывают незнакомцев (и их предков) зайти в дом и сделаться (remade) гостями. В приветственных речах и этикете потенциальное насилие со стороны незнакомцев – которые могут быть врагами – перенаправляется в диалогическую встречу гостей и хозяев. Гости и хозяева беседуют друг с другом, стремясь наладить между собой более близкие отношения посредством установления таких связей с пространством и предками, которые обычно отсутствуют между незнакомцами. Они делят общее дыхание и пересоздают друг друга из незнакомцев в гостей и хозяев. Затем они обнаруживают, что есть друг с другом лучше, чем есть друг друга. Воображаемый другой становится близким гостем. И тогда начинаются переговоры о том, какой вариант будущего из множества возможных может быть с наибольшей пользой реализован в этом мире.
Дом собрания – это место, где стоят и Тане, и местные жители. Это дышащее пространство со-вдохновения (общности дыхания и выражения) гостей и хозяев. Это место для приема пищи, где взаимное уважение определяет положение гостя и хозяина. Ритуалы здесь оказываются не медитативной реализацией «я» индивидов, «следящих за дыханием», но реализацией объединенных в отношения «я», подобно тому как меж-действующие тела, делящие воздух и пищу, стремятся к медиации определенных и иногда противоречивых желаний. Так, когда Тауваи подбрасывает картофель в свое объяснение религии маори, он отсылает читателя к тому, как усилия Тане по созданию пространства продолжаются во взаимодействиях и гостеприимстве маори. Важно, впрочем, что в мараэ, месте, в котором стоят местные жители, чтобы сделать из незнакомцев гостей, стремятся не к единообразию. К равенству и ограниченности возврата нет.
Дар и ограничения
Что происходит, когда дерево срублено? Плотники берут Тане/дерево и строят крышу над полом. У гостей будет укрытие. У собраний будет место. Здесь будут звучать речи и разговоры. Будут поедаться клубни, а не враги. Новым возможностям будет дана жизнь в освещенном пространстве все еще развивающегося, все еще генеалогического мира. Может состояться и получить развитие не ситуация конфликта, а очередной виток воображения, основанный на новой близости. Могут быть начаты переговоры, размышления и решения. Все это требует бережного отношения к обязательствам, которые налагают строительство и поддержание отношений, особенно потому, что не все отношения одинаковы и не все действия равны. Люди, места и действия оцениваются по-разному и, возможно, должны быть отделены и/или включены с ограничениями должной меры.
Это мир, в котором щепки от срубленного дерева не могут быть выброшены без полагающейся церемонии, как если бы акт его рубки был прямым и бесспорным, простой манипуляцией инертной материей. В мире связей не существует «инертной материи», и никакие «простые манипуляции» здесь не моральны. Все и каждая отделенная-но-включенная личность обладают mana, которая требует уважения. Слишком часто в публикациях мана мистифицируется, предстает некоей магической энергией, проистекающей из могущественного трансцендентного источника и опасной для смертных. Возможно, эта интерпретация была вдохновлена энтузиазмом XIX века по отношению к электричеству. Если не отвлекаться на подобные измышления, в менее механистической концепции мана может быть представлена как что-то похожее на харизму или дар (Mataira 2000:101–102). У каждого есть какая-то способность, дар к чему-то. Эта способность, воспринимающаяся как достоинство, и есть мана, присущая такому человеку. Но одни способности ценятся больше других, а их обладатели получают престиж и извлекают выгоду из использования своего дара. В этом смысле мана связана с «могуществом», например, приветствие [вождя] гласит «Haere mai te mana te tapu me te wehi» («Приветствуем могущественного, избранного и великолепного» – Tawhai [1988] 2002:245). В качестве социальной власти или могущества, которые имеют в одаренности и источник и выражение, мана вплетена в социальные процессы и в то, как определяется личность.
В этих социальных процессах дифференциация оказывается причиной отделения, но никогда – модернистского сверхотделения. Украшение резьбой дома собраний, отличаясь от других действий (как и все действия), должно отделяться от других действий (например, общения или готовки). Его должно деятельно и демонстративно оценивать в соответствии с его достоинством. Ряд специфических действий ни в коем случае не должны с ним пересекаться; даже действия, вполне обычные в положенном им времени и месте, могут становиться табуированными и производятся отдельно от него. Ограничения, поддерживающие должные отношения и должную дистанцию, автоматически задают должное поведение.
Диалектный вариант полинезийского слова, обозначающего у маори эти процессы отделения, – tapu. Питер Матаира утверждает, что «тапу, возможно, наилучшим образом проясняет использование библейского термина „святое“ или „священное“» (Mataira 2000:102), но он говорит так только потому, что не был инфицирован морализаторством, присущим терминам «святость» или «священность» (подробнее об этом см. главу 9). Слово тапу в различных полинезийских диалектах, но в первую очередь как табу встречается множество раз в записках о тихоокеанских путешествиях капитана Кука 1769–1779 годов и именно из них было заимствовано в английский язык. Например, Кук пишет: «Когда ужин был готов, ни один из них даже не сел и не попробовал пищу, поскольку вся она была табу, как они сказали, и это многозначное понятие в общем означает запретную вещь» (Cook [1777] 1967 3.1:129).
Кук также замечает, что его ученым выделили «картофельное поле» рядом с мараэ под постройку астрономической обсерватории (одной из задач экспедиции было наблюдение за движением планет). Он пишет об этом участке: «Чтобы избежать вмешательства местных жителей, его освятили жрецы, поместив свои жезлы у окружающих [sic!] его стен. Такое воспрещение местные называют табу – часто употребляющийся островитянами термин, сфера действия которого кажется чрезвычайно обширной» (Ibid 3.1:157).
Пища, люди и места могут быть «табуированы», ограничены или исключены из повседневного использования. Даже в первых примерах употребления термина в английском языке (и многих других, на которых велись записи о путешествиях) подмечается, что «многозначность» табу допускает переводы «запретный», «недоступный», «освященный». Термин быстро вошел в оборот и стал общеупотребительным в английском языке, до такой степени, что теперь сложно представить, как до распространения сведений об этих тихоокеанских путешествиях вообще был возможен разговор на английском языке о процессах и действиях табуирования. Даже сейчас интернет-поиск наиболее ранних примеров употребления и распространения этого слова в английском языке осложняется тем, что оно продолжает использоваться в качестве маркера, указывающего на грубый и неприемлемый характер других слов (часто всего из трех-четырех букв) и примечательно разнообразных действий. Тем не менее табу не только и не всегда негативны и не используются исключительно в связи с тем, к чему относятся отрицательно. У маори и в других родственных языках и культурах общим прочтением тапу оказывается отождествление его с «сакральным» (т. е. с ценностью, которая должна быть отделена). Столь же часто тапу оказывается эквивалентом глагола «освящать», т. е. создавать, декларировать или относиться к кому-то или чему-то особым образом.
Как говорил Кук, «сфера действия» этого слова «кажется чрезвычайно обширной». Трудности его перевода состоят не только в том, что оно происходит из другой культуры, но в том, что культура английского языка привносит новые смыслы и акценты. В частности, в европейские языковые культуры обычно оказывается встроен дуализм, поэтому «табу» превращается в ярлык для «плохого», «плохих вещей» или «плохих слов». Но чтобы это скорректировать, недостаточно сказать, что хорошие вещи тоже могут быть табу в отношении других. Хотя Кук справедливо указывает, что процесс табуирования похож на освящение (подобно тому, как от входящих в религиозные здания ожидают особое поведение), табу все равно оказывается богаче по смыслу. Подобно тому, как мана может обнаруживаться во всех возможных людях, вещах и действиях, так разница между мана одной и другой вещи может вести к их разделению, к их табуированию. Резьба по дереву попросту отличается от садоводства. Строительство дома собраний отличается от общения в этом доме. Но в том случае, если различные действия разделены отдельными действиями и вещами (например, ритуалы, в которых, как пишет Кук, «священнослужители» помещают «жезлы», обозначая дифференциацию пространства), простое различие становится сложным. Оно обозначается, конкретизируется, объективируется, учреждается и выносится на публику.
Но, что важно, эти отделения носят временный характер. Когда талантливые резчики заканчивают свою работу, тапу снимается; это происходит не автоматически, а требует специальных действий и подтверждения. Завершенный дом становится доступен всему сообществу. Протокол определяет взаимодействие внутри дома между разными людьми, вещами и поступками, обладающими различными видами мана и тем самым облеченными различными видами тапу, ограничений, рамок и допущений. Вкратце – вещи отделены друг от друга, пока они не собраны вместе. Совместные дыхание и прием пищи гостями и хозяевами устраняют тапу и делают дальнейшую близость и общение возможными. Простой факт различия жизненно важен, пока он не прекращает быть значимым. Различие налагает ограничения, запреты и обязательства на людей, пока эти различия не становится неинтересными и пока их не перекрывают другие важные вопросы. Иногда различие становится причиной встречи и, в случае уважительного («бережного» и «конструктивного» в терминологии Мэри Блэк, см.: Black 1977) согласования, приводит не к единообразию, но к взаимности. Таковы динамика и условия взаимосвязанности социальных процессов в многовидовом космосе, в котором выразительное утверждение границ готовит людей к кооперации и другим формам взаимодействия.
Традиция / кореро тахито
Когда Тауваи рассказывает о том, на что направлена «религиозная деятельность» его народа – и в Рауториа и в окрестностях, – он пишет о деревьях и сладком картофеле, о том, как режут по дереву, копают, кормят и привечают гостей. При первом прочтении «древних объяснений» в пересказе Тауваи велик риск обратить слишком много внимания на эти «сверхчеловеческие контролирующие силы». Но становится ясно, что кореро (рассказ) на самом деле повествует о способности личностей (людей и не-людей, деревьев и не-деревьев, картофеля и не-картофеля, божеств и не-божеств) действовать в мире, будучи по-разному одаренными, а также ограниченными и связанными своими врожденными, изменчивыми и всегда динамическими отношениями. Врожденное и приобретенное знание должно помочь людям выбрать из различных возможностей, открывающихся, когда (и только если) они действуют среди других, вместе с ними и по отношению к ним. Религиозные истории могут описывать «сверхчеловеческие контролирующие силы», но их рассказывают в контексте религиозной деятельности, посвященной отношениям между личностями в более-чем-человеческом мире (в котором люди не являются сверхотделенными).
Тауваи с уверенностью утверждает, что религиозная деятельность нгати-иэпохату имеет место тогда, когда они рубят деревья и из полученной древесины возводят здания, а также выращивают и выкапывают сладкий картофель для того, чтобы накормить гостей. Тем самым оказывается, что религия – деятельность, вплетенная в проживание жизни этого мира. Участвуя в ней, люди ищут позволения и предлагают умиротворение после совершения необходимых действий. Люди осваивают религию посредством рассказов и обсуждения (словом и делом) традиций, связывающих воедино миф, память, повторение, авторитет и сообщество, в котором они передаются. Используя понятия маори, мы можем назвать это кореро тахито (древние объяснения), что подтверждает рабочее определение религии, предложенное Даниэль Эрвьё-Леже, как «цепи памяти» (Hervieu-Leger 2000, 2008), или утверждение Джеймса Кокса о том, что религия отчасти определяется как «традиция, авторитетным образом передаваемая от поколения к поколению» (Cox J. L. 2007:85). Действительно, в повествованиях предков, пересказываемых Тауваи (которые обычно рассказывались совсем для других задач, нежели описание или определение «религии»), гораздо больше того, что соответствует пониманию религии как традиционной и общинной.
Тем не менее, когда у Тауваи появляется возможность говорить о цели религиозной деятельности, он не упоминает верования или постулируемые альтернативные реальности. Он практически не говорит о трансцендентном или сакральном (как сверхотделенных сферах). Не оказываются и люди, исполняющие религиозные действия, сверхотделенными от других существ или видов. Скорее, Тауваи обращается к актам насилия, необходимым для жизни в этом мире. Он говорит о религии как о действиях, позволяющих виновникам повседневных, рутинных и необходимых, хотя запрещенных и опасных, актов насилия выживать и процветать. Он обращается к традиции для достижения нетрадиционной цели – определения религии. Не стоит полагать, будто он пересказывает истории скорее религиозные, нежели социальные, экологические или практические. На самом деле он пишет о социальных актах, о поведении, которое делает космос, мир и местность пригодными для жизни существ разных видов. Религия имеет дело с вырубкой леса и выкапыванием картофеля, поскольку без религиозной деятельности никто не переживет цикл насилия. Напротив, процессы взаимности и диалога могут иметь место, создавать пространство, устанавливать пределы, в которых люди могут стоять прямо, делать из незнакомцев гостей, делить дыхание и пищу и продолжать искать новые пути установления взаимных отношений.
Восстановление отношений и рек
Приглашение поучаствовать в историческом событии на склонах горы Руапеху, возвышающейся над центральным плато Северного острова Аотеароа, позволило мне увидеть, как применить идеи Тауваи «где-то там». Он недвусмысленно говорит о том, что обсуждает знания и практики своего народа. Тем не менее, если предположить, что его утверждение о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается ‹…› совершение насилия безнаказанно», можно распространить на более обширный материал, то оно должно быть релевантно для сообществ маори и за пределами Руаториа.
В марте 2011 года нгати-ранги (туземное сообщество, живущее вокруг горы Руапеху) подписало соглашение с компанией Genesis Energy. В течение некоторого времени вся вода из двадцати источников на горе использовалась Genesis Energy в цикле генерации электроэнергии. После долгих переговоров производитель и поставщик энергии согласился часть воды пускать по изначальным руслам, чтобы вода снова начала спускаться с горы к морю. В ознаменование этого события день начали собранием в мараэ, которое заново закрепило коммуникацию между местными жителями и их гостями, а также стало (социальной) проверкой властных отношений между «обычными» людьми и представителями и управляющими энергетической компанией. Затем кортеж автобусов и машин перевез всех выше по склону к руслу одного из ручьев. Здесь после произнесения очередных речей было подписано и заверено соглашение сторон.
Это событие было бы вполне реально описать с помощью небольшого числа стандартных (еврохристианских) «религиозных» терминов, а то и вовсе без них. Оно может быть представлено как политическое и культурное взаимодействие, в ходе которого получили признание права туземного населения на образ жизни и жизненное пространство. Полноценное описание потребовало бы зафиксировать и проанализировать наличие молитвы или благословения в межкультурном событии. Такие молитвы были не просто культурной упаковкой межкультурного события, во всем остальном остававшегося секулярным. Это событие не только публично ознаменовало соглашение о том, что источники воды будут переданы из-под контроля Genesis Energy нгати-ранги и их соседям. Это не просто момент признания права маори на справедливость. Отличия мана, опосредованные протоколами и практиками табу, проявлялись во всем происходившем, но и их можно было бы адекватно описать как социальные процессы. Есть ли здесь какой-то признак религии, который следует принять во внимание? Если исходить из того, как принято описывать культуру коренных народов, то маори следовало бы приписать почитание священных горы и ручьев, веру в то, что предки присматривают за всем происходящим, и представления о том, что значимость воды далеко не повседневна. Не оспаривая эти утверждения, мы все же усматриваем в этом событии куда больше от «безнаказанного насилия» Тауваи.
Многовидовое симбиотическое сообщество, которым является живой поток, текущий от истока к морю по руслу, которое и нуждается во множестве форм жизни и обеспечивает их местообитанием, может быть объектом насилия. Его можно повредить или поработить, превратить из системы отношений в ресурс. Его внутренняя согласованность сообщества может быть разрушена, если составляющие виды не смогут пережить прокладку новых каналов. Его внешние связи с другими (птицами, млекопитающими, растениями) могут быть подорваны. Когда вода оказалась в трубе и превратилась в инструмент индустрии (используемый в генераторах электроэнергии), едва ли какое-то официальное ритуальное действие или обращение было адресовано реке, ее обитателям или хотя бы местным хранителям традиций маори. Мы не обнаружим свидетельств официальных действий, в которых кто-то «просит разрешения и предлагает умиротворение» (Tawhai [1988] 2002:244) в самом начале этого акта насилия. Напротив, признание этих действий актом насилия маловероятно. Может быть, предполагалось, что выработка электроэнергии станет «спасением и искуплением», и, возможно, труд по перенаправлению масс воды вдохновил кого-то обратиться к божеству «с молитвой или благодарностью».
В тот день, когда мы стояли на горе и подписывали соглашение (все присутствовавшие могли подписать его по меньшей мере в качестве свидетелей), я распознал больше, чем просто эхо идей Тауваи. Не один маори, участвовавший в соглашении, между делом сказал мне, что сторонами в нем выступали не только нгати-ранги и Genesis Energy, но и сами реки. В обыденном радостном погружении множества людей в воду на участке все еще свободно текущего ручья, до начала трубы, казалось, можно было увидеть восстановление близких отношений между местными жителями и местной водой. Статья Тауваи привлекает внимание к актам насилия как условию религиозной деятельности – в тот день на горе, когда местные маори вернулись к подвергнутой насилию реке, религиозные действия не производились открыто. Соглашение между двумя сообществами людей было ознаменовано речами и подписями на бумаге – соглашение между маори и рекой было ознаменовано близкими контактами и обращениями к ней. Я не утверждаю, что все плескавшиеся в горном ручье намеренно соучаствовали в религиозном акте, стремились к умиротворению за проступки прошлого или обновлению уважительно-близких отношений. Не утверждаю я и то, что река – текущая по ногам, между пальцами, попадавшая в рот – видимо или громогласно выражала предпочтение одному, а не другому способу существования. Все возможно. Я лишь хочу применить определение религии к ряду действий, как намеренных, так и случайных, которые могли бы оправдать расширение тезиса Тауваи о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается поиск способа войти на территорию сверхсущества и совершение насилия безнаказанно». Кажется возможным, что «насилие безнаказанно» иногда может значить и то, что религиозная деятельность необходима для восстановления правильных отношений значительно позже того, как случился первый акт насилия.
Более отчетливо созвучие идеям Тауваи обнаруживается в каракиа, молитве, произнесенной Че Уилсоном во время мероприятия. Начинаясь с призыва «Май ара ра!» («Вернемся к нашим истокам!»), она помещает говорящего и стоящих рядом с ним близко не только к истокам реки, но и к культурным истокам (и ресурсам) близости с местными горами и реками. Она провозглашает клановые/тотемические отношения (Rose 1998) между людьми и не-человеческими личностями, обнаруживает более фундаментальную, чем электричество, энергию в осознании со-существования с другими и стремится использовать эту космическую энергию для поддержания более уважительных отношений и деятельности. Усилия по исправлению того, что произошло между реками и людьми, создают прецедент для актов насилия в будущем, которые пока еще не стали причиной религиозных действий. Последние, таким образом, предметом имеют не изолированное «совершение насилия безнаказанно», но устроение и поддержание уважительных отношений между различными видами. Или, говоря более социологическим языком, целью религиозной деятельности оказывается создание и поддержание сотрудничества в многовидовых сообществах[42].
Бронзовая принцесса в Вайкики
Чтобы проверить обоснованность утверждений Тауваи и за пределами земель нгати-иэпохату, я мог себе позволить (при щедрой поддержке Британской академии и гостеприимстве whanau Матаира[43]) провести некоторое время на Гавайях. Если тапу структурирует социальные отношения в более-чем-человеческом сообществе, как его понимают маори, для меня было важным понять, как сходные процессы проявляются на другом конце Океании и Полинезийского мира.
Исторически Гавайское королевство (до аннексии США) отказалось от системы капу (понятие, родственное табу или тапу). Ее намеренное разрушение было частью широких социальных и политических изменений 1810–1850?х годов. Нельзя сказать, что они проходили безболезненно, но оказались достаточно успешными. Однако отсылки к капу по-прежнему встречаются в различных контекстах, и, пожалуй, происходит это все чаще. Приведу только два примера, которые иллюстрируют два варианта продолжающихся экспериментов в отношениях между полинезийской и европейской культурами.
На территории отеля в Вайкики, Гавайи, стоит бронзовая статуя принцессы Бернис Паухи Бишоп (1834–1881), читающей книгу школьнице, сидящей рядом с ней на скамейке. Надпись на статуе гласит: «КАПУ. Мы признательны за уважение к статуе принцессы Бернис Паухи Бишоп и традиционному гавайскому саду. Пожалуйста, не подходите близко к клумбам, статуе и фонтану. Махало!» Этот публичный памятник посвящен (среди прочего) вкладу Бишоп в основание системы школ Камехамеха.
Популярная во всем мире практика натирать отдельные части бронзовых статуй – руки, ступни (или мошонку, как у коня в статуе Андраса Хадика в Будапеште) – до блеска здесь, видимо, неактуальна. Требование капу в этом смысле удовлетворяется. Но и принцессу, и школьницу украшают леи, гирлянды, которые регулярно меняют на свежие. Кто-то определенно дотрагивается до статуи-капу. Учитывая сказанное ранее о том, что тапу – ограничение, достигаемое в результате согласований и может быть отменено, когда контакт становится допустимым или необходимым, украшение статуи не противоречит требованию капу. Напротив, оно подкрепляет исполнение ритуала или требования этикета, которые утверждают и подчеркивают различия не столько как барьеры для взаимодействия, сколько как его источники.
Знак капу, как может показаться, похож скорее на британское «По газонам не ходить», чем на приглашение принять мир как целостность изменяющихся отношений. Но возможно, что запрет ходить по траве дает знать о тех британских табу, которые другими способами не проявляются. В главе 9 я опишу другую систему табу – иудейский кашрут. Вне зависимости от серьезности нашего отношения к этому предположению, другие отсылки к капу на Гавайях свидетельствуют о продолжающейся передаче традиционных знаний, образа жизни и опыта. Годичный лунный календарь, доступный на сайте Aha Moku (), способствует групповому воодушевлению и актуализирует протоколы и практики традиционного управления ресурсами. Последние всегда хотя бы упоминают, что отдельные места, периоды времени, этапы жизненного цикла (например, период размножения рыбы) являются капу. Такие упоминания могут дополняться словом «сакральное», поясняться «необходимостью позаботиться о том, чтобы не нарушить эти циклы» или просто дополняться фразой о том, что «каждому месяцу строго соответствует определенная церемония» или конкретные запреты. Усилия по возврату к прежнему обращению с землей и морем (традиционное управление территориями «от горы до океана») включают в себя восстановление ландшафта (например, рыбных прудов), культурного опыта (например, знаний о морских обитателях и ботанике), стилей образования и самоуправления (например, местных протоколов проведения совещаний и прививания «уважения»). Как и описание Тауваи использования леса и выращивания картофеля, сайт и календарь содержат отсылки к божествам. В данном случае божества оказываются участниками экологических и культурных систем, представляющих интерес для любителей рыбалки.
Календарь на 2011–2012 годы предлагал краткое описание Лоно как «одного из четырех важнейших богов. Лоно связан с миром, плодородием, земледелием, дождем и музыкой». В Музее Бишоп в Гонолулу выставлены статуи Лоно и других божеств, которые были перемещены из оригинальных мест и оказались в этом более публичном, менее ограниченном пространстве. В каком-то смысле, капу с них было снято, возможно, из?за того, что их престиж, мана, уменьшился из?за распространения в XIX веке европейского и американского влияния. Но их нельзя счесть и просто экспонатами музея. В календаре, как и повсюду, Лоно – активный участник многовидового сообщества. Отсутствие слова «религия» в данном случае указывает на то, что упоминание божеств не является указанием на изолированную реальность сверхъестественного трансцендентного. Скорее религиозная деятельность (например, разговор о богах и структурирование года согласно соответствующим церемониям) пронизывает все «обыденные» действия. Религия, как указывает Тауваи, – это один из аспектов повседневных отношений людей с другими.
Бахаи, католики и святые последних дней
Переходя к заключению, отмечу, что самый большой вклад в мое понимание религии у маори и коренных гавайцев внесли люди, не называющие себя исключительно «традиционалистами». Они, безусловно, чтут знания предков и поощряют практики уважения, основанные на наставлениях и образе жизни предков. Но среди них есть англикане, бахаи, католики и святые последних дней. Они не разделяют религиозные комплексы, идентичности и практики так, что можно было бы безоговорочно сказать «Вот это традиционное, а это католическое». Их самопрезентация и деятельность – разнородная, по-разному акцентированная и приводящая к различным результатам – является смесью идей и образов, восходящих к самым разным источникам. Как и в случае со многими другими коренными народами, слово «духовность» для них нередко предпочтительнее «религии». Например, мне часто говорили, что существует «духовность маори», лежащая в основе всех культурных практик маори. Многие несомненно ревностные христиане-маори говорили о божествах предков и общении с ними, не считая при этом, что они выходят за какие-то рамки. Религия не существует и не действует в аккуратных рамочках (McGuire 2008). Мы (религиоведы) не только должны рассматривать ее как текучий феномен, но и разрушать подчеркнуто непреодолимые границы между нашими категориями – в том числе названиями религий, как будто бы отделяющими одну религию от другой, и терминами, к которым мы обращаемся в наших критических исследованиях.
Когда падает дерево
Когда Тауваи указывает на возможную ассоциацию религии с «проповедью одного и совершением другого» (Tawhai [1988] 2002:238), он не позволяет ей влиять на его определение религиозной деятельности как «совершения насилия безнаказанно». Религия не означает возможность избежать наказания за нарушение правил. Скорее, главная идея Тауваи состоит в том, что религиозная деятельность начинается с признания того, что насилие необходимо, но опасно. Религии нет там, где люди находят себе оправдание в том, что совершаемое ими насилие ни на что не влияет. Скорее, религия имеет место там, где люди видят свои жертвы, полностью осознавая, что взаимосвязанность строится на взаимности, и стремятся к близости с другими, несмотря на насилие. Религиозная деятельность совершается тогда, когда в ритуале и этикете, в ограничениях и празднованиях, в почтении к мана и табу люди ищут позволения и предлагают умиротворение за хоть и необходимые, но тем не менее преступные акты насилия. Когда в лесу падает дерево, философы размышляют, слышит ли кто-то звук падения, а религиоведа интересует, не замешана ли в этом религия.
Глава 7 В отношении отношений
Колумб, его соратники и последователи в деле захвата Америк европейскими империями часто заявляли, что у коренных народов они не обнаружили ничего похожего на религию или христианство. Учитывая характер документов, основополагающих для этого проекта, – обосновывавших завоевание, порабощение и разорение «обнаруженных» народов отсутствием у них «христианского князя» (см.: Newcomb 2008), – это иначе как удачей и не назвать. Уж совсем маловероятно, что люди, противостоявшие и уступавшие натиску европейцев, вынужденные выживать, находили время или удовольствие в том, чтобы приглашать Колумба с товарищами посетить множество церемониальных комплексов, разбросанных по континенту. Так или иначе, громогласные утверждения об «отсутствии религии» кажутся неискренними. Впрочем, другой крайностью являются утверждения более поздних авторов о том, что они обнаружили веру в сверхъестественное и/или трансцендентное у коренных жителей Америки – в этом очевиден эффект использования теологического подхода к религии. Но ни одна из точек зрения не приносит практической пользы ни для понимания религий коренных американцев, ни для академически значимого определения «религии».
В главе 6 я размышлял над тем, как европейцы обходились без слова «табу» до путешествий капитана Кука в Океанию. Сейчас я ставлю другой вопрос: как слово «тотем», заимствованное у носителей алгонкинских языков, населявших территории, которые сейчас называются Северной Америкой (но остаются родиной коренных народов), может помочь сместить наше внимание на не-трансцендентные, не-метафизические, а полностью эмпирические свидетельства того, что мы можем назвать религией. Здесь я следую за Кеном Моррисоном (Morrison K. M. 1992a, 1992b, 2000, 2002, 2013), утверждавшим необходимость иного, не связанного со «сверхъестественным» понимания религии и нового, «посткартезианского» подхода к академическому исследованию. Вместе с ним и другими коллегами я продолжаю работу, начатую Ирвингом Хэллоуэллом (Hallowell 1955, 1960, 1992), в значительной мере вдохновившим пересмотр концепции «анимизма» (Harvey 2005a, 2013). Я убежден, что именно на этом пути мы добьемся существенного успеха в деле построения новой теории «религии».
Следуя Хэллоуэллу, я также буду придерживаться его написания названия коренного народа, «оджибва», которому будет посвящена эта глава. Иногда, впрочем, я буду писать «оджибве» или «анишинаабе», в том случае если эти формы в большей степени соответствуют самоопределению местных групп. Мне повезло провести некоторое время у анишинаабе на Среднем Западе США и на юге Канады, имея возможность убедиться в справедливости, корректности и адекватности выводов Хэллоуэлла к людям, живущим и сегодня. Первый мой визит к туземному населению Северной Америки случился в Миаупукеке, Ньюфаундленд; именно этот опыт я обобщу в качестве предисловия к обсуждению важных для нас вопросов.
Китпу!
Орлы довольно распространены в районе реки Конне на острове Ньюфаундленд. Они обитают на лесистых утесах, вдоль реки, от городка Ми’кмак до Миаупукека (резервации коренных американцев, признанной правительствами Ньюфаундленда и Канады). Они часто таскают лосося или треску из рыбного хозяйства общины, живущей неподалеку от Бэй д’Эспуар. Местные жители видят их каждый день. Но когда народ Миаупукеки проводил свой первый традиционный, не соревновательный пау-вау в 1996 году, орел пролетел по кругу над центральной группой барабанщиков во время финальной «песни почета» (во время которой танцуют только старейшины и ветераны), а потом отправился в свое гнездовье на другом берегу реки. Все, и местные, и гости, заметили это – его приветствовали криками «Китпу!» («Орел!»), выражая восхищение его красотой, радуясь его присутствию и утверждая, что его полет выказывает одобрение собрания. Тот самый полет орла в то время, в этом месте продолжает праздноваться сегодня как знак поощрения сообщества Ми’кмака, которое восстанавливает доверие к традиционному знанию и его актуальности для современного мира.
Вскоре после этого молодой человек признался мне, что в тот момент он впервые почувствовал гордость за то, что он – часть коренного населения. Несколько человек упоминали, что произошедшее в Миаупукеке не было «движением возрождения», поскольку традиционные мировоззрение и образ жизни не нуждаются в возрождении, орлы и медведи всегда их хранили. Представитель орлов почтил коренных жителей этого региона и острова в целом за их готовность вновь жить традиционным образом, в соответствии с традиционным пониманием мира. Орел участвовал в пау-вау, поскольку люди вновь начали участвовать в местной культуре. На семнадцатом ежегодном пау-вау в 2012 году это событие с удовольствием вспоминалось и воодушевляло на продвижение по этому новому/старому пути.
В этом небольшом эпизоде содержится много важного; его можно вкратце охарактеризовать как анимистическое явление с элементами тотемизма (оба термина мы еще обсудим). Он спровоцировал спонтанные выражения уважения и благодарности и включен в межвидовые отношения взаимности и обмена. Прославление могущественных личностей (старейшин, ветеранов, барабанов и орлов) сплелось в социальное событие, зрелище, в которое встроены церемонии. Но «религия» ли это?
Пау-вау не религиозны. Их участники могут принадлежать к множеству разных религий или не принадлежать ни к одной. Церемониальные элементы пау-вау включают в себя прославление старейшин и ветеранов, национальную общность (nationhood), «традицию», включенность в современную рыночную экономику (например, рыбный промысел) и многое другое. Возможно, часть участников пау-вау 1996 года, в том числе католики, обращалась с молитвами к своему богу, что не делает пау-вау в целом или полет орла в частности религиозными. Подобным образом и «традиционные» участники могли адресовать свои слова и действия «Великому Духу» и восклицать «Китпу!» или «Орел!», но не думали о пау-вау как о единой религиозной церемонии.
В этом и других пау-вау участники разжигают священные костры и проводят церемонии в парной (sweat lodge). Здесь нет ничего драматически трансцендентного или сверхъестественного, и никто никогда не намекал мне на то, что в 1996 году орел был символом, метафорой, духом, посланием или чем-то подобным. Скорее, это был орел, сообщающий одобрение. В конце концов, разве это не просто люди, желающие благополучия окружающим (людям и не-людям) – например, воодушевляя молодых людей уважать самих себя, возможно, посредством прославления традиционных ценностей и знаний? Являются ли пау-вау чем-то большим, чем яркими событиями социальной жизни? Чтобы понять, чем примечательный, но не сверхъестественный полет орла может быть полезен для определения «религии», погрузимся в споры о сверхъестественном и двинемся на запад.
Солидарность рода
Наряду с описанием (множества) историй религиозных столкновений между французами и алгонкинами в XVII веке Кен Моррисон последовательно рассматривает и часто оспаривает современное понимание знания (Morrison K. M. 2002). Хотя выражение «Солидарность Рода» должно было обобщить устои, акты творчества и стремления разных алгонкинских народов (т. е. работу над более близкими и более уважительными отношениями), оно также указывает и на ключевую проблему европейского проекта с колониальных времен до наших дней. (Некоторые из моих друзей-туземцев настаивают на том, что мы живем не в постмодерновом, а в слишком-модерновом, самом модерновом и самом колониальном из времен – вот я и объяснил ироничные аллюзии в периодизации.) Устойчивость европейских навязчивых идей, понятийных аппаратов и традиций регулярно не позволяет ученым выйти за рамки, в которых «религия» увязана с верой и трансцендентным. По счастью, и в значительной степени вследствие публикаций Моррисона, конструирование «религии» как «веры в бога» сегодня кажется как никогда шатким. В связи с этим складывается новая солидарность, в рамках которой «религия» используется для обозначения куда более интересных материй, нежели причуды и глупости нерациональных или невежественных людей.
Чтобы нам (ученым) выбраться из клетки устоявшихся христианских теологических и модерновых подходов и найти аппарат, более подходящий для понимания религиозного знания коренных народов, Моррисон уводит нас «За пределы сверхъестественного к диалогическому сообществу» (Ibid 2002:37–58). В главе под таким названием он – на первом этапе освободительного процесса – приводит аргументы из статьи Оке Хульткранца, который пишет: «Эмпирические исследования убеждают меня в том, что представление о базовой дихотомии двух уровней существования, обычном или «естественном» и экстраординарном или «сверхъестественном», является условием религиозного сознания человека» (Hultkrantz 1983:231).
Как подчеркивает Моррисон, этот тезис о фундаментальном значении «сверхъестественного» (и «человека»), не говоря уже о том, что не является результатом эмпирического наблюдения, отражает «широко распространенное допущение наличия бессознательных принципов существования, которым, как мы ошибочно полагаем, все люди подчиняют свои жизни» (Morrison K. M. 2002:37). Такого рода допущение, укоренившееся в конкретной культурной системе (Saler 1977), не позволяет адекватно описывать даже ту реальность, в которой обитают его сторонники. Далее, Моррисон указывает, что эссе Хульткранца
не только содержит неверные описания космологий американских индейцев, но и исключает возможность получения новых, кросс-культурных сведений об их жизни. Возвышенность, вертикальная иерархия не свойственны ни оджибва, ни другим религиозным системам индейцев ‹…› французские иезуиты в XVII веке не смогли обнаружить свидетельств существования у алгонкинов понятий бога, Бога, и, кстати, поклонения (worship) (Morrison K. M. 2002:41).
Сходным образом Моррисон критикует книгу Джеймса Акстелла «После Колумба» (1988) за содержащиеся в ней многочисленные противоречия. Отмечая, что индейцы (до «контакта» с европейцами) не различали естественное и сверхъестественное, Акcтелл, тем не менее, все же полагает «духовную или сверхъестественную силу, сверхъестественные талисманы, монотеистическую веру в „предельное бытие“ характерными для отношения американских индейцев к миру» (Morrison К. M. 2002:159, опирается на Axtell 1988, особенно 16, 118, 278).
Акстелл не утверждает, что индейцы подобным образом характеризовали космос, хотя в их языке и отсутствовало подобное различие. Скорее, в данном случае европейская привычка видеть в религии «сверхъестественное» непреднамеренно затесалась между эмпирическими данными и научным анализом.
Я следовал за Моррисоном, подчеркивая некоторые самые характерные изъяны в изучении этих религий – и, предположительно, также остальных[44]. Возможно, было бы лучше начать более позитивной нотой, наметив, какие именно грани знания (знаний) американских индейцев требуют от нас переосмыслить научные категории и подходы. Однако в этой книге меня в первую очередь заботят две связанные друг с другом проблемы. Первая – неправильное понимание религии. Вторая – неправильные подходы к изучению религии. Опираясь на работы Моррисона, я утверждаю, что, хотя сегодня нам доступно множество данных об отдельных религиях, которые могли бы и поставить под сомнение, и совершенствовать существующие определения, категории и понятия, именно наши подходы более всего нуждаются в радикальном пересмотре и переосмыслении. По этой причине кажется обоснованным краткое изложение основных моментов критики Моррисоном двух подходов к религиям американских индейцев. Что же предлагает Моррисон вместо определения религии посредством сверхъестественного и подходов, повсюду допускающих его существование и – что неудивительно – повсеместно его обнаруживающих?
Моррисон цитирует «историю о происхождении, рассказанную шаманом оджибва, Дырой-в-небе», из ответа Великого Духа на просьбу Раковины («великой личности» с «нижнего слоя земли», которая «равна Великому Духу» и была одной из тех, кто «нагрезил Мидевивин, главный религиозный обряд оджибва, дающий этому народу силу»):
Хо! Спасибо за твой план для индейцев. Ты обогнал меня, я задумывал нечто похожее, почти такое же. Это на благо индейцам. Зови всех маниту [личностных существ] Земли; скажи им, что мы решили. А я скажу тем, которые со мной (Morrison K. M. 2002:42; цит. по: Landes 1968:98).
Великий Дух, Раковина и «индейцы» здесь оказываются дифференцированы по силе или возможностям, но не онтологически: все они – взаимосвязанные существа, разделяющие ответственность за благополучие друг друга. Развивая эту мысль и рассуждая о происхождении и эволюции отношений оджибва с идеей «Великого Духа», Китче Маниту, Моррисон показывает, что оджибва устояли перед христианской теологической верой или системой космической иерархии. Скорее, для них «власть/знание ‹…› основаны на практике межличностной этики и ответственности», «политика разворачивается в диалоге взаимообмена личности, власти и увещеваний», а космос остается основанным на связях и консенсусе (Ibid 42–43; см. также: 79–101, 186 № 2). Знания и поведенческие протоколы коренных народов продолжали структурировать и поощрять заимствование, поглощение, освоение и адаптацию новаторских идей и действий (см. также: Soyinka 1976:53–54; Garuba 2003 – где указывается, что это характерная черта анимизма коренных народов по всему миру).
Работы Моррисона показывают значение для алгонкинских народов онтологии, эпистемологии и этики, основанных на взаимосвязях. В противостоянии и серьезной угрозе, и серьезной привлекательности европейских миссионеров, торговцев и всех остальных культурные нормы народов, переживших колониальный натиск, постоянно «подталкивали их к конструктивному союзу, религиозной социализации эгоистичных, индивидуалистичных и авторитарных (и тем самым не-индейских) других» (Morrison K. M. 2002:79). Тотальность системы отношений доказала свою жизнестойкость тем, что алгонкины продолжали стремиться включить европейцев и их божество в социальные сети, даже в ситуациях, когда они проявляли себя как совершенно антисоциальные, сверхотделенные существа. В другой работе Моррисон цитирует современного навахо, говорящего, что европейские американцы «ведут себя так, будто у них нет родственников» (Ibid 2013). Это созвучно тому, что Леви-Стросс писал о том, как население Карибских островов и испанские инквизиторы подходили к определению человечности незнакомцев (что предполагало выяснение их материальности или нематериальности, о чем мы уже говорили в главе 3); извечный вопрос, возникающий во «взаимодействиях» между полушариями: а они люди? (Levi Strauss 1952, 1973:384).
В поисках «посткартезианской антропологии», учитывающей исторические столкновения народов, имевших различные онтологические допущения и ожидания, Ким Моррисон (Morrison K. M. 2013) дополняет наблюдение Хэллоуэлла о том, что вопрос «А они люди?» является одной из разновидностей вопроса «А они личности?». Чтобы это понять, вслушаемся в разговоры, в которых дает о себе знать анимизм анишинаабе.
Уловить слова грома
Хэллоуэлл пишет:
Однажды информант рассказал мне о том, как много лет назад, летом, во время грозы он сидел в палатке с одним стариком и его женой. Раскаты грома следовали один за другим. Вдруг старик повернулся к жене и спросил: «Слышала, что говорит?». «Нет, – ответила она. – Я не расслышала». Мой информант, оцивилизованный (acculturated) индеец, сказал, что не сразу понял, о чем говорили супруги, – конечно, о громе. Старик думал, что одна из Птиц-громовников что-то сказала ему. Он отреагировал на звук так же, как ответил бы человеку, слова которого не понял (Hallowell 1960:34).
Хэллоуэлл комментирует этот рассказ так:
Обыденность этой реплики и даже банальный характер всей истории демонстрирует психологическую глубину «социальных связей» с не-человеческими существами, которая проявляется в поведении оджибва вследствие когнитивной «установки», привитой их культурой (Ibid 43).
Всю жизнь будучи анимистами, старики предполагали, что гром – это акт коммуникации. Признание индейцем того, что он «не расслышал» сказанного, отсылает к другому важнейшему представлению: коммуникация не всегда имеет отношение к нам (к людям в целом или отдельным слушателям). Пожилая пара могла продолжать общаться с гостем, тогда как гром был частью другого разговора, ведущегося поблизости.
В другом не менее важном пассаже «Онтологии, поведения и мировоззрения оджибва» – работы, которая становится все более влиятельной с течением времени, – Хэллоуэлл рассказывает о том, как спросил безымянного пожилого оджибва, «все ли камни, которые мы видим вокруг нас, живые?» (Ibid 24, курсив в оригинале). Вопрос мог быть связан с тем, что в грамматике оджибве добавление специфического окончания множественного числа *-iig указывает, что камни, асин, грамматически являются одушевленными (Nichols&Nyholm 1995:14). Это может показаться похожим на то, что, например, во французском языке «стол» женского, а не мужского рода. Но, как оказывается, эти ситуации отличаются. Если спросить носителя французского языка, относится ли он к столам как-то иначе из?за использования грамматических категорий «женского» рода, вас, скорее всего, примут за шутника или безумца. Принадлежность к женскому роду в грамматике французского языка – фигура речи и, вероятно, не имеет другого смысла или значения (см.: Sedaris 2001:185–191). А на вопрос Хэллоуэлла о камнях был дан более полезный (хотя и загадочный) ответ.
Вопрос Хэллоуэлла в развернутом виде состоит в следующем: относятся ли оджибва к грамматически одушевленным камням как к одушевленным личностям? Говорят ли они с камнями или проявляют как-то иначе намерение построить или поддерживать отношения с ними? Если все камни всегда грамматически одушевленные, думал ли старик, что именно вот этот камень поблизости является живым? Относился ли он к ним так, будто они живые? Старик ответил: «Не все! Но некоторые живые». Он утверждал, что видел, как камень в ходе шаманской церемонии двигался вокруг палатки вслед за певцом. Рассказывают, что у другого влиятельного лидера был огромный камень, который открывался, когда тот трижды хлопал по нему, позволяя забрать из него мешочек с травами, необходимыми для церемоний. Хэллоуэллу рассказывали, что однажды белый торговец рыхлил свою картофельную грядку и нашел камень, который выглядел так, будто мог иметь важное значение для индейцев. Он позвал лидера церемонии, который опустился на колени, чтобы поговорить с камнем, спрашивая, не пришел ли он от какой-то другой церемониальной палатки. Камень, говорят, отрицал это. Движение, дарообмен и общение являются тремя индикаторами одушевленной природы существ, включенных во взаимоотношения, или личностей.
Из ответа пожилого индейца и других повествований, подчеркивает Хэллоуэлл, становится ясно, что ключевым моментом является включенность камней в отношения – а не только то, что они по своей воле могут что-то делать (как бы это ни было примечательно). Для оджибва интерес представляет не вопрос «Откуда мы знаем, что камни живые?», а «Как люди должны к ним относиться?». И это в равной степени справедливо для людей, камней, деревьев, животных, птиц, рыб и всех существ, которые распознаются как личности. Личности опознаются в качестве таковых в том случае, если они относятся к другим личностям определенным образом. Они могут действовать с большей и меньшей долей близости, взаимности, уважения и добровольности. Поскольку вражда – это тоже отношение, они могут вести себя агрессивно, что является главной причиной того, что у анимистов есть шаманы (Harvey 2009b). Категория «личность», возможно, единственная адекватно применимая к мирам, насквозь пронизанным связями, в которых существа включены в активные отношения друг с другом. Здесь «личность» является не столько именем, сколько действием (performance), причем одновременно и вещественным, и общественным. Такие представления весьма отличаются от идей большей части культур европейского происхождения, в соответствии с которыми личностность есть некое внутреннее качество, то, что присуще осознающему себя индивиду (человеку). Хэллоуэлл указывает на это, подчеркивая, что мы говорим здесь не о различных «системах верований», эпистемологиях, но о разных онтологиях, разных способах бытия в мире. И действительно, можно сказать, что старейшина оджибва жил в ином, нежели Хэллоуэлл, мире, до тех пор, пока последний не научился видеть мир таким, каким показал его учитель.
Открыв для себя мир, в котором старейшины оджибва и камни могут активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться дарами и вместе участвовать в церемониях, Хэллоуэллу пришлось искать в английском языке новые возможности для описания того, чему он научился. Разговор об анимизме мог предполагать разговор о жизни (одушевленности), в отличие от смерти. Разговор о личности мог подразумевать представления о внутренних свойствах человека (human interiority), таких как вера, рациональность или субъектность. Хэллоуэллу приписывали обе эти ошибки. Но «одушевленные личности», о которых пишет Хэллоуэлл, – существа, включенные в связи, акторы в мире соучастия. Его вопрос сформулирован так, что становится понятно: он пусть отчасти, но понял, что значит жить в мире пожилого собеседника, – он не спросил «Все ли камни живые?», его интересовали только камни поблизости.
К тому времени Хэллоуэлл уже осознавал значимость отношений и соучастия. От принимавших его оджибва он усвоил и использовал выражение «не-человеческие личности» (other-than-human persons), обозначая так одушевленные существа, с которыми люди делят мир. Он не ставил человека как такового в привилегированное положение и не говорил, что личностью кого-то делает сходство с человеком. Он ясно дает понять, что «личность» не определяется исключительно человеческими характеристиками или поведением. Это понятие гораздо объемнее, чем «человек».
Все существа намеренно коммуницируют и действуют по отношению друг к другу, основываясь на связях: именно это делает их «личностями». Все личности, как предполагается, обмениваются дарами, действуют уважительно (ко взаимному или общинному благополучию), и, поступая так, они становятся «хорошими личностями». Нам (людям) естественно говорить о «человеческих» и «не-человеческих» личностях только потому, что мы люди (будь мы медведями, мы говорили бы о «не-медвежьих личностях»). Носителям английского языка эти выражения также покажутся естественными, поскольку под словом «личность» они привыкли понимать других людей. Слова «личность» без уточнения «не человеческая» было бы достаточно, если бы носители английского языка не привыкли ставить человека в привилегированное положение по отношению к другим существам.
Анимисты живут в другом мире – в сообществе личностей, принадлежащих к разным видам, и каждая из них воспринимается как способная на отношения, коммуникацию, агентность и желания. Люди не уникальные обладатели или исполнители чего-то под названием «культура». Здесь нет немой или инертной «природы», нет инертной не-ценностной «окружающей среды», но лишь конкурирующие разговоры внутри многовидового культурного сообщества. Порой эти разговоры пересекают границы между видами. Церемонии – регулярные возможности для разных видов личностей (например, людей, медведей, орлов, камней, солнца) взаимодействовать на пользу всему сообществу. Внимание к этим следствиям из анимистического знания может также способствовать осмысленному нарушению или эффективному разрушению границ, с помощью которых «естественные» и «социальные», а также «гуманитарные» науки, кажется, соотносятся с различными субъектами и объектами. Наши научные предки оставили нам мир, в котором люди отделены от «среды», в отличие от животных, интегрированных в свою среду обитания. И хотя мы, может быть, не живем полным образом в одушевленном космосе (несмотря на привычку давать имя машинам, умолять компьютеры работать нормально и воспринимать плохую погоду как личный выпад), не живем мы и в целиком научном мире, который и сам Дарвин описывал как насквозь пронизанный взаимосвязями.
В двух словах, термин «анимизм» мы используем не так, как это делал Эдвард Тайлор – если иметь в виду его определение «религии» как «веры в духов» (Тайлор 1989), – но так, чтобы с почтением прислушаться к тому, что говорят оджибва. Анимизмом именуется стремление к благополучной жизни в мире, который представляет собой сообщество личностей, большинство из которых не является людьми. Он предполагает разнообразные онтологии и эпистемологии и бросает вызов слишком прямолинейным предположениям о том, что говорить о коммуникации птиц или животных означает проецировать человекоподобие или идти на поводу у антропоморфизма. Скорее уж, отрицание сходства людей и других видов живых существ ведет к куда большим порокам сверхотделения и андроцентризма. О мире анимистов, в значительной степени введенном в обсуждение публикациями Хэллоуэлла, следует сказать больше. В частности, обратимся к другому слову оджибве, которое было включено в академический словарь, но никогда не понималось правильно.
Тотемы
Как показал Дарвин, все существа связаны. У нас общая генеалогия и история, так что естественно ожидать сходства в физиологии и способах деятельности. На радикальную взаимосвязанность и множество взаимодействий видов в традиционном мире оджибве можно наклеить ярлык «анимизм», но нам необходимо нечто более специфическое и интимное. Возможно, собеседник Хэллоуэлла сделал паузу, прежде чем ответить «Не все! Но некоторые живые», потому что интерес для него представлял не вполне тот вопрос, который задал исследователь. Что Хэллоуэлл и его наследники извлекли из его ответа, так это то, что именно оживленность мира может приниматься как данность, допущением, на которое можно всегда положиться. По-настоящему интересный вопрос касается конкретных отношений и того, как они становятся актуальными. Поэтому в широком, охватывающем космос анимизме (который не нуждался ни в каком ярлыке, пока не начал насильственно насаживаться альтернативный образ жизни) у оджибве было слово для обозначения особых межвидовых отношений. Это слово «тотем».
У оджибве тотем означает кланы, в которые включаются люди и отдельные животные или растения. Ученые использовали это слово в построении разнообразных теорий по поводу того, как люди представляют и соотносят себя с (другими) животными. Благодаря Клоду Леви-Строссу закрепилось представление, что животные-тотемы выбираются, поскольку они «хороши, чтобы думать» (Леви-Стросс 2008:119). Это большой шаг вперед по сравнению с позицией Джеймса Фрэзера, который считал, что люди выбирают отдельный вид животных или растений в качестве тотема, чтобы магически способствовать изобилию пищи или защите (Frazer 1910), или Бронислава Малиновского, утверждавшего, что выбор этот зависит от простоты, с которой «тотемы» становятся пищей (Малиновский 1998). Тем не менее более глубокое понимание (кстати, провоцирующее людей на улучшение отношений с миром) возможно в том случае, если принять всерьез тот факт, что оджибве употребляют слово totem (или -doodem-) попросту для обозначения кланов. Как пишет Крис Найт, «тотемизм ‹…› встроен в анимизм как один из аспектов социальности» (Knight 1996:550). Это более непосредственная и интимная форма отношений, чем всеохватывающая взаимосвязанность, предполагаемая анимизмом. Тотемизм в принципе предполагает указания не на животных и растения, но на ассоциации и социальные собрания личностей, принадлежащих к разным видам, которые воспринимаются как более близкие родственные группы в рамках большего одушевленного мира. Животные и растения в этом контексте – хороши, чтобы быть родственниками[45].
Описывая традиционные знания аборигенов Австралии, Дебби Роуз (Rose 1992) в работе «Динго делают нас людьми» указывает (и в названии, и в содержании книги) на принципиальную важность того, что тотемистические отношения делают людей такими, какие они есть. Дело, которое кланы должны делать в широком, инклюзивном межвидовом сообществе, скрепленном анимизмом, состоит в оживлении привилегий уважения, кооперации и взаимодействия и локальном поощрении разрешения различий мирно, а не деструктивно.
Не следует путать это с романтизмом. Описывая отношения австралийских аборигенов со своей землей и не-человеческими соседями, Роуз использует термин «тотемизм», подчеркивая, что у всех видов «свои ритуалы и законы ‹…› а еще у них [как и у людей] принято заботиться о благополучии» всех обитателей определенного региона или «страны». Все связанные друг с другом существа разделяют общие права и обязанности, все они стремятся к «процветанию в мире» всех и каждого (Ibid 7, 11). Тотемическое/клановое родство подразумевает высокую степень взаимной заботы. Отсутствие заботы или безответственное потребление создает «дикие» места (Rose 2004) – т. е. места, поврежденные доминированием или сверхотделением. Управление правильными, сбалансированными и заботливыми действиями и потреблением происходит над межвидовыми границами и иллюстрируется, в частности, отнятием жизни. В этом контексте интересно обратиться к Вэл Пламвуд, описывавшей нападение крокодила (Plumwood 2000), которое дало ей понять, что она оказалась в неправильном месте. Нельзя игнорировать существенные различия между оджибве и аборигенами, однако их понимание «тотемизма» выдает согласованность идей родства, взаимности, заботы и ответственности.
Каннибалы и целители
Подобно тому как Пламвуд и Роуз указывают, что взаимодействия и совместное проживание не всегда гармоничны, могут приводить к напряжению, конфликтам и соперничеству, так и у оджибве мир связей не лишен опасностей. В приведенном ниже пассаже Хэллоуэлл сначала напоминает о том, что все «личности» разделяют общую природу, а затем показывает властные отличия между ними:
Если говорить языком оджибва, получится следующее: все другие «личности» – люди и не-люди – устроены так же, как и я. Есть жизненная неизменная часть, и есть внешние проявления, которые при определенных условиях могут трансформироваться. Все прочие «личности» также обладают такими свойствами, как самосознание и понимание. Я могу говорить с ними. Как и у меня, у них есть осознание собственной личности, автономия и воля. Я не всегда могу предсказать, как они будут действовать, хотя почти всегда их поведение отвечает моим ожиданиям. В отношении меня другие «личности» отличаются по своему могуществу. Многие обладают большей властью, чем я, но у некоторых ее меньше. Они могут быть дружелюбными и помогать мне, когда я нуждаюсь в этом, и в то же время я должен быть готов к враждебности. Мне следует быть начеку в своих отношениях с другими «личностями», поскольку внешность может быть обманчива (Hallowell 1960:168).
Как отмечает Моррисон:
[Мэри Блэк] называет эту неуверенность [в понимании намерений других] «неопределенностью восприятия», тем самым подчеркивая, что люди должны вести себя в отношении других личностей и осторожно, и конструктивно («с уважением», если обратиться к выражению из повседневного словаря современных оджибва) (Morrison K. M. 2002:40, цитирует Black 1977).
Действительно, распространенное у коренных народов по всему миру понятие «уважение» наилучшим образом сосредотачивает в себе то, как следует вести себя одним личностям по отношению к другим в одушевленном мире.
Не все личности похожи. Они не только относятся к разным видам, они еще и отличаются в степени могущества. Некоторые обладают социальной властью, например, учат молодых уважительно относиться к старшим (принадлежащим к разным видам) (см.: McNally 2009). Некоторые обладатели социальной власти не учитывают в своих поступках благополучие других. Кроме того, существуют личности, способные менять внешность. Не во всех случаях они делают это с негативными или агрессивными целями. Они могут быть амбивалентными. Вспомним, что этот мир пронизан связями и, чтобы понять, «хорошая ли это личность», нужно внимательно рассмотреть все ее действия. Могущественные индивиды могут руководить общинными церемониями или делить добычу на охоте ради благополучия других. Но алгонкинские народы рассказывают также об опасности, которую несут социальному миру каннибалы. Эти предельно антисоциальные существа, без сомнения, одержимы потреблением без учета родства, необходимости делиться или ритуалов благодарения. Таким образом, процесс взросления предполагает обучение тому, как следует стремиться к взаимности и делиться с родом и соседями. Если иезуитов в XVII веке волновало, есть ли у алгонкинов идея божества, индейцев волновало, что европейцы были антисоциальными, потребляющими все без разбора каннибалами. И сегодня среди общественных добродетелей учителя алгонкинской культуры поощряют заботу, осторожность и стремление относиться к ситуации конструктивно, но оставаясь в безопасности.
Кроме того, наш мир остается тем местом, где люди регулярно ищут помощи у более могущественных личностей (и людей, и не-людей). Те люди, которых в других культурах называют «шаманами», у индейцев Северной Америки часто называют «целителями» (medicine people). Отсылка к медицине здесь связана не только с осведомленностью о том, как использовать лечебные вещества, но и с умениями эксперта правильно указать, где следует искать поддержки и помощи как для исцеления, так и в других ситуациях. Целители, как и шаманы, могут обращаться к животным или тем, кто их контролирует, за разрешением для охотников делать свое дело. Они искусны в предсказаниях и умеют предвидеть решения множества проблем. В Амазонии от целителей ожидают умения распознать опасных хищников (людей и не-людей), а также каннибальские наклонности. Не обращая внимания на видимость «естественной» формы, целители распознают за ней союзников или врагов, хищников или жертв (ср.: Viveiros de Castro 1998, 2004). Как и для тех, кого (справедливо или нет) называют шаманами и колдунами, для целителей могут быть характерны индивидуальное мастерство или эксцентричность, и из?за этой их исключительности их самих могут подозревать в антисоциальности или вредоносности. Тем не менее главная потребность в целителях связана с двойственным фактом: в межвидовом сообществе (с заметным межвидовым родством) некоторые виды, с необходимостью и немилосердно, являются пищей. И, как и в случае шаманов в других культурах (см.: Harvey 2003b; Harvey&Wallis 2010), может возникать потребность в посредничестве и дипломатии между видами для поддержания необходимого уровня пищи, сдерживания излишнего насилия и сглаживания обвинений.
Тишина в лесах
Не только целители вовлечены в отношения с могущественными не-человеческими личностями. Все, кто ходит по лесу или по берегу, уже находятся в больше-чем-человеческом мире, в доме медведей, оленей, орлов, рыб и других личностей. Ларри Гросс пишет, что «традиционный образ жизни в лесу „погрузил оджибве в тишину“, „побудил вслушиваться в мир вокруг них“» (Gross 1996; цит. по: McNally 2009:298). Возможно, это «вопрос выживания» (как предполагают Гросс и Макнелли), особенно если мы говорим об охотниках в лесу. Там и тогда они соответствуют принятым в этой местности правилам, следуют табу, сопоставимым с тем, что Ране Виллерслев описал у сибирских охотников-юкагиров (Willerslev 2007). Или, как пишет Ричард Нельсон о взглядах коюконов[46], «окружающая среда подобна второму обществу, в котором живут люди, она управляется продуманными нормами поведения и этикетом и может вознаграждать соблюдающих эти нормы и наказывать нарушающих» (Nelson 1983:226).
Все эти примеры подтверждают выдвинутый выше тезис о том, что мир насквозь социален, он является сообществом личностей (не все из которых люди), и по отношению к нему термины «естественный» или «сверхъестественный» не имеют сколько-нибудь осмысленного и уместного употребления. Различия между личностями не порождают значимых иерархий, но заряжают энергией осторожные взаимоотношения. Применительно к охоте и употреблению в пищу животных это означает, что в благодарность за их жизни люди даруют им уважение. Уважение здесь имеет смысл «должного поведения», а также «благодарности» и осторожных конструктивных действий. В свою очередь, такой обмен дарами (питание на уважение) приобретает форму практики дарообмена.
Бимаадизивин
Говоря об «экзистенциальных постулатах» или «принципах», лежащих в основании «понятий Личности, Власти и Дара», Моррисон пишет:
Если благие могущественные личности, с одной стороны, действуют сообща, то злые, с другой, таятся и действуют в своих собственных интересах. Таким образом, могущество как религиозных специалистов по отдельности, так и церемониальных сообществ проявляется в распространении кооперации в микро- и макрокосме (Morrison K. M. 1992a:203, основывается на Blackburn 1975).
Взаимность и отстраненность являются добродетелями, которые в сообществах оджибве прививаются посредством историй, участия в церемониях и наблюдения за привычками старших. В связи с этим приведем обширную цитату из книги Макнелли «Почитание старейшин»:
Оно [убеждение оджибве в том, что моральные связи простираются за пределы человеческого сообщества] предельно важно для понимания «религии» оджибве – понятие, которое большинство анишинаабе, с которыми я общался, не считали подходящим для именования того, что они предпочитают называть «наш образ жизни» или «наш путь». Именно этот посюсторонний фокус верований и церемониальных практик оджибве в равной степени обескураживал как миссионеров, так и религиоведов. Вместо того чтобы начинать с «религии» или «природы», обратимся к автохтонной категории, которая служила антропологам и историкам, как и людям сообщества, понятием, адекватно описывающим образ жизни оджибве: бимаадизивин (bimaadiziwin). Это отглагольное существительное, происходящее от слова «двигаться вместе с» или «двигаться чем-то», которое служит глагольным корнем для понятий, обозначающих живые объекты и людей. Бимаадизивин можно довольно прямолинейно перевести как «жизнь» (life) или «житье» (living), но более глубокий взгляд открывает в этом слове ключ к традиционной цели религии оджибве: жить в этом мире хорошо и долго ‹…› Бимаадизивин ориентирует повседневные естественные труды посюстороннего существования на предельный порядок вещей. Переводящий это слово как «хорошая жизнь» Хэллоуэлл помещает идею бимаадизивин в центр религиозного проекта оджибве, отмечая нравственные, эстетические и духовные коннотации этого понятия. «Религиозное поведение оджибве, – пишет он, – может определяться как любая индивидуальная или групповая активность, способствующая хорошей жизни человеческих существ путем эксплицитного признания, прямого или непрямого, веры в человека и зависимость от не-человеческих личностей» (McNally 2009:48–49; цит. по: Hallowell 1992:82).
Макнелли пишет о «тяжелом труде» жить так, чтобы «обычная жизнь» соответствовала «предельному порядку вещей». Не поэзия и не романтизм заставляет анишинаабе видеть в людях «зависимость от не-человеческих личностей». Утверждение Тауваи (которое мы обсуждали в главе 6), что «целью религиозной деятельности здесь оказывается ‹…› совершение насилия безнаказанно» (Tawhai [1988] 2002:244), сходным образом отдает должное необходимости людей – и представителей всех прочих видов – лишать жизни, но делать это в соответствующих рамках уважительной, взаимной и всегда согласованной общинной жизни. Это, в свою очередь, требует культурного контекста, в котором лишение жизни и употребление пищи могут совершаться «должным образом» (что бы это ни значило в контексте каждой конкретной культуры). Старейшины показывают на своем примере (своей жизнью и своим молчанием), что может означать «хорошая жизнь» – и «жить хорошо», и «жить долго». Не-человеческие личности (например, орел на пау-вау в Миаупукеке в 1996 году) помогают людям осознать, в каких обстоятельствах они действуют – или должны действовать – с уважением в пределах сообщества, включающего не только людей. Таким образом, людей направляют и поддерживают на путях жизни в этом мире.
Наконец, отказ от терминов «сверхъестественное» и ему подобных в определениях «религии» или бимаадизивин связан не с тем, что коренные народы живут «естественной» жизнью в «природе», но с тем, что оба члена этого противопоставления («естественное» и «сверхъестественное») суть чуждые этим культурам заимствования. Опыт не делится на «естественный» и «сверхъестественный», как мир не делится на «культуру» и «природу». Скорее, это богатое плюралистическое сообщество видов, со-обитающих в местах-как-обществах. Религия не может иметь отношения к трансцендентному, поскольку ничто не трансцендентно живому сообществу этого мира. Мы видим религию в пределах взаимодействия личностей, людей и не-людей.
Сбор полыни
В одной экспедиции по Среднему Западу США меня пригласили присоединиться к группе оджибве и лакота, которые отправлялись собирать полынь. Они используют это растение в молитвах круглый год, сжигая ее для очищения и поднося пучки не-человеческим личностям в качестве дара за их помощь. Мы отправились в одно из тех мест в Миннесоте, где полынь росла в изобилии. По пути водитель первой машины в нашем ad hoc кортеже обратил внимание на множество полыни, растущей на обочинах шоссе. Он припарковался, и мы последовали за ним, начав, не без опаски, собирать полынь.
Когда появилась полиция, разгорелся спор о том, насколько эта деятельность законна или правильна. У индейцев есть право использовать имущество штата (которым, вероятно, являются дикие растения), но сбор полыни рядом с оживленным шоссе может быть признан опасным и даже нелегальным. Полицейские вынудили нас продолжить путешествие. Достигнув запланированного первоначально пункта назначения, все достали пучки полыни, оставшиеся от сбора прошлого года, и, приложив их к сердцу, представились – не друг другу, но растениям. Каждый – кто-то про себя, кто-то вслух – попросил разрешения собрать свежей полыни на следующий год и, помолчав, положил свою полынь на землю. После того как дары были принесены, а один из старейшин сказал, что разрешение получено, все мы стали собирать полынь, стараясь не навредить всему растению и выражая благодарность всякий раз, когда нож касался стебля.
Моими спутниками в этом походе были в основном оджибве и лакота, а также несколько американцев европейского происхождения. Если не брать в расчет меня, мероприятие было христианским, римско-католическим. Во время предваряющей путешествие службы в церкви табачный дым и вода использовались для освящения и очищения, и обычная во всем остальном месса включала в себя молитвы за участников пляски солнца и других «традиционных» церемоний. По возвращении в церковь свежесрезанная полынь была высушена, часть ее собрана в небольшие пучки, которые развесили в напоминающем индейскую парную сооружении, служившем местом хранения между службами используемых в таинстве хлеба/тела и вина/крови.
Я обращаю внимание на этот комплекс событий и факт религиозной принадлежности этих людей, чтобы подчеркнуть, что, как все коренные народы, эти американские индейцы стремятся хорошо жить в этом мире и чтить «традицию», по крайней мере в какой-то степени, а также отдавать должное традициям и знаниям, происходящим из других источников. В данном случае мы видим, как смешиваются свойственная анимизму адаптивность и свойственный католицизму синкретизм: индейцы могут обращаться к трансцендентному божеству, могут верить в более-чем-естественные чудеса, но могут и просить о помощи обычных, природных, близких, но могущественных не-человеческих личностей – и все для того, чтобы жить хорошей жизнью. Появление орла на пау-вау – свидетельство того, что не только люди ожидаемо участвуют в религиозной практике или поддерживают других людей в их стремлении к хорошей жизни. Учет уважительных действий во взаимоотношениях между коренными жителями Северной Америки с птицами и растениями поможет нам переопределить религию.
Глава 8 Вещи полны смысла
Прогулка по любому городу йоруба позволяет увидеть, насколько широко религия представлена публично. Как мы указывали в главе 2, многие магазины в Абеокута в Юго-Западной Нигерии демонстрируют [религиозную] принадлежность владельцев названиями: книжный «Святое семейство» или фотоателье «Бог велик». Несколько святилищ – особенно посвященное орише Игун, которое содержит группа жриц, – помещаются в пещерах или на выступах под скалой Олумо неподалеку от Абеокута, сравнимой с Стоунхенджем и Ватиканом по тому, насколько здесь переплетаются древнее наследие, местные святыни и туристические достопримечательности. Христианские и мусульманские группы представлены в этой череде религиозных построек не только церквями и мечетями, но и школами, клубами и офисами благотворительных организаций, заявляющих о своей принадлежности. И, как пишет Афе Адогаме,
нередко случайный прохожий встречает на улицах традиционных городов йоруба такие объекты, как сырая и приготовленная пища, обезглавленная птица или животное, яйца, раковины каури, монеты, свечи и прочее, помещенные в горшок или миску и выставленные на перекресток, обочину или у подножия гигантского дерева ироко (Adogame 2009:75).
Он определяет эти предметы как приношения или жертвы, ритуально предлагаемые для предотвращения бед, просьбы о помощи, исполнения обетов и/или подтверждения космического баланса и социального единства.
Что именно означает это разнообразие представленности и практики религии, требует аккуратного рассмотрения. Многие в Нигерии говорили мне, что широко цитируемые данные статистики о религиозной принадлежности вводят в заблуждение. По крайней мере отчасти это связано с тем, что религии (не только в Нигерии) по привычке воспринимаются как монолитные блоки с четкими границами и известным воздействием на поведение людей.
Это, в свою очередь, происходит оттого, что религия определяется через представления элит, кодифицированные в риторике и текстах. Поэтому данные статистики, которые мы приводили в главе 2 и согласно которым то ли 10, то ли 90 процентов нигерийцев придерживаются «традиционных африканских религий», основываются на двух противоположных друг другу концепциях религии. Если человек может принадлежать только к одной однородной и четко ограниченной группе, тогда нигерийцы должны делиться на мусульман, христиан и традиционалистов. С другой стороны, если границы религий, в лучшем случае, проницаемы, а люди могут свободно перетекать между ними, участвуя во внешне различных практиках без серьезных трудностей, тогда нигерийцы могут быть мусульманами, христианами и традиционалистами одновременно. Более того, они, вероятно, регулярно преступают и границы между религиозным и секулярным и проживают свою жизнь еще более сложным и интересным образом, чем предусматривают эти ярлыки.
В то время как переписи учитывают самоидентификацию и декларируемую принадлежность населения, им не удается (как и во многом другом) учесть множественность членства и текучесть практик. «Девяносто процентов» в статистике указывает именно на то, что, хотя вывески магазинов в Абеокута могут декларировать принадлежность владельцев магазинов к христианам, мусульманам или «традиционалистам» (что как будто не так распространено, но в других местах, например Иде Ифе, встречается чаще), где-то в самом магазине, вероятно, найдутся амулеты с защитными свойствами или следы присутствия очевидно различных религий. Когда я спрашивал, о чем говорят эти практики, мне отвечали, что, столкнувшись с болезнью, потерей работы или другими трудностями, любой нигериец, вероятно, отправится к лидеру той религии, к которой он принадлежит наиболее естественным (immediate) образом. Если молитвы или приношения в рамках этой традиции или сообщества окажутся неэффективными, нуждающийся в помощи обратится к другому лидеру, ритуальной практике или изготовителю амулетов, которые, как он надеется, смогут ему помочь. Христиане и мусульмане обращаются к одному или нескольким из множества традиционных специалистов-прорицателей.
Однако и «традиционалисты» не только ищут помощи у христианских или мусульманских богов или святых, они также адаптируют свои ритуальные практики в соответствии со все более популярным «пятидесятническим» стилем богослужения. Прагматизм, стоящий за заимствованием, использованием и/или адаптацией чего-то полезного, оказывается определяющим для того, что Гарри Гаруба (Garuba 2003) называет «анимистический материализм». Он станет предметом этой главы, посвященной вкладу современной африканской религиозной деятельности в нашу попытку дать новое определение религии с учетом материи и материальности и вопреки чрезмерной фокусировке на внутреннем мире (interiority) и трансцендентном.
В качестве еще одной иллюстрации того явления (или сети взаимосвязанных действий), которым я хочу обогатить наш разговор об определении религии благодаря исследованиям «где-то там», позвольте мне указать на некоторые трудности моей полевой работы в Нигерии. В Ибадане, городе йоруба, меня пригласили посетить Эшу (Esu). Я видел танцы Эшу (Eshu) в Гаване, на Кубе, и читал об Эшу (Exu) бразильских ритуалов кандомбле, но не знал, чего ждать от этой встречи. Мой хозяин и проводник в Ибадане рассказал мне, что этот Эшу старейший и здание было построено специально для него. Мне было любопытно, как выглядит божество йоруба, воплотившееся в человека-танцора. Потом на ум начали приходить другие вопросы: какой дом по нраву божеству? Чего ждут от ученых, приходящих к божеству? Что имеется в виду под «этот Эшу»? Если их больше одного, то сколько? Как мне объяснить свои исследовательские интересы и Эшу, и его последователям (devotees), если это подходящий термин?
Как много ошибок можно совершить, когда пишешь об Эшу? Не говоря уж о том, что я только что привел три разных написания имени Эшу (как его пишут в Нигерии), я называл Эшу божеством, а не «ориша» (во множестве возможных вариантов). Это правильно? Говорит ли это о сходстве между ориша и божествами, что, в свою очередь, ошибочно указывает на то, будто я понимаю, что значит «божество»? К какому классу принадлежат эти существа? Они трансцендентны, сверхъестественны, не-эмпиричны? Или они что-то еще, что-то повседневное, локальное и/или материальное? А кого-то из читателей гораздо больше этого замешательства по поводу таксономии удивит то, что я не использовал применительно к этим существам слов типа «репрезентация». Кто-то еще спросит, уместно ли и с точки зрения религиозной грамматики, и с точки зрения добротной науки говорить, будто я видел ориша в доме в Ибадане и в танцах на Кубе, вместо того чтобы сказать, что то, что я видел, – символы или репрезентации ориша. Решением множества моих сомнений по поводу Эшу (и других ориша, в присутствии которых я оказывался) стало убеждение в том, что «репрезентация» и «символ» – понятия неуместные. Их использование будет иметь результатом некорректное понимание – и неадекватную репрезентацию – важнейших вопросов, касающихся не только религии йоруба, но и любой другой религии. Так, в центре настоящей главы находится материальность религии, а ее задача – показать, чем практика религии у йоруба созвучна «повороту к материальному» в нашей дисциплине.
Анимистический материализм
Обсуждая то, что может показаться «просто ‹…› развернутой метафорой» в африканской литературе и литературе африканской диаспоры, Гаруба показывает, как важно обращать внимание на ее «анимистические аспекты» и «материальные детали» (Garuba 2003:274). Он имеет в виду гораздо большее, чем просто то, что, обратившись к этим вопросам, мы лучше поймем африканские романы – его статья посвящена африканской культуре, обществу, модернизму и постколониализму. Анимизм наполняет жизнью и/или опосредует эти различные области, но не (обязательно) вступает в конфликт с модернизацией. Именно в рамках анимизма понятия и идеи приобретают материальные формы, выражение или воплощение на уровне феноменов – они оказываются вещами или даже акторами. Текстуальные и ритуальные формы «анимистического материализма» выражают нечто тотальное, то, что Гаруба называет разрешением неопределенностей в понимании Африки. Он цитирует Патрика Чабала, утверждавшего, что «в Африке, несомненно, что-то происходит, но ‹…› мы (аутсайдеры) не уверены, ни что именно, ни – тем более – как это понимать» (Chabal 1996:32; цит. по: Garuba 2003:265).
«Это, – пишет Гаруба, – продолжающееся перезаколдовывание мира» или пронизывающий всю культуру и осознано реализующийся в жизни анимизм. (Возможно, следует отметить, что, как и в предыдущих главах, этот «анимизм» не совпадает с тайлоровским и принятым в колониальной «прогрессистской» и «интеллектуалистской» антропологии. Не является он и какой-либо из форм примитивизма.)
Среди литературных примеров, которые приводит Гаруба, начало «Интерпретаторов» Воле Шойинки[47] (Soyinka 1970:7) и эпизод из «Возлюбленной» Тони Моррисон, описывающий «жестянку из-под табака, что хранит у себя в груди» Поль Ди, накрепко запечатывающую его воспоминания о жизни раба, пока она не лопается в ответ на страхи Сэти (Morrison T. 1987:113)[48]. Именно последний пример заставляет Гарубу писать о том, что «соблазнительно считать этот пассаж всего лишь развернутой метафорой, но нам следует обратить внимание на анимистические аспекты ее реализации, отметить аккуратную проработку „материальных“ деталей» (Garuba 2003:274). Это, полагает он, нечто большее, чем «магический реализм» латиноамериканской и других литератур. Использование термина «анимистический реализм» позволяет описать эту «доминирующую культурную практику соотнесения физической, часто одушевленной материальной стороны с тем, что другие могут счесть абстрактной идеей» (Ibid). Понятия не являются (просто) мыслительными абстракциями, они – материально, физически воздействующие акторы в социальных ситуациях.
Гаруба пишет не только о литературе, но также обращается к анимистическому материализму и «продолжающемуся перезаколдовыванию» в политической и социальной сферах постколониальной Африки. Его статья начинается с выразительного описания «огромной статуи Санго, бога молнии йоруба, наряженного в традиционные одеяния, как бы возглавляющего энергетические компании и корпорации, распределяющие энергию по стране» (Ibid 261).
В статье речь идет о самых разных элементах социальной, политической, экономической, материальной и перформативной (performance) культуры, в которых задействованы «традиционные» темы и мотивы. Гаруба не только указывает, что в современной постколониальной Нигерии сохраняется «традиция» – это едва ли было бы интересно. На то, что за этим стоит нечто большее, указывает тот факт, что «статуя Санго особенно важна для новых „образованных“ лидеров, которые, предположительно, отчуждены от своей традиции западным образованием» (Ibid 262). Этот Санго символизирует точку пересечения «модерна» и «традиции». Новые элиты помещаются в этой же точке, поскольку они стремятся «наращивать свою власть и легитимность», манипулируя всепроникающими анимистическими тенденциями. Тем временем пока даже традиционные элиты удерживают свои позиции, «инкорпорируя модерные инструменты в традиционные ритуальные практики ‹…› анимистическое миропонимание, прилагаемое к практикам повседневной жизни, часто дает обездоленным в колониальной и постколониальной Африке возможность выступать в качестве агентов» (Ibid 285).
Таким образом, многие нигерийцы вплетают элементы «традиционной культуры» в частные, разнородные и пребывающие в становлении формы «модерности». Несмотря на модернистскую риторику «прогресса», не было никакого линейного процесса, который сделал бы «традицию» чем-то из далекого прошлого, устаревшим или старомодным, а «модерность» – предвкушением глобального единого будущего. Напротив, Гаруба утверждает:
Анимистическая культура, таким образом, открывает целый мир возможностей, заключающих в себе будущее, утверждая, что существующее в настоящем еще предстоит изобрести. Именно благодаря этой возможности охватить будущее становится возможным продолжающееся околдовывание (Ibid 271, курсив в оригинале).
Это не мнимый примитивизм противостоит единственной модерности, это иллюстрация парадоксальной ситуации, при которой есть множество модерностей, однако «Нового Времени не было» (Латур 2006). Расколдовывание редко оказывается полным – лишь некоторые институты и немногие индивиды успешным образом отделились от мира связей.
В контексте множества модерностей, ни одна из которых не может избавиться от околдованности наверняка, Гаруба представляет динамику западноафриканского анимистического материализма во многих социальных и культурных средах. Он указывает, что «„замыкание“ духа в материи или слияние материального и метафорического, которое подразумевается анимистической логикой, затем, как выясняется, воспроизводится в культурных практиках общества» (Garuba 2003:267). Понимая, что может показаться, будто он сдается чуждому (европейскому по происхождению) дуализму или попросту идет у него на поводу, автор оговаривает: «На данном этапе важно отметить, что дуализм сознания и тела, как будто пронизывающий это эссе, нас интересует только в качестве обоснования той метафизики и эпистемологии, которую отвергает анимистическое мышление» (Ibid 267).
В таком случае Гарубе удается извлечь невероятно много из африканской литературы и литературной традиции африканской диаспоры. Хотя его статья начинается с описания ориша, Санго, в ее фокусе не столько «религия» (как ее обычно понимают), но скорее экономика, политика или общество. Использование метафоры помогает серьезно переосмыслить не только религию, но и литературу, дискурс и власть, поскольку Гаруба предельно ясно высказывается о материальности. В отношении начала романа Шойинки (Soyinka 1970:7)[49] Гаруба пишет: «Сама мысль о том, чтобы заклинать калабаш, находящийся у кого-то в животе, долгое время меня озадачивала, пока я не понял, что именно эта материализация идей, привычка давать конкретное измерение абстрактным идеям является в этой культуре обычной практикой» (Garuba 2003:273). Религия, подобно литературе, и не только в Африке или происходящая из Африки, может иметь куда больше смысла, если мы последуем этому тезису и также обратимся к материализации религии.
Создание божеств
Я видел божеств в их домах. Я научился простираться в их присутствии. Я научился приносить им дары, когда мне была нужна помощь. Я видел (но не вполне понял), как божества используют вещи для коммуникации с людьми. Даже двухнедельный визит в земли йоруба может быть весьма поучительным. Было бы преувеличением сказать, что я был незнаком с материальными божествами, предметами-персонами или почитаемыми вещами. Я все-таки много лет прожил среди язычников и изучал их. Также я посещал синтоистские святилища, буддистские храмы, католические соборы, wharenui маори, индуистские мандиры и другие места, в которых почитаются статуи, резьба и иные предметы. Даже чтение научных текстов помогает усвоить тот урок, что вещи не всегда правильно воспринимать как податливых реципиентов тех смыслов, которыми их наделяет человек (см.: Lаtour&Weibel 2005; Henare et al 2007; Lаtour 2010; Ingold 2011; Spretnak 2011; Whitehead 2012).
Тем не менее исследователи должны не только усвоить локально уместные способы поведения в присутствии божеств, святых или учителей других культур, нам также нужно усвоить новый язык для концептуализации и анализа существенных вопросов. Поэтому в предыдущих главах я рассматривал ценность таких терминов, как мана, тотем и табу, для пересмотра данных о религиях и обновления теорий религии. Встречались нам и «-измы», которые могут и помочь, и затруднить этот наш научный проект, например дуализм, буддизм, католицизм, иудаизм, протестантизм, а также сверхотделенность и картезианство. В нескольких главах рассматривался анимизм. Польза «тотемизма» для понимания анимистических отношений была темой предыдущей главы, а в этой под вдохновенным руководством Гарубы мы рассмотрели анимистический материализм и динамическое напряжение между модернизмом (модернизмами) и традиционализмом (традиционализмами). Сейчас мы обратимся к еще одному расхожему «изму» – фетишизму.
В отличие от терминов мана, табу и тотем понятие «фетиш» вырвано не из сложных языковых культур коренных народов, но из некоего европейского языка. Впрочем, так же как термины мана, табу и тотем, «фетиш» восходит к взаимодействиям между людьми, которые разительно отличаются друг от друга (Johnson 2000:247). Среди множества явлений, которые могли привлечь внимание португальских торговцев в Западной Африке в XV веке (в особенности в современной Гане), именно рукотворность почитаемых объектов побудила их создать новое слово.
«Фетиш» происходит от глагола feitico, «делать» или «создавать», и является частью плодородного семантического поля, из которого произошли слова «артефакт», «фабрикант», «фабрика», «факт», «фиксация», «одержимость» («обсессия») и «форма». Таким образом, слово «фетиш» подчеркивает искусственность и рукотворность вещей. По крайней мере изначально оно использовалось для обозначения созданных, а не природных объектов – культурно сконструированных, а не появившихся естественным образом. Вероятно, очень немногое изменилось в навязчивых идеях модерновой (европейского происхождения) академической науки, в которой регулярные утверждения о сконструированности того или иного культурного предмета или действия на самом деле ничего не объясняют. Напротив, бесконечное повторение внушает нам, что дуальность природы и культуры должна иметь порождающее значение и является основой таксономии. Несмотря на это, «фетиш» долгое время ускользал из этих контролируемых зон и обозначал всевозможные физические и материальные объекты, которые лишь требуют к себе почтительного обращения. Даже изобретение термина «фетишизм» свидетельствует об этом ускользании, поскольку Шарль де Бросс, введший его в 1760 году, каким-то образом смог связать его не с конструированием, а с «судьбой» и «волшебством» (Бросс, де 1973:20; см. также: Latour 2010:3)[50].
Научный и обыденный способы употребления слов «фетиш» и «фетишизм» обстоятельно и доступно проанализировали такие авторы, как Pietz 1985, 1987, 1988, Hornborg 1992, 2013, Pels 1998, Johnson 2000, Latour 2010, Masuzawa 2000, Whitehead 2012, 2013 и Olsson 2013, придя к очень небанальным выводам. Среди прочего, эта обширная литература демонстрирует, что взаимодействие с материальностью, а также фантазии по ее поводу (вплоть до страха, ненависти, страсти или одержимости) являются элементами, жизненно важными для развития и реализации модерности. Идеологиям и двигателям модерности, с ее интересом «к другим» и одновременно нападками на них, было крайне сложно понять совокупности вещей или совокупные вещи.
Например, в воображаемом Латуром (Lаtour 2010) разговоре между африканским «фетишистом» и европейским «антифетишистом» бросается в глаза проблематичное вменение «веры» первому и безосновательные претензии на «знание» последнего. Европейскому собеседнику не удается понять, как кто-то, кроме него, может одновременно создавать и почитать объект и как именно создание объекта становится достаточной причиной для его почитания. Вещам, как представлялось европейцам веками, нужны люди для того, чтобы иметь какой-то смысл. Вещи должны быть символами или репрезентациями, чтобы быть чем-то большим, нежели инертной «естественной» субстанцией. Это, в свою очередь, не «естественная» наклонность мышления – она является результатом яростных столкновений между различными группами европейцев по поводу материи (например, статуй). Во всем этом слышится (внятно, но не слишком гармонично) пропаганда разделения природы и культуры, данного и сделанного, веры и факта, объектов и идей.
Статья Гарубы указывает на выход из тупика этой конфликтной истории, но требует от нас помнить и ремарку относительно вчитывания дуализма в его слова:
Возможно, единственной, наиболее важной характеристикой анимистической мысли ‹…› является почти полный отказ признавать существование нелокализованных, невоплощенных, нефизикалистских богов и духов. Анимизм часто считают просто верой в объекты, такие как камни, деревья и реки, по простой причине – боги и духи анимиста локализованы и воплощены: объекты являются физическими и материальными манифестациями богов и духов. Вместо того чтобы прорисовывать образы, символизирующие духовное существо, анимистическая мысль одухотворяет мир объектов, тем самым давая духу локус для обитания (Garuba 2003:267).
Если, продолжает он, объекты, такие как реки, получают «социальное и духовное значение в культуре, далеко выходящее за их естественные свойства и практическую пользу», тогда мы можем добавить, что созданные объекты («фетиши») приобретают еще большую значимость в качестве акторов во все более разветвленных сетях отношений. Тем самым, чтобы понять, что происходит в Африке, когда люди создают божеств, жилища для них, ищут у них защиты, совершая приношения и делая амулеты, нам следует учесть замечание Джонсона о том, что «фетиш – это текучий, опосредующий термин, это идея об объектах, а не сам объект – это форма действия, „фетиширование“ (to fetish)» (Johnson 2000:260). Таким образом Джонсон дополняет свой аргумент, в соответствии с которым
фетиш лучше всего рассматривать как форму действия, а не какой-то особый вид объектов. Это сгущение в объекте социальных сил с тем, чтобы их перенастроить. «Фетиширование» (to fetish), таким образом, адекватнее, чем «фетиш». Понимаемое в более широком смысле, фетиширование – это техника, структурирующая человеческое сознание во времени, а не этап человеческой эволюции – причем этап пройденный, – на котором объектам приписывались силы (Ibid 249).
Он и не «пройден», и не «отчужден», поскольку всегда с нами – нами, которые носят обручальные кольца, что-то коллекционируют или пересматривают фотографии.
Во многих местах йоруба, чтобы видеть божеств, не нужно верить. Они дают о себе знать в вещах и танце. Они обитают в убежищах, но также и во плоти. Они действуют на тех, кто падает ниц, и тех, кто ищет руководства (пусть и скрыто, поскольку порой границы между религиями составляют предмет особого контроля). Я уделил внимание ориша в их физической форме (не объясняя в полной мере, как они выглядят, лишь упомянув, что они узнаваемы, осязаемы, материальны, присутствуют здесь и сейчас), призывал вернуть слово «фетиш» в академический контекст, и только теперь я могу обратиться к тому, что является определяющим религиозные действия йоруба: прорицанию и жертвоприношению.
Определение и предопределение
Я уже говорил о том, что божества почитаются, и хоть в этом нет ошибки, но это не основной способ взаимодействия людей с божествами. Возможно, следовало бы сказать точнее: почитание часто начинает и завершает более примечательные действия, в ходе которых люди и запрашивают у божеств их требования, и отвечают на них. В Западной Африке и соответствующей диаспоре первое чаще происходит путем прорицаний, а последнее обычно подразумевает жертвоприношение.
Йоруба и их соседи опытным путем разработали несколько систем прорицания. Для нашей цели найти «где-то там» такой материал, который вступит в диалог с тем, что, как мы предполагаем, определяет «религию», я не предлагаю детально описывать эти системы (или множество других существующих в мире). Будет достаточно краткого указания на то, как может выглядеть прорицание, тогда как за более обстоятельным описанием можно обратиться к целому ряду работ (Curry 2010; Holbraad 2007, 2008, 2010; de Aquino 2005).
В Ибадане меня взяли на встречу с babalawo (прорицатель в системе Ифа), консультировавшим в специальной комнате. В Осогбо меня пригласили пообщаться с прорицателями в лесном и городском святилищах богини Осун. В других местах я также несколько раз присутствовал на храмовых службах, включавших прорицания. Судя по тому, что я слышал и читал, мой опыт и наблюдения не расходятся с тем, что происходит повсеместно в Западной Африке и ее диаспорах. (Сходство с происходящим в других местах и других сообществах важно для построения теории, но также для этого важны специфика и отличия. Я не претендую на описание всех форм прорицания, даже тех, что распространены среди йоруба.)
Можно сказать, что прорицание начинается тогда, когда люди заканчивают представляться друг другу, вежливая беседа затихает, сменяясь сосредоточенностью на насущном деле – устанавливается атмосфера серьезности. Особая встреча между людьми (прорицателем и клиентом) и ориша становится единственно важным предметом. Люди по очереди простираются перед ориша. Последние, в большинстве случаев и по крайней мере в этих контекстах, помещаются в украшенных мисках и покрыты засохшим пальмовым маслом и другими приношениями, которые на них возливали. Даже когда используются более художественные и выразительные произведения искусства, они «не „представляют“ божество, но скорее им являются и, следовательно, должны питаться кровью [пальмовым маслом и другими субстанциями], с ними нужно разговаривать и в целом в ритуальных контекстах выражать заботу» (Holbraad 2007:203). После соответствующих приготовлений, например слов, адресованных конкретному ориша, начинается само прорицание. В частности, в нескольких местах меня учили обращать свой вопрос к нерасколотому ореху кола, обернув вокруг него деньги в качестве приношения и отдав этот сверток прорицателю. Тот клал деньги рядом с ориша, разделял орех на четыре части и бросал их на ковер, тряпку или поднос. Части распадались по-разному (например, внутренней или внешней стороной наружу), прорицатель изучал получившийся узор и передавал сообщение – ответ на вопрос.
Это, разумеется, весьма краткое описание, но оно должно передать дух прорицательных мероприятий. Другие способы использования орехов кола, раковин каури, цепочек прорицателя и/или порошка, а также знание оду (256 возможных конфигураций объектов для прорицания, каждая из которых связана со стихотворением или рассказом) могут быть и сложнее, но входят все в тот же репертуар. Божества говорят через объекты. Смыслы распознаются в том, что другие могут счесть случайными событиями. (Отметим, что фраза «Это случайность!» – интерпретация в той же степени, что и «В этом есть смысл!»; оба представления складываются в ходе освоения культуры.) Некоторые прорицатели годами изучают это ремесло, достигая такого состояния, в котором посредством их могут действовать божества. Афе Адогаме (Adogame 2009:80) указывает, что к прорицателям обращаются за советом во всевозможных ситуациях. Помимо тех, кто прибегает к предсказаниям в связи с жизненными кризисами и переменами, непростым выбором и заботами, мне рассказывали о политиках, регулярно консультировавшихся с прорицателями, например по поводу успеха избирательных кампаний. Однако в этом скрыто и многое другое. Адогаме соглашается с тезисом Камари Кларк, утверждавшей, что «прорицание является центральным организующим механизмом, посредством которого йоруба понимают мир» (Clarke K. M. 2004:20; цит. по: Adogame 2009:80). То есть люди ищут не только советов и предлагается им не только выбор.
Патрик Карри выступил с серьезной критикой «попыток, сколь угодно искренних, приспособить к своим нуждам прорицание, без сколько-нибудь значительных попыток изменить уже имеющееся у „нас“ „знание“». «Описание условий, в которых совершается естественная ошибка (вне зависимости от того, кто ее естественным образом совершает)» (Curry 2010:6), побуждает нас выйти за пределы дуальной схемы «ты веришь / я знаю». Вместо того чтобы считать себя уже в достаточной мере знатоками мира (т. е. реальности, которую «верующие» интерпретируют неправильно), нам предлагается стать частью нестабильного и многообещающего проекта по поиску понимания, которое бросает вызов имеющемуся знанию и обогащает его благодаря тому, что мы принимаем всерьез эксперименты «других». Это, как мы видим, еще один способ бросить вызов «вере в веру и верующих», которая в значительной степени оформляет базовое для нашей дисциплины неверное понимание религии как «системы верований», а тех, кто ее практикует, как «верующих». Надеюсь, материалы «откуда-то еще», которые мы добавляем к обсуждению, будут иметь большее образовательное значение, чем простые «самооправдания»[51].
Мартин Холбраад развивает тезис Карри:
Следовательно, с точки зрения практикующего, интересоваться, почему люди могут «верить» в истинность прорицаний, значит просто не понимать, что такое прорицание – как если бы мы задались вопросом, почему британские дети «верят», что 4 – это число, или, позже, становясь совершеннолетними, почему они «верят», что холостяки – это неженатые мужчины (Holbraad 2010:269).
Если знание того, что «холостяк» определяется как «неженатый мужчина», не относится к вере, не относится к ней и знание того, что «прорицание» является «коммуникацией богов с людьми». По меньшей мере, делать эти факты «верованиями» (и тем самым противопоставлять их тому, «что мы знаем») не способствует нашему их пониманию или использованию в наших исследованиях.
В таком случае какое определение «прорицания» нам остается за исключением «диковинного способа, посредством которого другие люди, как они верят, могут получить совет»? Холбраад предлагает необходимое разъяснение. Обращаться к прорицателю – не то же самое, что искать дружеского совета. Результатом прорицания является не совет, который можно принять или проигнорировать («сделай так – и преуспеешь»), но придание миру таких очертаний, в которых действие необходимо. Участие в прорицании (посетителей, самого прорицателя и божеств) – это процесс определения. Задавая божеству вопрос через прорицателя, я определяюсь в отношении к этому божеству, этому прорицателю и этому акту прорицания. И после этого меня будет определять следование вердикту божества, о котором тот дает знать в том, как рассыпаются орехи кола. Прорицание не только предлагает возможные решения, о которых можно поразмышлять и поговорить, оно определяет. Оно сообщает вопрошающему, кто он такой, в чем состоит проблема и что должно быть сделано. Прорицание выставляет вопрошающего личностью, которая есть (например, озабоченный, взволнованный, больной, нуждающийся, заинтригованный, родственный) и личностью, которая должна (например, работать, учиться, уйти, почитать). «Если прорицания проинтерпретировать таким образом, они оказываются истинными по определению (поскольку они суть именно определения) и, следовательно, бесспорны, как и аналитические истины типа „холостяки – это неженатые мужчины“» (Holbraad 2010:274, курсив в оригинале). На диагноз и рецепты, которые объявляет прорицатель, налагаются обязательства, поскольку они – часть продолжающегося процесса творения (включая сюда все, что может считаться космическим и социальным, природным и культурным – хотя, опять же, эти пары описывают единую реальность: всецело личностный, социальный или пронизанный связями космос).
Возможно, прорицание йоруба могло бы восприниматься как психотерапевтическая практика или техника самопомощи. Подобно церемониям многих религий в Западной Африке, приобретшим «пятидесятнический» в широком смысле оттенок (что можно проиллюстрировать стилем пения и проповеди, образами «храмов», паттернами власти и возбуждения), возможно, прорицание можно было бы принять за совет, а не (пред)определение. Когда христиане, мусульмане и исследователи обращаются к прорицателям, (пред)определены ли они в той же мере, что и последователи Ифа? Полагаю, мы должны ответить утвердительно. Христиане, мусульмане и исследователи определяются фактом обращения к прорицателю. Они оказываются теми, кто, не игнорируя свою принадлежность к иным традициям, эпистемологиям и онтологиям, находит полезным – не важно, по какой причине – обратиться к прорицателям и их божествам. Мир устроен так, что «христианином» может вполне называться тот, кто способен обратиться к ориша, через посредство прорицателя и раковины каури, за инструкцией и/или решением его сложной ситуации. «Религия» тогда должна определяться как действо (performance), телесность, материальность, как нечто текучее, подстраивающееся под обстоятельства и проницаемое. Возможна определяющая роль религиозных лидеров и некоторых структурирующих систем (например, табу и кашрут) в конструировании и последующем поддержании границ. Но необходимая проницаемость границ, сам факт их ежедневного нарушения оказываются в большей степени определяющими живую религию, чем воображение любой элиты (в том числе и академической) о фиксированных и непреодолимых границах между, скажем, «христианством» и «традиционной религией йоруба». Разумеется, это справедливо не только для религии йоруба, но, подобно материализации идей, описанной Гарубой, проникает во все части культуры. Так, вывеска на магазине одежды в Иле Ифе (в сердце традиции прорицаний Ифа) гласит: «Самая высокая мода по самым низким ценам. Мужчины. Дамы. Дети. Определяйтесь».
Жертва, приношение, дар и ограничение
Согласно Адогаме, «почти во всех случаях прорицание завершается предписанием жертвоприношения». Это следует за его утверждением:
Жертвоприношение может происходить во время индивидуальных ритуалов, домашних или общинных празднеств; обычно его первыми вкушают божества или предки, а затем уже люди, семьи или сообщества почитателей. Ритуалы благодарения, причастия (communion), обетования, умиротворения, предупреждения, замещения характерны практически для всех коренных религий Африки. Посредством прорицания индивид выясняет, какой вид жертвы обеспечит действительное наступление предсказанной счастливой судьбы или смягчение наихудших последствий судьбы несчастливой (Adogame 2009:78).
Утверждение, в соответствии с которым различные формы ритуала жертвоприношения «характерны практически для всех коренных религий Африки», указывает на то, что ключевым элементом любого определения «религии», эффективно работающего применительно к африканским религиям, должно быть жертвоприношение. Как и с другими религиозными техническими терминами, вошедшими в критический аппарат академических исследований, существует опасность, что модели и сценарии одной религии станут образцовыми для других или даже для всех религий. Вопрос о том, следует ли универсально определять «жертвоприношение» через слова, подобные «сакральному», довольно сложен, особенно когда это слово, в свою очередь, воспринимается как указание на трансцендентное того или иного типа.
Возможно, кажущиеся менее техническими термины «приношение» (offering) или «дар» (gift) не столь перегружены. Скорее даже, учитывая значительный круг литературы о «даре», начатой работами Марселя Мосса (Мосс 2011), вероятно, у этих слов совсем другой багаж. Тем не менее принципиально важно, что, какое бы слово мы ни избрали для обозначения этого класса или многообразия действий, человеческие отношения с более-чем-человеческим миром часто включают давание и получение (порой взаимное). Иногда жизнь отнимается с намерением отдать ее – или плоть и кровь недавно живого существа – другому существу. Иногда приносятся [в дар] объекты, которые могут быть сломаны или повреждены, как будто они исключены из обращения среди людей. Каким бы ни был сам акт приношения, его намерением, в общем, можно считать желание преумножить близость или здоровые отношения.
Акты приношения имеют место в более широком контексте социальных систем, в которых поддерживается динамический баланс ограничений и потребления. Если считается, что божества или предки требуют все, что приносят им люди, без остатка, то люди, совершающие приношение, могут быть лишены возможности его потребления. Далеко не все оказывается доступно или разрешено людям. Тип жертвоприношения, который Адогаме называет «причастием» (communion), включает совместное потребление. Религия может предполагать подобное сплетение «ограничения» и «совместного пользования». Экстремальный пример принесения в жертву детей (зафиксированный в некоторых археологических памятниках и религиозных текстах) иллюстрирует более общее ощущение того, что приношением может быть лишь то, чем надо жертвовать, «отдавать что-то жизненно важное, без чего жизнь сложнее переносить или принимать» (см.: Levenson 1993). Если в религиоведении и есть место для дискурса «веры», оно должно быть связано с этой надеждой, что получатель подобных экстремальных действий ответит, вознаградив полной мерой своей щедрости. Это созвучно утверждению Руэла (Ruel 1997), что «вера» (в религиозном дискурсе) синонимична «доверию» и является реляционным понятием, а не антонимом «знания». Все это предполагает, что действие жертвоприношения материализует возможности, присущие отношениям. Подобно прорицанию, оно является механизмом, посредством которого достигаются желательные результаты и укрепляется близость.
Одержимость божествами
Гаруба в довольно игровой манере (поскольку он дал ясно понять, что анимизм – далеко не систематизированная система верований) формулирует резюме, согласно которому «базовый анимистический символ веры» «состоит из двух базовых установок. Во-первых, вещи наделены собственной жизнью, и, во-вторых, когда их души просыпаются, освобождается их дыхание, которое может переселиться в другие объекты» (Garuba 2003:272). Если вещи живы и обладают элементом, который может «переселяться», то связано это с тем, что все личности (человеческие и не-человеческие, вещи или существа) могут действовать таким образом. Ориша особенно искусны в перемещении по крайней мере части себя в другие личности или материальные формы. Для краткости: это явление может быть обозначено как «одержимость» – еще один термин, подвергающийся сегодня критическому переосмыслению (Schmidt&Huskinson 2010, Johnson 2002a, 2013).
Существуют религии, официальное учение которых провозглашает, что невозможно увидеть божеств или прикоснуться к ним. Однако это противоречит тому, что в реальной жизни практикующие эту религию взаимодействуют с личностями (священнослужителями, предсказателями, медиумами), вещами (статуями, барабанами, реликвиями, посохами, скамьями и другими «созданными вещами» или фетишами), которые можно услышать, потрогать, увидеть, употреблять в пищу, и другими материальными формами божественности. Дабы не утруждать себя противопоставлением воображаемой трансцендентности и близкой имманентности, мы можем дискурсивно использовать идею репрезентации или манифестации. Священник, держащий пищевой продукт и произносящий значимые слова, как предполагается, должен стоять, говорить, действовать или каким-то другим образом представлять божество или предка. Статуя или музыкальный инструмент, как предполагается, символизируют реальное присутствие невидимого и неслышимого другого. Но эти медиумы так часто воспринимаются как менее значимые, чем те существа, которым они предположительно дают возможность манифестироваться, что нарушают четкие границы и различия. В жизненной реальности некоторые люди и вещи действуют не просто вместо божеств, но как божества. В то же время некоторые божества порой «переселяются» в те личности и объекты, посредством которых они действуют. Сокрытие и откровение сочетаются в том, что Майкл Тауссиг (Taussig 1998:359) определяет как «воплощение (performance) сокрытости», которая иллюстрируется инициацией, исцелением, колдовством и, в наибольшей степени, одержимостью.
В Культурном центре йоруба в Гаване, на Кубе, туристы и делегаты конференций могут посетить представление с традиционными танцами и барабанами, поставленные по образцу трансовых танцев ориша. То, что танцоры и ориша порой смешиваются так, что экскурсия становится скорее спиритическим сеансом или событием инициации, показывает – «притворство» иногда переигрывает «отрешенность неверия» и творит новую реальность. То, что такая возможность всегда существует, видно повсюду в этом здании. Следы регулярного почитания видны в приношениях, сложенных перед витринами наподобие музейных с ориша (или сантос, поскольку они слились с католическими святыми в различных кубинских креольских религиях – см.: Fernandez Olmos&Paravisini-Gebert 2003). В самом деле, похоже, что поклоняющихся даже снабжают ковриками, чтобы они могли простираться перед тем, кого почитают. За проницаемыми границами Культурного центра похожие танцы и почитание статуй имеют место в домах и церквях по всему городу и по всему острову, в карибской и африканской диаспорах.
Божества материализуются в физическом пространстве и воплощаются в телах последователей и, что особенно драматично, в телах посвященных, которыми они «овладевают». Понимание религий африканского происхождения показывает, сколь важно иметь в виду то, как материя (места, объекты и личности) «одухотворяется» в двух противоположных смыслах. Слишком часто в религиоведческих работах материя объективируется, воспринимается как инертная и способная лишь символизировать или представлять что-то, чему положено быть невидимым: «духовное» здесь неизбежно уточняется как «нефизическое» или «неэмпирическое».
Таким образом, религия метафорична, это инструмент для раскрытия внутреннего и сокрытого (interiorities). Однако верно и обратное (если отказаться и от дуализма, и от присущего ему сепаратизма): материя является духовной в том смысле, что то, что кажется метафорами или символами, с необходимостью есть локализованные и воплощенные жизненные силы. Об этом сложно говорить или писать, что в значительной мере соответствует знакомой католикам трудности, возникшей после европейской Реформации и войн государствостроительства (wars of state-making) и связанной с литургической фразой «Сие есть тело мое». Католики, а протестанты в еще большей степени, склонны вводить дополнительные слова или понятия, подчеркивающие духовную (трансцендентную) природу «сего» и его приоритет по сравнению с простой материей тела или хлеба. Тем не менее даже большинство протестантов не прекратили использовать хлеб в своих ритуалах. Можно сказать, что они пребывают на другом конце континуума по сравнению со своими соседями, которые c готовностью страстно поклоняются «сделанным вещам», но это по-прежнему один континуум. Религия, и не только в Африке, – это пространство предметов и связей, субстанций и встреч, тел и движений. Одержимость – это не отклонение, при котором (парадоксальным образом) материя овладевает духом; одержимость являет то, как религии, божества, предки и духи неизменно воплощаются в телах и предметах. Божества и религия овладевают, увлекают и искушают не тем, что дают возможность сбежать из реальности, но вовлекая в самые обыденные ее элементы: потребность в здоровье, счастье и других благах.
В гостях у Эшу, материализация религии
В Ибадане охранник святилища долго размышлял над моей просьбой сделать фотографию Эшу, в итоге ответив «Да, но сначала мы принесем в жертву козу». Я решил, что жизнь козы слишком высокая цена для фотографии, а жертвоприношения должны совершаться по более важным поводам, чем съемка. Охранник казался невозмутимым и даже безразличным. Жертва, в отличие от фотографии, показала бы, что я хотел бы установить более тесные отношения с Эшу или другими ориша. Вместо этого я явственно сделал шаг назад и стал простым прохожим, который воображает, будто возможности Эшу ему не нужны. Но моя неудачная попытка должным образом выстроить отношения (в тех границах, которые ожидают охранники святилища и последователи Эшу) натолкнула меня на размышления над этими ожиданиями и опытом. Перечитывая работы коллег, посвященные переосмыслению анимизма, фетишизма, прорицания и дара, я пересмотрел свое понимание материальности религии. Не только материальное, вещи, используется людьми в религиозных актах. Нам уже неинтересно, что некоторые ученые считают основным значением использования вещей выражение веры. Мы уже продвинулись дальше, мы обнаружили, что религия – дело важное (religion matters) и дело материальное (materialist pursuit).
Йоруба, живущие религиозной жизнью, могут присоединяться к упомянутым религиям, но немногие из них живут так, как если бы их религия была набором идей, отгороженных от других аспектов их жизни. Они сопротивляются видимой очевидности статистики, присваивая, осваивая и встраивая элементы явно «чужих» религий в свой жизненный эксперимент. Они ищут определенности посредством установления отношений с другими, которые обладают могуществом (power), но необязательно трансцендентны. Эти отношения укрепляет дарообмен, в некоторых случаях сдержанный, в других – восторженный от излишеств. В этой главе, обращаясь, в частности, к работам Гарубы, Холбраада, Олссона и Карри, я исследовал материализацию идей в африканских религиях. Итог: в них не является сколько-нибудь обязательным разделение понятий (метафор, интерпретаций, учений, прорицаний, божеств) и материи.
Как подмечает Холбрад в отношении силы (power), которая является порошком, или порошка, который является силой в кубинском прорицании Ифа[52], «нужно лишь прекратить думать о концепциях и вещах как самотождественных сущностях и представить их как самодифференцирующие движения» (Holbraad 2007:218–9). Если мы позволим на мгновение вещам и идеям разделиться, как Гаруба в своем тексте – но не анализе – позволил материи и духу на время показаться разделенными, тогда мы можем прийти к выводу, что укорененная в нас привычка отделения и атомизации всех и каждой идеи или вещи препятствует нашему пониманию, теоретическому осмыслению и определению. Именно мы, позволившие себе усвоить эти привычки, а не те, кого мы исследуем, создали себе проблемы. Если вместо этого мы пересмотрим свои позиции, подходы и специфику воображения, то сможем понять не только анимистический материализм современных культур Африки и диаспоры, но и (хоть и не полностью, несмотря на значительные усилия) современную академическую культуру. В свою очередь это может помочь нам лучше понять практическую (performative) и материалистическую природу религий.
Глава 9 Чистота и паломничества
Какие стороны жизни имеют в виду евреи, когда в разговоре друг с другом или с другими употребляют слово «иудаизм»? Какова связь между словом «иудаизм» и словом «религия»? Если бы понятие «религия» возникло в иудейской среде, то какой род действий оно называло бы? Какие слова в иудейском религиозном дискурсе (будь то на иврите, идише, английском или любом другом языке) используются для схожих целей, когда иудеи говорят с иудеями?
Обычно в книгах, знакомящих с традицией иудаизма, говорится, что это религия закона и обычая (observance), предпочитающая ортопраксию ортодоксии, и наиболее ярко она проявляет себя в повседневных действиях, таких как отделение мясной от молочной пищи. Иудаизм – это религия для живущих сегодняшним днем; бессмертие ее не заботит. Она касается вопросов человеческой жизни, последовательно сосредотачиваясь на телах, движениях, материалах и отношениях. Модели лидерства в иудаизме обычно предполагают посредников, а не непререкаемых властителей. Все это свидетельствует о том, что иудаизм должен бы быть идеальной моделью для любого исследования, имеющего предметом вернакулярную, живую, материальную, практическую (performative) религию.
Я не намерен оспаривать этот тезис. Я хотел бы даже усилить его, заявив, что иудаизм определенно является религией в том смысле, в каком религией не является протестантизм. Я отдаю себе отчет в том, что и у иудаизма есть свой протестантизм/модернизм, но даже он испытывает влияние силы тяготения устоявшейся деятельностной (performative) традиции. В основном в этой главе я хотел бы отправиться «куда-то еще». Моя цель состоит не в том, чтобы ниспровергать превалирующие школьные представления об иудеях и иудаизме, но в том, чтобы описать одно известное событие, которое и подтверждает, и осложняет распространенные представления об иудаизме. На примере одного этого события я предлагаю рассмотреть иудаизм как способ формирования поведенческих привычек, считающихся допустимыми в сообществе. После описательного введения дальнейшие разделы будут посвящены традициям чтения текстов и традициям, касающимся пищи, посредством которых иудеи передают привычки дисциплинированной жизни, соблюдение законов, от поколения к поколению.
Хиллула рабби Шимона
Выбрав место, знакомое (по крайней мере по названию) многим, мы начнем этот визит «куда-то еще» неподалеку от моря Галилейского (ям Киннерет или Бухайрат-Табария). На западном берегу озера стоит город Тверия, тысячелетиями являющийся значимым местом религиозной практики для последователей различных религий. Он всегда был местом важным для иудейского образования, веками притягивая влиятельных раввинов. Здесь похоронен Маймонид, великий философ и кодификатор иудейского закона XII века. Не будем медлить; это всего лишь географический ориентир. Однако даже случайному посетителю здешнего кладбища бросятся в глаза несколько важных вещей.
Могилы Маймонида и нескольких других великих раввинов являются центром внимания. Люди приходят помолиться на этих могилах. Знаки предписывают мужчинам и женщинам направляться по разные стороны большой ширмы, так чтобы они молились и совершали другие литургические действия по отдельности. В вестибюле при входе на кладбище расположены изображения покойных раввинов. Люди в молитве прикасаются к могилам. Я продолжаю использовать слово «молиться», но это слово в иудаизме обычно обозначает «разговор с богом». Официально иудейские власти категорически отрицают, что человек может просить умершего раввина ходатайствовать за себя, передавать молитвы богу или как-то содействовать на благо просящему в практических или духовных вопросах. Но именно это и происходит у могил. И этот аспект иудаизма крайне редко освещается, если ему вообще находится место, в большинстве книг об иудеях и иудаизме.
Примерно в двадцати километрах к северо-северо-востоку от Тверии находится поселение Мерон. Оно располагается на нижних склонах горы Мерон неподалеку от города Цфат – всемирно известного центра иудейского мистицизма. Мерон является центром ежегодного события, когда тысячи ортодоксальных иудеев совершают паломничество к могиле особо чтимого раввина. Рабби Шимон бар Иохай умер и был похоронен в Мероне во время римской оккупации Палестины. Он считается составителем мистического текста, Зогар, хотя исторические и текстуальные данные ясно свидетельствуют о том, что это гораздо более поздняя работа (примерно на тысячу лет). Несмотря на это (и всякий раз моментально адаптируясь к принятию этого факта), откровение божественных тайн ему и через него, как записано в Зогар, вдохновляет многих людей собираться на празднество в Мерон.
По меньшей мере в течение недели перед главными вечером и днем праздника или мемориального празднования (два равно корректных перевода hillula) прибывают паломники и ставят палатки по всему поселку. В Интернете приводятся различные оценки количества посетителей в разные годы – и каждая из них говорит о том, что маленькое поселение превращается в небольшой город. В последние годы паломничества в Мерон были причиной пробок по всей стране. Эти путешествия, возможно, просто приготовление к празднествам и преображениям, происходящим в самом Мероне, однако люди прилагают серьезные усилия, чтобы добраться туда (и выбраться оттуда), и эти поездки предполагают различные формы подготовки к пребыванию на месте. (Я пишу об этом, поскольку «паломничество» может определяться и как путешествие, и как перемещение куда-то, как участие в значимом событии, как поездка в значимое место и обратно, как перемещение между значимыми локациями, обычно с определенными целями в дополнение к тому, чтобы «быть там» – см.: Pye 1993, 2010.)
Мой опыт посещения хиллулы в Мероне в 2008 году включал в себя несколько мгновений, когда я особенно остро почувствовал себя частью потока и участником драмы основных ночных событий. Но были и более продолжительные периоды времени, на протяжении которых я полностью осознавал свое отличие и обособленность. Присоединившись к мужчинам и мальчикам, пытающимся попасть в помещение, где захоронен раввин, я поразился нарастающей соревновательности поведения, которую стала демонстрировать отнюдь не пассивная или приветливая толпа. Общая цель – прикоснуться к гробнице – к которой стремились все кроме меня (я-то просто хотел посмотреть, что происходит!) – в ограниченном пространстве заставляла людей решительно расталкивать всех на своем пути.
Неожиданно я оказался вытеснен в соседнее помещение, лишь мельком увидев первые ряды, которые, видимо, пытались привлечь толику внимания раввина, прежде чем и они потеряют свое место и будут оттеснены. Все мы в конце концов оказались в гораздо более просторном помещении, хотя физически даже меньше предыдущего. Здесь настроение было совсем другое – гораздо легче, гораздо спокойнее. Никто не толкался и не распихивал других локтями. Люди настояли на том, чтобы я присоединился к танцу. Различия между стилями ортодоксии, происходящими из разных мест и/или периодов развития еврейской диаспоры, которые могли бы в других обстоятельствах порождать антагонизм, казались забыты. Даже очевидные аутсайдеры вроде меня были приняты в круг со словами «Нам велено праздновать, а не смотреть». Улыбки человеку, который был последним вытеснен из гробницы, говорили о том, что соревновательное столпотворение для них было своего рода инициационным испытанием или проявлением духа товарищества. До того никто не улыбался, не уступал друг другу место – была только сокрушающая ребра борьба за прикосновение к благодетельной гробнице Раввина. За пределами этого здания, на площади и улицах праздничная атмосфера возвращала чувство удовольствия.
Возможно, что полноценные участники, паломники, а не ученые-туристы, чувствовали, что лиминальность пребывания в присутствии раввина заставила их ощущать и переживать коллективное тело, которое в терминологии Виктора Тэрнера называется communitas (Turner V. 1973)[53]. Эдит Тэрнер, описывая прием, который был ей оказан в преимущественно мужской хасидской группе на крыше главного здания, цитирует Барбару Майерхоф: «Хотя мы заняли их [хасидских мальчиков] места, они уступили их нам. Сработала парадигма коммунитас» (Turner E. 1993:245, также цитируется в Ross 2011:xxxvi). Учитывая различные проявления антипатии между группами иудеев, относящих себя к различным традициям (например, хасидам по отношению к сефардам), о которых пишет Эдит Тэрнер, кажется более вероятным, что это не коммунитас, а безразличие или желание развлечения сделало допустимым присутствие этих антропологов. Будучи очевидными аутсайдерами и не-участниками, они, возможно, не вызывали интереса и не провоцировали конфронтации, практически оказываясь невидимыми. Но, будучи чужаками, не подлежащими предписаниям иудаизма, они могли быть допущены туда, куда другие (не-хасиды или не-мужчины) никогда не могли бы попасть. Возможно, в этом есть что-то недоброе. Возможно, лиминальность+коммунитас на время заставили хасидов обойти их собственные нормативные ограничения и исключения ради большей открытости к гостеприимству, а антропологов – приглушить их знания об ограничениях и конфликтах желанием поучаствовать в праздновании.
Именно эти ограничения, вероятно, объясняют отсутствие на Youtube и подобных ресурсах (на сегодняшний день, насколько я знаю) съемок или фотографий из гробницы, сделанных во время хиллулы. Есть процессия из Цфата, палатки, рыночные лотки (продающие все – от закусок до писаний), огни на крышах, танцы во дворах, первая стрижка хасидских мальчиков. Возможно, правда, что большинство участников находятся там не затем, чтобы фиксировать событие или свое присутствие. Также большинство посетителей с камерами в курсе того, что религиозно мотивированные люди часто решительно против съемок их самых важных действий или даже их самих. Знаки, предупреждающие о дресс-коде и других обязательных требованиях, размещены во многих местах (в том числе и в Интернете) для потенциальных и актуальных посетителей. Слова «святой» или «сакральный» в этом контексте отчетливым образом устанавливают границы, отделение и запреты. Да и тычок локтем под ребра может испортить любую запись! Тем не менее, если судить о хиллуле Шимона бар Иохая в Мероне по тому, как ее отражает Youtube, легко упустить ключевой для многих паломников момент – страстное желание коснуться гробницы.
Значительный вклад в понимание живой реальности хиллулы как религиозной культуры внесла Яэль Шварц, в частности суммируя опыт многих женщин:
Женщины тоже толпятся вокруг могильного камня в женской половине и стоят во дворе. Женщины из восточных общин раздают угощение: конфеты, сахарные пироги и соленые закуски. Ортодоксальные ашкеназки обычно стоят на балконе второго этажа и смотрят, как танцуют [мужчины]. Во время празднества действуют разные обычаи: люди исполняют обеты, данные на протяжении года, раздают милостыню бедным или организациям, раздают еду и питье участникам, бросают сладости, свечи или монеты на могильные камни. Монеты позже собирают и передают на благотворительность. Иногда женщины льют розовую воду на могилы. Другие натягивают веревку вокруг камня, а потом используют ее как амулет для исцеления больных: она обвязывается вокруг кровати больного и должна связывать его с Богом по милости бар Иохая, который, верят, испросит для него спасения у Бога (Schwartz 1999:55).
Шварц завершает свою статью, цитируя присказку: «Кто не видел ликования в Мероне на празднике Лаг ба-Омер, тот не видел ликования вовсе» (Ibid 59). Может быть, это и так, но еще там можно увидеть исключение, разделение и даже враждебность. Однако мы уделяем такое внимание событию, которое едва ли даже упоминается в учебниках по иудаизму, потому, что хиллула проливает свет на ряд вопросов, значимых для определения религии, т. е. иудаизма, каким его проживают люди, и тем самым для нового определения «религии», т. е. критического научного термина. Возможно, что это событие (в ряду прочих) заслуживает новой присказки: «Тот, кто не видел хиллулы в Мероне, тот не видел иудаизма полностью».
О ракообразных и крабах
Согласно нормативному вероучению ракообразные являются трефными, некошерными, недопустимыми в качестве пищи. Их едва ли подадут к столу в Мероне во время хиллулы (в Тель-Авиве и Эйлате дела обстоят по-другому). Я упоминаю здесь об этом не для того, чтобы начать разговор о запретной пище или чистоте. Об этом позже. Я упоминаю о ракообразных с тем, чтобы обыграть утверждение Уильяма Джеймса: «Вероятно, краб исполнился бы чувства праведного гнева, если бы услышал, как мы классифицируем его запросто и без обиняков как ракообразное. „Я не такой, – сказал бы он, – Я САМ, САМ по себе“» (James [1902] 1997:9[54]).
В ответ на это Томас Твид пишет «об опыте, который случился у меня и моего девятилетнего сына Кевина на пляже ‹…› когда мы поняли, что крабы могут быть и ракообразными, и самими собой» (Tweed 2009:446). Подобно Твиду и его сыну, нам тоже следует понимать таксономические эквиваленты «крабов», «ракообразных» и «самих по себе» не как ограниченные или фиксированные категории, но каждую из них как более или менее полезный, более или менее пластичный (fluid), более или менее нестрогий, не имеющий четких границ термин. Пытаясь понять, что хиллула говорит об иудаизме, мы имеем дело с одним (пусть и ежегодным) событием, привлекающим многих, но все же не всех иудеев. Каков аналитический вес отдельных аспектов этого празднования? Как нам различить ядерные и маргинальные элементы, существенные и случайные факты (или действия)? Возможно, нам следует рассматривать хиллулу, а также участников и их действия, которые его образуют, как точку вхождения в текучую гетеротопию, в которой мы можем научиться
ценить и, в конечном случае, полагаться на своеобразные, единичные черты сложных традиций и сообществ, которые мы изучаем, при этом не описывая их, в терминах Джеймса, как всецело «sui generis и уникальные». Он [антиредукционистский подход к обществу] помогает нам исследовать трансгрессивные или ускользающие – даже невыразимые – измерения наших повседневной жизни и воображения, и при этом не приписывать им трансцендентную природу, лежащую где-то за пределами социального мира (Goldschmidt 2009:567–568).
Маловероятно, что кто-то случайно или ненароком окажется в Мероне во время хиллулы, поэтому два ключевых мотива должны быть очевидны: что бы еще ни определяло это событие – в то же время также определяя еврейство или иудаизм вообще, – место и время являются центральными. Исследователи в таком случае могут искать сведения о значении этих места и времени с тем, чтобы осмыслить и проанализировать и само это событие, и его еврейскость (Jewishness). Как эти обстоятельства помогают пониманию, определению и построению теории религии (или культуры, или любой другой полезной категории), мы рассмотрим позже.
Также любому участнику или посетителю моментально становится очевидно, что во время хиллулы оказываются важными некоторые дифференциации. Вскоре после прибытия в растущий праздничный палаточный городок большинство людей делится на довольно четкие сообщества или соседства. Предписанные культурой костюмы и стили музыки наиболее очевидным образом указывают, где евреи марокканского происхождения и другие сефарды, а где хасиды, происходящие из Восточной Европы. Не только в ключевых точках пространства и в кульминационные моменты, но и внутри палаток и трейлеров люди либо делятся по гендеру, либо выполняют культурно определенные гендером задачи (готовка, молитва, благословение, обмен, танец или бросание конфет).
В кульминационные ночь и день, на Лаг ба-Омер, посетителя, даже не имеющего такого намерения и без всякой помощи гида, толпа может унести в окрестности гробницы, которая является центром интенсивной деятельности. Яркие огни на плоских крышах зданий привлекают всеобщее внимание, и рядом с ними садятся мужчины высокого статуса, поскольку там удобнее всего. Другие, обычно более молодые мужчины, всячески заботятся об их комфорте. Люди вокруг костра убывают и прибывают, так же и во дворах, в которых не прекращаются танцы. Группы мужчин танцуют вместе. Группы женщин танцуют вместе. Гендер, видимо, важен. На небольшой, но отчетливой дистанции располагаются лавки, предлагающие еду и питье. А на некотором расстоянии от главных зданий и площадей находится коммерческий рынок побольше. И хотя это место безошибочно идентифицируется как рынок, конечно, есть связь между музыкой [исполняемой] у костра и той, что продается тут же на CD, закусками, которые раздаются в благотворительных целях, и теми, что продают ради прибыли, наконец, между мистическим импульсом всего этого события и религиозной литературой и DVD в продаже.
Достаточно провести немного времени в этих лишь отчасти демаркированных пространствах, чтобы начать ориентироваться в различиях на самых разных уровнях. Есть разные виды хасидов, которые, опять же, различаются костюмами. На рынке некоторые из них используют звукоусиление для рекламы своей группы, традиций или продуктов, а также, возможно, для того, чтобы заглушать конкурентов. Объявления на продуктовых лавках рекламируют соответствие стандартам, которые предъявляют отдельные авторитетные раввины. Лишь раз обратив на это внимание, потом начинаешь замечать и другие указания на иудейскую систему ритуальной чистоты в отношении пищи, одежды и гендера. Классификационные системы, структурирующие гендерные отношения, менее очевидны, но нельзя сказать, что они отсутствуют в этом событии. Предполагается, что соблюдающие мицву женщины в общем будут следовать правилам, предписывающим избегать контактов во время менструации. Напоминания об этом есть на сайтах, к которым обращаются во время подготовки к паломничеству, – возможно, их целевую аудиторию составляют потенциальные посетители, не так последовательно соблюдающие запреты. Подобным образом потомкам храмовых священников, коэнам, также напоминают, что, поскольку им надлежит воздерживаться от контактов с могилами и мертвыми, эпицентр хиллулы – не самое подходящее для них место (например: Chabad-Lubavitch Media Center 2012).
Итак, есть разные иудеи (например, мужчины и женщины; общины, существующие в различных географических, этнических и культурных контекстах; придерживающиеся разных систем запретов разной степени строгости; мистики и торговцы) и разные действия, направленные на участие или избегание. Эти и другие отмеченные выше особенности составляют весь комплекс хиллулы. Одни иудеи прикасаются к могилам, другие этого избегают, третьи намеренно прикладывают красные нитки к могилам (чтобы те приобрели целительные или защитные свойства), а четвертые порицают эту практику как «иностранную» магию или идолопоклонство. Что же тогда иудаизм? Есть практики, которые могут иметь место в Мероне во время хиллулы, и есть такие, которые могут иметь место только в Мероне во время хиллулы. Другие практики (благотворительная раздача еды, состригание волос, танцы с ведущими раввинами) могут происходить в другое время и в другом месте, но, видимо, имея место здесь и сейчас, они интенсифицируются. Мерон и хиллула особенны именно набором этих элементов (или наборами, принимая во внимание разные установки, ожидания и переживания участников) и имеют смысл благодаря тому, что соединены связями с другими временами и другими местами. Установить, что именно обладает таксономической или классификационной значимостью в вопросе определения иудаизма или еврейства и/или определения религии, непросто. Нам следует несколько больше узнать об иудеях и чистоте.
Воображаемый храм и текстуальная близость
Иудеи считают, что Тора (авторитетный свод законов и традиций) была дана Моисею на горе Синай в письменной и устной/акустической формах. Письменная часть – библейский текст, особенно Тора в смысле Пятикнижия Моисеева. Устная форма собрана в текст Мишны и Талмуда. Это, вероятно, совсем неочевидно для наивного или неподготовленного читателя этих текстов. Мишна и Талмуд читаются во многом как записи споров авторитетных раввинов эпохи поздней Античности. Это, впрочем, истинно не в большей мере, чем то, что эти тексты представляют собой запись услышанного Моисеем на горе. Это любопытная двойная фикция – утверждается, что это тексты Моисея и читаются они как раннераввинистические, однако в реальности это проект, над которым целенаправленно трудились раввины, жившие значительно позднее. Тем не менее для понимания Торы в обеих ее формах важно вжиться в эту фикцию, воздержаться от неверия и стремиться к близости с ее миром.
Более того: вопреки археологическим и историческим свидетельствам, библейская Тора утверждает, что у народа Израиля существовал только один храм. Мишна и Талмуд почти полностью игнорируют тот факт, что этот храм был разрушен за столетия до того, как они были написаны. Буквальное прочтение предполагает, что храмовые службы продолжали происходить – и генерировать почти все значимые моменты повседневной иудейской жизни. Во многих важных отношениях религия Израиля и наследующий ей иудаизм являются воображением храма и всего, что храм предполагает. Для касты священнослужителей разработаны правила поведения – их полагается усердно изучать и воспроизводить. Библейские тексты вращаются вокруг (фиктивно единственного) храма.
Библейские тексты отличаются от других древних текстов Западной Азии не только тем, что настаивают на почитании единственного божества (политеисты довольно часто вступают в близкие отношения только с одним из множества божеств), но и сосредоточенностью на мельчайших деталях снабжения храма продовольствием и нюансах храмовой службы. Соответствующие одеяния, пищевые ограничения, отношения между храмовыми функционерами и специалистами по ритуалу – и более широкими общественными кругами, в которых они действуют, – вот примеры самых общих тем. Без храма в (письменной) Торе остается не так много смысла. (Что, конечно, справедливо лишь отчасти – иудеи, христиане и другие создали другой мир, в котором эти тексты читаются и имеют смысл.) После разрушения Второго Храма (70 г. н. э.) правила для священнослужителей легли в основу образа жизни не-священнослужителей. Ввиду невероятных усилий по противостоянию Римской империи воображаемая национальная жизнь, вращающаяся вокруг храма, стала средством того, что Джеральд Вайзенор (обсуждая другие формы империализма и геноцида) называет «живучестью» (survivance) (Vizenor 1998). Это не просто выживание, но обнаружение таких способов чтить локальную культуру, которые не провоцируют дальнейшее ее опустошение власть имущими; она противостоит жертвенности, принимая ее как возможное, но все же стремится двигаться по путям, обещающим большую жизнеспособность.
Якоб Нойзнер – плодовитый автор (Википедия атрибутирует ему авторство и редактирование 950 книг, не считая журнальных статей). В опубликованной им целой библиотеке повторяется и детализируется единственная тема. Она начинается с утверждения о том, что после возвращения из Вавилонского плена
все грядущие иудаизмы, так или иначе, должны были находить в жреческой парадигме модель, которой нужно или подчиниться, или противиться. Тора жрецов, Пятикнижие в окончательной редакции, установила первый и вечный иудаизм, с его парадигмой изгнания и возвращения, которой должны следовать все (Neusner 2002:59).
И далее:
Иудаизм утверждает, что человечество находит Бога в книгах посредством учения. [В предыдущих главах] мы рассмотрели встречи с Богом, схожие с теми, которые происходят в других религиях, поскольку ритуалы, связанные с едой и публичным поклонением, встречаются повсеместно. Но для религий не является общим местом уравнивать молитву с чтением или обсуждением книг, тогда как в иудаизме происходит именно это ‹…› Изучение Торы (ивр. талмуд Тора) здесь и сейчас воспроизводит встречу на горе Синай. Причем буквально (Ibid 115–116)[55].
Религия жрецов (тех, кто совершал жертвоприношение в храме) перерождается в религию читателей. Есть исследователи этих текстов, но в сердце нормативного (даже если изредка и оспариваемого) способа быть иудеем с римского времени до наших дней оказываются не академики и не элита, поддерживающая систему. Скорее каждый иудей, который читает тексты, одновременно воплощает в себе и основание, и современный этап развития иудаизма.
Это оставляет нас с неявным доводом в пользу того, что иудаизм, начавший формироваться после разрушения римлянами храма (и провала последующего восстания против римского владычества), служил средством живучести. Скорее не условия римской толерантности, но подъем преследований христианами мобилизовал и наполнил энергией этот иудаизм чтецов жреческих текстов. То есть когда христианство стало официальной религией Римской империи, его претензии на исключительное владение текстами и траекториями истории Израиля потребовали решительного, но не провоцирующего ответа. Этот ответ, безусловно, не должен был быть военным. Скорее, как указывает Нойзнер (например: Ibid 69–72), иудеи с воодушевлением принялись изучать Тору (в форме библейских и раввинистических текстов), чтобы найти в них способ достичь святости (sanctification) в повседневной жизни. На искупление в конце времен, конечно, надеялись, но и оно приняло форму не воинственного, но усердного раввинистического мессии. Тем не менее иудеи и иудаизм были сосредоточены на жизни здесь и сейчас, мирской, хоть и освященной.
Говоря коротко, иудейская религиозная и культурная жизнь вращалась вокруг продолжающейся практики изучения Торы. Конечно, иудеи пытались жить в соответствии с тем, что находили в текстах. Но они выживали, делая изучение центром всего. Две особенности содержания раввинистических текстов особенно показательны: отсутствие разрушенного храма и отсутствие какой-либо армии. Иудеи должны были выжить, во-первых, изучая правила, написанные жрецами для жрецов и касающиеся жертвоприношения в храме, несмотря на отсутствие храма и невозможность жертвоприношения, и, во-вторых, старательно избегая ремилитаризации и восстания. Самопожертвование (selflessness) стало «высшей из добродетелей» (Ibid 126).
Сохранившиеся системы соблюдения закона складывались в ходе интенсивных споров о том, что является «работой», запрещенной в Шаббат, насколько пресным должен быть бездрожжевой хлеб, предписанный на Песах, и какая именно вода может ритуально очистить человека. Во всех культурах есть нечто подобное: англичане запрещают ходить по некоторым участкам травы и отказываются есть конину, хотя и зная, что они продают коней французам именно с этой целью[56]. Без текстов ни жрецы в храмовую эпоху, ни ученые после ее завершения не могли бы успешно разрабатывать то, что стало нормативной системой иудаизма (какой ее представляют и соблюдающие ее, и оппоненты). Эта культура не могла быть полностью устной. Напротив, она поощряла каждого иудея к получению интимного опыта ведения двойной жизни: воображать функционирующий храм и каждый день жить без него.
Чистота и опасность
Трудно не заметить, что в этой главе я кружу вокруг работы Мэри Дуглас. Коль скоро мы обсуждаем поклонение предкам, будет правильно остановиться на ее текстах, являющихся ее непреходящим памятником.
В книге «Чистота и опасность» Дуглас (2000) вскрывает логику книги Ваикра/Левит, демонстрируя, что в ней конструируются границы и отличия между храмовыми жрецами и, по большей части косвенно, их соседями-мирянами. Она сравнивает этот материал с культом панголина у леле и другими данными. Одним словом, она обнаруживает в этих примерах широко распространенную тревогу по поводу осквернения и беспорядка, границ и порядка, ритуалов и привычек, которые формируются стремлением к «чистоте», либо при помощи избегания, либо при помощи вовлечения. Она полагает, что подобные системы «чистоты и осквернения», вероятно, существуют в других культурах, культах и текстах.
В живой реальности границы проницаемы. Люди их пересекают и не всегда действуют так, как от них требуется или ожидается. Вероятно, есть учителя, проповедники или популяризаторы текстов и культов, настаивающие на границах, именно потому, что границы редко естественны, очевидны и принимаются всеми. То, что вызывает у одних отторжение и отвращение, нравится другим – поэтому моральным системам нужны учителя, мысль и споры (Midgley 2004:105).
В обсуждении библейских текстов Дуглас интересуют не столько моральные, сколько ритуальные системы. Или, скорее, мораль является темой вторичной в этих системах. Она важна, но не является основным предметом внимания, поскольку слова «чистый», «нечистый», «грязь», «правильный», «неправильный» для многих из нас звучат как этические термины и кажутся спорными, если применять их в отношении тех вещей, которые мы считаем естественными или нормальными. Менструация, например, – это «нечистота» в системе библейских текстов и восходящих к ним религиях, поскольку она считалась неуместной в храме. И, разумеется, женщины оказались бы в неправильном месте, если бы зашли слишком далеко в храм, согласно текстам, призванным регулировать деятельность и опыт элитной группы мужчин.
Несомненно, мужчины – авторы этих храмовых текстов представляли самих себя в качестве стандарта и нормы. Далее, они представляли, что действия, которые они могут предпринять, сделают святыми (holy) их самих, их семьи, народ и мир косвенным образом. Повторимся, «святой» здесь имеет отношение не к морали, но к ритуально правильному поведению. Они представляли систему, устанавливающую полярность предметов, материй, действий, связанных с жизнью, с одной стороны, и смертью – с другой. Божество – полное утверждение жизни, мертвые тела – смерти. Структурирование реальности основывается на этой дуальности. Храм (ассоциируемый скорее с «Богом», чем с «жертвоприношением / убийством животных») противопоставляется могилам. Овцы (связанные с храмом per se более, чем с «жертвоприношением») противопоставляются свиньям (поскольку они никогда не ассоциируются с храмом). Здоровые тела противопоставляются больным или увечным. Это, конечно, достаточно упрощенная и статичная картина. Очевидно, должны возникать вопросы о крови и смерти, поскольку храмовые ритуалы полны и тем и другим. Но отложим этот вопрос и подумаем над другим, а именно: почему нечисты свиньи?
Дуглас ясно дает понять, что мы должны искать причины распределения существ, материалов и действий внутри системы, которая в конечном счете очевидно дает знать об этих причинах. Может показаться загадочным, почему кашрут (система правил чистоты, организовывавшая жизнь служителей храма и сейчас организующая повседневную жизнь иудеев) провозглашает овец «чистыми» или «нормальными», поскольку они жвачные и парнокопытные. Другие животные объявлены «нечистыми», не потому, что они (физически) непригодны в пищу, и не потому, что они могут разносить болезни или как-то ассоциируются с недостойным поведением. Авторы текстов сказали бы об этом, если бы захотели. Вместо этого они так классифицируют одних животных (жующих жвачку и парнокопытных), чтобы отличать их от остальных. Они другие, потому что системе нужно, чтобы они были другими. Этот статус означает, что они могут служить пищей людям и жертвой богу.
Но не все овцы одинаковы. Некоторые дефектны, у них несовершенная шкура или увечные ноги. Их можно есть, но нельзя приносить в жертву. Это ключ к жизненно важной стороне данной системы: она не подразумевает абсолютного разграничения сущностей, навечно сверхотделенных друг от друга. Это динамичная система, в которой раненые овцы могут играть в системе космоса иные роли, нежели овцы здоровые. Тело овцы, убитой «диким зверем», а не на бойне, должно ассоциироваться со «смертью» и не попадет ни на столы израильтян, ни на алтарь. Этот пример не исчерпывает динамики, которая упускается из виду, если читать тексты так, будто они говорят (метафорически и не только) о морали. Необходимость выбора не исчезает, но делается он не между не связанными друг с другом существами, вопросами или поступками. Динамическая система, как отмечает Дуглас в своем заголовке и в тексте книги, – это система табу. Это комплекс уступок и меняющихся связей, групп или отношений.
Стоит принять идею о том, что кровь оскверняет, как сразу же оказывается, что кровь сакрализует. Все дело в том, чтобы оказаться в правильном месте в правильное время, вместе с правильными спутниками, внутри правильных контекстов и среди правильных действий. Работа Джонатана З. Смита «Иметь место» посвящена этому вопросу и описывает способы, которыми ритуал структурирует не только пространство, но и другие действия (Smith J. Z. 1987). Однако именно Дуглас указывает на власть текста и тем самым предвосхищает работу Нойзнера.
Без храма библейская система не может функционировать или использоваться. Но сохранились тексты – и стремление воображать, устанавливать и наделять силой границы может сохраняться. Опять же, это стремление динамично, а не статично. Взяв текст, который не имеет к ним отношения (поскольку описывает храмовых жрецов), читатели не-жрецы подхватили две кажущиеся незначительными темы и уделили им значительное внимание, сгенерировав тем самым новое прочтение и новую конструкцию. Они вчитали себя в историю, подчеркнув, что, хотя часть овец отбиралась из стада и попадала на алтарь храма, основная их масса попадала на столы и становилась пищей. Это, в свою очередь, показывает, что решения по поводу различий, выбора, намерений, вопросов воли были жизненно важными. Соответственно, такие инновационные представления и обстоятельства породили новый текст для изучения – Мишну (позднее объявленный письменным выражением устной Торы). Нойзнер пишет:
Мишна представляет такой иудаизм, который в своем основании и во всех своих частях имеет дело с единственным фундаментальным вопросом: что может сделать человек? Мишна являет иудаизм, имеющий простой ответ на этот вопрос: человек, подобно Богу, делает мир таким, каков он есть. Если человек захочет того, все предметы подпадают под власть этой сети неосязаемых статусов и бестелесной реальности, в которой каждому предмету отведено положенное место, каждому дано соответствующее имя, и эту сеть можно описать простым словом – освящение (sanctification). Мир инертен и нейтрален. Человек своим словом и волей запускает процесс, принуждающий вещи занять положенное им место по одну или другую сторону границы, определяющейся категорией святости (Neusner 1981:282).
Следовательно, в рамках иудаизма евреи наследуют систему чистоты, состоящую из воображаемых границ и поведенческих норм. Они приносят правила домой, к своим столам и другим домашним пространствам, но в особенности туда, где они читают, учатся и спорят. Они структурируют мир (подобно тому, как это делало их божество), помещая вещи в порядок. Они поддерживают разделения, упорядочивавшие храмовую ритуальную жизнь, но делают это динамично, уделяя внимание актуальным, мирским потребностям выживания в той же мере, что и святости.
Считать ячмень и избегать мертвых
В Мероне во время хиллулы раввина Шимона бар Иохая сходятся вместе воображение и близость, вымысел и реальность, время и пространство, текст и жизнь. Главное событие, высшая точка праздника приходится на Лаг ба-Омер, тридцать третий день по Омеру, счету дней от Песаха до Шавуота, тридцать третий день приношения ячменя. Поражает, что почти две тысячи лет после разрушения храма, прекратившего практику приношений богу свежесобранного ячменя, люди по-прежнему высчитывают эти дни. Но опять же, здесь скрывается и нечто иное.
Время между Песахом и Шавуотом также предполагает воображаемое воспроизведение времени между исходом из Египта и получением Торы на горе Синай, переход от «мы рабы» к «мы избраны», скачок от навязанных условий к принятию правил жизни. Соблюдающие закон иудеи на хиллуле оказываются одновременно стоящими на горе Синай, в Иерусалимском храме и у могилы раввина в Мероне. Они получают Тору, приносят ячмень и делятся сладостью и светом. Когда женщины разбрасывают сладости, а мужчины зажигают костры, они материализуют богатство мистических традиций, интенсифицируя воображение прошлого (творения, Синая и храмовых времен) и будущего (искупления) и в то же время предаваясь настоящему, в котором благотворительность и соблюдение соответствующих привычек и правил поведения обладают всепоглощающей значимостью. Недостаточно воображать, что храм и сельское хозяйство сохранились с древности без изменений или что отношения народа с божеством вновь прославляются принесением ячменя в храм. Необходимо, чтобы обычные приемы пищи происходили так, как если бы они, а не храмовые жертвоприношения были фокусом божественного интереса.
На хиллуле также декларируется, что потомкам жрецов необходимо, несмотря на отсутствие всего того, что жречество определяет (храм и жертвоприношение), избегать контакта с мертвыми и могилами. Этот ключевой пункт кашрута для левитов/жрецов сохраняется. На другой момент эволюционировавшей системы указывают повсеместные, но остающиеся незамеченными знаки «кошер» на рыночных лотках, так что освящение вкушением надлежащей (кошерной) пищи возможно для обычных людей в обыденных условиях по обычным дням. (Хиллула обыденна в том смысле, что это не предписанное Библией празднество-паломничество, но просто день между двумя праздниками. Она не-обыденна, будучи паузой, наступившей перед самой кульминацией, которой является Шавуот. Она также не-обыденна, будучи днем, когда раввин Шимон бар Иохай в последний раз проводил мистический урок.) В таком случае что означает тот факт, что некоторые люди жаждут прикоснуться к могиле?
Цви Марк пишет о граффити «Na, Nah, Nahma, Nahman Me-Uman», что чужак, посетивший страну, может подумать, что это и есть ядро иудаизма (Mark 2011:101). Тот же чужак, оказавшись в Мероне на Лаг ба-Омер, может также решить, что иудаизм – это система почитания предков. В поиске информации о пространственных и временных координатах этого события в его связи с другими местами и временами (святилища и календари) посетитель может прийти к заключению, что сельскохозяйственный годичный цикл этого региона вращается вокруг мифа об устройстве мира выдающимся предком. Наблюдая прикосновение к гробнице (и толкотню на пути к ней), слыша о силах, приписываемых красным ниткам, касавшимся гробницы, и/или оказавшись втянутым в экстатические танцы у костров, подожженных от свечей, касавшихся гробницы, гость подумает, что иудеи ожидают от могущественных предков помощи на благо нынешнему поколению. Едва ли можно сказать, что это совершенно некорректная интерпретация того, что делают или думают люди, участвующие в хиллуле. Некоторые религиозные авторитеты, конечно, настаивают на том, что так думать или поступать неправильно. Но они представляют себе (и хотели бы навязать свое представление другим) совсем иной способ практиковать и понимать иудаизм. В живой реальности многим участникам хиллулы определение иудаизма из учебника покажется слишком узким.
Чего же не хватает в учебниках, объявляющих, что отделение жизни и смерти является важнейшим организующим фактором кашрута и тем самым иудаизма? Что такое иудаизм, если он включает публичные и восторженные попытки взаимодействовать с гробницей умершего раввина? Что упускается из виду, когда утверждают, что иудаизм строго монотеистичен? Дуглас завершает «Чистоту и опасность» следующим пассажем:
Если кто-то придерживался мнения, что смерть и страдания не являются составной частью природы, то это заблуждение рассеивается. Если кто-то испытывает желание рассматривать ритуал как волшебную лампу, потирая которую можно получить несметные богатства и власть, то здесь ритуал оборачивается другой стороной. Если иерархия ценностей имеет сугубо материалистический характер, она подрывается парадоксами и противоречиями. Для изображения таких мрачных тем символы осквернения так же необходимы, как использование черного цвета для контура любого рисунка. Поэтому мы и обнаруживаем, что нечистое бережно хранят в священных местах, и обращаются к нему в священные моменты времени (Дуглас 2000:260–261).
Парадокс важен. Дуглас понимает, что, хотя заблуждение о неестественности смерти корректируется в ритуале, оно в то же время оспаривается; хотя ритуал может и не давать богатства и власти, люди ищут физического усовершенствования, производя ритуал; хотя материализм может быть обесценен, он вовсе не исключается из целей участников ритуала. То есть в хиллуле (и не только) иудеи могут искать разного рода выгоды от контакта с мертвыми. Они не сосредоточены исключительно на божественном, трансцендентном и духовном. Эти категории не являются определяющими. Скорее, благополучной жизни среди других (принадлежащих, разумеется, одному племени и по возможности избегающих чужаков) способствует совершение поступков, которые не кажутся строго монотеистическими. По меньшей мере, люди заигрывают с другими существами (persons) и ожидают благоприятных результатов.
Как выглядит нерелигиозный израильтянин?
Думать, что для описания религии достаточно осветить содержание религиозных текстов, – большая ошибка, поэтому я обратился к тому, как эти тексты используются. Не меньшая ошибка представлять любое событие как единое, однозначное, однородное; в связи с этим отмечу, что «секулярные» израильтяне тоже посещают хиллулу. В отличие от хасидов они не носят длинные пальто, меховые шапки или пейсы (нестриженые пряди перед ушами). Они не будут так же рьяно, как религиозные энтузиасты-сефарды, прикладывать красные нити к гробнице Шимона бар Иохая. Это только поверхностные отличия. «Светские» (хилони) израильтяне могут посетить Мерон в Лаг ба-Омер, чтобы насладиться музыкой или атмосферой или понаблюдать за впечатляющим представлением. Кем-то могут двигать желания или намерения, точно соответствующие тем, что характерны для жителей Северной Америки, определяющих себя как «духовные, но не религиозные» (т. е. стремящиеся к самопознанию, личностному росту и/или холистическому благополучию). Однако обычно дискурсам «не-религии» в Израиле присущи специфические иудейские особенности.
Существуют израильтяне-атеисты, которые осуждают все, что можно называть «религией». Существуют искушенные в философии израильтяне-гуманисты. Но в равной мере есть и, возможно, всегда были иудеи, соблюдающие закон, которые не видят необходимости в «вере в бога» или в теориях по поводу существования каких-то божеств. Их позицию можно обобщить так: существование бога предполагается, принимается как данность и в значительной степени не обсуждается примерно так же, как существование гравитации предполагается, принимается как данность и в значительной степени не обсуждается. Все будет как прежде, независимо от того, уделяется внимание этим вопросам или нет.
Голдшмидт убедительно говорит об этом, мимоходом объясняя, что, когда «едва поступивший в любавичскую йешиву ученик» поясняет употребление слова «секулярный» (secular) как «не-религиозный», он имеет в виду «не соблюдающий предписания» (Goldschmidt 2009:563). Когда израильтяне и евреи диаспоры говорят о других евреях как «религиозных» или «не-религиозных», это важно для нашего обсуждения того, что значит «религия», по двум причинам. Во-первых, быть религиозным – значит в определенной степени соблюдать закон. Обычно это значит и «выглядеть определенным образом» – покрывать голову (кипой или шарфом, шляпой или париком), зажигать свечи в Шаббат, даже если все остальные субботние традиции соблюдаются в минимальной степени, и сохранять хотя бы видимость кошерного дома. Последнее может означать отделение мясной пищи от молочной или вегетарианство, чтобы родственники, более строго соблюдающие предписания, оказавшись у них в гостях, не беспокоились, хранятся ли мясо и молоко раздельно должным образом. Можно задаться вопросом, являются ли представители прогрессивного иудаизма также соблюдающими закон, но по крайней мере они находятся в пределах множества «делающих то, что делают иудеи». На самом деле реформистские и либеральные движения в иудаизме сейчас призывают своих последователей соблюдать закон в большей степени, чем их предшественники-реформаторы XIX века.
Во-вторых, в типичном иудейском дискурсе слово «религиозный» не связано с интересом, одержимостью или приверженностью к трансцендентным существам или метафизике. Это слово даже может не быть эквивалентным «духовности» в том смысле, в каком его используют те, кто испытал влияние протестантского пиетизма или модерновой субъективности. Религия имеет отношение к той жизни, которую человек проживает в этом мире среди других людей. Она касается того, с кем можно, а с кем нельзя принимать пищу. Опять же, она может определяться тем, кому человек доверяет свою кухню или закупку надлежащих продуктов. Поскольку «религия» не противопоставлена «атеизму», она не может и определяться через теизм.
Иудеи могут быть религиозными атеистами, поскольку «религия» и «теизм» отсылают к двум независимым друг от друга областям. Я утверждаю здесь, что это справедливо не только для иудаизма, но и для других традиций. Нас слишком долго вводила в заблуждение фундаментальная (и ложная) склонность протестантских проповедников отождествлять религию с верой в богов. Если бы мы вместо этого попытались понять религию с точки зрения иудаизма, мы бы отметили превалирование таких слов, как, например, галаха, поведение или путь действия, и значение «религии» видели бы в соблюдении правил, практике (performance) или образе жизни. Мы обращали бы внимание на обыденные, привычные, повседневные действия наряду с драматическими, ритуальными и исключительными. Наши учебники и лекции главным предметом имели бы системы чистоты и табу, а не внутренний мир и когнитивные процессы. Вместо этого мы интерпретировали иудаизм как подвид христианства, а христианство – как определяющую, образцовую религию. Эти тенденции дают о себе знать в таких в чем-то даже нелепых терминах, как «иудеохристианство» и «авраамические религии» и в совсем несуразном понятии «мировые религии». Вновь пришло время начать сначала где-то еще, даже если это где-то – в знакомом нам иудаизме. Если хиллула раввина Шимона бар Иохая в Мероне на Лаг ба-Омер помогла нам по-другому взглянуть на иудаизм (хотя бы даже потому, что явление это в некоторых отношениях для иудаизма необычно), возможно, она поможет нам открыть и новые/старые возможности для определения, понимания, теоретического осмысления, исследования и преподавания религии.
Глава 10 Заколдовывание и возвращение в пространство
Язычество (paganism) – новая религия, получившая развитие на модернистском Западе и черпающая в старом репертуаре способы решения современных проблем. Это определение провоцирует вопросы, на которые необходимо ответить в самом начале этой главы: определяют ли религию традиция, иерархическая власть, единая идеология, сообщество? Насколько допустимо считать себя членом того, что, по общему мнению, должно быть религией, и при этом намеренно выдумывать космологии и ритуалы, разрабатывать индивидуальные практики и не связывать себя с согласованным вероучением? Каким образом разнородные практики и интересы язычников согласуются в распознаваемое единство? Учитывая, что язычество, без сомнения, зарождается в матрице модернизма, как оно стало чем-то иным, нежели очередной версией протестантского модернизма (т. е. чем-то расколдованным и сфокусированным на идеях)? А если подобные вопросы предпосылаются этой главе, то что вообще заставляет нас думать, что язычество может послужить подходящей оптикой для решения вопроса о переопределении религии? Обратившись к подсказкам и намекам, разбросанным по трудам коллег, я надеюсь показать, что язычество заслуживает ярлыка «религия» в большей степени, чем его заслуживает христианство-как-вероучение.
Я предполагаю, что наблюдение за язычниками, делающими то, что они делают, может снабдить нас ценным материалом для переопределения религии. Именно потому, что эта религия возникла в модерне, но отрицает расколдовывание, она провоцирует на размышление о том, является ли околдованность общей чертой всех религий. А поскольку язычники экспериментируют с разными способами объединения, равно как и с разными комбинациями источников и практик, меня вдохновляет возможность посмотреть на то, какую роль в религиях играют текучесть, гибридность и эксперименты. То, что у язычников есть общие ритуальные практики, поведенческие стереотипы и установки, а также то, что они мало заботятся об определении верований (не говоря уже о «правильных верованиях»), указывает на неадекватность существующих определений религии. Если признать язычество исключением, это не поможет размышлениям над нашим научным аппаратом и подходом. Однако, безусловно, в значительной мере та динамика, которая раскрывается в изучении язычников, наблюдается и в других сообществах, что мы покажем в этой главе. Например, учитывая сколь часто в синкретизме обвиняют «обычных» последователей многих религий, а порой даже священников, проповедников и других поборников религиозных институтов, скорее язычники не являются исключением и уже потому интересны.
Наряду с вопросом о том, насколько неадекватны наши идеи о религиях, важно задать и вопрос о том, насколько неадекватны наши привычные определения модерна. Например, если прогрессивное расколдовывание мира – иллюзия, повод для споров или попросту временное явление, тогда и длящееся околдовывание оказывается менее примечательным. В то же время, возможно, потребуется уточнение академической риторики и практик. Работа в этом направлении уже ведется. Например, сейчас значительно реже встретишь подход к религиям как обособленным, ограниченным и изолированным объектам, отделенным от других религий и других областей жизни (например, экономики, приготовления пищи, политики, этничности, гендера и сексуальности).
Однако идея о том, что религия – дискретное явление sui generis, уводит религиоведение от того, что подлежит его изучению, и тем самым мы упускаем из виду то, как язычники и носители религий вообще проживают и практикуют религии. По этой причине – среди прочих, – наблюдая за тем, как язычники учатся у других [религий], в этой главе мы обратимся к клише о «духовном супермаркете». Иначе говоря, попытаемся сделать нечто иное, чем делали до этого: мы рассмотрим, каким образом язычество может быть религией и как оно может помочь переопределению религии, в то же время ставя под вопрос фактическую данность или самоочевидность модерна и порожденных им научных подходов. Начнем с того, что опишем предметную область, очертив истоки и эволюцию язычества.
Источники и траектории
С 1976 года (когда я впервые отправился на Stonehenge People’s Free Festival) и до настоящего момента в основном мои исследования язычников и язычества имели место в Британии. Однако знаменательные встречи в континентальной Европе, Северной Америке, Южной Африке, Австралии, Аотеароа, Израиле и Японии также повлияли на мое понимание язычества. Стабильный рост числа академических исследований (первоначально спровоцированный интересом студентов) в последние десятилетия делает возможным обсуждение и вопросов описания, и вопросов анализа [язычества]. Исследования язычников стали в высшей степени междисциплинарными, имеющими тем самым большой потенциал для обсуждения различных точек зрения. Благодаря этому, в частности, можно суммировать важные пункты в траектории развития язычества.
Люди оценивают слова «язычник» и «язычество» в положительном ключе уже больше ста лет. С 1950?х годов число людей, идентифицирующих себя как язычники, растет. Понятие, которое было (со времен поздней Античности до раннего модерна, а зачастую и позже) в значительной степени уничижительным обличением тех, кто не является христианином или является христианином в недостаточной степени, постепенно стало употребляться по отношению к благородным и цивилизованным грекам и римлянам эпохи (дохристианской) классики. В XIX веке слово «язычник» стало обозначать человека, «славящего природу». В XIX веке в ответ на индустриализацию и урбанизацию, в союзе с романтизмом и трансцендентализмом, природа и глушь (wilderness) начинают приобретать особую ценность. То, что Кэтрин Олбаниз (Albanese 2002) называет «естественной религией», становится все более отчетливой, пусть не организованной и не систематизированной традицией, но тем не менее необходимой и в значительной мере имплицитной составляющей гражданской и народной (popular) религии Америки (Taylor B. 2010). В то же время получает развитие и распространение эзотерический ритуализм (или «высокая магия»), который становится все заметнее для широких кругов, иногда в «секуляризованных» и «наукообразных» формах (Hanegraaf 1996). Эзотеризм снабдил структурой и поведенческими сценариями многие экзотерические религиозные группы, в том числе языческие. Новое самоопределившееся язычество выросло на этой плодородной почве.
Траекторию этого развития обстоятельно описал Рональд Хаттон (Hutton 1991, 1994, 1996, 1999, 2003, 2007, 2009) и обобщил я сам (Harvey 2006, 2011b, 2012a). Если говорить коротко, оно включает в себя дурманящую смесь классицизма, романтизма, кельтицизма, натурализма, нудизма, антиклерикализма, ритуализма, бардизма, эзотеризма, индивидуализма, коммунитаризма, эволюционизма, феминизма, анархизма, рационализма, разного рода активизма (от движений против войны и за фестивали, против глобализма и за справедливость до экологических движений и движений против неравенства), а также народных и сельских традиций. Очевидно, что некоторые из этих элементов конфликтуют друг с другом, а их смесь не всегда складывается в опыт или систему, которую инсайдеры, не говоря уж об аутсайдерах, сочтут согласованной. Маловероятно, что хоть кто-то из тех, кто участвовал в этих полноводных культурных движениях, сознательно планировал или даже мог предугадать современное положение и стиль разнообразных форм самопровозглашенного язычества.
Однако в вечно изменяющемся под влиянием обстоятельств множестве групп и практик язычниками и их исследователями регулярно воспроизводится один общий мотив и тема, а именно представление о том, что язычество – это «природная религия», «религия природы» или «религия, построенная вокруг почитания природы». Что именно значит «природа», если не иметь в виду благоговейную интонацию, с которой она упоминается, является частым предметом дискуссий и среди язычников, и среди ученых, их исследующих (например: Letcher 2000, 2001, 2005; Clifton 2006; Jamison 2011). Следуя подсказке ныне покойного избранного главы Светского ордена друидов Тима Себастиана, я отмечу созвучие «природы» и «природной религии» с «сельской местностью» (countryside) и «глушью» (wilderness), т. е. относительно близкими и относительно далекими местами вне урбанизированной реальности, в которой доминируют люди; в этих местах по-прежнему возможно понимать людей как меньшинство и помнить о необходимости нести ответственность за свои действия в мире (Harvey 2012b). Кроме того, «природные религии» имеют дело скорее с этим миром, чем с трансцендентным. Они воодушевляют людей на празднование смен времен года, жизненных циклов и повседневного опыта, на почитание конкретных мест.
В зависимости от того, что понимается под «природой», группы объединяются вокруг конкретных форм поклонения, конкретных мест или наследия (например, кельтского, саксонского, эллинистического и т. п.). Обычно языческие группы весьма демократичны и часто эгалитарны. Если оформляется система доминирования лидера, язычники часто переходят к поиску более близкого взаимодействия. Они хорошо образованы и прибегают к эклектичному кругу текстов в качестве источников вдохновения и формы для своих практик и амбиций. Справочники по ботанике стоят на одной полке с романами в жанре фэнтези, антропологическими исследованиями и эзотерическими трактатами; воедино сплетаются академическая история и вдохновенная поэзия. Они смешивают со множеством источников индивидуальный и коллективный опыт, формируя традиции и сообщества, которые другие могут заимствовать и адаптировать под свои нужды или, напротив, отринуть в пользу других альтернатив. Будучи новой религией, вдохновленной древними источниками, язычество демонстрирует немало сходств с другими религиями в их возникновении и развитии. Это делает его замечательным объективом, с помощью которого можно рассмотреть, что же делает религию религией.
Практика заколдовывания
Среди определяющих характеристик модерна расколдовывание считается центральной. Протестантская полемика против ритуалов – выставляющая их тщетным повторением бессмысленных действий – заложила основание программного для модерна предпочтения других форм знания. Макс Вебер утверждал, что определяющие для нашего времени
возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях, в каких приходится существовать. Она означает нечто иное: люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать; что, следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют, что, напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета. Последнее в свою очередь означает, что мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов, как это делал дикарь, для которого существовали подобные таинственные силы. Теперь все делается с помощью технических средств и расчета. Вот это и есть интеллектуализация (Вебер 1990:713–714).
Подобная интеллектуализация соединяется с возрастающими бюрократизацией, специализацией, индивидуализацией и другими оформляющими мир процессами, отчуждающими и расколдовывающими людей.
Однако, несмотря на успехи проекта модерна, ритуалы не исчезли. Люди продолжали находить смысл в действах (performance) и этим противостояли несбыточной фантазии о бестелесном разуме. Скептическое вопрошание и бюрократия редко служат источниками полноты жизни. Я не утверждаю, что религия по определению иррациональна или что ее целью обязательно является придание жизни полноты. Скорее, я указываю на неудовлетворенность риторикой, преуменьшающей значение телесности, пространственности и практик (performance). С помощью ритуализации люди как будто обретают способы противостоять модерновому отчуждению и сохранять околдованность взаимоотношений и соучастия.
Язычество возникает в насыщенном конфликтами модерновом мире первой половины XX века. Многие источники, тогда и сейчас питавшие язычество, суть аспекты модерна. Язычники, например, скорее всего будут настаивать на праве каждого индивида самостоятельно определять, какой стиль религии ему подходит. Обычно они утверждают, что магические церемонии имеют экспериментальный характер: они требуют аккуратного планирования и тщательной проверки результатов на эффективность. Традиции или знания, которые могут определенным образом помочь людям, в целом воспринимаются как не требующие посредника: человек самостоятельно определяет ценность текста, речи, наблюдаемой деятельности или любого другого потенциального источника вдохновения и использует их так, как посчитает нужным. Можно выделить и другие грани модерна (с признаками протестантского происхождения). Тем не менее один очевидный признак противостояния модернизму явственно намекает на существование других: язычество – это религия, сконцентрированная на ритуале.
Язычники могли бы выбрать распространение своей новой развивающейся религии в интеллектуальных кругах и медиа. Они могли бы публиковать манифесты или оглашать проповеди. Они, конечно, писали книги и не только. Часто они ненасытные читатели; наличие фантастической литературы в числе самых часто читаемых язычниками книг указывает на почитание ими воображения и творчества. Но при всем этом производство и потребление текста не является основной деятельностью язычников. Какой бы ни была причина (которая, возможно, связана с влиянием эзотеризма) выбора ритуального действа (performance) в качестве самого существа и групповой, и индивидуальной деятельности язычников, оно оформило практически все стороны этой развивающейся традиции. Данную традицию в целом можно понять как борьбу с «систематическим производством и воспроизводством отстранения [человека] от общества и самости» (Mills 1951:340), которое лежит в сердце проекта модерна. Конструирование, поддержка или поощрение личностей, включенных в сети отношений, и локальных групп, оформленных телесным действом (embodied performance) и творческим воображением, не достигались «иррационально» или «мистически». Скорее, в данном случае имеет место не столько раскол, который Вебер представляет в качестве определяющего для нашего «лишенного бога механизма мира»[57] (Gerth&Mills 1948:282), сколько согласование рациональных экспериментов и творческой чуткости к опыту.
Патрик Карри (как никто другой повлиявший на мои взгляды на перезаколдовывание (reenchantment)) замечает: «То, что нельзя посчитать, проконтролировать или купить и продать, – и есть сущность того, что делает нас людьми, а нашу жизнь – стоящей того, чтобы ее прожить» (Curry 2011). Это, без сомнения, правильно и заставляет всерьез задуматься о модерне и его альтернативах. При этом позиция Карри – не наивный романтизм, но прямолинейный радикализм. Он созвучен проектам язычников, какими бы запутанными они ни были, по развитию такого варианта современной жизни, в котором по достоинству ценятся ритуал, телесность, пространственность, воображение и другие антиподы расколдовывания. В ритуале и местах, особым образом обжитых (performed) в ритуальной практике, воображение и реальность перестают быть противоположностями, но не потому, что одно одолевает другое. В языческом ритуале воображаемый лучший мир более-чем-человеческого со-существования и со-творения встречается с реальностью человеческого стремления (возможно, отчасти также воображаемого) доминировать. Это противостояние превращается в обновленное представление об уважительных взаимоотношениях и одновременно в попытки реализовать в реальном мире этот основанный на взаимоуважении стиль жизни. Было бы не вполне справедливым сказать, что «вымысел превращается в реальность», поскольку религиозные миры одновременно являются такими, что «ментальное и социальное неразличимы» (Лефевр 2015:247, 237). Воображение и близость (intimacy) смешиваются, тем самым оформляя личности, отношения, действия и весь мир. Является этот аспект определяющим для религии или нет, но он свидетельствует о наличии процесса куда менее упорядоченного, нежели декларируемый модерном «прогресс» к расколдованности.
Включаясь в «несообразную деятельность, которая [смешивает] все более расходящиеся [с точки зрения модернистов] религиозную и материальную реальности», язычники отказываются «высвободить религию из материального мира» (Benavides 1999:198). Возможно, это справедливо для представителей всех религий. Подходит этот тезис и к «современным западным шаманам», которых исследовал Коку фон Штукрад (Stuckrad 2002). Возможно, он справедлив и в отношении тех, кто называет себя сторонниками «универсальных религий» (universal religions), но при этом, регулярно посещая конкретные места, начинает испытывать к ним привязанность. Конечно, язычество представляет собой модерновую, но едва ли модернизирующую попытку воссоединить и срастить социальное и ментальное, воображаемое и интимное, осмысленное и духовное, привязывая религию к материальному миру. Откровенный и отчетливый акцент язычества на действе (performance) и месте делает это явление идеальным для проверки наиболее интересных концепций в продолжающемся теоретическом осмыслении религий. В следующем разделе я обращусь к другому классу заблуждений по поводу религии, развеять которые может помочь наблюдение за язычеством.
Синкретизм
Слишком многие исследования написаны так, словно о религии и религиях следует думать как об отдельных сущностях, строго отграниченных и отделенных от других явлений. Как бы ни старались коллеги, пишущие о «синкретизме», им редко удается не проговориться или не намекнуть о том, что заимствование или адаптация сами по себе недостойны и свидетельствуют об упадке. Можно было бы сказать немало о том, как люди учатся друг у друга и как с этим процессом связаны изменения культур, религий, привычек, знаний и т. д. Но прежде всего следует отметить, что все эти процессы нормальны и естественны. Как раз иное положение дел было бы исключительным и потребовало бы объяснения. То, что называется «синкретизмом», – вещь вполне обыкновенная и не заслуживает имени, столь перегруженного негативными коннотациями. Обесценивание обучения, заимствования или смешения – еще один пример наследия элитарных теологий и вероучительной ортодоксии. В любой живой религии каждый день протекают процессы изменения и обмена, вследствие встреч с другими религиями и с новыми возможностями.
Модернистская риторика дополняет особой – пусть и весьма протестантской, как оказывается, – чертой тот способ представлять религию, в соответствии с которым она есть нечто принципиально отделенное от всех остальных явлений. В то время как религиозные лидеры в проповедях выступают против идей и практик других религий, исследователей религии модерн поощряет обрушиваться с критикой на тех, кто смешивает религию с политикой, экономикой, туризмом и т. д. Исследуя феномен чрезвычайной неподатливости (особенно в связи с оформлением пространства) религий, Васкес обобщает труды де Серто, Орси, Чидестера и Линенталя: «Гибридизация, в свою очередь, смешивает то, что доминирующие стратегии пытались представить естественным в качестве сакрального по умолчанию, нарушая границы и различения, сделанные от имени этого сакрального» (Vasquez 2011:279).
В рамках такого анализа периферийные явления и группы оказываются в центре внимания, которое нормативно уделяется тому, что власть определяет как сакральное. Кажущиеся надежными знания о том, что религиозные ритуалы сфокусированы на трансцендентном, а религиозный дискурс – на духовности, гибридизируются с тем, что принято считать областью экономики или политики. Жизнь, особенно во времена кризисов и раздробленности, не удается сковать границами. Или, что более вероятно, религию попросту неверно конструировали в качестве обособленной сферы деятельности.
«Гибридность», возможно, остается элитарным, но все же более секулярным синонимом «синкретизма». Предметом теорий гибридности является не столько включение в репертуар одной традиции ритуального стиля другой, сколько вторжение в политику духовной потусторонности. Вслед за Жизель Винсетт (Vincett 2008, 2009) я утверждаю, что термин «сплав» (fusion) может стать менее дискуссионным обозначением для таких самоидентификаций, как «буддист-иудей», «квакер-язычник» (Quagan, Quaker Pagan), или для интеграции церемоний коренных народов в ритуальные комплексы некоренных.
Публикации, посвященные вернакулярной религии, полны примеров, демонстрирующих, что такие сплав или обмен (sharing) нормальны и повсеместны. Эти процессы можно проиллюстрировать тем, что и наблюдатели, и участники думают о церемониях в парнoй, возникших у индейцев лакота и других коренных народов Верхнего Среднего Запада. Во всем мире они обычно проводятся согласно сценариям, разработанным лакота и их соседями. Однако, будучи практикой, которая распространилась сначала среди других коренных народов Америки, а затем среди американцев европейского происхождения и далее, она претерпевала и продолжает претерпевать изменения.
Вкратце – традиционная индейская церемония в парной в стиле лакота сплавляет воедино очищение и бескорыстное желание принести пользу другим людям. В замкнутом и затемненном пространстве палатки, обычно возводимой заново для каждой церемонии, после надлежащих приготовлений (определения последовательности действий и желаемого результата церемонии) лидер церемонии призывает внести камни. Они должны быть нагреты в костре вне палатки и размещены в центре земляного пола в яме. Затем на камни льют воду, так что пространство заполняется паром, а температура повышается. «Парные» не являются испытанием на выносливость, хотя жар, темнота и ограниченное пространство требуют изрядной стойкости. Каждый участник – включая камни, почетно именуемые дедами, – должен отказаться от попыток сопротивляться этому дискомфорту и подчиниться ему, преследуя двоякую цель – самоочищение и благо других. Затем участники вместе возносят молитвы могущественным помощникам, перемежающиеся знакомством с новыми дедами-камнями и последующим повышением температуры, новым паром и, следовательно, пoтом. Если бы мы определяли религию не как веру, а как воплощение (performance) ограничений ради создания общины, ритуалы в парных были бы архетипом.
Проведение церемонии может отличаться у разных коренных/аборигенных народов. Важно обратить внимание на это разнообразие внутри собственно класса культур коренных народов прежде, чем рассматривать распространение подобной практики в других местах. Хотя традиционным знаниям был нанесен серьезный урон, во многом заслуживающий того, чтобы быть названным кражей или присвоением, не следует игнорировать участие туземных учителей, лидеров и сообществ в распространении церемонии (Welch 2007). Межкультурное обучение и передача знаний, перевод и адаптация являются важным аспектом культур многих коренных народов. Конфронтация с продолжающимся до сих пор колониализмом не мешает людям стремиться к распространению в более широком сообществе традиционных для этих культур добродетелей взаимности и уважения или знаний по самым разным вопросам. Кроме того, несмотря на мой краткий очерк как будто нормативной для лакота структуры церемонии очищения, не следует считать этот пример свидетельством того, что имеет место повсюду. Даже у лакота практика варьирует (Stover 2001), и на континенте распространены различные ее версии. Адаптация знания коренных народов язычниками обычно (если не всегда) основывается на попытках освоить заново знания, полученные от европейских предков. В случае с «парными» археологические данные позволяют некоторым язычникам считать эту практику сферой плодотворного межкультурного диалога. Но я избрал эту практику для обсуждения именно потому, что язычество адаптировало ее, находясь в состоянии брожения.
Для краткости опишем лишь два полюса того континуума, который составляет множество происходящих с язычеством вещей. Локальный (localizing) анимизм распространяется среди язычников в последние десятилетия и, возможно, уже наличествовал у тех, кто называл себя язычниками в прошлом столетии. Такой анимизм не стыкуется с лежащим в основании язычества популяризованным или демократизированным эзотеризмом (как его характеризует Ханеграаф – Hanegraaf 1996). Как указывает Иэн Джемисон (Jamison 2011:138–143), эти анимистическая и эзотерическая тенденции параллельны «глобализирующей» и «укореняющей» (indigenizing) траекториям, описанным Полом Джонсоном на материале туземного населения Карибского региона (Johnson 2002b).
Эти тенденции можно увидеть в проведении и объяснении языческих церемоний очищения. Усиливающийся акцент на восстановлении хороших отношений с более-чем-человеческим миром побуждает некоторых язычников высоко оценивать «парные» именно в качестве точки доступа или инициационного пролога к анимистическому миру, миру, пронизанному отношениями. Они входят в палатки, рассчитывая на уважительное общение и соучастие с не-человеческими личностями в организации мира. Язычники могут проводить другие церемонии для выражения благодарности животным или растениям, ставшим пищей, или для того, чтобы получить разрешение на отнятие жизни. В более эзотерическом контексте «парные» могут быть значимыми этапами в самораскрытии и саморазвитии.
Люди, находящиеся под влиянием современного западного шаманизма, или «неошаманизма», могут увидеть в этой церемонии способ достижения глубинных архетипических психологических переживаний. Такое более эзотерическое язычество скорее будет иметь глобализированный стиль и целеполагание, чем локальную, частную повестку. В то время как оба этих полюса (ни один из которых не возможен в чистом виде, в отрыве от другого) адаптировали очистительные церемонии и другие практики, эти адаптации заметно различаются. Сложившиеся в результате сплавы свидетельствуют о разных отношениях с модерном. Более анимистически настроенные язычники обычно ищут возможность сдерживать, а в отдельных случаях и побороть индивидуализм, отчуждение, развоплощенность (disembodiment) и расколдованность. Более эзотерически настроенные язычники обычно склонны смягчать отчуждение, «стремясь вернуть „сакраментальный взгляд на реальность“» (von Stuckrad 2002:792, цитирует Benavides 1998:198). Их индивидуализм и восприятие природы в символическом ключе могут пролить свет на привлекательность этой и связанных с ней традиций, восходящих к более ранним эзотерическим течениям.
Все это нисколько не говорит о том, что один полюс континуума анимизм – эзотеризм или один вариант практики в «парных» ближе к первоисточнику в культурах коренных народов или – напротив – современнее, чем другие. Все они являются сплавом язычества и повсеместной среди американских индейцев практики. Это свидетельство непростых взаимодействий между модерном и его альтернативами (локальными традициями, околдовыванием, практикой телесного воплощения в пространстве – назовем лишь три). Как и с другими сплавами, в них можно проследить линии влияния, а иногда трещины, указывающие на неполноту взаимодействия. Но это не сильно нам поможет. Языческие сплавы современных западных чаяний околдованности сращиваются воедино с автохтонными техниками практики себя (self-performance) образом, похожим на тот, что полемически определяется как синкретизм в отношении других религиозных людей. Это повседневные и обычные процессы эволюции религий, возникающие из коммуникации и близости между народами. Не существует абсолютных границ – а попытка управлять теми границами, в существовании которых мы себя убедили (навешивая на результат такого управления ярлык «синкретизм»), еще раз свидетельствует о попытке академического сообщества занять место религиозных властей в деле поддержания ортодоксий.
Супермаркеты
Нередко понятие гибридности теряет всякую силу в голословных утверждениях, согласно которым представители той или иной религиозной группы считают «другие культуры» «духовным супермаркетом». Даже оставляя в стороне ложное, но настойчивое требование категориальной независимости религии и экономики, метафора супермаркета неудачна прежде всего потому, что неадекватно воспроизводит привычки покупателей.
Действительно, факт состоит в том, что некоторые язычники, участвующие в церемониях очищения в «парных», также отмечают календарные праздники Северо-Западной Европы, создают ритуальное пространство, опираясь на ритуальные сценарии XIX века, играют на диджериду, почитают или призывают греческих, римских, «кельтских» и других богов и по-другому сплавляют воедино практики (performative materials) из разнородных источников. Однако, подобно визиту в супермаркет, существуют базовые факторы, определяющие и придающие смысл сделанному людьми выбору. Подобно тому, как случайные вещи могут оказаться в тележке из?за вездесущего мощного давления рекламы, так и новые идеи могут входить в репертуар язычников, потому что друг или книга предложили возможный эксперимент.
Тем не менее в целом люди покупают вещи, которые, как они уже знают, отвечают их образу жизни и вкусам или их планам на определенное меню. Конечно, они могут есть итальянскую пиццу и пить немецкое пиво, слушая американскую музыку. Сплавление или эклектика для современной культуры общее место. В ядре язычества или его субтрадиций – например, друидизм, германское язычество (Heathenry), масонство (the Craft) – есть несколько ключевых тем, определяющих понимание того, что созвучно и что способствует жизни и ритуалам. Эти темы включают в себя духовность мира сего или «почитание природы», прославление (обычно молчаливое, иногда экстатическое) телесности и поощрение участия. Для язычников вполне возможно обращаться к мертвым как на данный момент ушедшим в другой мир – но те же язычники будут о некоторых умерших говорить как о переродившихся или слившихся с космосом.
Подобным образом язычники могут говорить о «духах» и даже настаивать на том, что намерение (понимаемое как внутренний ментальный акт) предшествует действию. Этим дискурсам также соответствуют физические и телесные действия: духи существуют в качестве деревьев или статуй божеств, а намерение не имеет значения, если не реализуется. Некоторые языческие мероприятия открыты для всех желающих, но даже зарегистрированные в США языческие «церкви» и «конгрегации» обычно имеют больше степеней включенности, чем институты с такими же названиями. В этом и многих других случаях имплицитные и освоенные знания лежат в основании того выбора, который делают отдельные язычники (индивиды или группы), когда оформляют свои праздники, учение и традиции.
Вдобавок к тому возражению, что метафоре «духовного супермаркета» не удается ухватить предсуществующие условия в качестве предпосылок покупательского поведения, она представляет религии как отличные от всякой другой деятельности, имеющей место в рамках модерна. Что именно в религии заставляет некоторых наблюдателей считать эклектизм (если он имеет место) неуместным в религиях? Повторимся, представление о границах между религиями и между религией и остальной культурой очевидно. Кроме того, разговоры о «супермаркете» любопытным образом оторваны от исследований культур дарообмена (см.: Мосс 2011), которые в целом выявляют повсеместность обмена и межкультурных заимствований или сплавов. Подобно тому как исследования живой религии показывают, что «синкретизм» маркирует что-то настолько обычное, что об этом и говорить неинтересно (за исключением тех, кто представляет себе религии иначе), они же могут помочь нам уйти от неадекватной полемики по поводу супермаркетов. Мы не пытаемся запретить критику того, каким образом люди заимствуют и адаптируют, как не поощряем мы и воровство в супермаркетах. Наша цель – указать, что не всякое обучение является присвоением (неправильно понятого к тому же).
Изобретение традиции
С поразительной настойчивостью к ученым, приобретшим известность благодаря их интересу к язычеству, обращаются печатные и не только СМИ с вопросами, в которых проговаривается традиция: ведьмы пользуются черной магией, чтобы вредить другим? Связано ли использование омелы в рождественских украшениях с древними друидскими ритуалами плодородия? Все ли почитатели Одина и Тора расисты? Как и в случае с другими традициями, подобные вопросы задаются с некоторой периодичностью в рамках годичного цикла. В середине зимы и лета наступает время забавных историй о друидах, предпочтительно в белых одеждах в Стоунхендже, или других кругах камней, желательно украшенных таинственным растительным орнаментом. Первого мая и в Хэллоуин всех интересует зловредное ведовство в диких лесах и пригородных садах. День святого Георгия дает возможность обсудить скандинавские, германские и саксонские корни религии.
Легко писать пасквили о навязчивых идеях медиа, но предпочтения ученых не менее предсказуемы и огорчительны. Язычество, как они регулярно утверждают, не является религией, поскольку оно слишком новое и слишком разнообразное. У него нет должной традиции, властных авторитетов, текста или вероучения. Присущий ему индивидуализм позволяет определить его как «духовность», а не «религию». Эрвьё-Леже предполагает, что
не существует религии без эксплицитного, полуэксплицитного или имплицитного провозглашения власти традиции, служащего поддержанию практики веры. В рамках такого подхода «религиозными» именуются все формы веры, подтверждающие сами себя, в первую очередь на основании того, что они претендуют на принадлежность к наследию веры (Hervieu-Leger 2008:256).
Оставив в стороне проблематичное утверждение о том, что религиозные люди должны «верить», а не экспериментировать и верифицировать (высказанное ею тремя страницами выше при определении «веры» как приватной ненаучной формы эмпиризма), отметим, что этот тезис предполагает, будто религии начинаются, когда люди взывают к традиции или наследию. Язычники часто говорят о течениях внутри этого движения как о «путях», а не «деноминациях». То есть это не институты, снабженные постоянными ярлыками, но путешествия по следам других. Они являются традициями или наследием – и это так, даже если язычники не ссылаются на авторитетные источники [этой традиции], моложе ХХ века.
Нетрудно найти примеры того, как язычники намеренно и осознанно занимаются измышлениями, в том числе в цитируемых ими источниках. Знание о том, что Иоло Моргануг (Iolo Morganwg) пришел к своей друидской премудрости в тюрьме в 1786 году, не помешало язычникам-друидам основывать на его работе публичные церемонии «Трон барда» (Harvey 2012a). Более радикальные формы изобретательства включают в себя ритуалы Стар Трек, да и представление о том, что «ведьмы», преследуемые в ранненововременной Европе, принадлежали к языческому культу плодородия (Harvey 2007).
Время рассудит, просуществуют ли эти идеи и практики достаточно продолжительное время, чтобы быть признанными более скептически настроенными из коллег в качестве «традиции». Однажды тот очевидный факт, что все религии выдумываются кем-то и где-то и что формирующееся в результате культурное наследие получает развитие тогда, когда другие видят ценность этих выдумок в качестве способа справиться с современным миром, перестанет быть особенно интересным. Модерн, должно быть, был хорошим временем для изобретения религий или потенциальных религий, но изобретение англиканского христианства начинается лишь тогда, когда архиепископ Кентерберийский узурпирует прежде католический собор в Кентербери.
Таким образом, мое предположение состоит в том, что, хотя и следует обращать внимание на происхождение и эволюцию, не нужно считать «наследие» или «изобретение» понятиями особенно полезными в определении религии.
Этнические религии, этические религии и религии по выбору
То, что и язычники, и исследователи этих традиций определяют данную религию как «религию природы» (nature religion), имеет важные последствия для сравнительного метода. Ожидания (часто обманутые), в соответствии с которыми «религия природы» должна привлекать и поощрять экологический активизм, уже стали предметом серьезных дискуссий (например: Letcher 2000, 2005; Harris 2008; Jamison 2011). Призывы последователей «религии природы» обращать внимание на местную традицию заслуживает дальнейшего рассмотрения (c использованием работ Appadurai 1996:178–199; Knott 2005a; Howell 2011), в особенности в свете мобильности и практикующих ее, и мест притяжения.
Однако следует с осторожностью относиться ко всем нашим категориям, поскольку они перегружены все еще слишком раннемодерновым и теологическим наследием. Я полагаю, обоснованно ожидать, что «религии природы» могут становиться наследуемыми, а не избираемыми традициями; люди будут скорее рождаться в них, чем обращаться. Обратим внимание, что люди довольно часто описывают то, как они стали язычниками, используя понятие «возвращение домой», а не «обращение» – но так говорят приверженцы разных религий. В реальности само представление о том, что есть «этнические религии», в которых люди рождаются, и «религии по выбору», которые люди выбирают, является глубоко ошибочным. Большинство населения Британии продолжает идентифицировать себя как христиан, вне зависимости от того, как, по мнению академиков, это влияет на определение «христианства» или «религии», а также на уровень секуляризации.
Подобным образом, после того как старейшина (которому было за девяносто лет на тот момент) одного из коренных народов объявил в Фейсбуке, что его радует количество его соплеменников, продолжающих почитать традиционную, данную от рождения религию, религию предков, он добавил, что имеет в виду католицизм. Эти краткие замечания о религиозной принадлежности и предпочтениях должны способствовать – как минимум – большей осторожности в обращении с категориями, которые мы используем для сравнения религиозных традиций, или – если быть последовательными – отказу от того, чтобы объединять религии в пресловутые типы. Язычники и последователи других религий редко соответствуют этим типологиям, которые тем самым вполне могут завести наш анализ в тупик.
Исследования язычников
В этой главе я на нескольких классах явлений показал, каким образом исследования язычников демонстрируют неадекватность ряда подходов к изучению религий. В отличие от тех исследователей, которые утверждают, будто смогли устоять перед чарами конфессиональных подходов к религии, я предлагаю еще более радикальный разрыв с риторикой христианских элит. Понятие синкретизма (иногда скрытое за ширмой гибридности) продолжает наполнять жизнью воображаемые «отграниченные религии» и «отграниченную религию» (bounded religion). Заявления, что религия должна быть отделена от секулярного мира, что она может изучаться и быть предметом теоретизирования в отрыве от ее взаимосвязей с другими фрагментами живой реальности, воспроизводят проекты Реформации и Просвещения. Это едва ли можно назвать объективной наукой, но и восклицать «Это теология!» в адрес других – значит маскировать альтернативную ангажированность. Все мы ангажированы той или иной идеологией. Задача нашей дисциплины должна состоять в проверке анализа и интерпретаций всеми доступными средствами. Выбор модернизма в качестве мерила может привести только к заблуждению об отделенности.
Более того, я начал задаваться вопросом, почему некоторые религиоведы считают, что предмет нашего исследования столь радикально отличается от предмета коллег-антропологов, социологов и философов? Почему дебаты во многих дисциплинах могут бросать вызов доминированию модернистских фантазий? Почему наши коллеги в других академических областях вольны искать вдохновение для новаторских идей в диалоге с теми, кого они изучают? Что-то в «религии» заставляет беспокоиться тех, кто претендует на статус представителей науки о религии? Не воспринимается ли теология как угроза именно потому, что, будучи совсем не чуждой проекту модерна, она задает язык и структуру объективизма? Почему так просто обвинять других (язычников, изучающих язычество, христиан, изучающих христианство, буддистов, изучающих буддизм) в пропаганде какого-то мировоззрения, не признавая того, что пропаганда модернизма не многим отличается? В конце концов, не то чтобы модерн – надежный, данный и естественный факт. Он не является чем-то самоочевидным, и для многих его существование так и не стало убедительным. Что в «религии» отличает ее от культуры, литературы, музыки, идей, политики, экономики, кулинарии? Если исследователи всех этих видов деятельности вправе получать от них удовольствие и распространять их (или какие-то их стороны), что же тогда отличает религию?
На протяжении всей книги мы имели дело с двумя проблемами. Первая, которую решить проще, состоит в том, что слишком долго «религия» некорректно определялась как вера в трансцендентное. Но гораздо более серьезная проблема состоит в том, что противопоставление религии и рациональности побудило интеллектуалов модерна прилагать массу усилий на то, чтобы избежать заражения религиозными постулатами. Если вместо этого мы отнесемся к религиям как повседневным практикам (performance), они окажутся не опаснее, чем кулинария или спорт. Религиоведение, возникшее в модерновую эпоху, но часто сопротивлявшееся очарованию модернизма, может помочь нам освободиться и тем самым делать свою научную работу лучше. Таким образом, религия реального мира должна изучаться в реальном мире.
Ни здесь, ни в других работах я не проповедую развенчание модерна. Это и не нужно – «Нового Времени не было» (Латур 2006). Или, возможно, было в форме творчества и бунтарства. Конечно, нет единой, повсеместно принятой формы модерна. Просвещение не было вытеснено бюрократией, интеллектуализмом и рационализмом. Подобные дуальности нежизнеспособны. Вместо этого мы получаем, как всегда, новые гибридности. Возможно, сейчас, вместе с коллегами из других дисциплин, религиоведы смогут примириться с тем фактом, что религиозные люди продолжают сопротивляться (по крайней мере имплицитно) дичайшим фантазиям модерна и смешивают религию с материальностью, отношения с экспериментами и религии – с другими религиями.
В развитии язычества соединилось множество линий. Те решения, к которым пришли язычники, те эксперименты, в которые они пускались, сближают их с другими религиозными людьми и свидетельствуют о том, что религию едва ли следует интерпретировать сквозь призму идеологий Реформации и Просвещения. Конечно, исследования язычества могут внести еще больший вклад в дискуссии о религиях, и это произойдет, когда практикующие язычество люди станут более изощренными и в рефлексии, и в диалоге. Однако мы не продвинемся в понимании религии, если продолжим подчинять его фантазиям об отделенности (между учеными и религиями, между религиями и религиями или между религиями и наукой), как если бы они были естественными и необходимыми.
Глава 11 Христиане практикуют религию так же, как и все остальные
Цель этой сравнительно небольшой главы – показать, что сформулированное мною ранее утверждение, в соответствии с которым христианство не является религией, было ложным. Цель эта, как и задача книги в целом, двойственна. Мы ошибочно определяли христианство как веру и мы подходили к исследованию христианства неверно, пытаясь понять его как веру. Первая ошибка, может быть, и была нами унаследована, но мы несем ответственность за то, что продолжаем ее совершать, совершая вторую.
Что, если бы мы (религиоведы) сделали иудаизм отправной точкой своего проекта понимания, анализа и исследования религии и только после этого приступили к изучению христиан? Что, если бы мы считали обучение, а не веру ключевой практикой, подлежащей исследованию? Если бы живой иудаизм (а не иудаизм, придуманный христианами) был отправной точкой в определении, стали бы мы изучать то, как истории (укорененные в текстах и порождающие тексты) придают форму ежедневным практикам и церемониям, структурирующим мир, подобно тем, что Нойзнер исследовал на примере иудаизма (Neusner 2002:256–260)? Стали бы мы тогда изучать, описывать и включать в лекции сведения о том, как христиане привыкли есть и пить? До какой-то степени мы это уже делаем, отмечая, например, что христианские деноминации нередко различаются не столько доктринами и идеями, сколько стилями лидерства, литургии и ритуалов. Иногда мы уделяем внимание разнообразию христианских практик и образов жизни, связанных с конкретными культурными и географическими контекстами. Но эти усилия сводят на нет исследования «синкретизма»; большая часть наших учебников наследует теологии в идее, согласно которой главным предметом внимания должны быть выдающиеся люди, канонические тексты и правильные доктрины.
Если задать вопрос еще более радикально: что, если бы мы сделали процессы тапу у маори центральными для определения религии? Что, если бы мы искали тапу в Церкви Англии? Было бы, например, проще увидеть, что христианство является религией такой же, как все остальные, если бы мы обращались к тому, что привлекает внимание медиа? Текущие брожения по поводу возможного рукоположения женщин в Церкви Англии имеют куда больше смысла, если полагать, что христианство связано с тем, что люди делают со своими телами и гендером, нежели продолжать считать, что христианство – это вера, связанная с трансцендентным. Язвительность, с которой некоторые британские христиане реагируют на законодательство, которое может принудить Церковь Англии (как бюджетную организацию) заключать однополые браки, также, кажется, свидетельствует о подрываемых табу. Возможно, это идеальный случай для продолжения исследований в духе «Чистоты и опасности» Мэри Дуглас (2000).
Индикаторы инакомыслия
В конце концов, христианство – такая же религия, как остальные. Подобно другим религиям, оно не определяется и никогда не определялось верой и верованиями исчерпывающим и строгим образом. Подобно другим религиям, оно имеет дело с телесностью, пространственностью, действием (performance) и не полностью дуалистично, интериоризировано и индивидуализировано. Несмотря на несомненную мощь процессов расколдовывания, индивидуализации и интериоризации, христиане продолжали участвовать в коллективных действиях, построенных на связях. Чарльз Тейлор правильно идентифицирует продолжающуюся постреформационную тенденцию к «серьезному отношению к религии ‹…› отношению более личному, более набожному, обращенному внутрь, отношению приверженности» (Taylor C. 2008:179). Он равно прав и в том, что связанные друг с другом отношение приверженности (к искренним, глубоко внутренним верованиям) и исповедание (не важно, веры или сомнения и других слабостей) усиливали процессы расколдовывания. Тем не менее, несмотря на резкую риторику и энергичное реформирование религии и общества, люди не прекратили ни совершать ритуалы, ни быть социально связанными с группами, с космосом или с представлениями о благе (о благополучии или достойной жизни в той же мере, что и моральной).
Если в целом справедливо, что «Нового Времени не было» (Латур 2006), возможно, многие христиане среди нас остаются лишь отчасти расколдованными. Возможно, более резистентные или сопротивляющиеся (модернизации) христиане либо остаются полностью околдованными, либо интенсивно перезаколдовываются. Это может объяснять то, что Тейлор пересмотрел свою позицию: он отличает уже не «отграниченные», а «пограничные» «я» от «проницаемых „я“ более раннего околдованного мира» (Taylor 2008:183). В самом деле, даже самый последовательный секулярно и атеистически настроенный затворник продолжает жить в космосе соучастия и взаимодействовать с общим миром. Он может воображать атомизированную индивидуализацию и прикладывать усилия к сверхотделению, но вынужден сталкиваться с реальностью соучастия – поскольку не существует непреодолимых границ. Он жив, поскольку бактерии живут вместе с ним, в нем и за счет его. Он жив, поскольку материя энергетически смешивает и соединяет все наши реальности. Подобным образом, пиетистские движения могут быть классическим примером расколдовывания, но сам факт, что это движения, в которых люди собираются вместе, становятся близки, даже во время проповедей или обмена фантазиями, показывает спектр степеней околдованности.
Если христианство – религия, в которой христиане делают то же, что и другие религиозные люди (например, совершают ритуалы, общаются, потребляя или отказываясь от потребления, торжествуют единство, тем самым усиливая отличия, прибегают к услугам ритуальных специалистов и других виртуозов), его можно изучать так же, как другие религии. Тем важнее те исследования, которые показывают, как это можно делать. Хотя слишком многие работы о христианах навязчиво воспроизводят воображение и проекты теологических, ориентированных на тексты элит, очевидно, что эти стороны христианства (т. е. веру и трансцендентное) можно представить на уровне теории не как определяющие «религию», но как определяющие конкретные механизмы в рамках специфической религии. В этой главе я предлагаю несколько примеров анализа и теорий, возникших из интереса ученых к историческому и/или современному христианству в живой реальности и/или как повседневности. Одна из сложностей такого подхода – необходимость использовать (английский) язык, насыщенный интериоризацией, индивидуализацией и антропоцентризмом для того, чтобы говорить о реальном мире. Тем не менее стоит опробовать этот эксперимент.
Обсуждение различий
В серии работ Томас Чордаш описывает жизнь и деятельность христиан-харизматов и задает новые направления академическим дискуссиям и анализу. Его труд блестяще освещает тему телесности и различий (см.: Csordas 1994, 1997, 2004) и последовательно показывает, что религия (и жизнь в целом) с необходимостью межтелесна (intercorporeal) и интерсубъективна (Csordas 2008). Другими словами, поскольку материальность и различие являются базовыми чертами космической реальности, они с необходимостью и порой намеренно оказываются в центре социальной, политической и религиозной жизни человека. Чордаш предлагает рассмотреть переплетенность и спутанность (мои термины, с помощью которых я пытаюсь выразить то, что некоторые вещи смешаны по ошибке, а другие намеренно) различных сторон жизни. Очевидное бурление (effervescence)[58], присущее мероприятиям христиан-харизматов, обрамленное католическим или пятидесятническим наследием, свидетельствует об удивительной напряженности между воображением и близостью (intimacy). В церемониях исцеления харизматы призывают могущественного другого (Иисуса или Деву Марию), визуализируя их близкое и ощутимое присутствие и целительную силу. Они приобретают знание о самих себе и обретают власть рассматривать новые возможности.
Работы Чордаша посвящены этому и многому другому, но я ссылаюсь на них не из?за содержащихся в них провокационных и плодотворных теоретических построений (весьма воодушевляющих, надо сказать, и не потому, что автор говорит: «То, что я пишу, не имеет никакого отношения к вере» – Csordas 2004:183), но из?за того, с каким невероятным вниманием он обращается к практикам (performances) и живой реальности христианской жизни. Он пишет не только о драматических церемониях и занятных идеях, но приводит примеры различий в повседневном сокровенном освоении привычек молитвы и повседневном сокровенном отказе от алкоголя и других (табуированных) субстанций (Csordas 1994).
Наблюдение и воздержание
Хотя между средневековым и современным миром существует масса отличий, обозначаемых понятиями «Реформация», «Религиозные войны», «Просвещение», есть и любопытная преемственность. Монастыри остаются местами, в которых люди предают себя и божественному, и собственному наблюдению. Талал Асад пишет:
Формирование и трансформация моральных установок (христианских добродетелей) зависела от чего-то большего, чем от способностей воображения, восприятия, имитации… Она требовала особой программы дисциплинарных практик. Ритуалы, предписанные такой программой… должны были сконструировать и реорганизовать отдельные эмоции – страсть (cupiditas/caritas), смирение (humilitas), раскаяние (contrition) – от которых зависела ключевая христианская добродетель послушания богу (Asad 1993:134).
Важно, что «ритуалы» здесь включают в себя не только церемонии в церкви, но и ручной труд в саду, на кухне и т. п. Тела и души (до той степени, до которой этот дуализм характерен для монахов) подвергаются воспитанию, a не просто ограничениям и подавлению. Практики узаконенных «технологий себя» и в особенности наблюдения себя (Фуко 2008) оформляют реализованные в телесности и пространстве практики (performance) христианской элиты. В то время как не предполагалось, что другие христиане должны или могут следовать монашеским правилам, от них, без сомнения, ожидалось намерение так перестроить свою жизнь, чтобы стать более богоугодными в поступках, фантазиях, желаниях, знаниях и деятельности. Густаво Лудуэнья показывает, насколько некоторые из этих практик и ход мысли актуальны для сегодняшнего латиноамериканского монастыря (Luduena 2005). Он попытался понять монашеский орден, практикующий обет молчания, начав придерживаться слегка облегченных правил «ретрита», проживая там в качестве гостя, и этим сообщил невероятно много о том, как посредством внимательных упражнений оформляется габитус (Bourdieu 1977). Он также размышляет о допустимости в научной практике отстраненного, но внимательного участия.
Табу, напряженность и трансгрессия, окружающие сексуальность, могут быть наиболее заметны в практике (performance) священства. Исследуя то, каким образом обязанности священников в алтаре взаимодействуют с телесностью, Лиз Стюарт ясно показывает, какие возможности открывают «стертые» сексуальность и гендер (Stuart 2009). Усилия по внедрению этих фантазий в реальность дают еще больше примеров общинного и личного воспитания, наблюдения и труда. Напротив, сообщения в СМИ и судебные разбирательства о сексуальных домогательствах клириков свидетельствуют о нарушении запретов, равно как и множество неудачных попыток церкви и других властных органов использовать информацию, полученную в процессе наблюдения и исповеди. Все это напоминает идеи Дуглас о том, что разногласия по поводу воображаемых общиной и культурой границ часто проявляют себя в телах и/или представлениях о телах (Дуглас 2000). Обсуждение вопросов, связанных с «запретами», наряду с «жертвоприношением» также созвучно тому, что писал Жирар о религиозном насилии (Жирар 2000; Girard 2004).
Аскетизму не чужды и протестантские христианства. Кёрнер, рассматривая лютеранские церкви, намеренно построенные так, чтобы быть местами, предназначенными исключительно для собраний и проповеди, приводит пример ранней протестантской перестройки телесности для гармонизации с желаемым или провозглашаемым образом жизни (Koerner 2005). Можно также отследить усиливавшиеся попытки кальвинистов практиковать запреты, например, привлекшие внимание Макса Вебера (Вебер 2016). Более свежие материальные свидетельства и данные, касающиеся практик (performative), были собраны Мэри Гриффит в ее исследовании «Вновь рожденные тела», в котором она показывает, как женщины, входящие в общины евангельских христиан, стремятся соответствовать стандартам, навязываемым индустрией красоты, диеты и фитнеса, и дистанцируются от «излишеств, связанных с не-белой культурой» (Griffith 2004:225). Это становится возможным и не является отклонением, поскольку существует традиция (не всегда признаваемая или даже знакомая тем, кто ее придерживается) практик, приуменьшающих гендер. Сексуальные табу распространяются среди американских евангеликов вместе с расширением контроля над девственностью и воздержанием, отражающимися в публичных заявлениях и предметах материальной культуры, например «кольцах целомудрия» или «Silver Ring Thing»[59].
Содействие, миграция и сопротивление
Христианство, как и все живые религии, в своем развитии реагирует и адаптируется к влияниям внешней среды, религиозным и не только. Когда религиозные люди мигрируют, они переносят с собой свои привычные обычаи, однако осваивают новые или же воздерживаются от них, в зависимости от того, удовлетворяет или отталкивает их то, с чем они имеют дело. Исследования христианства, в которых традиция «основателя, текста, вероучения и институтов» всегда оказывается в привилегированном положении, обычно такие вещи ухватывают плохо, заставляя думать, что верования, определяющие христианство, слабо выражаются в народных (popular) практиках.
Напротив, исследования латиноамериканских, африканских и других «не западных» христианских сообществ и образов жизни открывают гораздо более богатую картину. Исследования христианских меньшинств и/или мигрантов часто особенно ценны, поскольку описывают невероятную устойчивость живой религии (Orsi 1997:15). Например, богатый этнографический материал, собранный Томасом Твидом о кубинских мигрантах в Майами (Tweed 1997), является отличным фундаментом для сформулированной им позднее теории, посвященной текучей динамике и религии, и религиоведения (Tweed 2005, 2006). Схожим образом Чарли Томпсон описывает говорящих на хакальтекском языке майя (из Гватемалы, мигрирующих оттуда в Мексику и США) и взаимодействия, объединяющие почитание местной Девы Марии и исполнение танцев, которые помнят испанскую Конкисту и остаются формой сопротивления продолжающемуся колониализму (Thompson 2000, 2001, 2005).
Другой достойный упоминания пример ценного исследования, посвященного миграции христианских меньшинств, предоставляет Васкес, когда борется с искушением рассматривать локальный опыт «пространственности» («emplacement») как целиком и полностью позитивный и гармоничный и вместо этого пишет о «господстве и сопротивлении» (Vasquez 2011:261–290). Он рассматривает всевозможные многозначные трения и однозначное давление в реальной жизни и живой религиозной практике, не забывая и о незаметных, и о вполне заметных действиях по сопротивлению, которые часто выпадают из зоны контроля или сакрализации религиозных иерархий. Живое христианство – сложный, не отграниченный от других феномен, и едва ли его можно ухватить в одном исследовании. Объединение усилий по знакомству студентов с этим христианством (а не с той версией, которая является продуктом воображения элит, версией с претензией на чистейшую текстуальную родословную) может оказаться непростым делом, но должно продемонстрировать то огромное значение, которое для нашей дисциплины имеет умение говорить о реальном мире.
Вернакулярная и викарная религии
Примиано открыто заявляет, что он ввел термин «вернакулярная религия» (Primiano 1995, 2012) для того, чтобы подчеркнуть необходимость и важность изучения живой религии, которая единственно и существует. Те, кто использует этот термин для того, чтобы отделить религиозные действия «мирян» или «обычных людей» от действий религиозных лидеров, несмотря на недвусмысленность заявлений Примиано, поняли его неправильно. То, что делает папа или далай-лама, даже если они делают одно и то же каждый день и даже если они делают ровно то же, что и их предшественники, составляет живую религию. Это вернакулярная религиозная практика. Это религия как она практикуется сегодня. Книга «Епископы, жены и дети» созвучна этому подходу (Davies&Guest 2007): анализируя процессы «передачи, модификации, принятия и исключения» христианской традиции, авторы обращаются к обыденной жизни епископов, их семьям и социальным связям: это тщательное эмпирическое исследование реальных жизней показывает, что христианство – телесная, пространственная, меняющаяся, повседневная, вернакулярная практика.
Настоящие различия тем не менее обозначаются понятиями вроде «клирики» и «миряне», «проповедник» и «собрание». Мы не утверждаем, что любой из групп, идентифицированной каким-то из этих ярлыков, следует отдавать предпочтение в определении их религии. Христианство, как и другие религии, – это то, что делают люди. Однако частью того, что христиане, как и последователи других религий, делают, является то, что они приглашают кого-то проводить церемонии, учить историям и поощрять соблюдение табу. Как и повсюду, кому-то выпадает труд проживать особую или необычную жизнь, чтобы другие, зная, что ритуалы совершаются, а подчиненная запретам жизнь проживается, смогли жить менее истовой или ритуализированной жизнью. Это часть более широкого явления, которое можно обозначить предложенным Грейс Дэйви термином «викарная» (или заместительная) религия, т. е. «религия, исполняемая (performed) меньшинством от лица большинства, которое (по крайней мере имплицитно) не только понимает, но и явно одобряет действия меньшинства» (Davie 2002:46, 2010).
Дэйви имеет в виду не только группу, нанимающую клириков. Она пытается определить ситуацию, когда те, кто редко посещает (не говоря уже об участии) церковные церемонии, с готовностью поддерживают церковные институты. Европейцы, которые платят церковный налог и которые могут легко отказаться это делать, – хороший пример такого явления. Подобным образом примерно 59,3 процента населения Англии и Уэльса назвали себя христианами, добровольно заявив об этом в переписи населения 2011 года (Office of National Statistics 2012), тем самым выразив свое желание сохранять христианские институты.
Другая замечательная формулировка Дэйви, «вера без принадлежности» (Davie 1990, 1994), помещает «заместительно религиозных» в более широкий круг тех, кто продолжает утвердительно отвечать на вопрос типа «Верите ли вы в бога?», но предполагает, что «не нужно ходить в церковь, чтобы быть христианином». Некоторые из них, конечно, «лелеют» существование и доступность церквей (и как зданий, и как конгрегаций), хотят, чтобы они «были рядом, отчасти в память о предках, отчасти в качестве ресурса на случай будущих нужд (например, в обрядах перехода, особенно похоронных, или в источнике комфорта и ориентирования в случае коллективной трагедии)» (Taylor C. 2008:224).
Возможно, это хорошо выразила Эбби Дей во фразе «вера в принадлежность» (Day 2009, 2011). В понимании Дэйви, «заместительная религия» – новая набирающая силу тенденция, которую сделало возможной «секулярное» отделение религии от публичной жизни. Однако в ней наблюдается преемственность с совершенно традиционной практикой, а именно ожиданием того, что меньшинство будет совершать церемонии от лица большинства. Вообще, возможно, что самый естественный и наиболее массовый способ быть христианином всегда был таким, какой Янг называет «диффузным» (Yang 1967:20), а Джеффри Кокс и Джон Вольф «диффузивным» (Cox 1982; Wolffe 1994). Возможно также, что «гражданская религия» Роберта Белла (Bellah 1967) – в особенности в том виде, в каком эту идею разработали Джеральд Парсонс применительно к Сиене (Parsons 2004, 2008) и Пол Джонсон к страшным событиям в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года (Johnson 2005), – именует господствующую форму того, как именно религия всегда практиковалась людьми, а не исключительно современное положение дел.
Верователи
Хотя верование (belief) и вера (believing) не определяют религию, они являются важными аспектами деятельности христиан. Однако для того, чтобы понять веру как то, что делают христиане, следует отучиться думать о вере исключительно в связи с постулатами, идеями, внутренним миром, субъективностью. Скорее, следует думать о вере как еще об одном роде взаимодействия. Де Серто, приводя интересный ряд авторитетных цитат в поддержку его утверждения о том, что верование является тем, что люди делают, пишет:
Вера, в отрыве от действия, которое ее утверждает, рассматриваемая как «ментальное состояние», получила исчерпывающее негативное определение как отношение к тому, что никто не знает и не видит, другими словами, как иное по отношению к знанию и чувствам (de Сerteau 1985:198).
Вера, впрочем, может исследоваться как действие, в особенности как такое действие, которое порождает дальнейшие действия, когда мы обращаем внимание на то, каким образом люди учатся быть верующими. Например, в различных типах христианства, в которых вера имеет существенное значение, люди не только изучают объекты веры (например, божество, чудеса, спасение), но также, что более важно, они учатся выполнять (enact) веровательство (belief-ing). Этот неуклюжий термин я использую для того, чтобы поспособствовать моему собственному ментальному упражнению – не думать, что верование происходит «внутри» людей. Веровательство – практика или деятельность, которой необходимо обучить и которая должна надлежащим образом выполняться (performed) в конкретных христианских группах, поскольку имеют место различия в том, как именно люди имеют верования (do belief). Пятидесятники, например, учат слова, чтобы публично говорить о веровательстве и верованиях, и, говоря (или «свидетельствуя»), они становятся пятидесятниками (Seamone 2013). Близость между неофитами движения и существующими собраниями верующих требует изучения сценариев и правил свидетельствования. Воображаемое сообщество верных становится группой близких людей, по мере того как они действуют совместно – говорят и слушают так, как это считается уместным. Вступить в собрание и быть признанным – процесс взаимного создания веры и создания верующих (make-believing and make-believers).
Если учесть, что специфика веры и верования любой христианской группы не должны применяться для описания других традиций, а также что – как утверждалось в главе 3 – вера не является определяющей для религии, а только для отдельных видов христианства, схожие процессы наблюдаются повсеместно. Иудеи, язычники, буддисты, маори и другие изучают надлежащие способы говорить и действовать, которые показывают, что они находятся в тесном кругу желанного сообщества. Таким образом, в изучении религии следует обращать внимание не только на специфическое содержание локально значимых дискурса и практики (performance), но также на общие процессы обучения и дополнения, в ходе которых люди разделяют способ практики религии с другими.
Христианство как материальность
В главе 3 я обратил внимание на то, как проведенный Каролин Уокер Байнам анализ позднесредневековой христианской материальности помогает поставить под сомнение леви-строссовское противопоставление культуры/природы. Не сомневаясь в том, что туземцы-пуэрториканцы подвергли испытанию гуманность европейцев, наблюдая за разложением их тел, или что испанцы совещались, обсуждая свидетельства в пользу того, могут «дикари» верить или нет, я нахожу это противопоставление все же чересчур сильным, жестким и спорным. Байнам пишет:
Проблемой для средневековых верующих и интеллектуалов – и сомневавшихся, и искренне веровавших – было изменение: не линии между личностью и предметом или между жизнью и смертью, но разделения между тем чтo есть нечто (идентичность), и его неизбежным движением к смерти (Bynum 2011:284).
Это близко к тому, как Леви-Стросс представляет позицию пуэрториканцев, а не испанцев. Байнам подробно описывает, как позднесредневековые христиане (клирики и миряне, реформаты и ортодоксы) часто были глубоко озабочены и мотивированы на борьбу с материальностью. Она показывает, что эта озабоченность материей пронизывала всю эпоху. Она приходит к выводу, в соответствии с которым «высокомерие – и тревогу – в отношении материальности, обнаруживаемые в религиозном дискурсе и поведении, можно также заметить в научной мысли и простонародной литературе» (Ibid 271).
Возможно, совещания испанцев, описанные Леви-Строссом, являют собой не стабильное или системное отличие от пуэрто-риканских туземцев, но момент перехода от позднего Средневековья к раннему Новому времени. Тем не менее в каждый период истории христианства от поздней Античности до наших дней весьма многочисленны свидетельства того, что интерес к материальному имел центральный, определяющий характер. Этот интерес нельзя назвать статичным, а высокомерие и тревогу постоянными. Байнам хорошо показывает, что этот парадокс знаком христианам позднего Средневековья. Вероятно, реформаторы (и католики, и протестанты) пытались разрешить такого рода сложности, подчеркивая значение внутреннего, субъективности и, в наибольшей степени, веры. Тем не менее в каждый период вера в воплощенного бога, обещавшего телесное воскрешение, примешивалась к интересу христиан к трансцендентному и имманентному, душе и телу, духовным и материальным выгодам (например, спасению и исцелению), сверхъестественному и чувственному способам существования в мире.
Есть, конечно, что-то глубоко нелепое в представлении, что христианство не интересуется телами и вещами. Огромные публичные объекты, например великие соборы (массивные, даже если они создают впечатление легкости), и организация городов и пространств вокруг них тому пример. Маленькие частные объекты – религиозные открытки и аннотированные библии – также подтверждают это. Свидетельства невероятной телесности христианства в последнее время стали ключевой темой научных исследований. Вот замечательные тому примеры: «Власть и интимность на христианских Филиппинах» (Cannell 1999) и «Антропология христианства» (Cannell 2006), «Епископы, жены и дети» (Davies&Guest 2007), «Глобализация харизматического христианства» (Coleman 2007), «Современные христиане: свобода и фетиш во встрече миссии» (Keane 2007), «Политические духовности» (Marshall 2009). Каждое из этих исследований посвящено частной предметной области, но вместе они складываются в картину, которая показывает, что вера – это деятельностные (performative), пространственные, материальные и материализующие отношения, компетенция и опыт. Христианство, как и другие религии, – это дисциплина телесности и вещественности, опосредованная телами и предметами.
Выигрышные позиции
Глава 3 основывалась на тезисе, что если христианство исчерпывается исключительно верованиями, то оно уникально. А если оно уникально, значит, либо это единственная религия, либо вовсе не религия. Следовательно, либо действительным предметом религиоведения является христианство и те явления, которые ему уподобились (протестантский буддизм, протестантское язычество и т. п.), либо христианство следует просто игнорировать. Однако настоящая глава такой взгляд опровергает и демонстрирует, что в реальности христианство не исчерпывается верованиями. По меньшей мере оно не исчерпывается верой как внутренним, личным, индивидуальным опытом принятия некой истины. Разновидности христианства (и схожие традиции, испытавшие влияние протестантизма) могут делать акцент на вере и таким образом. Однако даже и они связаны не столько с верой, сколько с действом (performing) утверждения, верности и свидетельства. Иными словами, они имеют отношение к публичному исповеданию веры, к отношениям доверия. Это поиск большей близости с другими. Это упорядоченный способ поведения среди других, с которыми хочется соединиться, в отличие от тех, чье поведение кажется иным.
Христианство как образ жизни или даже набор действий (performances) выглядит иначе, если к нему подходить не как к системе верований, имеющих источником авторитетные тексты и учителей, а как к чему-то, что в большей степени похоже на другие религии. Живое христианство может, как и другие религии, изучаться как телесное, пространственное, деятельностное (performative), материальное и пронизанное отношениями поведение. Такое христианство – плюральный (если не плюралистичный) феномен. Подобно тому как некоторые разновидности иудаизма не принимаются за иудаизм некоторыми иудеями, некоторые виды христианства кажутся чрезвычайно странными с неких привилегированных внутри самого христианства позиций. Что нам необходимо, так это приложить усилия и прекратить воспринимать привилегированные позиции так, как если бы они предлагали объективную, неопровержимую, универсальную и неизменно корректную точку зрения. К каким бы негативным последствиям не привело признание христианства вероучением, а веры в трансцендентное – определяющим для религии, практикам научного исследования более всего навредило нелепое подражательство предположительно объективному божеству. Наше взаимодействие с локальными сообществами, которое наращивает близость и исключает незнакомцев, которое способствует распространению и проверке (словесно или церемониально) воображаемых возможностей, предоставляет важные данные для дальнейшего обсуждения, построения и проверки теорий.
Волнующий аспект будущего проекта – увидеть, что же случится, если мы перестанем использовать ошибочную модель христианства не только в качестве шаблона для представления религии или религий, но и в качестве шаблона для научной практики. Слишком многие из нас являются «верующими в веру» (Latour 2010), но ведем себя мы по-разному. Исследования живого христианства показывают, сколь драматичными и впечатляющими могут быть результаты. И это не только значит, что мы можем экспериментировать с изучением христианства через призму дхармы, дин, галаха или табу, но и то, что христианство может обернуться еще одним «где-то там». Происходящая в его рамках теоретизация дисциплинарной взаимосвязанности в многовидовом мире может пролить свет и на соседние религии.
Глава 12 Религия – этикет реального мира
Религия сформировалась в материальном мире связей. Недавний эксперимент человека по сверхотделению мог увести исследователей религии в ложную сторону, но нельзя сказать, чтобы он разительно изменил траекторию самой практики религии. Вероятно, наилучшим образом религии наблюдаются в коллективных ритуалах, и как различные формы сопротивления модерну, и как многообразные способы ему соответствовать. Элементы религии, связанные с обучением одних людей другими, возникают с необходимостью, поскольку человек должен быть оформлен и реформирован, чтобы соответствовать тому образу, который локально воспринимается как должный. Именно так создаются личности и сообщества. Но ритуалы и практики обучения не должны исследоваться в изоляции от повседневной жизни. Подобно тому как жизнь не может быть разделена на светскую и духовную фазы, религия распределена по всей деятельности людей. Она интегрирована в повседневные взаимодействия людей в многовидовом материальном мире связей.
Исследования иллюзий
Понимание религии в значительной степени усложняется тем, что мы запутались, в какой же именно модерности живем. По сути, никогда не существовало чистой модерности и мы никогда не были полностью современными. Мы, впрочем, очень старались. Подобным образом мы никогда не были полностью расколдованными, но поддались частной разновидности рационализма. Мы вообразили себя оторванными от собственных тел, сообществ и мест. Это справедливо и для людей в целом, но есть некоторые сугубо академические фантазии, укорененные в этой общей верности частным разновидностям модернизма. Слишком часто мы, ученые, приписывали себе объективность, претендовали на возможность анализировать объекты (личности, материальные артефакты или внутренний мир), не будучи при этом вовлечены во взаимодействия и взаимосвязи с ними. В реальности невозможно избежать соучастия или взаимодействия. Наши усилия, направленные на объективацию и нормализацию мира, в то же время предполагают подавление нашей включенности в связи. Воображая возможную отделенность, мы отчасти делаем ее телесной и пространственной. Мы проводим исследования и преподаем, стараясь навязать выдуманный модерновый мир соучастному и материальному миру близости и связей. Тем самым мы исследуем только фрагмент реального мира. Во многом мы исследуем измышления нашего модернового разума.
Исследование двойной фикции – наших вымыслов по поводу выдуманной реальности – не требует от нас преодоления ограничений, свойственных каждой конкретной точке зрения. Риторику, к которой обычно обращаются религиоведы с тем, чтобы отличить себя от теологов, кажется, проще заявить, чем освоить. Вера, субъективность, внутренние персональные переживания и другие моменты, приобретшие особое значение во время Реформации и в раннем Новом времени, продолжают оформлять преподавание и исследования, вне зависимости от того, где или среди кого мы работаем. Эта критика хорошо известна, но воспроизводится снова и снова, поскольку удовлетворительное решение так и не было достигнуто. Закрытие кафедр религиоведения (religious studies), существовавших под разными названиями, лишь уменьшает количество ученых, стремящихся понять и обсудить, что «религия» значит в современном мире. Несмотря на разглагольствования тех, кому так и не удалось осознать, что их секуляризм в значительной степени является продуктом перестройки мира в эпоху Реформации, самые разные явления успешно маркируются как религия. Есть нечто, что нуждается в определении и обсуждении, коль скоро люди утверждают, что идентифицируют себя с религией, а также с этносом, гендером, возрастом, политической программой и т. д.
В предыдущих главах я преследовал две цели. Во-первых, искал «где-то там» данные, необходимые для пересмотра определения религии. Во-вторых, я рассчитывал внести свою лепту в размышления о том, каким мог бы быть подход к изучению и преподаванию религии в реальном мире. Оба этих вопроса связаны с моими сомнениями в том, что религия так уж отличается от других феноменов, изучаемых учеными. И она не должна требовать столь специфической акробатики, не позволяющей ею заразиться. Могут ли очевидные признаки фобии или враждебности выдавать что-то кроме подавляемого осознания того, что практики и самоосмысление представителей академической науки оформлены еврохристианской культурой? Если лучшее, на что при всем его позерстве способно самопровозглашенное научное религиоведение, – множить споры о верованиях (идеологии, постулировании, иррациональности) и трансцендентном (метафизические или не-эмпирические фантазии; культура, отделенная от природы, или наоборот), недалеко же оно продвинулось.
Перехват инициативы
Приятно осознавать, что есть много способов быть современными. Точно так же, как современным йоруба свойствен анимистический материализм, а современные язычники с помощью ритуалов борются с расколдовыванием, так и современные ученые могут действовать по-другому. Есть масса признаков хорошего исследования, которое приведет к лучшему пониманию и интересным дискуссиям. Внимание ученых-феминистов к гендерной реальности религиозной практики и риторики продолжает движение в этом направлении. Постколониальные вызовы доминирующим формам науки обогатили рефлексию по поводу более справедливых и аккуратных теорий живой реальности (например: Connell 2007; Tuhiwai Smith 2012). Обращения к практике (performance) и материальной культуре значительно продвинули существующие описания вернакулярной религии. Исследования среди коренных народов закрепили смещение фокуса на не-сверхъестественной религии, характерной для большинства религиозных людей. Помещение таких религиозных фантазий, как основатели, тексты, догмы, в контекст перформативной, материализующей, взаимосвязанной близости религиозной жизни способствует лучшему пониманию того, что именно люди делают, когда они участвуют в религиях и соответствующих практиках.
Как отмечалось в главе 3, когда комиссии католических инквизиторов пытались разобраться, являются ли коренные народы Америк людьми, одним из признаков было свидетельство наличия религии. Для европейцев «истинной религией» было самоочевидно христианство, но что-то похожее на него могло стать признаком, что люди могут быть обращены. Позже миссионеры в Австралии пытались найти в культуре аборигенов что-то наподобие христианства. Не преуспев в этом, некоторые отправились в Аотеароа, попытать удачу среди маори. В этом и подобных случаях иметь религию означало верить во что-то или в кого-то похожего на христианского бога, обладать учением и способами его передачи, участвовать в ритуалах для не секулярных целей. В Викторианскую эпоху морализаторство стало даже более важным, чем исполнение ритуала, и заменило его в качестве признака религии. Не было нужды определять религии иначе, чем «нечто наподобие христианства», поскольку модерновое христианство сменило до-модерновое в качестве модели «религии». Тем не менее «модерновое» христианство продолжало акцентировать разновидности внутренних состояний, наделенные ценностью в раннемодерновом проекте по возвышению недавно возникшего государства.
Большая часть учебников, используемых в старшей школе и университетах для знакомства студентов с религией, по-прежнему исходят из того, что христианство в большей степени соответствует определению религии, чем любое другое явление. Это естественно провоцирует многих религиоведов решительно отбрасывать сложившуюся в результате парадигму «мировых религий». Другие схожим образом выступают против встречающихся в подобных учебных программах признаков теологической ангажированности. Основатели, тексты, символы веры и фантазии элит продолжают определять то, как изучаются все религии. Вторичность «выражений веры» привносит в общую картину нарративы о разнообразии, деградации или возрождении, синкретизме или популяризации. В результате студенты приобретают протестантский взгляд на буддизм, джайнизм, иудаизм, язычество и все прочие религии. Такая версия этих религий в наибольшей степени отвечает запросам государственной идеологии модерна. Студенты учатся понимать протестантские, адаптированные под модерн версии этих религий, оставаясь в неведении или недоумении касательно религий, не являющихся вероучениями.
«Секс, еда и незнакомцы» – моя попытка перехватить инициативу у подобного изучения вероучений. Я предполагал, что после введения «религии» в диалог с табу, галахой или бимаадизивин наше ее понимание обретет большую глубину и полноту. Помещая предположительно религиозные практики (performances) в другие рамки, «где-то там» сформированные развитием отношений и близости, я лелеял надежду, что мы сможем более ясно понять их сходства и различия. Я не предполагаю, что мы втискиваем локальные факты в системы, сложившиеся где-то еще. Такое впихивание материала в форму, которую задает дхарма, дин или любой другой из тысяч локальных терминов, служило бы лишь негативным целям в полемике. Однако, осознав, что «вера в бога» не сослужит нам хорошей службы, мы должны предложить что-то лучшее, чем определение религии через «не-эмпиризм». Таким же образом понимание того, что люди имеют в виду под табу, бимаадизивин, галахой, дхармой и т. д., может помочь нам исследовать живую религию более эффективно и интересно. Мы также можем заметить какие-то аспекты и действия, которым не уделялось достаточно внимания.
Следовательно, попытка перехватить инициативу не ограничивается вызовом господству христианских теологических тем в определении возможного предметного поля наших исследований. Более сложная задача – осмыслить влияние христианства и его модерна на подходы и методы, которые мы привыкли считать критическими. Тот факт, что «секулярное» является аспектом постреформационного проекта по распространению модернистского подхода к жизни и поведению, должен был бы предупредить нас об опасности чрезмерного отделения религии от других сфер деятельности. Вместо этого мы продвинулись куда дальше и вообразили себя в образе предположительно всеведущего христианского бога. Мы представили себя способными быть полностью объективными и всезнающими, как если бы были в состоянии хотя бы один эксперимент провести без субъективного вмешательства. Так, пока некоторые из нас критиковали других за теологичность, почти все мы превозносили христианскую идею научной безупречности и всеведения.
Пытаясь совершить такой «божественный трюк» (god-trick, Haraway 1991:189), мы пытались понять внутренний мир людей (душу, разум, эмоции, намерения, желания, веру), представляя их и себя как сверхотделенных индивидов в дуалистическом мире. Это отчасти связано с тем, что у нас есть ничем не обоснованное представление о себе как разуме, наблюдающем отдельные факты. Что важнее, мы не оценили еще в полной мере все открывающиеся возможности взгляда на людей как взаимосвязанных существ в взаимосвязанном космосе. Нам не удалось проследовать за Дарвином в живой мир связей. Настало время двигаться. Из предположения, что наш мир основан на связях, а не на картезианстве, следует множество вывода. Вот четыре самых важных из них:
• Этот мир населен только социальными существами.
• Наша (людей) первая необходимость – договариваться с другими личностями (большинство из которых не является людьми).
• Преимущественно переговоры имеют целью уважение или противостояние.
• Наиболее значимый исход переговоров – открытость к дальнейшим отношениям.
Мы вернемся к этим допущениям ближе к концу заключения.
Демонстрируя, что ритуал доходит «до мозга костей», Рональд Граймс утверждает, что «обыденные действия, практикуемые необыденным образом, вскрываются, трансформируя привычные стереотипы и являя самое желанное, самое космически значимое и наиболее человеческое» (Grimes 2000:346). Но даже регулярное повторение обыденных действий обычными способами формирует привычки, которые составляют габитус (Bourdieu 1977, 1984)[60], вводят людей в локально приемлемые способы существовать или становиться личностью. Определение религии, позволяющее нам исследовать нечто в реальном мире, должно вобрать свойственную ей взаимосвязанность, деятельностность (performativity), материальность, текучесть и локальность. Это, безусловно, не означает, что религиозные люди должны понимать мир или относиться к миру каким-то особым образом (отличным от того, который они определяют для себя и своих близких). Скорее, это допущение относится к академической практике и ее инструментам. Полезные подходы к исследованию и преподаванию религии, такой, какая практикуется реальными людьми, требуют дальнейших усилий по погружению в материальный, деятельностный (performative), взаимосвязанный космос и по определению того, как религии работают в реальном мире. Вместе такое определение и такой подход дадут возможность перехватить инициативу и оказаться «где-то там».
Наука реального мира
В предыдущей главе я поставил вопрос, что именно в «религии» делает ее такой особенной – нечистой, заразной, подозрительной, опасной, развращающей – настолько, что некоторые ученые настаивают, что она не является надлежащим предметом для исследования. Они ведь не говорят, что не должны изучаться политика, гендер, сексуальность, война или приготовление пищи. Не воображают ли они, что из?за того, что религия является двойником их собственной якобы секулярности, исследовать ее (или преподавать) – значит подрывать их нестабильную рационалистическую объективность? Действительно ли религия опаснее многого из того, с помощью чего люди могут определять себя? Или религия просто слишком странная (queer)? Есть ли у исследования религии возможность развенчать ту наигранность, с которой провозглашается отделенность исследователей от религии и, о ужас, тем самым показать, что все возможные формы такой отделенности вымышленны? Думают ли наши коллеги, что дестабилизация дихотомии религия/секулярное может привести к опасным восстаниям против государства? Эти кажущиеся возможными, но бесполезные фантазии ограничивают возможность науки обращаться к реальности. Пока одни продолжают восклицать «Мы не теологи!», исключая возможность того, что в реальности «на самом-то деле мы так и не сумели стать полностью современными»[61], другим удалось по-новому взглянуть на мир. Или, по меньшей мере, если мой энтузиазм помог мне воспринять работы моих коллег так, как они не рассчитывали, отмечу только, что в этом случае академические исследования уже делаются по-новому.
На кафедрах музыковедения не собираются композиторы, кафедры перформативных исследований (performance studies) не переполнены танцорами и актерами, а литературоведением занимаются не только писатели. Однако коллеги из этих областей, видимо, признают позитивную ценность какой-то формы участия – для себя, коллег или студентов. Некоторые антропологи и физики тем временем признали, что большая включенность не только полезна, не только необходима, но даже неизбежна. Во многом вдохновившись тем, насколько некоторые авторы, например Мануэль Васкес, и внимательно, и настойчиво исследуют вселенную соучастия, я хочу подкрепить свои умозрительные попытки понять, что значит заниматься наукой в реальном мире.
Карен Барад пишет, что
теории – это не наборы свободно парящих идей, но специфические материальные практики по продолжающемуся меж-действующему включению себя в мир, и в таком качестве эмпирически они являются открытыми и восприимчивыми. То есть они всегда являются частью того, что происходит в мире в его бесконечной открытости и восприимчивости. Почему же мы хотим от него другого? Почему мы вообще можем пожелать отгородиться теориями от мира? (Barad 2011:4–5).
Почему? Потому что мы выдумали себя и мир иначе. Мы продолжаем думать о науке иначе. Игнорируя все средства опосредования, мы воображаем науку как поиск неопосредованного знания (Lаtour 2010). Барад, однако, настаивает на том, что исследование – это что-то, что для нас представляет собой «поиск понимания мира изнутри и с точки зрения его части» (Barad 2008:88). Если мир и космос, как полагает Барад, пронизаны связями, тогда отличия, которыми мы навязчиво разъединяем эти взаимосвязи, становятся препятствиями для вовлеченности и, следовательно, понимания. Предложение Барад состоит в том, что нам нужен «агентный реализм»: признание, что материальная реальность существует по собственным правилам в качестве участника множества связанных меж-действий, составляющих космос. То, с чем мы встречаемся, «дает сдачи», т. е. не существует «невинных, симметричных форм взаимодействия между тем, кто знает, и тем, что он знает» (Ibid 2). Есть только материя отношений, всецело активная. Наше исследование в таком случае должно подразумевать участие и присутствие. Признать это – значит увеличить наши возможности понимания и анализа. Барад далее отмечает по поводу «более привычных подходов» (т. н. наивного эмпиризма, игнорирующего важные социальные факторы, или конструктивистского подхода, исключающего природные факторы или агентность), что они
принимают дихотомию природа/культура как данность, в то время как агентный реализм считает объективным референтом эмпирических утверждений материально-дискурсивные феномены (с переопределенными должным образом понятиями объективности и референта). Как я отмечала выше, мы все могли бы согласиться с тем, что единичный эксперимент никогда не создает теорию и не приводит к ее слому, и c такой оговоркой агентный реализм дает возможность помыслить «социальное» и «натуральное» совокупно, с отзывчивостью и ответственностью перед миром (Barad 2011:5).
Барад заключает: «Наша мета/физика, как любые хорошие научные теории, должна быть живой, ответственной и отзывчивой к миру. Как еще могут наши теории иметь смысл (matter)?» (Ibid 9). Не могу предложить хорошей причины для исключения религиоведения из такого переосмысления научной практики (performance).
Отставить скобки
Одним из достоинств материального и деятельностного (performative) подходов к религии как к материальным и деятельностным (performative) феноменам является то, что мы можем наконец перестать пытаться что-то «заключать в скобки». Феноменология продолжает выделять субъективность в качестве главного предмета исследования, считая ее главным локусом опыта, порой превосходящим культуру и природу. Как пишет Васкес,
в религиоведении чистая субъективность верующего – выраженная ли в грубой силе его/ее внутренних состояний или в его/ее «предельных интересах», или в поиске смысла – создает предельное, аутентичное и нередуцируемое основание, не позволяющее заблудиться в разнообразном и постоянно меняющемся мире дискурсов, практик и институтов. Результат разговора на этом «жаргоне аутентичности» (McCutcheon 2003:173) остается прежним: обесценивание «внешних» религиозных явлений, часто привязанных к телу, как всего-навсего проявлений глубокой внутренней сверхисторической реальности (Vasquez 2011:64).
Полностью освободившись от одержимости верой, субъективностью, аффективными и когнитивными переживаниями и другими видами внутренних состояний (за исключением таких их аспектов, что имеют отношение к практикам (performances), которые нас интересуют), мы полностью сосредоточимся на том, что люди делают.
Для большей ясности добавлю, что верования лежат в основе того, как некоторые христиане практикуют (do) свою религию. Они лежат в основе религиозной практики других людей, которые практикуют свою религию так же, как это делают христиане. Уважение является сутью религий многих коренных народов. Чистота – центральный мотив для иудеев и синтоистов, среди прочих. Верования, уважение и чистота, однако, не являются внутренними установками, но выразительными действиями. Они не выражают душу, разум, дух или другое постулируемое внутреннее качество (interiority). Это действия или практики (performances). Это дела, что-то привносящие в проживание жизни. Религия – то, что люди делают. Когда ученые изучают, что делают люди, они не изучают выражение установок, идей, постулатов. Они не заключают в скобки предположительно внутренние или трансцендентные, духовные или душевные основания религии. Они изучают религию. Они могут изучать религию в качестве целиком и полностью включенных в связи и соучаствующих личностей, поскольку религия – это не чужая субъективность, а деятельность, основанная на связях.
И вновь о живой религии
Я предлагаю считать веру телесной и совместной практикой (performance) некоторых религиозных людей, не свойственной всем религиям. Не эта деятельность мотивирует большинство, за исключением тех, кто испытал серьезное влияние реформированного христианства и Просвещения, коренящегося в протестантизме. Следовательно, вера (общинная приверженность исповеданию) не является определяющей для религии. Как в таком случае следует нам определять предмет наших научных штудий? Я настаиваю на том, что для понимания религии нам нужно понимать реальный мир.
Вместо того чтобы теоретически осмысливать религию так, как если бы Лютер верно распознал устройство нашего мира, в котором (божественная) реальность находится «внутри, под и рядом с» обыденной реальностью и которое, следовательно, подразумевает веру и проповедь, нам следует вновь начать где-то там. Вместо того чтобы теоретически осмысливать религию так, как если бы Декарт усовершенствовал объективность, отделив разум от материи, нам следует начать заново в реальном мире. Вместо того чтобы теоретически осмысливать религию так, как если бы рамки Вестфальского мира справедливо замыкали религию в реальности частного и приватного, откуда она не могла бы на законных основаниях влиять на власть государства, мы должны начать сначала. Мы должны быть еще радикальнее, чем раньше.
Наш мир – это мир, в котором люди соучаствуют в развитии вместе с множеством взаимосвязанных видов, будучи телесными, пространственными и взаимодействующими со-творящими личностями. Это мир без сверхотделений, в котором ничто в людях не является уникальным, за исключением того уникального сочетания, конструирующего нас в каждом нашем внезапном, взаимосвязанном и локальном взаимодействии в конкретном времени и месте. Религия в этом мире едва ли является деятельностью исключительно человеческой. Она едва ли отделена (разве что эвристически) от других видов деятельности. Говорить о чем-то столь равномерно разлитом по всей жизни может быть сложно, поскольку оно по определению не отличается от других объектов и действий. Но истина состоит в том, что в реальности не существует сверхотделенных объектов и действий. Мы должны найти способы изучать материю и действия в процессе того, как они смешиваются, перетекают друг в друга, меняют форму и возникают заново.
Васкес замечает:
Как писал Расселл Маккатчеон в своей рецензии на эту рукопись, сегодня пришло новое поколение ученых, критикующих науку прошлого, «поскольку она не позволяла им увидеть религию в достаточном количестве мест». Кажущаяся радикальной, на деле эта критика дает религиоведению новую жизнь, открывая возможность видеть религию повсеместно в повседневной жизни (Vasques 2011:325).
Как убедительно показывает Примиано, не существует иной религии, чем повседневная, вернакулярная (Primiano 1995, 2012). А Макгуйар демонстрирует, что живая религия намного интереснее, чем воображаемая, определенная текстами или вероисповеданием (McGuire 2008). Нужно добиться лишь того, чтобы слова «религия» было достаточно, чтобы понять, что речь идет о повседневной, живой, практикуемой (performative), материальной, вернакулярной религии. С этой целью я отправился «куда-то еще», туда, где религия имеет место в реальном мире. Это не примитивные и не досовременные культуры. Они не претендуют на то, чтобы быть аутентично традиционными, не тронутыми глобальным слишком-модерном. Они остаются «где-то там» по разным причинам, одна из которых в том, что там религии – всецело общинные, взаимосвязанные, материальные, практикуемые (performative) и сплетенные с другими повседневными действиями. Такие «где-то там» помогают нам увидеть, что, где бы религия ни практиковалась, она является не косной, но текучей, хотя люди, ее практикующие, порой возводят барьеры, препятствуя изменениям. Она осуществляется совместно с близкими и либо исключает, либо вовлекает чужаков (которые могут стать близкими или врагами).
Проект производства новых теорий религии с использованием материалистических и деятельностных (performative) подходов невероятно много приобрел от недавних исследований, опубликованных Васкесом. Очевидно, что недостаточно предложить определение религии, как будто только религии требуется переопределение. В частности, наши определения религии предполагают и определения науки о религии. Исследователь, занимающий возвышенную позицию, с которой собирается взирать на религиозные факты, вероятнее всего, полностью упустит из виду диффузность и текучесть практики (performance) религии. Необходимы более соучастные, диалогичные и рефлексивные практики. Латур предполагает, что в науке это возможно:
Истину следует искать не ‹…› в соответствии ‹…› между оригиналом и копией (в случае религии) – но во вновь взятой на себя задаче продолжения потока, продления каскада опосредований еще на один шаг ‹…› Бог запрещал нам не создавать образы ‹…› а делать стоп-кадры, обособлять картинки от потока, который и наделяет их подлинным значением, постоянно изменяющимся и предстающим заново (Latour 2010:122–123).
Мы (религиоведы) должны в таком случае теоретически осмыслить религию, не закрепляя единственную истинную репрезентацию статических комплексов (например, нечто под названием «джайнизм», в отрыве от любых соединений и смешений), но обогащая нашу включенность в живые, динамичные, развивающиеся отношения.
Новые материалы для определения
К чему это нас приводит? Каковы кубики, из которых мы сможем построить новое определение религии, включающее в себя все эти сюжеты? Если приношение в жертву коз может определять какие-то религии или оказывается интегральным элементом для соответствующих ритуальных комплексов, следует ли нам искать его аналоги повсеместно, как мы однажды делали с верой? Я полагаю, что некоторые факты уже можно считать бесспорными.
Религия – это практика (performance), деятельность, нечто, что люди делают. Религия не отделена от другой деятельности, кроме как эвристически. Подобно гендеру, этничности или возрасту «религия» пронизывает все либо в качестве того, что наполняет то, что люди делают, либо в качестве доступного ресурса в ситуации, когда требуется подчеркнуть различие или сходство, близость или чуждость. Подобно тому как «все политично» и «все лично», точно так же (по крайней мере для религиозных людей) «все религиозно». Подобно тому как женщины-феминистки воплощают и феминизм, и женскость, действуя и частным образом и публичным, личным и политическим, рефлексивно и в качестве активисток, так же и люди религиозные практикуют религию в похожем ряду контекстов. Все грани их воплощаемых в действии (performed), связанных отношениями, пространственных и телесных идентичностей по меньшей мере испытывают влияние религии. Если они моют посуду, стреляют из ружья, заключают брак, готовят чечевицу, придумывают детям имена, ругаются с соседями, не доверяют публикациям в медиа, жалуются на шум от религиозных действий других людей, они совершают все эти действия религиозным образом. Эти действия не дополнительны и не маргинальны по отношению к религии; они не являются выражением ядра религии (т. е. веры). Они и есть религия.
Есть множество вещей (сетей акторов и действий), которые часто идентифицируются как религии или религиозные. Предыдущие поколения ученых, находясь под сильным влиянием европейского реформированного христианства, делали акцент на вере (внутренних процессах, исповедании, трансценденции и иногда спасении) как определяющих чертах религии. Возможно, другая точка отсчета – например, среди создающих гостей нгати уэпохату Тауваи (Tawhai [1988] 2002) или соблюдающих Тору иудеев Нойзнера (Neusner 2002) – привела бы к другому способу структурирования данных об этих и других религиях. Поскольку все они развивались именно вследствие встреч с другими (здесь не важно, воображаемыми или близкими, принятыми или отвергнутыми), следовало ожидать, что обнаружатся как сходства, так и различия. Все религии подразумевают течения и смешения, проницаемые границы и воображаемое ядро, вымышленное прошлое и конфликт практик (conflicted performances). Возможно, нас ожидает нелегкий труд, направленный на то, чтобы определить, какие практики (performances) являются определяющими для отдельных религий и какие могут быть определяющими для целостного феномена под названием «религия». Мы можем, впрочем, идентифицировать сети, которые стоят рассмотрения.
Отвлечемся от обзора того, что именно упомянутые комплексы (иудаизм, религия маори, язычество, зороастризм и прочие) могут предложить для определения религии, и укажем на то, что уже сейчас нам доступны некоторые факты, которые должны считаться бесспорными для мира, в котором мы живем. Мир связывается воедино меж-действием всегда развивающихся совместно видов. Материя и действия – общие. Участие и встреча повсеместны и неизбежны. То, что кажется «средой» тем, кто принимает модерновую картину мира, является обществом, в котором все существа – неотъемлемые участники и составная часть. Когда мы подходим к миру экологически, в нем нет разделений. Все действия – это действия включения в отношения. Религия в этом мире должна быть некоей разновидностью деятельности, в которой материя (тела и места) испытывает и оказывает влияние. Религия в этом мире должна быть неким видом построения связей. Но если все материально, все имеет значение и все включено в связи, что же тогда можно назвать религией?
Секс, еда и незнакомцы: эксперимент
Какого рода отношения включены в религию в мире, пронизанном связями? Учитывая, что все действия – это включение в отношения, какой род действий проявляет религию? У нас есть слова для проявления (performance) близких межличностных отношений – сексуальность, семья, гендер и т. д. Отношения между поколениями – это «родство». Более широкие круги отношений – это «община» или «общество». Межобщинные отношения – «политика», «дипломатия», «война». Отношения производителей – «экономика» или «дар». Взаимодействие политики и экономики может называться «капитализм» или «социализм». Все это мы воображаем в качестве обозначения для распознаваемых классов действий, которые можно наблюдать и/или теоретически осмыслять. Группы людей могут подразделяться на кластеры в зависимости от их предрасположенности к каким-то из этих действий определенным образом. Или на них может возлагаться вина за то, что они совершают действия не должным образом. Поэтому мы можем произвольным образом делить мир на близких и чужаков и далее воспринимать чужаков как потенциальных близких или потенциальных врагов.
Существуют виды деятельности, которые схожим образом описывают сети действий: угощение, спорт, бизнес, наука и прочие – если к ним добавить «-логия», «-ведение» и т. п., они превратятся в предмет/объект академической дисциплины. «Религия» едва ли будет полностью синонимична этим словам или полностью от них отлична. Ученые оправданно сосредотачиваются на отдельных феноменах, выбранных из ряда типов деятельности, которые в реальности переплетены с другими – что и составляет мир. Такой дисциплинарный фокус позволяет говорить о частях с известной ясностью. Не может быть какой-то изолированной «религии» – ее следует отбросить как конструкцию раннего модерна (другой очевидный кандидат на такое же исключение – государство). Ни одна из наших научных -логий и близко не подходит к чему-то, что оставалось бы не затронутым интересами других дисциплин. Если мы должны исследовать религию и преподавать, по крайней мере так же, как другие исследуют гендер, экономику или политику, нужно сказать что-то об интересующих нас отдельных тенденциях и соединениях.
В качестве эксперимента я предлагаю рассматривать религию как начало системы межвидовых связей. Первичная деятельность, на которую мы можем обратить внимание, – воплощение (performance) уважения, должный этикет, преодолевающий границы вида. Следует понимать под этикетом приобретенные привычки и выученное поведение (не просто правила и коды) – это позволит нам показать не только как люди понимают не-человеческие личности, но и как их близкие семейные и локальные отношения ограничиваются и конструируются системами контроля или обычаев. Религия в этом случае была бы чем-то дисциплинирующим и воодушевляющим и включала бы то, как одни люди учат других действовать с уважением и иметь дело с теми, кто действует неуважительно. Религия не обязана быть приятной.
В нашем распоряжении провокационное утверждение Тауваи о том, что «целью религиозной деятельности здесь оказывается поиск способа проникнуть на территорию сверхсущества и совершение насилия безнаказанно» (Te Pakaka Tawhai [1988] 2002:244). Если нас ввело в заблуждение слово «сверхсущество» (superbeing), вновь затягивающее нас в метафизику, вспомним, что термин Хэллоуэлла «нечеловеческие личности» (Hallowell 1960) обозначает не предположительно «духовных» существ, но камней и орлов. Мы также можем обратить внимание на то, что Ауа, шаман инуитов из Иглулика, рассказывал Расмуссену, датскому путешественнику и этнографу, в 1920?е годы:
Величайшая опасность жизни – то, что человеческая пища полностью состоит из душ. Все существа, которых мы должны убивать, чтобы поедать, все те, кого мы ловим и уничтожаем, чтобы сделать себе одежду, у всех у них есть души, как и у нас, души, которые не исчезают вместе с телом и которые поэтому должны быть умилостивлены, иначе они будут мстить нам за то, что мы отобрали у них тела (Rasmussen 1929:55–56).
Есть у «существ, которых мы должны убивать» бессмертные «души» или нет, они связаны с нами, у многих из них есть плоть, кости, семьи и занятия, которые весьма похожи на наши. Все это мы могли узнать уже у Дарвина (например: Crist 2002). Наши отношения с другими животными осложняются как нашими с ними сходствами и различиями, так и тем, что мы (и, вероятно, они) не всецело одобряем насилие и прерывание жизни. Тем не менее убийство необходимо. Это ключевой элемент повседневной жизни в реальном мире, даже для тех из нас, кто нанимает других, чтобы убивать за нас. Мы не можем, даже если бы желали этого, вырваться из цикла насилия, прервав собственную жизнь, поскольку наша кожа и кишечник оказываются домом для множества живых бактерий – наших симбионтов. Похоже, что маори и инуиты не одиноки в своих поисках пути совершения необходимого, поддерживающего жизнь насилия безнаказанно.
Многие религии, конечно, регулируют правилами не только убийства, но и уважительное потребление пищи. Ритуалы, связанные с охотой, выращиванием, приготовлением пищи, пирами и постами, входят в число самых распространенных действий, заслуживающих идентификации в качестве «религиозных» или просто эмблематических для «религии». Благодарность перед или после еды, усилия, направленные на то, чтобы есть или не есть согласно правилам диеты, могут быть предметом повседневной заботы, а могут обставляться и драматичными публичными церемониями. Они даже могут структурировать время (церемонии благодарения и обновления мира) и пространство (фермы, сады, кухни, столовые). Мы также уже обращали внимание на то, что получение и потребление пищи занимают важнейшее место среди видов деятельности, подчиненных динамическим социализирующим правилам, носящим название тапу у маори и кашрут у иудеев. Из этого мы можем заключить, что полезное определение религии должно учитывать то, как люди ограничивают себя в потреблении всего им доступного. Они строят социальные сети на основе этих наследуемых и привитых предпочтений.
Сходным образом религии часто регулируют сексуальность, что опять же подразумевает границы и запреты, которые часто нарушаются. В отдельных религиях подобные правила помещаются в подкатегорию человеческой морали или этики, но они также могут иметь последствия для совместного обитания и встреч людей с не-человеческими личностями. Сексуальные коды определяет то, как люди устроены в качестве личностей среди других личностей, их тела среди других тел, в качестве существ, от которых ожидают вполне определенное поведение. Божества или хищные животные, например, могут быть недовольны любыми подозрительными действиями или даже разговорами о сексе. Они могут рассчитывать на должные брачные или другие отношения, например на отказ от секса во время менструации. Подобно пище, секс – это область, в которой становится очевидным, кто является близким, а кто чужаком. Чужаки потенциально могут стать близкими, но сексуальные контакты с ними могут быть весьма опасны. В физическом мире связей подобные повседневные вопросы телесности являются ключевыми элементами религиозной практики (performance).
Системы правил не существуют в изоляции, но порождают тексты, устные и другие обучающие практики (performances). Опять же, из стремления подчиняться подобным правилам могут возникать повседневная жизнь и сложные церемонии. Многообразие тех способов, которыми структурируется деятельность, в очередной раз иллюстрирует невозможность отделить «религию» от других социальных действий. Важно, что слово «социальный» здесь должно относиться к действиям и интересам сообщества, состоящего не только из людей. В главе 7, отмечая, что некоторые отношения ближе, чем другие, особенно когда люди размышляют о том, кого можно есть или с кем можно совместно принимать пищу, я использовал термин «тотем» из языка анишинаабе. Люди и другие животные, а также растения родственны и в традиционном алгонкинском, и в более недавнем дарвинистском понимании мира. Размышление о степенях близости возвращает нас к вопросам потребления и сексуальности. Они привносят в наши попытки понять «религию» указание на возможность (на которой настаивали многие религии, а также некоторые этологи) того, что люди совсем не одиноки в исполнении ритуалов. Я пытался кратко изложить эту мысль в истории об орле на пау-вау в Ньюфаундленде. В мире соучастия кажется правдой, что наши не-человеческие родичи не только исполняют собственные ритуалы, но также признают и участвуют в наших церемониях. Подобным образом, когда одна группа шимпанзе избегает употребления в пищу растений, которые едят другие, возможно, у них есть пищевые табу наряду с сексуальными и гендерными иерархиями. Мы должны быть по меньшей мере открыты к подобным предположениям, поскольку у нас нет надежных свидетельств того, что люди уникальны именно в этом отношении.
Суммируя мой мысленный эксперимент: религия может по сути восприниматься как способ совладать с поеданием родственных существ, включенных в отношения. Религиозные церемонии позволяют людям и не-людям продолжать отношения, несмотря на необходимость быть хищником или поедать другого. Это делает возможным внедрение и усиление запретов и ознаменование всех возможных видов деятельности, которые в противном случае могут казаться бесспорными, неотмеченными или обыденными. Табу накладываются и/или требуются к исполнению, чтобы усилить деятельностное (performative) телесное знание того, что абсолютное потребление или безнаказанность не одобряется. Никакой индивид или отдельный вид не имеет права брать или потреблять без ограничений. Есть пределы, определяющие должные отношения. Отказ и отдача (табу и жертвы) – то, как люди драматизируют пределы, одобряемые сообществом. Религия – это дисциплинированная жизнь.
Добавим к этому, что религия связана не только с поеданием других, но и с совместным принятием пищи. Разделить пищу – одно из самых интимных действий, какие только можно представить. Границы между теми, кто похож на нас, и теми, кто отличается от нас, конструируются, поддерживаются, охраняются и/или преодолеваются в приемах пищи и других формах потребления. Не случайно многие христиане используют термин «причастие» для центрального общинного ритуала. Не только выпить вина и съесть хлеба (являются они символами, указывающими на что-то иное, или нет), но и выпить чаю или выкурить табаку означает, что этот ритуал предполагает нечто большее, чем участие душ и божества. Подобным образом то, что в новостных медиа Церковь Англии часто предстает расколотой по отношению к однополым бракам и женскому епископату, многое говорит о том, как сегодня конструируются связанные отношениями личности. Религия – это не неправильно понятое отражение, проявление или мистификация чего-то под названием «общество». Это социальные акты между личностями, не все из которых являются людьми, но все участвуют в воображаемых способах существования в мире и ищут пути включения своего воображения в реальность близкого порядка. Таким образом, мы можем найти место преподаванию, текстам, лидерам, институтам и надеждам на будущее в наших исследованиях религии. Все это действия по возведению границ и строительству сообщества в комплексном многовидовом мире.
Религия в качестве этикета взаимоотношений в многовидовом мире растворена в жизни телесных, пространственных, деятельных (performative) личностей. Она требует согласования между потребностью поедать других и потребностью поддерживать как разнообразие, так и (более чем человеческое) сообщество. Она требует переговоров между близкими и чужаками – и те и другие приобретают отчетливость, когда эксплицитно установлены правила, кто с кем может легитимно заниматься сексом. Религия не всегда и не по определению «приятна», но обычно исключает и порицает тех, кто реализует (perform) свою личность и миротворчество иначе. Она содержит элементы воображения, поскольку люди задают ролевые модели, надежды и амбиции. Иногда они кодифицируются в текстах, но именно использование текстов и других форм посредничества в хранении и обучении оказывается значимым для определения практики религии. Мы не должны ошибочно принимать результаты воображения за интимную деятельность религиозных людей. Статичные тексты (религиозные или научные) не определяют религию, это становится возможно только в продолжающихся изменчивых слияниях, возникающих, когда люди пытаются ввести воображение в интимную реальность. И если религии могут стагнировать, то вот зов реального мира влечет людей поддерживать общество, приглашая близких и противостоя всем остальным.
Тест 1: происхождение
Сидя на берегу неподалеку от Лассагамми, дома покойного саамского художника Нильса-Аслака Валкеапяя, я задался вопросом, могли ли религиозное искусство и представления (performance) возникнуть из меморализации нашими далекими предками мест значимых межвидовых встреч. Они могли сложить пирамиду из камней на месте, где земле были возвращены кости животных, съеденных с уважением. Они могли показать своим детям, как кости рыб должны быть возвращены морю. Они могли учить других песням или заговорам, которые могли быть угодны горам или воронам. Эволюция религии как этикета межвидовой коммуникации могла, таким или подобным образом, оформлять вовлечение других в подобные действия.
Это, конечно, полет фантазии. Я делюсь ею, чтобы предложить применение телесному и деятельностному (performative) пониманию религии. Признание того факта, что мир полон межвидовой коммуникации и пронизан интенциональностью, бросает вызов подходам к религии и культуре, которые определяют их как когнитивные ошибки, хоть и ценные в эволюционном смысле. Более прямолинейное рассмотрение происхождения религии потребовало бы поиска свидетельств «где-то еще», нежели в химии или нейронном устройстве человеческого мозга. Если религия имеет отношение не столько к внутренним состояниям человека, сколько к взаимосвязанности, этикету в более-чем-человеческом мире, целостным образом сказываясь на всех сторонах человеческой жизни, нам следует искать свидетельства ее происхождения или раннего рассеивания в таких ритуальных действиях, как строительство пирамидок из камней или пение. Отметим, что шимпанзе, вороны и другие животные используют орудия (Shumaker et al 2011), что дождевые черви украшают свои норки (Crist 2002), а многие млекопитающие и птицы оплакивают умерших (Bekoff 2012), – возможно, это значит, что более внимательное отношение к миру за пределами сверхотделений помогло бы нам увидеть религию не только в облике верований и сознания человека.
Тест 2: буддизм и футбол
Вопрос, являются ли буддизм и футбол религиями, кажется вечным. Буддисты, говорят, не «верят в бога», а футбол – это площадка для конструирования сообществ, коллективно проходящих через сильные переживания и ритуализирующих свое отношение к героям и спортивным «идолам». Хотя есть масса буддистов, признающих существование (и просящих помощи у) богов, остается справедливым, что некоторые виды буддизма нельзя определить как «веру в бога». Способом решить эту проблему для тех, кто очень хочет включить буддизм в категорию «религия», стала замена «бога» «предельной реальностью» или «священным» или чем-нибудь не менее загадочным. Другим подходом, популярным среди исследователей и преподавателей, является не включение футбола в число религий, поскольку он не дает уроков о традициях трансцендентного. Футбол, в лучшем случае, квазирелигиозен, так как провоцирует сиюминутный опыт и временное состояние «коммунитас». Но если религию не определять через протестантизм или рационалистический мистицизм, тогда бесполезно подгонять под эти шаблоны и буддизм или футбол.
Идентификация религии с этикетом межвидовых отношений может сослужить нам хорошую службу в обоих этих случаях. Даже если все явления сущего в конечном счете иллюзорны, буддистская практика и образ жизни подразумевают существование не-человеческих личностей. Все живые существа, предположительно, могут достичь просветления и, в более народных формах буддизма, стремятся к благополучию других, не ограничиваясь сообществами людей. Футбол, с другой стороны, как будто касается только людей. Но стоит нам допустить – и, вероятно, нам следует так сделать, – что объекты, артефакты также включены в наши сообщества, мы можем найти место футболу как разновидности религии. Обыкновенные данные (о ритуалах и экстатических переживаниях) могут привлекаться к рассмотрению взаимодействий между людьми и мячами. Насколько такой подход окажется успешным, предоставим проверять другим. У меня есть другой тезис касательно буддизма, футбола и религии, который я хотел бы озвучить.
Ключевым для этой книги было переосмысление не только определений религии, но и академических практик. Общий недостаток многих дискуссий о том, являются ли буддизм и футбол религиями, состоит в том, что эти обсуждения как будто имеют в виду что-то ограниченное, отделенное от другой деятельности. Религия, однако, не может исследоваться как дискретный объект. Но не может так исследоваться и футбол. Ученые, интересующиеся этой игрой, далеко не всегда работают на кафедрах изучения спорта. Они привносят свои знания об индустрии развлечений, экономике, политике, гендере, здоровье, бизнесе и многом другом в исследования и преподавание. Кто-то может фокусироваться на игроках во время матчей, но, подобно религии, интерес к футболу может распространяться и на другие стороны жизни (индивидуальной и коллективной). Буддизм также в реальности редко исследуется как вероисповедание. Исследования, посвященные тому, что делают буддисты, гораздо разнообразнее. Исследования буддизма и футбола подчеркивают необходимость расширения круга подходов и интерпретаций, в большей степени соответствующих диффузным феноменам.
Тест 3: не-религия
Колин Кэмпбелл однажды написал, что «изучение иррелигиозных феноменов кажется уникальной неопробованной площадкой, с высоты которой можно свежим взглядом охватить туманное пространство допущений, гипотез и предсказаний, составляющих социологию религии» (Campbell 1971:14). С того времени участившиеся обращения к «иррелигии», «не-религии» и/или секулярности привлекли значительное внимание к подобным вопросам. Для кого-то они остаются новыми выгодными позициями, для кого-то это уже истощенные пастбища или разоренное поле боя. Среди наиболее примечательных вкладов в дискуссию – специальный выпуск «Журнала современных религий» «Не-религия и секулярность» (Bullivant&Lee 2012). В него вошли статьи, авторы которых проанализировали данные, относящиеся к социальным и культурным тенденциям в разных странах, которые проявляются в результатах опросов и переписей, свидетельствующих о меняющихся паттернах (и в целом об упадке) религиозной «веры» и «принадлежности». Наряду с другими факторами они уделяют особенное внимание экономике, гендеру и поколенческим изменениям. Среди прочих «загадок» Дэвид Воас и Сиобхан Макэндрю обращают внимание на то, как британцы говорят о вере или неверии в бога, о принадлежности или непринадлежности к религии, о посещении или непосещении служб не реже раза в месяц (Voas&MсAndrew 2012). Если упростить довольно сложный аргумент, то оказывается, что люди могут определять свою принадлежность к религии или наличие религиозности совсем не через веру или посещение: они могут одновременно и верить, и сомневаться, они могут посещать регулярные службы, не нуждаясь при этом в вере или принадлежности. И хотя есть люди, которые являются строго религиозными или нет либо строго принадлежат или не принадлежат, посещают или не посещают, многие из них попадают в категорию Воаса «нечеткой преданности» («fuzzy fidelity») – т. е. делают что-то одно или другое, но не совершают всех трех действий из перечисленных (см.: Voas 2009). Религия и не-религия – звери сложные.
Принимая это во внимание, я сомневаюсь, что тезис Уильяма Бейнбриджа о том, что «любая достаточно общая теория религии должна проверяться не только свидетельствами о самой религии, но и о ее отсутствии» (Bainbridge 2005:22), является сколько-нибудь рабочим. Бейнбридж, кажется, противоречит собственному аргументу, принимая посылку, в соответствии с которой «если мы узнаем больше об отсутствии веры», это поможет нам «лучше понять роль веры в современном обществе». Возможно, это действительно способствует пониманию теизма и атеизма (что является предметом его статьи), но это частные формы религии и не-религии, а не определяющие. Я совершенно не убежден, что религия должна быть ограниченным феноменом, который был бы строго противоположен чему-то иному, чем религия. Если феминисты правы (как я считаю) в том, что личное есть политическое, тогда политическая наука не должна предполагать существование «не-политики» для обсуждения какого-то конкретного предмета. Антропологи в большинстве своем считают бесполезным сохранять противопоставление культуры и природы, но довольно неплохо справляются с исследованием культур, не возвращаясь при этом к теориям какой-то гипотетической «не-культуры». Вера, принадлежность и посещение являются религиозными феноменами (и/или политическими, экономическими, социальными и культурными), но ими не исчерпывается повседневная, телесная, пространственная, материальная, деятельностная (performative) практика, интересующая религиоведение. Если нет ничего, что не могло бы быть предметом гендерных или этнографических исследований, нет и того, что не может изучать религиоведение. Таким образом, повторим, что точка обзора, которую нам необходимо занять, для того чтобы заниматься исследованиями (и преподаванием), не является безопасной стабильной точкой «извне», а находится где-то в туманном беспорядке реальности взаимоотношений.
Тест 4: вуду и искусство
Вуду, кажется, расстраивает людей. Оно оскорбительно, потому что гибридно: это и не христианство, и не традиционная африканская религия, оно не традиционно и не полностью ново. Оно, скорее, сочетает все эти черты, только в разных, меняющихся пропорциях. По крайней мере, об этом свидетельствует то, с какой регулярностью она идентифицируется как «синкретическая», «популярная» (popular) или «народная» (folk) религия или, того хуже, определяется как «магия» (загадочный термин, вероятно обозначающий просто «не моя религия»). В реальности оскорбительность вуду может быть связана с той ролью, которую оно сыграло в успешной республиканской революции рабов, приведшей к возникновению Гаити в качестве независимой нации (хоть экономически и подчиненной Франции и США – и не раз оказывавшейся под угрозой их военного вторжения). Вуду открыто гордится шрамами рабства и революции, словно флагами, прославляющими единство и сопротивление. Не всегда оно отыгрывает роль «религия – это всегда что-то славное», но даже в своей скрытности отстаивает простоту и комфорт. Когда бывшие рабы и все еще погрязшие в долгах народные массы просят хитрых и неоднозначных богов (среди прочих) вселиться в них, они не могут наивно закрывать глаза на опасность такой одержимости. Еще больше можно сказать о вуду в связи с попытками определить религию как повседневную деятельность в мире связей. В частности, внимание к повседневной жизни вуду и Гаити может помочь гораздо глубже понять неприятную, иерархическую, агрессивную, колониальную – и пока еще не постколониальную – систему отношений. Оно может способствовать определению религии не через сверхъестественное, а через более чем естественное. Здесь я использую пример вуду, чтобы кратко изложить свои размышления о пересечении религии (как материальной и материализующей деятельности) и искусства.
Выставление напоказ религиозных материальных объектов (изображений, флагов, чаш, костюмов, строений) не такая уж редкость. Музеи и галереи заполнены религиозным искусством. Религиозные здания входят в число самых фотографируемых туристами объектов. Академическая история искусства значительное внимание уделяет объектам европейского христианства. В этом и множестве похожих контекстов люди нередко задаются вопросами, насколько слова «искусство» и «объект» корректны и уместно ли экспонировать определенные вещи или категории вещей. Когда почитаемый объект оказывается выставлен на обозрение тем, кто не почитает его, – это результат понимания или непонимания? Эти и другие вопросы стали предметом серьезных трудов по музееведению (например: Paine 2000).
Выставки гаитянского искусства ярко иллюстрируют или оттеняют такого рода вопросы об определении религии и искусства. Я отмечу здесь два из них. Фаулеровский музей культурной истории в Университете Калифорнии открыл выставку «Священное искусство гаитянского вуду» в 1995 году. Во время выставки в стенах галерей происходили драматические личные взаимодействия между последователями и луа (lwa), божествами, в том числе, возможно, одержимость. Несмотря на всю противоречивость подобных актов поклонения, они, судя по всему, воспринимались позитивно и даже встраивались в «оформление» выставки (Cosentino 2000). В 2012–2013 годах галерея современного искусства Ноттингема пошла в чем-то более традиционным для галереи путем, выставив картины, скульптуры и флаги Гаити. Подходящих емкостей для совершения приношений не наблюдалось. Никакие подобные ритуалам действа (performances) не анонсировались. Тем не менее в каталоге выставки содержатся обращения к силе вуду и экспонатов (Farquharson&Gordon 2012). Происхождение многих этих работ, восходящее к народным («сельским» или «наивным») ремеслам или «найденным» объектам или ансамблям, кажется, подкрепляют ту точку зрения, что они могут быть более доступными, более привлекательными или с большей вероятностью будут вызывать мощную реакцию, чем «элитарное» искусство Высокого Возрождения.
Сегодня уже кажется общим местом обозначать и относиться к «религиозному искусству» иначе, чем к любому другому. Ценность нерелигиозного искусства определяется его эстетическими качествами, тогда как религиозное искусство обладает некоей добавочной ценностью, например «духовностью» или трансформирующим эффектом. От экспонируемых алтарей вуду можно ожидать особого воздействия на людей, требующего реакции, того, чего обычно не ждут от внешне похожих на них ремесленных изделий. Им может приписываться агентность, предполагающая, что здесь имеет место не только инертная физическая сторона. Если такой алтарь оказывается выставлен на продажу, может возникнуть вопрос, способно ли религиозное «художественное произведение» (не только «искусство вуду») овладевать тем, кто им владеет, или делать владельцев религиозными. Ко всем этим возможностям и вероятностям причастны темы, и возникшие в раннем модерне, и породившие его. Непосредственный опыт, субъективность и приверженность (commitment) присутствуют в них по меньшей мере имплицитно. Я не утверждаю, что люди не могут быть включены в связи и телесно трансформированы, оказавшись в присутствии божества в «художественной» форме. Я лишь обращаю внимание на то, что затруднения, связанные с экспонированием и определением «религиозного искусства», имеют отношение к вопросам, поставленным в этой книге. Искусство самоочевидно кажется деятельностным (performative) и материальным, но наличие в данном случае трансцендентного и внутреннего может усложнить его определение. Текучесть вуду, его неопрятность и случайность делают проблему определения религии, искусства и «религиозного искусства» более острой, чем применительно к другим материальным культурным традициям. Если это справедливо в отношении религии, то также и в отношении тел, материи и мест, а следовательно, этот предмет заслуживает дальнейшего анализа в рамках проекта по определению и изучению религий.
Мне кажется в целом вероятным, что повседневная религия реального мира включает в себя многое из того, для чего вовсе не требуется озабоченность верой и опытом. Выставки вуду демонстрируют, что наше родство с материей призывает рассматривать их посещение в рамках сложившихся систем этикета: вопрос состоит не в том, «должны ли вы верить, чтобы понять эту картину?», а в том, «как правильно себя вести в ее присутствии?». Но есть и другие вопросы, которые следует обсудить.
Практиковать религию, практиковать науку
Вероятно, я допустил преувеличение, сказав, что религиозные люди проживают религию в каждой грани своей жизни. Есть те, для кого религиозные действия достаточно отделены от других (например, от политики, спорта, работы). Тем не менее, даже если люди идентифицируют какие-то действия как отдельные от других, религия, подобно гендеру, возрасту, доходу, образованию, классу, влияет на всю деятельность. Например, люди могут нанимать ритуальных специалистов для совершения религиозных церемоний от лица других. В этом случае большинство может заниматься политикой, спортом и т. п. Тем не менее знание того, что такие специалисты делают свое дело и что эти церемонии происходят, отчасти делает возможной повседневную жизнь. Это подчеркивает наш главный тезис: религия – это повседневная забота людей, живущих среди других в многовидовом, соучастном мире связей.
Религия в этом мире является одним из аспектов взаимоотношений. Она является деятельностной (performative) и материальной (телесной, пространственной, производительной). Несмотря на усилия по модернизации, приведшие к игнорированию родства людей с другими существами (и с материей), мы остались вовлеченными участниками в сложных сетях потребления, истребления и переработки. В этих сетях религия успешно маркирует вопрос о том, как подобает брать и отдавать. Религия обнаруживается в локальных специфических практиках самоограничения и отдачи. Она является признанием того, что люди – не единственно важные существа и потому не могут свободно потреблять без какого-то наказания. Считая общество других важным, люди поддерживают общину (не ограниченную человечеством) путем дисциплинирования жизни. Другим существам дается пространство жизни, и от них ожидают того же. Открытость увеличению связей ограничивается только сопротивлением распределению ресурсов между своими. Правила, касающиеся пищи и секса, являются лейтмотивом религий, поскольку такие формы близости особенно отчетливо идентифицируют «нас» и «их». Правила так часто нарушаются именно потому, что родство всех видов означает, что в реальности нет непреодолимых границ. Религия – это переговоры между личностями, которые живут вместе в этом материальном, соучастном мире связей.
Список литературы
Августин, Аврелий. 1999. Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест.
Апулей. 1956. Антология. Метаморфозы. Флориды. Москва: Издательство Академии наук СССР.
Барт, К. 2007. Церковная догматика. Т. 1. Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.
Бауман, З. 2008. Текучая современность. СПб.: Питер.
Беньямин, В. 1996. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под ред. Ю. А. Здорового. Москва: Медиум.
Бодрийар, Ж. 2015. Симулякры и симуляция / Пер. с фр. А. Качалова. Москва: Рипол-классик.
Бросс, Ш., де 1973. О культе богов-фетишей, или Сравнение древней религии Египта с современной религией Нигритии. Москва: Мысль, 1973.
Вебер, M. 2016. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. Москва: Центр гуманитарных инициатив.
Витгенштейн, Л. 1994. Философские исследования. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. C. 75–319.
Гирц, К. 2004. Интерпретация культур / Пер. с англ. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).
Джеймс, У. 1993. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шик. Москва: Наука.
Дуглас, М. 2000. Чистота и опасность / Пер. с англ. Р. Громовой под ред. С. Баньковской. Вступ. статья и коммент. С. Баньковской М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
Дюркгейм, Э. 2018. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии. Москва: Элементарные формы.
Жирар, Р. 2000. Насилие и священное. Перевод Г. М. Дашевского. Москва: Новое литературное обозрение.
Жирар, Р. 2010. Козел отпущения. Перевод Г. М. Дашевского. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха.
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Латур, Б. 2014. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики.
Латур, Б. 2006. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д. Я. Калугина; науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: Издательство Европ. ун-та в С.-Петербурге.
Леви-Стросс, К. 2008. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. Москва: Академический проект.
Леви-Стросс, К. 2010. Печальные тропики. Москва: АСТ.
Лефевр А. Производство пространства / Пер. с фр. М.: Strelka Press, 2015.
Малиновский, Б. 1998. Магия, наука и религия. Пер. с англ. Москва: Рефл-бук.
Мосс, M. 2011. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / М. Мосс; Сост., пер. с фр., предисловие, вступ. статья, комментарии А. Б. Гофмана. М: КДУ, 134–285.
Отто, Р. 2008. Священное / Пер. Руткевича А. М. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского ун-та.
Рикёр, П. 2008. Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозрение. Т. 7. № 1. 25–43.
Рорти, Р. 1997. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета.
Тайлор, Э. [1871] 1989. Первобытная культура. Москва: Политиздат.
Фуко, М. 1994. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994.
Фуко, М. 2008. О начале герменевтики себя // Логос 2 (65). 65–95.
Элиаде, М. 1994. Священное и мирское. Москва: Издательство МГУ.
Abram, D. 1997. The Spell of the Sensuous. New York: Vintage.
Abram, D. 2010. Becoming Animal: An Earthly Cosmology. New York: Pantheon.
Abram, D. 2013. The Invisibles: Towards a Phenomenology of the Spirits. См.: Harvey (2013), 124–131.
Adogame, A. 2009. Practitioners of Indigenous Religions of African and the African Diaspora. См.: Harvey (2009a), 75–100.
Albanese, C. L. 2002. Reconsidering Nature Religion. Harrisburg, PA: Trinity Press International.
Altieri, P. 2000. Knowledge, Negotiation and NAGPRA: Reconceptualizing Repatriation Discourse(s) // Law and Religion in Contemporary Society: Communities, Individualism and the State / P. Edge & G. Harvey (eds), 129–49. Aldershot: Ashgate.
Amato, J. A. 2004. On Foot: A History of Walking. New York: New York University Press.
Anttonen, V. 1996. Rethinking the Sacred: The Notions of «Human Body» and «Territory» in Conceptualizing Religion // The Sacred and Its Scholars: Comparative Methodologies for the Study of Primary Religious Data / T. A. Idinopulos & E. A. Yonan (eds), 36–64. Leiden: Brill.
Anttonen, V. 2000. «Sacred». Guide to the Study of Religion / W. Braun & R. T. McCutcheon (eds), 271–82. London: Cassell.
Anttonen, V. 2005. Space, Body, and the Notion of Boundary: A Category-Theoretical Approach to Religion // Temenos 41 (2): 185–201.
Appadurai, A. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions in Globalization. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Apter, E. & W. Pietz. 1993. Fetishism as Cultural Discourse. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Asad, T. 1993. Genealogies of Religion. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Ashgate 2011. Catalogue copy for Pace 2011 // (дата обращения 11.11.2011).
Axtell, J. 1988. After Columbus: Essays in the Ethnohistory of Colonial America. New York: Oxford University Press.
Bainbridge, W. S. 2005. Atheism // Interdisciplinary Journal of Research on Religion. 1:1–24.
Barad, K. 2011. Erasers and Erasures: Pinch’s Unfortunate «Uncertainty Principle» // Social Studies of Science: - social-studies.pdf (дата обращения 19.02.2012).
Barad, К. 2007. Meeting the Universe Half Way: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham, NC: Duke University Press.
Bartley, J. K. 2002. Liaisons of Life, from Hornworts to Hippos, How the Unassuming Microbe Has Driven Evolution // Palaios 17 (4): 414–15.
Beaudoin, T. 2012. Everyday Faith in and Beyond Scandalized Religion // Religion, Media and Culture: A Reader / G. Lynch & J. Mitchell with A. Strhan (eds), 236–43. London: Routledge.
Bekoff, M. & J. Pierce 2009. Wild Justice: The Moral Lives of Animals. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Bekoff, M. (ed.) 2004. Encyclopedia of Animal Behavior, 3 vols. Westport, CT: Greenwood Press.
Bekoff, M. 2008a. The Emotional Lives of Animals: A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy – and Why They Matter. Novato, CA: New World Library.
Bekoff, M. 2008b. Animals at Play: Rules of the Game. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Bekoff, M. 2010. The Animal Manifesto: Six Reasons for Expanding Our Compassion Footprint. Novato, CA: New World Library.
Bekoff, M. 2011. Dead Cow Walking: The Case against Born-Again Carnivorism // Animal Emotions – Do Animals Think and Feel? Blog (-emotions/201112/dead-cow-walking-the-case-against-born-again-carnivorism) (дата обращения 02.01.2013).
Bekoff, M. 2012. Birds Tweet about the Dead but Do They Know What They’re Doing? // -emotions/201209/birds-tweet-about-the-dead-do-they-lmow-what-theyre-doing (дата обращения 02.01.2013).
Bellah, R. N. 1967. Civil Religion in America // Daedalus 96 (1): 1–21.
Benavides, G. 1998. Modernity. См.: M. C. Taylor (1998), 186–204.
Bird-David, N & D. Naveh 2008. Relational Epistemology, Immediacy, and Conservation: Or, What Do the Nayaka Try to Conserve? // Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 2 (1): 55–73.
Bird-David, N. 1999. «Animism» Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology // Current Anthropology 40: P. 67–91. Репринт в: Harvey (2002), 73–105.
Black, M. B. 1977. Ojibwa Power Belief System // The Anthropology of Power / R. D, Fogelson & R, N. Adams (eds), 141–51. New York: Academic.
Blackburn, T. C. (ed.) 1975. Decembers Child: A Book of Chumash Oral Narratives. Berkeley, CA; University of California Press.
Bloch, M. 1992. Prey into Hunter. Cambridge: Cambridge University Press.
Bocking, B. 2006. Mysticism; No Experience Necessary? // Diskus 7, (дата обращения 23.10.2011).
Bourdieu, P. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. 1984. Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bruce, S. & D. Voas 2010. Vicarious Religion: An Examination and Critique // Journal of Contemporary Religion 25 (2): 243–259.
Bruce, S. 2011. Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory. Oxford: Oxford University Press.
Bullivant, S. & L. Lee (eds) 2012 // Journal of Contemporary Religion 27 (1). Special Issue: Non-religion and Secuiarity.
Bunson, M. E. б/д. Twenty-Six Crosses on a Hill // Catholic Answers, -six-crosses-on-a-hill (дата обращения 09.11.2011).
Burchett, P. & D. Vaca 2009. Belief Matters: Reconceptualizing Belief and Its Use // Call for papers, conference at Columbia University, -gsa/2009conference/index.html (дата обращения 11.11.2011).
Bynum, C. W. 1987. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley, CA: University of California Press.
Bynum, C. W. 2011. Christian Materiality: An Essay of Religion in Late Medieval Europe. New York: Zone Books.
Campbell, C. 1971. Toward a Sociology of Religion. London: Macmillan.
Cannell, E. 1999. Power and Intimacy in the Christian Philippines. Cambridge: Cambridge University Press.
Cannell, F. 2006. The Anthropology of Christianity. Durham, NC: Duke University Press.
Carrette, J. & R. King 2005. Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion. London: Routledge.
Cavanaugh, W. T. 1995. «A Fire Strong Enough to Consume the House»: The Wars of Religion and the Rise of the State // Modern Theology 11 (4): 397–420.
Chabad-Lubavitch Media Center 2012. Meron // (дата обращения 12.04.2012).
Chabal P. 1996. The African Crisis: Context and Interpretation // Postcolonial Identities in Africa / R. Werbner & T. Ranger (eds), 29–54. London: Zed.
Clark, A. 1997. Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge, MA: MIT Press.
Clarke, R. В. & P. Beyer (eds) 2009. The World’s Religions: Continuities and Transformations. London: Routledge.
Clarke, К. M. 2004. Mapping Yoruba Networks: Power and Agency in the Making of Transnational Communities. Durham, NC: Duke University Press.
Clifford, J. 1990. Notes on (Field)notes // Fieldnotes: The Making of Anthropology / Sanjek (ed.), 47–70. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Clifton, C. S. 2006. Her Hidden Children: The Rise of Wicca and Paganism in America. Lanham. MD: Altamira Press.
Coleman, S. 2007. The Globalisation of Charismatic Christianity. Cambridge: Cambridge University Press.
Connell, R. 2007. Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Cambridge. Polity.
Cook, J. [1777] 1967. A Journal of a Voyage Round the World in HMS Endeavour 1769–1771. New York Da Capo Press.
Cosentino, D. 2000. Mounting Controversy: the Sacred Arts of Haitian Vodou // Godly Things: Museums, Objects and Religion / C. Paine (ed.), 97–106. London: Leicester University Press.
Сох, J. L. 2007. From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions. Aldershot: Ashgate.
Cox, J. 1982. The English Churches in a Secular Society: Lambeth 1870–1930, Oxford: Oxford University Press.
Crist, E. 2002. The Inner Life of Earthworms: Darwins Argument and Its Implications // The Cognitive Animal: Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition / M. Bekoff, C. Allen & G. M. Burghardt (eds), 3–8. Cambridge, MA: MIT Press.
Csordas, T. J. 1994. The Sacred Self. A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley, CA: University of California Press.
Csordas, T. J. 1997. Language, Charisma, and Creativity: The Ritual Life of a Religious Movement. Berkeley, CA: University of California Press.
Csordas, T. J. 2004. Asymptote of the Ineffable: Embodiment, Alterity, and the Theory of Religion // Current Anthropology 45 (2): 163–185.
Csordas, T. J. 2008. Intersubjectivity and Intercorporeality // Subjectivity 22: 110–121.
Curry, P. 2010. Divination: Perspectives for a New Millennium. Farnham: Ashgate.
Curry, P. 2011. What Its About // (дата обращения 16.07.2012).
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: HarperCollins.
Dav 2011. New Topic for 2012–14: Belief and Unbelief // Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Princeton University, (дата обращения 10.11.2011).
Davenport, F. G. 1917. European Treaties Bearing on the History of the United States and its Dependencies to 1648, vol. 1. Washington, DC: Carnegie Institution of Washington.
Davie, G. 1990. Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain? // Social Compass 37: 455–469.
Davie, G. 1994. Religion in Britain Since 1945: Believing without Belonging. Oxford: Blackwell.
Davie, G. 2002. Europe: The Exceptional Case. London: Longman & Todd.
Davie, G. 2007. Vicarious Religion: A Methodological Challenge // Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives / N. T. Ammerman (ed.), 21–35. Oxford: Oxford University Press.
Davie, G. 2010. Vicarious Religion: A Response // Journal of Contemporary Religion 25 (2): 261–266.
Davies, D. J. & M. Guest 2007. Bishops, Wives and Children: Spiritual Capital Across the Generations. Aldershot: Ashgate.
Davies, D. J. 1997. Death, Ritual and Belief. The Rhetoric of Funerary Rites. London: Cassell.
Davies, D. J. 2011. Emotion, Identity and Religion: Hope, Reciprocity, and Otherness. Oxford: Oxford University Press.
Day, A. 2009. Researching Belief without Asking Religious Questions // Fieldwork in Religion 4 (1): 86–104.
Day, A. 2011. Believing in Belonging: Belief and Social Identity in the Modem World. Oxford: Oxford University Press.
de Aquino, P. 2005. An Assembly of Humans, Shells and Gods. См.: Latour & Weibel (2005). 454–457.
de Certeau, M. 1985. What Do We Do When We Believe? // On Signs / M. Blonksy (ed.), 192–202. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
de Vries, H. (ed.) 2008. Religion: Beyond a Concept. New York: Fordham University Press.
Dennett, D. C. 2006. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. London: Allen Lane.
Detwiler, F. 1992. «All My Relatives»: Person in Oglala Religion // Religion 22:235–246.
Dowden, K. 2000. European Paganism: The Realities of Cult from Antiquity to the Middle Ages. London: Routledge.
Dueck, B. 2007. Public and Intimate Sociability in First Nations and Metis Fiddling // Ethnomusicology 51 (1): 30–63,
Dueck, B. 2013. Musical Intimacies and Indigenous Imaginaries: First Nations and Metis Dance in Public Performance. New York: Oxford University Press.
Ehrenreich, B. 2003. Maid to Order // Global Woman / B. Ehrenreich & A. R. Hochschild (eds), 85–103. London: Granta.
Eilberg-Schwartz, H. 1994. God’s Phallus and Other Problems for Men and Monotheism. Boston, MA: Beacon.
Evans-Pritchard, E. E. 1937. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Clarendon.
Farquharson, A. & L. Gordon 2012. Kafou: Haiti and Art. Nottingham: Nottingham Contemporary.
Fernandez Olmos, M. & L. Paravisini-Gebert 2003. Creole Religions of the Caribbean: An Introduction from Vodou and Santeria to Obeah and Espiritismo. New York: New York University Press.
Fitzgerald, T. 2000. The Ideology of Religious Studies. Oxford: Oxford University Press.
Fitzgerald, T. 2007. Discourse on Civility and Barbarity: A Critical History of Religion and Related Categories. New York: Oxford University Press.
Flood, G. 1999. Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion. London: Cassell.
Frazer, J. G. 1910. Totemism and Exogamy; 4 vols. London: Macmillan.
FSM Consortium 2010. The Loose Canon, (дата обращения 20.04.2013).
Fulbright, J. 1992. Hopi and Zuni Prayer-Sticks: Magic, Symbolic Texts, Barter or Self-Sacrifice? // Religion 22:221–234.
Fuller, R. C. 2004. Spiritual, but Not Religious: Understanding Unchurched America. New York: Oxford University Press.
Garuba, H. 2003. Explorations in Animist Materialism: Notes on Reading/Writing African Literature, Culture, and Society // Public Culture 15 (2): 261–285.
Geertz, A. 1999. Definition as Analytical Strategy in the Study of Religion // Historical Reflections/Reflexions Historiques 25 (3): 445–475.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books.
Gendlin, E. 1981. Focusing. New York: Bantam.
Gerth, H. H. & C. W. Mills (eds) 1948. From Max Weber: Essays in Sociology. London: Routledge.
Girard, R. 2004. Violence and Religion: Cause and Effect? // Hedgehog Review 6 (1): 8–20.
Goldschmidt, H. 2009. Religion, Reductionism, and the Godly Soul: Lubavitch Hasidic Jewishness and the Limits of Classificatory Thought // Journal of the American Academy of Religion 77 (3): 547–572.
Gombrich, R. E. 1971. Precept and Practice. Oxford: Clarendon.
Graeber, D. 2005. Fetishism as Social Creativity: or, Fetishes are Gods in the Process of Construction // Anthropological Theory 5 (4): 407–438.
Griffith, R. M. 2004. Born Again Bodies: Flesh and Spirit in American Christianity. Berkeley, CA: University of California Press.
Grimes, R. 2000. Deeply into the Bone: Re-inventing Rites of Passage. Berkeley, CA: University of California Press.
Grimes, R. 2002. Performance Is Currency in the Deep World’s Gift Economy: An Incantatory Riff for a Global Medicine Show // Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 9 (1): 149–164.
Grimes, R. 2003. Ritual Theory and the Environment // Sociological Review 51:31–45.
Gross, L. 1996. Making the World Sacred, Quietly, Carefully: Silence, Concentration and the Sacred in Soto Zen and Ojibwa Indian Experience // Address to Harvard Buddhist Studies Forum, 1 April 1996, Harvard University, Cambridge, MA.
Hallowell, A. I. 1955. Culture and Experience. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Hallowell, A. I. 1960. Ojibwa Ontology, Behavior, and World View // Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin / S. Diamond (ed.), 19–52. New York: Columbia University Press. Репринт в: Harvey (2002), 18–49.
Hallowell, A. I. 1992. The Ojibwe of Berens River. Manitoba: Ethnography into History / J. S. H. Brown (ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
Halman, L. & V. Draulans 2004. Religious Beliefs and Practices in Contemporary Europe // European Values Studies, vol 7, W. A. Arts & L. Halman (eds), 283–316. Leiden: Brill.
Hamayon, R. 2013. Shamanism and the Hunters of the Siberian Forest: Soul, Life Force, Spirit. См.: Harvey (2013), 284–293.
Hanegraaff, W. 1996. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden: Brill.
Haraway, D. 1991. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
Harris, A. 2008. The Wisdom of the Body: Embodied Knowing in Eco-Paganism. PhD thesis, University of Winchester.
Harris, A. 2013. Focusing in Nature // Bodymind Place (4 April), (дата обращения 11.04.2013).
Harvey, G. & K. R. MacLeod (eds) 2001. Indigenous Religious Musics. Aldershot: Ashgate.
Harvey, G. & R. Wallis 2010. The A to Z of Shamanism. Lanham, MD: Scarecrow Press.
Henare, A., M. Holbraad & S. Wastell (eds) 2007. Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically. London: Routledge.
Harvey, G. (ed.) 2000. Indigenous Religions: A Companion. London: Cassell.
Harvey, G. (ed.) 2002. Readings in Indigenous Religions. London: Continuum.
Harvey, G. 2003a. Guesthood as Ethical Decolonising Research Method // Numen 50 (2): 125–146.
Harvey, G. (ed.) 2003b. Shamanism: A Reader. London: Routledge.
Harvey, G. 2005a. Animism: Respecting the Living World. London: Hurst & Co.
Harvey, G. 2005b. Performing and Constructing Research as Guesthood // Anthropologists in the Field / L. Hume & J. Mulcock (eds), 168–182. New York: Columbia University Press.
Harvey, G. (ed.) 2005c. Ritual and Religious Belief: A Reader. London: Equinox.
Harvey, G. 2006. Listening People, Speaking Earth: Contemporary Paganism. 2nd edn. London: Hurst & Co.
Harvey, G. 2007. Inventing Paganisms // The Invention of Sacred Traditions / J. Lewis & O. Hammer (eds), 277–290. Cambridge: Cambridge University Press.
Harvey, G. (ed.) 2009a. Religions in Focus: New Approaches to Tradition and Contemporary Practices. London: Equinox.
Harvey, G. 2009b. Animism Rather than Shamanism: New Approaches to what Shamans do (for other animists) // New Interpretations of Spirit Possession / B. Schmidt & L. Huskinson (eds), 14–34. London: Continuum.
Harvey, G. 2011a. Field Research: Participant Observation // The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion / M. Stausberg & S. Engler (eds), 217–244. London: Routledge.
Harvey, G. 2011b. Paganism: Negotiating between Esotericism and Animism under the Influence of Kabbalah. См.: Huss (2011), 267–284.
Harvey, G. 2012a. Bardic Chairs and the Emergent Performance Practice of Pagans // Handbook of New Religions and Cultural Production / C. Cusack & A. Norman (eds), 399–416. Leiden: Brill.
Harvey, G. 2012b. Ritual is Etiquette in the Larger than Human World: The Two Wildernesses of Contemporary Eco-Paganism // Wilderness and Religion: Approaching Religious Spatialities, Cosmologies and Ideas of Wild Nature / L. Feldt (ed.), 265–291. Boston, MA: de Gruyter.
Harvey, G. 2013. Handbook of Contemporary Animism. Sheffield: Equinox.
Henderson, B. 2005. Open Letter To Kansas School Board // -letter (дата обращения 03.01.2012).
Hervieu-Leger, D. 2000. Religion as a Chain of Memory. Cambridge: Polity.
Hervieu-Leger, D. 2008. Religion as Memory: Reference to Tradition and the Constitution of a Heritage of Belief in Modern Societies. См.: de Vries (2008), 245–258.
Holbraad, M. 2007. The Power of Powder: Multiplicity and Motion in the Divinatory Cosmology of Cuban Ifa (or Mana Again) // Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically / A. Henare, M. Holbraad & S. Wastell (eds), 189–225. London: Routledge.
Holbraad, M. 2008. Definitive Evidence, from Cuban Gods // Journal of the Royal Anthropological Institute 14:93–109.
Holbraad, M. 2010. Afterword: Of Ises and Oughts: An Endnote on Divinatory Obligations // Divination: Perspectives for a New Millennium // P. Curry (ed.), 265–274. Farnham: Ashgate.
Holler, L. 2002. Erotic Morality: The Role of Touch in Moral Agency. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Hornborg, A. 1992. Machine Fetishism, Value, and the Image of Unlimited Good: Towards a Thermodynamics of Imperialism // Man 27 (new series): 1–18.
Hornborg, A. 2013. Animism, Fetishism, and the Cultural Foundations of Capitalism. См.: Harvey (2013), 244–259.
Howell, F. 2011. Sense of Place and Festival in Northern Italy: Perspectives on Place, Time and Community. PhD thesis, Open University.
Hultkrantz, A. 1983. The Concept of the Supernatural in Primal Religion // History of Religion 22: 231–253.
Humphrey, C. with U. Onon 1996. Shamans and Elders: Experience, Knowledge, and Power among the Daur Mongols. Oxford: Oxford University Press.
Huss, B. 2011. Kabbalah and Contemporary Spiritual Revival. Beer Sheva: Ben Gurion University of the Negev Press.
Hutton, R. 1991. The Pagan Religions of the Ancient British Isles. London: Blackwell.
Hutton, R. 1994. The Rise and Fall of Merry England: The Ritual Year 1400–1700. Oxford: Oxford University Press.
Hutton, R. 1996. The Roots of Modern Paganism // Paganism Today / G. Harvey & C. Hardman (eds), 3–15. London: Thorsons.
Hutton, R. 1999. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. Oxford: Oxford University Press.
Hutton, R. 2003. Witches, Druids and King Arthur. London: Hambledon.
Hutton, R. 2007. The Druids: A History. London: Hambledon.
Hutton, R. 2009. Blood and Mistletoe. New Haven, CT: Yale University Press.
Ingold, T. & J. L. Vergunst (eds) 2008. Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot. Aldershot: Ashgate.
Ingold, T. 2000. The Perception of the Environment. London: Routledge.
Ingold, T. 2011. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. London: Routledge.
Irwin, L. 1992. Contesting World Views: Dreams among the Huron and Jesuits // Religion 22:259–269.
James, W. [1902] 1997. The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature. New York: Simon & Schuster.
Jamison, I. 2011. Embodied Ethics and Contemporary Paganism. PhD thesis, Open University.
Johnson, P. C. 2000. The Fetish and McGwire’s Balls // Journal of the American Academy of Religion 68 (2): 243–264.
Johnson, P. C. 2002a. Secrets, Gossip and Gods: The Transformation of Brazilian Candomble. Oxford: Oxford University Press.
Johnson, P. C. 2002b. Migrating Bodies, Circulating Signs: Brazilian Candomble, the Garifona of the Caribbean, and the Category of Indigenous Religions // History of Religions 41 (4): 301–327.
Johnson, P. C. 2005. Savage Civil Religion // Numen 52: 289–324.
Johnson, P. C. 2013. Whence «Spirit Possession»?. См.: Harvey (2013), 325–340.
Joy, M. 2010. Why we Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows: An Introduction to Carnism, the Belief System that Enables us to Eat Some Animals and Not Others. San Francisco, CA: Conan Press.
Keane, W. 2007. Christian Moderns: Freedom and Fetish in the Mission Encounter. Berkeley, CA: University of California Press.
Kent, S. A. 2009. Post-World War II New Religious Movements in the West. См.: Clarke & Beyer (2009), 492–510.
Kim C. 2003. Korean Shamanism: The Cultural Paradox. Aldershot: Ashgate.
King, R. 2007. The Association of ‘Religion with Violence: Reflections on a Modern Trope // Religion and Violence in South Asia: Theory and Practice / J. R. Hinnells & R. King (eds), 226–257. London: Routledge.
Knight, C. 1996. Totemism // Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology / A. Barnard & J. Spencer (eds), 550–551. London: Routledge.
Knott, K. 2005a. The Location of Religion: A Spatial Analysis. London: Equinox.
Knott, K. 2005b. Spatial Theory and Method for the Study of Religion // Temenos 41 (2): 154–184.
Knott, K. 2009. Geography, Space and the Sacred // The Routledge Companion to the Study of Religion / J. Hinnells (ed.), 476–491. London: Routledge.
Koerner, J. L. 2005. Reforming the Assembly. См.: Latour & Weibel (2005), 404–433.
LaFleur, W. R. 1998. Body. См.: M. C. Taylor (1998), 36–54.
Lakoff, G. & M. Johnson 1999. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. San Francisco, CA: HarperCollins.
Landes, R. 1968. Ojibwa Religion and the Midewiwin. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
Latour, B. 2002. War of the Worlds: What about Peace? Chicago, IL: Prickly Paradigm Press.
Latour, B. 2010. On the Modern Cult of the Factish Gods. Durham, NC: Duke University Press.
Latour, В. & P. Weibel (eds) 2005. Making Things Public: Atmospheres of Democracy. Karlsruhe: ZKM.
Lear, L. 2007. Beatrix Potter: A Life in Nature. New York: St Martin’s Press.
Letcher, A. 2000. «Virtual Paganism» or Direct Action? The Implications of Road Protesting for Modern Paganism // Diskus 6, -6/letcher6.txt (дата обращения 16.05.2011).
Letcher, A. 2001. The Scouring of the Shires: Fairies, Trolls and Pixies in Eco-Protest Culture // Folklore 112:147–161.
Letcher, A. 2005. Eco-paganism // Encyclopedia of Religion, Culture and Nature / A. Taylor (ed.), 556–557. London: Continuum.
Levenson, J. D. 1993. The Death and Resurrection of the Beloved Son. New Haven, CT: Yale University Press.
Levi-Strauss, C. [1952] 1973. Anthropologie structurale deux. Paris: Plon.
Lopez, D. S. 1998. Belief. См.: M. C. Taylor (1998), 21–35.
Luduena, G. A. 2005. Asceticism, Fieldwork and Technologies of the Self in Latin American Catholic Monasticism // Fieldwork in Religion 1 (2): 145–164.
Malotki, E. & M. Lomatuway’ma 1984. Hopi Coyote Tales/lstutuwutsi. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Mark, Z. 2011. The Contemporary Renaissance of Braslav Hasidism: Ritual, Tiqqun and Messianism. См.: Huss (2011), 101–116.
Marshall, R. 2009. Political Spiritualities: The Pentecostal Revolution in Nigeria. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Masuzawa, T. 2000. Troubles with Materiality: The Ghost of Fetishism in the Nineteenth Century // Comparative Studies in Society and History 42 (2): 242–267.
Masuzawa, T. 2005. The Invention of World Religions Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Mataira, P. 2000. Mana and Tapu: Sacred Knowledge, Sacred Boundaries. См.: Harvey (2000), 99–112.
McCutcheon, R. 1997. Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia. New York: Oxford University Press.
McCutcheon, R. 2001. Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion. Albany, NY: SUNY Press.
McCutcheon, R. 2003. The Discipline of Religion: Structure, Meaning Rhetoric. London: Routledge.
McGuire, M. B. 2008. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. New York: Oxford University Press.
McNally, M. 2009. Honoring Elders: Aging Authority and Ojibwe Religion. New York: Columbia University Press.
Midgley, M. 2004. The Myths We Live By. London: Routledge.
Mills, C. W. 1951. White Collar: The American Middle Classes. New York: Oxford University Press.
Morrison, T. 1987. Beloved: A Novel. New York: Knopf.
Morrison, К. M. 1992a. Beyond the Supernatural: Language and Religious Action // Religion 22:201–215.
Morrison, К. M. 1992b. Sharing the Flower: A Non-Supernaturalistic Theory of Grace // Religion 22: 207–219. Репринт в: Harvey (2002), 106–120.
Morrison, К. M. 2000. The Cosmos as Intersubjective: Native American Other-than-Human Persons. См.: Harvey (2000), 23–36.
Morrison, К. M. 2002. The Solidarity of Kin: Ethnohistory, Religious Studies, and the Algonkian-French Religious Encounter. Albany, NY: SUNY Press.
Morrison, К. M. 2013. Animism and a Proposal for a Post-Cartesian Anthropology. См.: Harvey (2013), 38–52.
Mutiga, M. 2011. Push for Pope’s Trial in Clergy Child Abuse Cases // Daily Nation (2 October), (дата обращения 21.10.2011).
Narayanan, V. 2000. Diglossic Hinduisms: Liberation and Lentils // Journal of the American Academy of Religion 68 (4): 761–779.
Naveh, D. & N. Bird-David 2013. Animism, Conservation and Immediacy. См.: Harvey (2013), 27–37.
Nelson, R. 1983. Make Prayers to the Raven: A Koyukon View of the Northern Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Neusner, J. 1981. Judaism: Evidence of the Mishnah. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Neusner, J. 2002. Judaism: An Introduction. New York: Penguin.
Newcomb, S. T. 1992. Five Hundred Years of Injustice // Shamans Drum (fall): 18–20, (дата обращения 15.01.2012).
Newcomb, S. T. 2008. Pagans in the Promised Land: Decoding the Doctrine of Christian Discovery. Golden, CO: Fulcrum.
Nichols, J. D. & E. Nyholm 1995. A Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Nussbaum, M. C. 2004. Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Nussbaum, M. C. 2010. From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press.
Nye, M. 2004. Religion: The Basics. London: Routledge.
Office of National Statistics 2012. Religion in England and Wales 2011 // .
Olcott, H. S. [1881] 1947. The Buddhist Catechism, 44th edn. Adyar: Theosophical Publishing House.
Olsson, T. 2013. Animate Objects: Ritual Perception and Practice among the Bambara in Mali. См.: Harvey (2013), 226–243.
Orsi, R. 1997. Everyday Miracles: The Study of Lived Religion // Lived Religion in America: Toward a History of Practice / D. Hall (ed.), 3–21. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Pace, E. 2011. Religion as Communication: God’s Talk. Aldershot: Ashgate.
Paine, C. (ed.) 2000. Godly Things: Museums, Objects and Religion. London: Leicester University Press.
Parsons, G. 2004. Siena, Civil Religion and the Sienese. Aldershot: Ashgate.
Parsons, G. 2008. The Cult of Saint Catherine of Siena: A Study in Civil Religion. Aldershot: Ashgate.
Pels, P. 1998. The Spirit of Matter: On Fetish, Rarity, Fact, and Fancy // Border Fetishisms: Material Objects in Unstable Spaces / P. Spyer (ed.), 91–121. New York: Routledge.
Pels, P. 2008. The Modern Fear of Matter: Reflections on the Protestantism of Victorian Science // Material Religion 4 (3): 264–283.
Pentikainen, J. 2009. Central Asian and Northern European Shamanism. См.: Clarke & Beyer (2009), 99–108.
Pflug, M. A. 1992. Breaking Bread: Metaphor and Ritual in Odawa Religious Practice // Religion 22:247–258.
Pickering W. S. F. 1994. Locating the Sacred: Durkheim, Otto and Some Contemporary Ideas, BASR Occasional Papers 12. Leeds: British Association for the Study of Religions.
Pietz, W. 1985. The Problem of the Fetish I // Res 9: 5–17.
Pietz, W. 1987. The Problem of the Fetish II // Res 13:23–45.
Pietz, W. 1988. The Problem of the Fetish III // Res 16:105–123.
Platvoet, J. 2001. Chasing Off God: Spirit Possession in a Sharing Society. См.: Harvey & MacLeod (2001), 122–135.
Plumwood, V. 1993. Feminism and the Mastery of Nature. London: Routledge.
Plumwood, V. 2000. Being Prey // Utne Reader (1 July), -07-01/being-prey.aspx (дата обращения 09.02.2012).
Plumwood, V. 2002. Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. London: Routledge.
Plumwood, V. 2008. Shadow Places and the Politics of Dwelling // Australian Humanities Review 44:139–150, -content/uploads/2011/04/eco02.pdf (дата обращения 12.02.2012).
Plumwood, V. 2009. Nature in the Active Voice // Australian Humanities Review 46: 113–129, -May-2009/plumwood.html (дата обращения 09.02.2012). Репринт в: Harvey 2013.
Primiano, L. N. 1995. Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife // Western Folklore 54 (1): 37–56.
Primiano, L. N. 2012. Afterword. Manifestations of the Religious Vernacular: Ambiguity, Power, and Creativity // Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief / U. Valk & M. Bowman (eds), 382–394. London: Equinox.
Pye, M. 1993. Pilgrimage // Macmillan Dictionary of Religion / M. Pye (ed.), 203–204. Basingstoke: Macmillan.
Pye, M. 2010. The Way is the Goal: Buddhist Circulatory Pilgrimage in Japan with Special Reference to Selected Artefacts // Pilgrims and Travellers in Search of the Holy / R. Gothoni (ed.), 163–182. New York: Peter Lang.
Raphael, M. 1994. Feminism, Constructivism and Numinous Experience // Religious Studies 30:511–526.
Rappaport, R. A. 1999. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press.
Rasmussen, K. 1929. Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Report of the Fifth Thule Expedition. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
Reader, I. 1995. Cleaning Floors and Sweeping the Mind // Ceremony and Ritual in Japan // J. van Bremen & D. P. Martinez (eds), 227–245. London: Routiedge. Репринт в: Harvey (2005c), 88–104.
Reader, I. 2004a. Ideology, Academic Inventions and Mystical Anthropology // Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, discussion paper 1, (дата обращения 03.07.2012).
Reader, I. 2004b. Dichotomies, Contested Terms and Contemporary Issues in the Study of Religion // Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, discussion paper 3, (дата обращения 03.07.2012).
Rose, D. B. 1992. Dingo Makes Us Human: Life and Land in an Australian Aboriginal Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Rose, D. B. 1997. Common Property Regimes in Aboriginal Australia: Totemism Revisited // The Governance of Common Property in the Pacific Region / P. Larmour (ed,), 127–143. Canberra: NCDS.
Rose, D. B. 1998. Totemism, Regions, and Co-management in Aboriginal Australia // Paper presented at Crossing Boundaries, International Association for the Study of Common Property 7th Annual Conference, Vancouver, June 10–14, (дата обращения 19.02.2012).
Rose, D. В. 2004. Reports from a Wild Country: Ethics for Decolonisation. Sydney: University of New South Wales Press.
Ross, D. 2011. Introduction // Image and Pilgrimage in Christian Culture / V. Turner & E. Turner, xxix – lvii. New York: Columbia University Press.
Rubenstein, S. L. 2012. On the Importance of Visions among the Amazonian Shuar // Current Anthropology 53 (1): 39–79.
Ruel, M. 1997. Christians and Believers // Belief Ritual and the Securing of Life: Reflexive Essays on a Bantu Religion, 36–59. Leiden: Brill. Репринт в: Harvey (2005c), 243–264.
Saler, B. 1977. Supernatural as a Western Category // Ethnos 5: 31–53.
Saler, B. 1993. Conceptualising Religion: Immanent Anthropologists, Transcendent Natives, and Unbounded Categories. Leiden: Brill.
Saler, B. 2000. Conceptualising Religion Responses // Perspectives on Method and Theory in the Study of Religion / A. W. Geertz & R. R. McCutcheon (eds), 323–338. Leiden: Brill.
Sangharakshita U. 1998. What is the Dharma? The Essential Teachings of the Buddha. Birmingham: Windhorse Publications.
Schmidt, B. & L. Huskinson (eds) 2010. Spirit Possession and Trance: New Interdisciplinary Perspectives. London: Continuum.
Schwartz, Y. 1999. The Hillula of Rabbi Shimon bar Yohai at Meron // To The Tombs of the Righteous: Pilgrimage in Contemporary Israel / R. Gonen (ed.), 46–59. Jerusalem: Israel Museum.
Seamone, D. 2013. This is My Story, This is My Song: A Pentecostal Woman’s Life Story and Ritual Performance. Berkeley, CA: University of California Press.
Sedaris, D. 2001. Me Talk Pretty One Day. London: Abacus.
Shields, J. M. 2000. Sexuality, Blasphemy, and Iconoclasm in the Media Age: The Strange Case of the Buddha Bikini // God in the Details: American Religion in Popular Culture / M. Mazur & K. McCarthy (eds), 80–101. New York: Routledge.
Shumaker, R. W., K. R. Walkup & В. B. Beck 2011. Animal Tool Behavior: The Use and Manufacture of Tools by Animals. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Singer, S. 1962. Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth of Nations. London: Eyre & Spottiswoode.
Smith, J. Z. 1978. Map is Not Territory: Studies in the History of Religions. Chicago, IL: Chicago University Press.
Smith, J. Z. 1987. To Take Place: Toward a Theory of Ritual. Chicago, IL: Chicago University Press.
Smith, W. C. [1962] 1978. The Meaning and End of Religion. London: SPCK.
Southwold, M. 1979. Religious Belief // Man 14 (4): 628–644.
Soyinka, W. 1970. The Interpreters. London: Heinemann.
Soyinka, W. 1976. Myth, Literature and the African World. Cambridge: Cambridge University Press.
Spelman, E. 1988. Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought. Boston, MA: Beacon.
Spretnak, C. 1999. The Resurgence of the Real: Body, Nature, and Place in a Hypermodern World. New York: Routledge.
Spretnak, C. 2011. Relational Reality: New Discoveries of Interrelatedness that Are Transforming the Modern World. Topsham: Green Horizon Books.
Steinberg, M. 2005. The Fiction of a Thinkable World: Body, Meaning, and the Culture of Capitalism. New York: Monthly Review Press.
Stover, D. 2001. Postcolonial Sun Dancing at Wakpamni Lake // Journal of American Academy of Religion 69 (4): 817–836. Репринт в: Harvey (2002), 173–193.
Strenski, I. 2006. Thinking About Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion. Oxford: Blackwell.
Stuart, E. 2009. The Priest at the Altar: The Eucharistic Erasure of Sex // Trans/Formations / L. Isherwood & M. Althaus-Reid (eds), 127–138. London: SCM.
Sullivan, W. F. 2008. Neutralizing Religion; or, What is the Opposite of Faith-based?. См.: de Vries (2008), 563–579.
Tarlo, E. 2010. Visibly Muslim: Fashion, Politics and Faith. Oxford: Berg.
Taussig, M. 1998. Transgression. См.: M. C. Taylor (1998), 349–564.
Tawhai, T. P. [1988] 2002. Maori Religion. См.: Harvey (2002), 238–249. Впервые опубликовано в: The Study of Religion: Traditional and New Religion / S. Sutherland & P. Clarke (eds), 96–105 (London: Routledge, 1988).
Taylor, B. 2010. Dark Green Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
Taylor, C. 2008. The Future of the Religious Past. См.: de Vries (2008), 178–244.
Taylor, M.C. (ed.) 1998. Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Thistlethwaite, S. B. 2011. It’s Not «Class Warfare», it’s Christianity // Washington Post (19 September), -faith/post/its-not-class-warfare- its-christianity/2011/09/19/gIQAkoMxfK_blog.htm (дата обращения 02.10.2011).
Thomas, T. 1994. «The Sacred» as a Viable Concept in the Contemporary Study of Religions // BASR Occasional Papers 13. Leeds: British Association for the Study of Religions. Репринт в: Religion: Empirical Studies / S. J. Sutcliffe (ed.), 47–66 (Aldershot: Ashgate, 2004).
Thompson, C. D. 2000. The Unwieldy Promise of Ceremonies: The Case of the Jakalteko Mayas Dance of the Conquest. См.: Harvey (2000), 190–203.
Thompson, C. D. 2001. Maya Identities and the Violence of Place: Borders Bleed. Aldershot: Ashgate.
Thompson, C. D. 2005. Natives of Bleeding Land: The Case of the Jacalteco Maya // Indigenous Diasporas and Dislocation / G. Harvey & C. Thompson, 57–77. Aldershot: Ashgate.
Tuhiwai Smith, L. 2012. Decolonising Methodologies: Research and Indigenous Peoples, 2nd edn. London: Zed.
Turner, D. H. 1999. Genesis Regained: Aboriginal Forms of Renunciation in Judeo-Christian Scriptures and Other Major Traditions. New York: Peter Lang.
Turner, E. 1993. Bar Yohai, Mystic: The Creative Persona and his Pilgrimage // Creativity/Anthropology / S. Lavie, K. Nayran & R. Renaldo (eds), 225–251. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Turner, V. 1973. The Center out There: Pilgrim’s Goal // History of Religions 12 (3): 191–230.
Tweed, T. 1997. Our Lady of the Exile: Diasporic Religion at a Cuban Catholic Shrine in Miami. New York: Oxford University Press.
Tweed, T. 2005. Marking Religion’s Boundaries: Constitutive Terms, Orienting Tropes, and Exegetical Fussiness // History of Religions 44 (3): 252–276.
Tweed, T. 2006. Crossing and Dwelling: A Theory of Religion. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tweed, T. 2009. Crabs, Crustaceans, Crabiness, and Outrage: A Response // Journal of the American Academy of Religion 77 (2): 445–459.
Uberoi, J. P. C. 1978. Science and Culture. Delhi: Oxford University Press.
Valk, U. & M. Bowman (eds) 2012. Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief. London: Equinox.
Varela, F. J., E. Thompson & E. Roach 1991. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press.
Vasquez, M. A. 2011. More than Belief: A Materialist Theory of Religion. Oxford: Oxford University Press.
Veisson, M. 2011. Widowhood Rites in North-eastern Ghana // Paper presented at British Association for the Study of Religions Conference, 5–7 September, Durham University, Durham, UK.
Victoria and Albert Museum 2012a. Beatrix Potter and Randolph Caldecott // -potter-randolph-caldecott (дата обращения 17.02.2012).
Victoria and Albert Museum 2012b. Beatrix Potter: Nature’s Lessons // -potter-natures-lessons (дата обращения 17.02.2012).
Vincett, G. 2008. The Fusers: New Forms of Spiritualized Christianity // Women and Religion in the West Challenging Secularization / K. Aune, S. Sharma & G. Vincett (eds), 133–146. Aldershot: Ashgate.
Vincett, G. 2009. Quagans: Fusing Quakerism with Contemporary Paganism // Quaker Studies 13 (2): 220–237.
Viveiros de Castro, E. 1998. Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism // Journal of the Royal Anthropological Institute 4 (3): 469–488, (дата обращения 19.02.2012).
Viveiros de Castro, E. 2004. Exchanging Perspectives // Common Knowledge 10(3): 463–485.
Vizenor, G. 1998. Fugitive Poses: Native American Indian Scenes of Absence and Presence. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Voas, D. & S. MсAndrew 2012. Three Puzzles of Non-religion in Britain // Journal of Contemporary Religion 27 (1): 29–48.
Voas, D. 2009. The Rise and Fall of Fuzzy Fidelity in Europe // European Sociological Review 25:155–168.
von Stuckrad, K. 2002. Reenchanting Nature: Modern Western Shamanism and Nineteenth-Century Thought // Journal of the American Academy of Religion 70 (4): 771–799.
Wade, N. 2008. Bacteria Thrive in Inner Elbow; No Harm Done // New York Times (23 May), (дата обращения 17.02.2012).
Wakeford, T. 2001. Liaisons of Life, from Hornworts to Hippos: How the Unassuming Microbe has Driven Evolution. New York: John Wiley.
Welch, C. 2007. Complicating Spiritual Appropriation: North American Indian Agency in Western Alternative Spiritual Practice // Journal of New Age and Alternative Spiritualties 3:97–117.
Werlang, G. 2001. Emerging Amazonian Peoples: Myth-Chants. См.: Harvey & MacLeod (2001), 165–182.
Whitehead, A. 2012. Religious Objects and Performance: Testing the Role of Materiality. PhD thesis, Open University.
Whitehead, A. 2013. The New Fetishism: Western Statue Devotion and a Matter of Power. См.: Harvey (2013), 260–270.
Whitehead, N. L. & R. Wright 2004. In Darkness and Secrecy: The Anthropology of Assault Sorcery and Witchcraft in Amazonia. Durham, NC: Duke University Press.
Whitehouse, H. 2004. Modes of Religiosity. New York: Altamira.
Wiebe, D. & L. H. Martin 2012. Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion // Journal of the American Academy of Religion 80 (3): 587–597.
Wiebe, D. 1999. The Politics of Religious Studies: The Continuing Conflict with Theology in the Academy. New York: St Martin’s Press.
Willerslev, R. 2007. Soul Hunters: Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley, CA: University of California Press.
Wolffe, J. 1994. God and Greater Britain: Religion and National Life in Britain and Ireland, 1843–1945. London: Routledge.
Yang, С. K. 1967. Religion in Chinese Society. Berkeley, CA: University of California Press.
Yarwood, A. T. 1967. Marsden, Samuel (1765–1838) // Australian Dictionary of Biography. National Centre of Biography, Australian National University, -samuel-2433/text3237 (дата обращения 31.01.2012).
Yasin, S. 2010. An Interview with Emma Tarlo, Author of «Visibly Muslim» // Muslimah Media Watch (24 February), -interview-with-emma-tarlo-author-of-visibly-muslim (дата обращения 21.10.2011).
Сноски
1
Здесь «Золотой король» (англ. Golden King) – эвфемизм, означающий медведя (личное сообщение автора). – Прим. ред.
(обратно)2
За эти ссылки я благодарю Хью Битти (Hugh Beattie).
(обратно)3
Понятие performance (скорее даже глагол to perform совершать, исполнять, делать, воплощать и т. п.) является одним из важнейших в настоящей книге. Следует, однако, иметь в виду, что автор не употребляет его в каком-либо строгом терминологическом смысле, сознательно играя на его многозначности, как научной – от перфоманса как действия до перформативности как свойства высказываний, – так и вполне обыденной. Поскольку в русском языке отсутствуют такие возможности, в настоящем издании соответствующее слово дается в переводе, наиболее контекстуально корректном, однако сопровождается указанием на оригинальное понятие (в скобках), дабы у читателя была возможность «достроить» смысл вместе с автором. – Прим. ред.
(обратно)4
Я благодарен Байрону Дейку (Dueck 2013) за «творческое использование» терминов «близость» и «воображение» в другом контексте.
(обратно)5
См. примечание на стр. 119. – Прим. ред.
(обратно)6
Далее я использую термин Аотеароа, говоря о Новой Зеландии.
(обратно)7
См. примечание на стр. 127. – Прим. ред.
(обратно)8
В концепции Тэрнера «отречение» (англ. renunciation) представляет собой особый тип реципрокного альтруизма, характерного для сообществ охотников и собирателей Австралии и предполагающего тотальный отказ от доступного для группы ресурса в пользу других групп (как, например, происходит на острове Бикертон, где группе, существующей вблизи источников пресной воды, запрещено ими пользоваться). Тэрнер видит связь такого отречения со Сновидениями (также эпохой Сновидений), временем, когда мир приобретал привычные черты благодаря деяниям и физическим отправлениям тел первопредков. Таким образом, привычный мир существует как форма отречения от себя предков эпохи Сновидений, но эпоха Сновидений продолжается благодаря отречению существ привычного мира. – Прим. ред.
(обратно)9
«Антропологам вполне привычно внимательное отношение к наивным категориям в этнографическом исследовании тех народов, у которых эти категории имеют хождение; пришло время позаимствовать некоторые из этих категорий и попробовать в порядке эксперимента использовать их в качестве инструмента кросс-культурного анализа. Иными словами, мы можем попробовать использовать эти категории для того, чтобы разведывать и описывать те культуры, в которых эти категории отсутствуют, подобно тому как сегодня мы используем категорию религии для того, чтобы нащупывать и описывать фрагменты культур тех народов, которые не имеют для религии ни соответствующего слова, ни соответствующей категории» (Saler 1993:263). – Прим. ред.
(обратно)10
Понятие «вернакулярная религия» (от англ. vernacular – повседневный, местный, простонародный, народный и т. д.) было введено в религиоведческий контекст Леонардом Норманом Примиано для обозначения «такой религии, какой она является в реальной жизни: такой, с какой люди сталкиваются, какой ее понимают, интерпретируют и практикуют» (Primiano 1995:44). – Прим. ред.
(обратно)11
Одним из важных аспектов метода Харви являются поиски и пробы нового языка, немалую роль в которых играют эксперименты с лексемой religion. В частности, Харви настаивает на том, что это слово должно употребляться в качестве глагола – to religion, religioning, а также doing religion. В русском языке такие возможности отсутствуют, а потому понятия religioning и doing religion переводятся как «практика религии» и «практиковать религию». Принятый в англоязычной исследовательской литературе термин religionist в настоящем издании переводится как «религиозный человек», учитывая акцент автора на повседневности религии (и повседневных способах практиковать религию). – Прим. ред.
(обратно)12
Здесь автор перечисляет места паломничеств, священных для бахаи, шиитов, шактистов, йоруба, католиков, хасидов и поклонников аниме соответственно. – Прим. ред.
(обратно)13
В названии магазина используется формула такбир (араб. «Аллаху акбар!»). – Прим. ред.
(обратно)14
Я благодарен Эми Уайтхед за информацию об этих терминах и трудах.
(обратно)15
Васкес приводит цитату из трактата Августина «Об истинной религии» (Августин 1999:488). – Прим. ред.
(обратно)16
Работа Каролин Уокер Байнам «Христианская материальность» (Bynum 2011) бросает вызов леви-строссовскому противопоставлению, подчеркивая устойчивость парадоксальности материального и телесного в позднесредневековом христианстве. См. подробнее в главе 11.
(обратно)17
Belief Matters: Reconceptualizing Belief and Its Use. Игра слов: belief matters может переводиться и как «материя веры», и как «вера имеет значение», и как «вопросы веры». – Прим. пер.
(обратно)18
Статус, получаемый при регистрации Комиссией по благотворительности (The Charity Commission), в частности, освобождает от налогов. – Прим. пер.
(обратно)19
Я благодарен Тасе Скраттон за то, что она обратила мое внимание на этот вопрос.
(обратно)20
Я понимаю, что это утверждение идет вразрез с другими христианскими верованиями, касающимися воплощения и причастия. Но, судя по всему, имперский подход доминировал в куда большей степени, чем корпоративные.
(обратно)21
Игра слов: Loose Canon – букв. «Свободный канон», но также аллюзия на выражение (букв.) «непривязанная пушка», т. е. (иноск.) «непредсказуемый человек». – Прим. пер.
(обратно)22
Образ гаражного дракона был разработан Карлом Эдвардом Саганом (Sagan C. The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark. Ballantine: New York, 1996) в качестве демонстрации того, как теистические экзистенциальные утверждения трансформируются, с тем чтобы быть неуязвимыми для критики. Пример сопоставим с известным аргументом Б. Рассела (изложенным в неопубликованной статье 1952 г.), в соответствии с которым бремя доказательства того, что бог существует, лежит на теисте, а не на атеисте. Рассел указывал на то, что человек, утверждающий, что на орбите Земли вращается фарфоровый чайник, не фиксируемый с помощью самой точной техники, и заявляющий о том, что это утверждение неопровержимо, не может рассчитывать на серьезное к себе отношение. – Прим. ред.
(обратно)23
Автор вводит понятие «theoilogy» (от др.-греч. theoi – «боги» и logoi – «слова», «учения»). – Прим. ред.
(обратно)24
Книга Б. Латура «Nous n’avons jamais ete modernes: Essais d’anthropologie symmetrique» («Мы никогда не были современными: Эссе по симметричной антропологии») была издана на русском языке под названием «Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии». Здесь мы следуем этому переводу, хотя и рекомендуем читателю помнить о названии оригинала. – Прим. ред.
(обратно)25
Термином theo-politics Харви обозначает христианские политические программы, обосновывавшие европейский колониализм (личное сообщение автора). – Прим. ред.
(обратно)26
Этим термином Харви называет предметы, которые действуют в качестве личностей (агентов) и взаимодействие с которыми предполагает реализацию соответствующих лингвистических средств (например, категории одушевленности или вокативов) и социальных протоколов. Примерами таких объектов являются упомянутые в главе 1 маски и куклы качина (коко), а также камни, гром, тотемы и пр., описанные в главе 7. – Прим. ред.
(обратно)27
«Заключение в скобки» (англ. bracketing) или epoche здесь – процедура, разработанная в рамках феноменологического метода, предполагающая исключение из процесса исследования религии всех субъективных аспектов – культурных представлений, мировоззренческих стереотипов и религиозных предпочтений исследователя. – Прим. ред.
(обратно)28
Термин был предложен для обозначения тех риторик и идеологий, которые скрываются за иконографией, выражающей культурный статус индейцев Америки (присутствующих в культурном поле в качестве «беглецов»). Таким образом, в данном случае Харви полагает, что божество предстает в позе беглеца, поскольку «объективность» исследователей представляет собой качество, присущее тому самому бесстрастному всеведущему богу, которого они якобы отвергают. – Прим. ред.
(обратно)29
Most-modernism – у Харви понятие, подчеркивающее, что «постмодерн» так и не наступил, многие коренные народы продолжают жить традиционной жизнью, колониализм не перестал господствовать; если что-то и случилось за последние десятилетия, то только усугубление состояния модерна, отсюда «слишком-модернизм» (личное сообщение автора). – Прим. ред.
(обратно)30
«Глубинным» Граймс называет мир, открывающийся в ходе ритуала, ритуализованного представления, дарообмена. – Прим. ред.
(обратно)31
«Время, когда влияние человека на земные системы приобрело геологическую эпохальность»; см. сайт Ecological Humanities, .
(обратно)32
«Отвращение» Миджли другого порядка, за что ее справедливо критиковала Марта Нуссбаум (Nussbaum 2004, 2010).
(обратно)33
То есть существами, воспринимающими себя со смещением в пользу одной из составляющих личности. – Прим. ред.
(обратно)34
Игра слов: «муравей» – ant, сокр. от actor network theory (акторно-сетевая теория – Латур 2014), «паук» – spider, сокр. от skilled practice involves developmentally embodied responsiveness (искусная практика подразумевает воплощение отзывчивости в процессе развития – Ingold 2011). – Прим. пер.
(обратно)35
Автор вслед за другими исследователями противопоставляет индивидов (существ, определяемых изнутри собственных границ и существующих в рамках того мира, который отводит им светская культура) дивидам (существам, связанным друг с другом отношениями, личность которых складывается из взаимодействий). – Прим. ред
(обратно)36
Тим Инголд предлагает развернутую критику противопоставления фигуративного и нефигуративного изобразительного искусства, программной и непрограммной музыки (т. е. имеющей и не имеющей указания на свое содержание). – Прим. ред.
(обратно)37
«Рыба-в-воде» – Тим Инголд разрабатывает образ, предложенный Василием Кандинским в заметке «Рыба и линия» (опубликованной на английском языке в журнале Axis в 1935 г.): Кандинский пишет о сходствах и различиях рыбы (фигуры) и линии, указывая, что линия в любой момент может стать рыбой, а также на то, что рыба обладает свойствами (которые, собственно, и делают ее рыбой – плавать в воде, быть съеденной), незначительными для живописи, для которой поэтому линия предпочтительнее (см.: Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. М.: Гилея, 2001). – Прим. ред.
(обратно)38
Одно из iwi (племен) у маори. – Прим. пер.
(обратно)39
Добыча леса в значительной степени контролируется многонациональными корпорациями, уделяющими не слишком много времени и внимания заботам коренного народа. Но на данный момент закроем на это глаза и обратимся к деятельности, которая ближе к описанной Тауваи.
(обратно)40
Поскольку это высказывание, имеющее характер действия, оно может рассматриваться в духе теории речевых актов. – Прим. ред.
(обратно)41
На русском языке см.: Сказки и легенды маори (Из собрания А. Рида). Сост. и перев. с англ. Ю. С. Родман. Предисл. и общ. ред. А. М. Кондратьева. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. С. 13–19. – Прим. ред.
(обратно)42
Созвучные, но более интервенционалистские идеи см.: Rappaport (1999) и Grimes (2000, 2002, 2003).
(обратно)43
Whanau – понятие маори (все более проникающее в официальный дискурс в Новой Зеландии), означающее группу родственников (обычно объединяющую несколько поколений), проживающую на определенной территории; таким образом, термин whanau может означать и «семья», и «поселение». – Прим. ред.
(обратно)44
Это предположение отчасти уже обсуждалось в специальном выпуске журнала Religion, приглашенным редактором которого выступил Моррисон и в который вошли материалы не только об алгонкинских народах, но также о хопи, оглала, зуни – см.: Detwiler 1992, Fulbright 1992 и Morrison K. M. 1992b.
(обратно)45
Харви противопоставляет растения и животных в качестве реальных родственников тотемам в интерпретации Леви-Стросса, которые «хороши, чтобы думать» (см. выше). – Прим. ред.
(обратно)46
Коюконы – коренное население Аляски. – Прим. пер.
(обратно)47
Автор имеет в виду первые предложения романа, ставшие одним из наиболее выразительных примеров постколониальной литературы: «Этот звук выворачивает желудок, – бормотал Саго, заткнув уши, чтобы не слышать скрежета железных столиков о бетон» (Шойинка В. Интерпретаторы // Иностранная литература. 1970. № 10). Однако в опубликованном переводе на русский язык деталь, о которой говорит Харви, отсутствует. В оригинале роман начинается так: «„Metal on concrete jars my drink lobes“. This was Sagoe, grumbling as he stuck fingers in his ears against the mad screech of iron tables», «„Метал по бетону выворачивает мои питьевые впадины“, – ворчал Саго, заткнув уши, чтобы не слышать визг железных столиков». Этот образ неоднократно становился предметом специальных герменевтических усилий, благодаря которым возводился и к ритуалам инициации вокруг водных источников, и к их постановкам – в ироническом духе, свойственном, кстати, литературному персонажу Саго, – нигерийскими интеллектуалами. В соответствии с одной из интерпретаций слова Саго означают: «Звук машин, движущихся по асфальту городских улиц, досаждает мне, мешает моим попыткам напиться как мужчина» (Jeyifo B. Wole Soyinka: Politics, Poetics, and Postcolonialism. Cambridge, 2003. P. 172). Для Харви здесь важен прием, благодаря которому окружение персонажа и его тело образуют одну среду, а выдуманный орган – питьевые впадины – более чем реален физиологически (его «выворачивает»), причем прием этот не исключительно литературный. – Прим. ред.
(обратно)48
Роман «Возлюбленная» Тони Моррисон – лауреата Нобелевской премии по литературе 1993 года – является одним из выдающихся произведений афроамериканской литературы. См.: Моррисон Т. Возлюбленная // Иностранная литература. 1994. № 12. – Прим. ред.
(обратно)49
См. примечание 1 на стр. 216.
(обратно)50
Латур со ссылкой на де Бросса («Негры, обитающие на западном берегу Африки, а также внутри континента вплоть до Нубии, граничащей с Египтом, почитают божества, которые европейцы называют фетишами (fetiches). Этот термин наши торговцы в Сенегале произвели из португальского слова fetisso, т. е. вещь, служащая для колдовства, чар, гаданий или прорицаний (его латинский корень: fatum (прорицание), fa-num (святилище), fari (предсказывать)» – Бросс, де, 1973:20) добавляет: «Хотя все этимологические словари соглашаются по поводу происхождения этого слова, Шарль де Бросс, изобретший термин „фетишизм“ (фр. Fetichisme) в 1760 году, возводил его к fatum (предопределение), источнику французского существительного fee, волшебное существо, и прилагательного в словосочетании objet-fee, волшебный объект (также и английского прилагательного fey, волшебный)» (Latour 2010:3). – Прим. ред.
(обратно)51
Харви продолжает тезис Карри, который, в свою очередь, цитирует А. Уайтхеда: «Философия перестает быть полезной, когда она потворствует искусству самооправдания» (Уайтхед А. Процесс и реальность / Избранные работы по философии. М., 1990. С. 291). «Самооправданием» в данном случае является утверждение о том, что в основании прорицаний лежит естественная интеллектуальная ошибка, на которую, поскольку она ошибка, не стоит и обращать внимания. – Прим. ред
(обратно)52
Статья Холбраада посвящена феномену Аче: с одной стороны, этим словом именуется некая сила (power), сопоставимая с мана, а с другой – порошок (powder), которым владеют божества и благодаря которому посвященные способны прорицать (Holbraad 2007:201–202). – Прим. ред.
(обратно)53
На русском языке об этом см.: Тэрнер В. Символ и ритуал. Сост. В. А. Бейлис и автор предисл. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. С. 168–264. – Прим. ред.
(обратно)54
В русском переводе (Джеймс 1993) приведенный фрагмент отсутствует. – Прим. пер.
(обратно)55
Цитата полностью: «Изучение Торы (ивр. талмуд Тора) здесь и сейчас воспроизводит встречу на горе Синай. Причем буквально: когда Израиль собирается вместе для изучения Торы, в этом присутствует Бог» (Neusner 2002:116). – Прим. ред.
(обратно)56
В книге Мелани Джой «Почему мы любим собак, едим свиней и носим коров» (Joy 2010) представлены странности типичной американской пищевой культуры.
(обратно)57
См.: Вебер М. Социальная психология мировых религий // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. С. 54. – Прим. ред.
(обратно)58
Автор использует понятие в дюркгеймианском смысле. – Прим. ред.
(обратно)59
Кольца непорочности или целомудрия – кольца, которые носят на безымянном пальце левой руки в знак обета целомудрия до брака. Silver Ring Thing – одна из программ популяризации клятв сохранения девственности, поощряющая подростков воздерживаться от секса до брака. Проводит музыкальные концерты и распространяет серебряные кольца с цитатой из Библии (Фес 4:3–4) в качестве символов принятого обета. – Прим. пер.
(обратно)60
См.: Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001; Бурдье П. Различение: социальная критика суждения / Пер. с фр. О. И. Кирчик // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В. В. Радаев; Пер. М. С. Добряковой и др. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – Прим. ред.
(обратно)61
См. примечание на стр. 107.
(обратно)
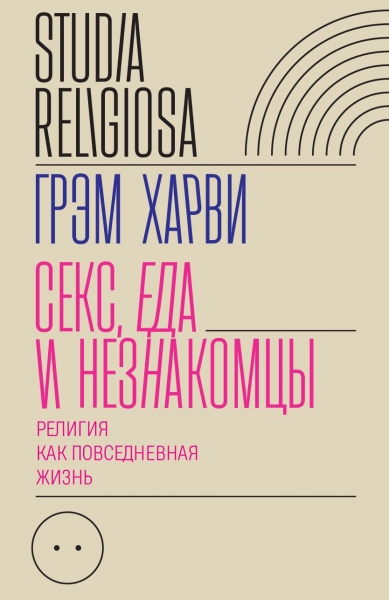


Комментарии к книге «Секс, еда и незнакомцы», Грэм Харви
Всего 0 комментариев