Арлен Блюм КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ЛЕНИНГРАДЕ Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки 1953-1991
Федеральная целевая программа «Культура России» (подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»).
Подсолнух следит за солнцем.
Ромашка следит за подсолнухом.
Я слежу за ромашкой.
Цензура следит за мной.
Фазиль ИскандерОт автора
Пятнадцать лет назад, одновременно с развалом Советского Союза и крахом монолитной идеологической системы, закончилось, как следует надеяться, и царство цензуры, верой и правдой служившей режиму в течение 70 лет. Представляемая на суд читателя книга посвящена последнему, почти сорокалетнему периоду ее истории, начавшемуся в 1953 г. вместе со смертью Сталина и закончившемуся в конце 1991-го, когда были распущены органы всесильного Главлита СССР. Книга хронологически и логически завершает своего рода «трилогию», задуманную автором почти четверть века назад, когда появилась, наконец, возможность проникнуть в цензурные архивы, до того засекреченные и представлявшие собой тайное тайных. Первая книга вышла в издательстве «Академический проект» в 1994 г. под названием «За кулисами “Министерства правды”: тайная история советской цензуры» и посвящена ее начальному периоду (1917–1929); вторая — в том же издательстве в 2000 г. — «Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953».
В отличие от них в настоящей книге автору пришлось сузить ее «географию», ограничившись сюжетами и документальными материалами, относящимися почти исключительно лишь к одному городу, — Ленинграду. Вызвано это следующими соображениями. Во-первых, тем, что более или менее полное исследование этого огромного, почти 40-летнего периода в истории советской цензуры потребовало бы не только написания и издания целой серии книг, но и привлечения документов многих региональных архивов. Во-вторых, такое ограничение объясняется не столько тем, что автор живет в Петербурге, сколько доступом (хотя и не всегда простым!) к документам Ленинградского управления по охране государственных тайн в печати, называемого в дальнейшем Ленгорлит. В отличие от других «литов», как сокращенно назывались местные филиалы центрального управления (отсюда даже произошли глаголы «литовать, «залитовать», то есть получить разрешение на издание), его документы сравнительно неплохо сохранились в петербургских архивах[1]. При этом нужно иметь в виду, что фонды самого Главлита СССР, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, страдают большими лакунами, архив Мосгорлита практически уничтожен полностью, региональные архивы тоже существенно пострадали в период развала системы. В связи с этим документы петербургских архивов, пожалуй, наиболее репрезентативны. Они позволяют реконструировать в какой-то мере деятельность и самого Главлита, регулярно присылавшего в Ленгорлит различные распоряжения, циркуляры, перечни закрытых сведений и другие документы, имеющие отношение не только к деятельности последнего, но и цензурной политике вообще. Наконец, в-третьих, хотя модель управления средствами информации и была тотальной, всё же в нашем городе она имела свою специфику, вызванную различными причинами и обстоятельствами (см. подробнее об этом в «Эпилоге»). В главах 9, 10 и том же «Эпилоге», впрочем, автор выходит за обозначенные географические пределы, рассматривая проблему в более широком контексте.
За годы, прошедшие со времени издания второй нашей книги, многое изменилось: теперь, как сказал поэт, «идет другая драма». Не с такой степенью интенсивности, как это наблюдалось в эйфорические 90-е годы, но все же весьма заметно продвинулось изучение нашей темы и, что очень важно, на региональном уровне. Защищен ряд диссертаций, и даже одна докторская, издано несколько монографий по указанной тематике и учебное пособие для вузов[2].
В начале нашего века продолжали регулярно проводиться научные конференции, в частности, на базе Российской Национальной библиотеки, начатые еще в 1991 г., на которых рассматриваются различные проблемы и аспекты истории и современного состояния цензуры в России, продолжает выходить в Москве журнал «Досье на цензуру», выпускаемый с 1997 г. Фондом защиты гласности, — российский вариант «Индекса цензуры» («Index of Censorship»), основанного русскими правозащитниками в 1972 г. в Лондоне. Важно, что вышел в свет ряд сборников архивных документов, в том числе такой капитальный, как «История советской политической цензуры»[3]. Стараниями Института русской культуры им. Ю. М. Лотмана при Рурском университете в Бохуме и его директора, доктора Карла Аймермахера, осуществлено в 1999 г. издание документального сборника «Цензура в СССР», подготовленного автором этих строк (вышел вторым изданием в издательстве «РОССПЭН» в 2004-м под названием «Цензура в Советском Союзе. 1917–1991»). Годом ранее автору удалось подготовить справочник «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. Индекс советской цензуры с комментариями», изданный Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств. Значительное внимание нашей теме уделяли и уделяют некоторые зарубежные слависты, особенно М. Тэкс Холден, М. Фридберг, М. Дью-хирст (последний особенно интересуется положением печати в пост-коммунистический период)[4].
Тем не менее, исследователи, занимающиеся изучением нашей темы, сталкиваются со значительными трудностями. Крайне медленно идет до сих пор процесс «рассекречивания» документов: в последнее время он свернут и практически заморожен на уровне середины 90-х годов. Создаются и различные преграды на пути исследователей. Характерно, что первыми уловили новые веяния некоторые наши архивисты. Как ни странно, в минувшее десятилетие даже органы тайной политической полиции, хотя не всегда, не всем и далеко не полностью, стали предоставлять архивы и раскрывать свои тайны, относящиеся к эпохе Большого террора (см., например, многотомный «Ленинградский мартиролог. Книга памяти жертв политических репрессий», основанный на документах бывшего КГБ, и ряд других публикаций). Как я убедился на собственном опыте, с особым тщанием оберегает секреты бывший партийный архив в Смольном, «закрывая» документы, относящиеся именно к истории советской цензуры[5]. Видимо, механизм убиения слова и мысли представляет еще большую государственную тайну, чем физическое истребление людей. Что ж, это может даже в какой-то мере льстить национальному самолюбию, лишний раз подтверждая ставшую уже трюизмом мысль о «литературоцентричности», «логоцентрич-ности» российской ментальности: отсюда, как считается, и великая литература!
Но если еще теплится надежда, что когда-нибудь впоследствии «авось, архивы нам откроют» (если слегка перефразировать Пушкина), то гораздо хуже другое: более страшно и непоправимо то, что подавляющее большинство цензурных документов было заблаговременно уничтожено самим Главлитом. Один из его высокопоставленных чиновников в 1990 году заявил, что открытие архивов Главлита «…будет большим ударом для историков, которые говорят об “ужасной” деятельности» Главлита… Цензура не загубила ни одного по-настоящему талантливого произведения» (курсив мой. — Л. Б.)[6]. Для того, вероятно, чтобы лишить историков последних иллюзий и чтобы «удар» для них был более впечатляющим, Главлит тогда же приказал подвергнуть уничтожению наиболее опасные документы. В том же 1990 году им разослано на места секретное распоряжение «Об архивах Главлита», которое предписывало «…дела с “Перепиской с партийными и государственными органами республики (края, области)”… исключить из “Описей дел постоянного хранения”, установив временный срок хранения не более трех лет, и предоставить право руководителям местных органов уничтожать эти дела по своему усмотрению»[7].
Цензурные органы и ранее систематически старались уничтожить следы своей деятельности. Так, еще в 1979 г. начальник Ленинградского управления запросил у Главлита согласия на уничтожение отчетов своих подчиненных, в которых раскрываются методы цензорской работы, и приводятся данные о «произведенных вмешательствах», то есть самый ценный для историка материал. Аргументация его в своем роде бесподобна: «Практика Ленинградского управления показывает, что только за последние 3 года сделано около 7 ООО вычерков. И учитывая, что, как правило, каждый вычерк оформляется на отдельном бланке, а в месяц количество вычерков часто превышает 250, получается, что в течение 3 лет Управлением должно быть заведено 30–40 дел. Для этого потребуется иметь дополнительные железные шкафы и помещение. Исходя из этого, просим рассмотреть вопрос о предоставлении права ряду Управлений уничтожать цензорские вычерки после получения от Главлита СССР заключения»[8].
Перед закатом Главлита, в 1990–1991 гг., в массовом порядке подверглись уничтожению сотни и тысячи документов, что крайне затрудняет сейчас полную реконструкцию его деятельности. Всем начальникам цензурных управлений разослан специальный циркуляр: «Часть пересмотренных дел будет предложена государственному архиву к уничтожению, так как документы эти утратили практическое значение и, по заключению комиссии, не имеют научной и исторической ценности (копии приказов, сводки вычерков, переписка с местными органами по вопросам цензуры, докладные записки, справки по проверке деятельности цензоров и ряд других)». Замечу, что перечислены как раз те документы, которые представляют особый интерес для историка, особенно «сводки вычерков», т. е. купюр на цензорском жаргоне. Тогда же начальник ленинградской цензуры подверг сомнению «целесообразность хранения документов с грифом “Секретно” и “ДСП” (для служебного пользования), а также “Перечни” Главлита СССР издания 1987 г. и дополняющие его приказы, которые утратили силу и подлежат уничтожению». Благословение, разумеется, было получено… В так называемом «Ликвидационном деле» Леноблгорлита, когда в конце 1991 г. органы цензуры были распущены, сохранились «утвержденные отборочные списки документальных материалов и акты на уничтожение секретных документов» за 1928–1991 гг.[9].
Точку поставила созданная в 1990 г. «экспертная комиссия», которая решила, что «часть пересмотренных дел Главлита и его местных органов будет предложена Госархиву к уничтожению, так как сроки их хранения по перечню типовых документов, образующихся в деятельности государственных учреждений, не превышает 10 лет, а документы эти утратили практическое значение и, по заключению комиссии, не имеют научной и исторической ценности (копии приказов и циркулярных распоряжений, отчеты по соцсоревнованиям, сводки вычерков, переписка с местными органами по вопросам цензуры, докладные записки цензоров и ряд других). Рекомендуется с получением настоящего письма приступить к пересмотру архивных дел местных органов, находящиеся на хранении в государственных архивах республик, краев и областей и собственных архивах. Соответствующие указания Главархива СССР местные архивные органы имеют. Данная информация сообщается для возможного использования местными органами системы при пересмотре своих дел, находящихся на постоянном хранении»[10].
Несколько слов о содержании и структуре настоящей книги. Автор вполне отдает себе отчет в том, что в советское время — особенно в период застоя — собственно цензурная практика, осуществляемая на местах органами Главлита СССР, представляла собой лишь часть (хотя и очень существенную) всепроникающего, многоярусного механизма, предназначенного для подавления мысли и интеллектуальной свободы. Без разрешения Главлита, как известно, не могло появиться в свет ни одно произведение печати, даже самое пустячное, вплоть до какой-нибудь спичечной наклейки, открытки, афиши и т. п. Но нужно, конечно, иметь в виду, что собственно цензурные репрессии, осуществляемые в порядке превентивного контроля, представляли собой, если применить несколько подзатасканную метафору, лишь видимую часть айсберга… Каждый раз нужно иметь в виду, что запрещаемые тексты уже прошли теснины и лабиринты: во-первых, самоцензуры, вошедшей к тому времени в плоть и кровь обученных авторов, хорошо изучивших правила игры и во что бы то ни стало желающих увидеть свой текст в подсоветской печати; во-вторых, цензуры редакторской, по словам Н. Я. Мандельштам, «перекусывающей каждую ниточку», и, в-третьих, контроль со стороны идеологических структур партии, за которыми всегда оставалось последнее слово. Со временем именно они стали играть главную роль, не говоря уже о чисто полицейских охранительных инстанциях, которым она, цензура, полностью подчинялась. Но даже после такой фильтрации, своего рода «отрицательной селекции», в результате которой должен, казалось бы, появиться вполне дистиллированный текст, «в осадке», тем не менее, кое-что все-таки оставалось. Вот этот «осадок» и вызывал время от времени появление различного рода цензурных «сигналов», адресованных партийным и главлитовским инстанциям и свидетельствующих о так называемых «прорывах» на идеологическом фронте. Вот почему для изучения темы привлечены документы не только Главлита, но и различных партийных инстанций, в основном, идеологических отделов ленинградского Обкома КПСС.
Нужно постоянно иметь в виду также и то, что в распоряжении системы всегда находились не только чисто запретительные, но и другие эффективные средства «отрицательной селекции» — искусственного и целенаправленного сужения культурного пространства, которое, по мере поступательного движения вперед, скукоживалось все больше и больше на манер шагреневой кожи. С течением времени всё большую роль начинают играть не столько цензоры, сколько сами редакторы издательств и журналов, руководители «творческих союзов» и другие чиновники, приставленные к литературе и искусству.
Центральное место в книге отведено идеологическому надзору за литературой гуманитарного характера. За ее пределами остались другие отрасли знания — в частности, естественнонаучная литература, требующая особого подхода и иных методов исследования[11].
В небольшой степени затронута в книге тема цензурного наблюдения за содержанием публичных массовых представлений (эстрадных, цирковых, театральных, музыкальных и иных), за которыми следила не столько собственно цензура (хотя порой она тоже вмешивалась в эту сферу), сколько агитпроповские структуры обкома, чиновники Управления культуры и другие «искусствоведы в штатском», как называли в те годы сотрудников 5-го, идеологического, управления КГБ, следивших, в числе прочего, за настроениями в среде художественной интеллигенции и за литературой, распространявшейся в этой среде.
Первоначально автор намеревался разбить книгу на три части — «Оттепель», «Застой», «Перестройка», — но затем отказался от этой идеи (кроме выделения последнего периода в отдельную главу). Дело в том, что историки не до конца еще определились в хронологии и качественном различии первого и второго периодов. Одни полагают, что оттепель сменилась застоем в 1964 г., когда был снят Хрущев, другие считают пограничным и роковым годом 1968-й, отмеченный подавлением «чешской весны» и вводом советских войск в Прагу, третьи вообще отказываются проводить грань между ними, полагая (несправедливо, как мне кажется), что принципиального различия между этими периодами нет. Так или иначе, но ясно, что в 60-х годах, после «октябрьского переворота» и свержения Хрущева, очередной раз в истории России маятник качнулся — от крайне непоследовательных попыток реформ и либерализации общества к террору, но не дошел до роковой отметки и застрял где-то посередине между ними. Начался двадцатилетний «застой». Такая «смена караула», по мере возможности, отмечена внутри глав и разделов книги.
В отличие от других книг автора, в настоящей использованы устные мемуарные свидетельства участников литературного процесса — писателей, редакторов, издательских работников, — которые любезно и охотно делились своим, как правило, горестным опытом столкновений с ленинградской цензурой в годы застоя. Глубочайшая благодарность им за это! Благодарю также моих друзей и коллег — филологов, историков и книговедов, неизменно приходивших мне на помощь в тех случаях, когда возникали вопросы, входившие в сферу их профессиональной компетенции.
Глава 1. Цензурная ситуация в годы оттепели и застоя
Хрущевское десятилетие, названное оттепелью по известной повести Ильи Эренбурга 1954 г., ласточке приближающейся «весны», отличалось, конечно, от предшествующей страшной четверти века. Но принципиальные основы тоталитарного режима и всеохватной цензуры остались нетронутыми, несмотря на разоблачение «культа личности». Хотя писателям дозволены были на первых порах некоторые вольности, время от времени устраивались литературные погромы, все возвращавшие на круги своя. В самом же слове «оттепель», означавшем, по Далю, «зимнее тепло», за которым непременно следуют морозы, таилась некая двусмысленность. Главными вехами ее стали XX и XXII съезды КПСС, породившие эйфорию в интеллигентской среде и надежды на решительные перемены. Однако приметами времени стала не только реабилитация жертв ГУЛАГа, но и «…хрущевский кулак, отнюдь не метафорически занесенный над головами интеллигентов… и неотвратимо грядущий крах “Нового мира”»[12].
Началась оттепель с призыва к искренности. Нашумела статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Новый мир. 1953. № 12), показавшаяся тогда необычайно смелой. Примечательно, что сразу же после смерти Сталина, буквально через десять дней, произведена была, по инициативе Берия, административная реорганизация цензурного ведомства, что, в свою очередь, связано с объединением двух охранительных министерств — МГБ СССР и МВД СССР — в одно. Главлит и все его местные инстанции стали подчиняться МВД СССР на правах 11 Главного управления по охране государственных и военных тайн в печати. В мае 1953 г. Берия был арестован, но именно тогда вышел 1-й том 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии», в котором помещена обширная статья о нем с портретом. Всем библиотекам и подписчикам, даже иностранным, срочно был разослан новый лист с категорическим предложением: удалить «бериевский» лист и вклеить присланный. Государственные библиотеки, естественно, покорно выполнили это требование; частные подписчики, как правило, сохраняли и тот и другой «на память». После «развенчания» куратора объединенного ведомства и его расстрела, в октябре 1953 г. решено было вернуть Главлит в прежнее состояние, подчинив его, как и прежде, непосредственно Совету Министров СССР.
В «Справке Главлита за 1954 г.», направленной в Управление ЦК по подбору и распределению кадров, отмечалось, что «всего в центральном аппарате и его местных органах работает 6708 человек. В Центральном аппарате — 305 сотрудников. В основном, коммунисты — свыше 77 %, в Иностранном отделе из 47 человек — только 20. На 1 января 1955 г. в районах 4273 цензоров-совместителей». Эти цифры явно занижены: не учтено большое число уполномоченных, работавших при издательствах, редакциях крупных журналов и газет, на радио и телевидении. Кроме того, не указано число военных цензоров, не подчинявшихся Главлиту. В той же справке указан образовательный ценз сотрудников: «С высшим и незаконченным высшим — 2307 человек, со средним 1489, незаконченным средним — 477 человек. В Главлите Туркменской ССР из десяти цензоров аппарата нет ни одного человека с высшим образованием». Начальник Главлита жалуется на нехватку кадров, а между тем только в одном 1954 г. «…в разрешенных к печати произведениях по Главлиту СССР и его местным органам было сделано около 33 тысяч цензорских вмешательств, в том числе 31 тысяча перечневых и более 1600 политико-идеологических. Цензорами аппарата Главлита было сделано 2759 вмешательств»[13].
Состоявшийся в 1956 г. XX съезд КПСС приоткрыл завесу над преступлениями режима, началось возвращение из лагерей уцелевших его жертв. Но уже осенью того же благословенного года введены были танки в Будапешт, а затем последовали внутренние репрессивно-идеологические акции, которые должны были приструнить творческую интеллигенцию. Той же осенью разразился скандал со 2-м, ставшим последним, выпуском показавшегося чересчур либеральным альманаха «Литературная Москва», — главным образом из-за публикации в нем рассказов А. Яшина «Рычаги», в котором впервые подвергнута сомнению благотворная роль местных партийных организаций, Ю. Нагибина «Свет в окне», подборки стихотворений возвращенного из ссылки Николая Заболоцкого, предчувствовавшего в одном из них «приход зимы, ее смертельный холод», и других «несозвучных эпохе» текстов.
Осень антисталинского года была урожайной и для истосковавшегося по правде читателя и — по той же причине — для зубодробительной критики и цензурно-охранительных инстанций: «Новый мир» напечатал в 8-м номере рассказ Д. Гранина «Собственное мнение» и начал публикацию романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Нужно было одернуть чересчур «зарвавшихся» авторов, указать им на их место. Н. С. Хрущев, начавший с тех пор, к сожалению, время от времени интересоваться литературой, выступил с огромным докладом «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Творческие союзы каждого крупного города, тем более Ленинграда, так и не оправившегося после ждановского погрома в августе 1946 г. и выхода постановления ЦК, должны были обсудить этот доклад и «выработать в его свете» соответствующие решения. 17 октября 1957 г. в Таврическом дворце состоялось закрытое (от беспартийных масс) «Собрание актива работников творческих союзов по вопросу о выступлении т. Хрущева», стенограмма которого сохранилась в делах бывшего Ленпартархива[14].
От имени ленинградской литературной организации доклад был сделан Сергеем Ворониным, главным редактором незадолго до того основанной «Невы». По заведенному порядку, доклад начинается с обзора «достижений» ленинградских писателей, «в целом» занимающих правильные идеологические позиции; затем докладчик перешел к «теневым моментам». Любопытно, что обнаружились они вовсе не в текстах писателей, а в их выступлениях на собраниях, встречах с читателями и т. п. «В этих выступлениях, — указывал докладчик, — заострялось внимание на том, что писатель — лицо неприкосновенное, что ему должна быть предоставлена полная свобода творчества, без цензуры, без редакторов… Наиболее ретиво <писатели> выступали с заявлениями против вмешательства в литературные дела партийных работников. Е. И. Катерли так говорила на одном из собраний в нашей организации, посвященном обсуждению вопросов идеологической работы в свете решений XX съезда КПСС: “Почему нас все учат и учат, начиная от секретаря обкома и кончая инструктором райкома, хотя они ни черта не понимают в литературе. Почему им не учиться у нас — знающих душу искусства?” Ольга Берггольц в своих выступлениях пошла еще дальше, она утверждала, что в нашей литературе всё еще господствует “полуправда”, “друг-другабоязнь”, “начальствобоязнь” и многие другие болезни. И что основной причиной этого являются постановления ЦК КПСС по идеологическим вопросам, которые, якобы, “тяжелым камнем” давили на развитие нашей литературы». Докладчик, естественно, обрушился на А. Яшина, Д. Гранина, В. Дудинцева и других писателей, отступивших от правды соцреализма. Особенно досталось крамольному московскому альманаху: «Если рассказ Яшина можно считать случайным в его творчестве, то появление “Рычагов” на страницах “Литературной Москвы” явление не случайное <…> как и статья Оренбурга, одним из тезисов которой было такое определение жизни и смерти поэтессы Марины Цветаевой: “Жила как поэт, умерла как гражданин”. А она — повесилась…» (!). Напомнил докладчик и об уроках «венгерских событий», произошедших ровно за год до этого: «И потому, товарищи, мы должны помнить, что было в Венгрии. В подготовке фашистского путча очень неблаговидную роль сыграли некоторые венгерские литераторы…» Это «сильное заявление» явно почерпнуто из выступлений Н. С. Хрущева конца 1956 г., уверенного в том, что венгерский народ взбунтовали писатели-злоумышленники из клуба «Петефи». Власти в России вообще никогда не сомневались в том, что главное зло исходит от творческой интеллигенции, от писателей по преимуществу, а потому для них необходима самая жестокая цензура.
В конце 60-х годов, после известных пражских событий, в своем кругу, как тогда говорили, высказался на сей счет главный идеолог партии М. А. Суслов. Как раз в это время группа советских писателей обратилась нему с жалобой на засилье главлитовских чиновников, своими мелочными придирками мешающими им «творить». Они просили смягчить цензуру и даже разработать особый «Закон о печати» (чтобы они точно знали, что можно и чего нельзя), на что Суслов, якобы, ответил им: «В Праге отменили цензуру, и мы вынуждены были ввести туда танки. Если мы отменим цензуру, кто будет вводить танки в Москву?» Скорее всего, это апокриф, но какой зловещий!
История иногда любит подшутить: спустя 7 лет после произнесения доклада, в котором подвергнуты такой суровой критике писатели, возмечтавшие об ослаблении цензуры, в 1964 г., сам С. Воронин претерпел от нее — он был отстранен от должности главного редактора «Невы» за ряд «цензурных прорывов», допущенных им в журнале (см. об этом далее).
Каждый год, предшествовавший «свержению» Хрущева в октябре 1964-го («второму октябрьскому перевороту», как называли его тогда) отмечался тем или иным литературным эксцессом, свидетельствовавшим о том, как мало изменились суть, самая природа идеократическо-го режима, как велик был страх его перед сколько-нибудь свободно высказанным словом[15]. Все это вполне закономерно привело к инспирированным партийными идеологами и КГБ полицейским процессам — суду над Иосифом Бродским в феврале 1964 г. и высылке его из Ленинграда, а ровно через два года — над Синявским и Даниэлем. После расправы над ними всё стало ясно даже прекраснодушным, романтически настроенным интеллигентам, кроме некоторых из них, еще долгое время сохранявших иллюзии насчет «социализма с человеческим лицом» и веру в «хорошего Ленина», идеи которого были загублены и исковерканы его нехорошими продолжателями.
Характерно совпадение: именно в 1956 г., в год проведения XX съезда КПСС, на котором был прочитан знаменитый доклад Хрущева, посвященный преступлениям режима в годы «культа личности», цензурные тиски снова сжимаются. Некоторые либеральные «шатания» в среде интеллигенции, а главное — ноябрьские венгерские события, усилили внимание партии к идеологической сфере и, следовательно, стремление к «усовершенствованию» способов контроля над ней. В том же месяце (27 ноября) Секретариат ЦК рассматривал вопрос «О работе Главлита». В марте следующего года принято постановление ЦК под тем же названием. Начальник Главлита К. К. Омельченко, занимавший этот пост свыше десяти лет, был снят с работы, на эту должность назначен заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК П. К. Романов, самый долголетний (свыше 20 лет) начальник этого ведомства. Постановление отмечало «формальное отношение цензоров к своим обязанностям», обязывало Главлит «обеспечить коренное улучшение работы цензуры, повысить роль Главлита и его местных органов»[16].
Как можно понять, ЦК все-таки считал, что собственно цензурные органы не смогут обеспечить эффективный политико-идеологический контроль. С целью усиления «роли партии» в этой области 8 января 1958 г. создана Идеологическая комиссия ЦК, работавшая в течение шести лет и, в сущности, ставшая надцензурной, «направляющей» инстанцией. Председателем первой такой комиссии назначен М. А. Суслов, тот самый «серый кардинал», ставший особенно зловещей фигурой в годы застоя. Хотя первоначально на Комиссию была возложена задача разработки теоретических проблем, на деле она принимала свои постановления (они приравнивались к решениям самого ЦК) по сугубо конкретным вопросам. Немалое место в них отводилось «огрехам» цензурного ведомства, допускавшего к печати «идеологически-чуждые» книги и произведения[17].
Названия постановлений говорят сами за себя: «О неправильном подходе к переизданию сочинений С. Есенина» (19 июня 1958 г.), «О серьезных недостатках в издании приключенческой литературы» (4 сентября 1958 г.), «О серьезных недостатках в содержании журнала “Огонек”» (26 сентября 1958 г.), «О редакционной коллегии журнала “Крокодил”» (19 ноября 1958 г.) и т. д.
В начале 60-х годов Главлит вытесняется на периферию политического и идеологического контроля: на его долю остается преимущественно область охраны военных и экономических тайн. В 1963 г. решено вообще понизить статус Главлита, передав его в ведение только что организованного Государственного комитета Совета Министров СССР по печати (потом он стал называться Госкомиздатом СССР). Такое понижение вызвало глухой ропот и недовольство начальников местных управлений, в том числе республиканских, которые жаловались на то, что «возникновение промежуточной инстанции в виде комитетов и управлений по печати» ухудшает «связь с партийными органами»[18].
Такой довод оказался, очевидно, самым существенным: отсутствие прямого партийного руководства рассматривалось как нечто совершенно непозволительное. 18 августа 1966 г. Главлит снова вернулся в прежнее лоно, подчинившись формально Совету Министров СССР, на деле же — идеологическим отделам ЦК КПСС. В таком виде, под названием Главное управление по охране государственных тайн в печати, он и просуществовал свои последние четверть века — до ноября 1991 г. Новая инструкция, разосланная на места в 1967 г., ужесточала порядок прохождения рукописей на стадии предварительного контроля, резко усиливала идеологическую составляющую и ответственность цензоров.
В конце 60-х годов стали раздаваться голоса писателей, открыто протестовавших против засилья и произвола цензуры, начавшиеся со знаменитого письма А. И. Солженицына к IV съезду советских писателей, письма Л. К. Чуковской в защиту гонимого писателя и других. Тогда же группа писателей и ученых направила в Верховный Совет проект закона о свободном распространении и получении информации, предложив отменить главлитовский контроль. Естественно, письмо осталось без ответа. Точнее, оно привело к еще большему ужесточению идеологического надзора.
Закат оттепели обычно связывают с «очередным октябрьским переворотом» — отстранением Хрущева в октябре 1964 г. Однако календарные сроки эпохи далеко не всегда укладываются в привычные десятилетия: оттепель на самом деле продолжалась примерно 15 лет (1953–1968), поскольку в первые «пооктябрьские» годы еще как бы по инерции продолжалась активная литературная жизнь, необычайно высок был авторитет «Нового мира» во главе с А. Т. Твардовским.
Ситуация резко меняется именно в 1968 г.: начинается 17-летняя пора застоя. Как писал Федор Тютчев о времени, наступившем после восстания декабристов: «Зима железная дохнула, и не осталась ни следа…». Однако уже и в начале 60-х годов намечаются признаки будущего застоя, в частности, попытки ресталинизации. Очередное «замораживание» привело затем к резкому разделению культуры на официальную, подцензурную и подпольную, ушедшую в «сам-» и «тамиздат» (борьба с ними возлагалась на органы КГБ, о чем будет говориться далее в особой главе). В условиях догматически ориентированной культурной политики немногие настоящие писатели смогли выдержать гнет многочисленных инстанций, вовсе не ограничивающихся только глав-литовскими: многие вынуждены были эмигрировать или были насильственно высланы. В годы застоя ответственность за идеологическую чистоту публикуемых текстов всё больше и больше возлагается на редакторский аппарат в журналах, издательствах и прочих средствах информации, который, как точно заметил один из исследователей, «фактически превращали каждую опубликованную работу в коллективный продукт»[19].
Хотя речь в нашей книге идет о том, «как это делалось в Ленинграде», очень кратко, буквально пунктиром, наметим сейчас главные знаковые акции, приходящиеся на годы оттепели и застоя.
Год 1956: 2-й сборник альманаха «Литературная Москва». Резкой критике в партийной печати были подвергнуты многие произведения, вошедшие в него, в частности, статья И. Эренбурга «Поэзия Марины Цветаевой», рассказы А. Яшина «Рычаги», статья Л. Чуковской «Рабочий разговор», в которой под видом критики установившейся практики редактирования говорилось на самом деле о жесточайшей цензуре. «Они, эти произведения, — говорилось в одной из погромных статей, — издержки, а не завоевания советской литературы на ее едином с партией и народом трудном и сложном, но победоносном, героическом пути»[20]. Заодно разгрому подвергся роман «Не хлебом единым» В. Дудинцева (Новый мир. 1956. № №. 8—10); тогда же вышло отдельное издание. Запланированный 3-й выпуск сборника «Литературная Москва» так в свет и не вышел.
Год 1958: 29 октября Б. Л. Пастернаку присуждена Нобелевская премия «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии на традиционном поприще великой русской литературы». Непосредственным поводом для этого, как известно, послужил выход в конце 1957 г. в Италии романа «Доктор Живаго». По указке сверху началась ожесточенная травля писателя, исключенного тогда же из ССП. После известной истории с изданием на Западе в конце 20-х годов романов Евг. Замятина «Мы» и «Красного дерева» Бор. Пильняка это был первый случай издания за рубежом книги писателя, живущего в СССР, без дозволения начальства.
Год 1961: выход альманаха «Тарусские страницы». Изданный в Калуге, он включил публикации стихов и прозы Марины Цветаевой, стихов Н. Коржавина, Б. Слуцкого, Н. Заболоцкого, повести в стихах Вл. Корнилова «Шофер», повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» и других произведений, выходивших за дозволенные рамки. По решению Калужского обкома партии, поддержанному Бюро ЦК КПСС по РСФСР, директор Калужского издательства и главный редактор подверглись гонениям.
Год 1964\ дело Иосифа Бродского. 13 марта над ним состоялось в Ленинграде позорное судилище по обвинению в тунеядстве, поэт был приговорен к пяти годам ссылки на Север. Как известно, судебный процесс вызвал широкий резонанс. Стенограмма заседания, сделанная Ф. Вигдоровой, вскоре попала в «самиздат», затем была опубликована за рубежом в альманахе «Воздушные пути» (1965, № 4). В 1972 г. Бродский вынужден был покинуть страну, в 1987 г. он получил Нобелевскую премию по литературе.
Год 196&. процесс Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Писатели, опубликовавшие за рубежом свои «антисоветские» произведения, были осуждены соответственно на семь и пять лет лагерей. Андрей Донатович Синявский (1925–1997) после выхода из лагеря эмигрировал, с 1973 г. жил во Франции.
Год 1970. отставка А. Т. Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», имевшая принципиальное значение и означавшая конец каких бы то ни было игр с либерально настроенными шестидесятниками[21].
Год 1974— насильственная высылка А. И. Солженицына. Получивший в 1970 г. Нобелевскую премию по литературе, писатель в феврале 1974 г. арестован и насильственно вывезен из Советского Союза. Все его книги и даже номера «Нового мира», содержавшие публикации его произведений, были конфискованы и уничтожены (см. далее). После 20-летней вынужденной эмиграции возвратился в Россию.
Год 1979: история с «Метрополем». Неподцензурный литературный альманах выпущен в виде рукописи. Инициаторы выпуска — В. Аксенов, А. Битов, Вик. Ерофеев и Евг. Попов. Произведения, включенные в сборник, подвергались запретам и не вписывались в традиционные рамки соцреализма. Писатели вовсе не делали тайны из «Метрополя», а их требование издания его тиражом в тысячу экземпляров без всякой цензуры являлось первой попыткой пошатнуть установившуюся практику запретов в условиях «застойного тихого перепуга», как говорилось в предисловии к альманаху. Альманах оказался опубликован на Западе (издательство «Ardis», Анн Арбор, 1979), что вызвало ожесточенную критику в советской печати[22].
Разумеется, число таких акций можно умножить… Среди них не упомянуты многочисленные разнузданные выступления Н. С. Хрущева на встречах с художественной интеллигенцией, означавшие сигнал к «принятию мер». Для Ленинграда, например, принципиальное значение имела история, приключившаяся в 1973 г. с Е. Г. Эткиндом (см. подробнее гл.7 «Литературоведение»), и ряд других, о которых пойдет речь далее.
Все эти акции были инспирированы не столько самим Главлитом, сколько идеологическими отделами ЦК и органами КГБ. Именно от этих структур исходили директивные указания, беспрекословно исполнявшиеся всеми цензурными и иными надзирающими инстанциями, сигналы, означавшие начало очередной политической или идеологической кампании. Время от времени раздавался сверху государственно-партийный рык — пускалась очередная идеологическая «судорога», если вспомнить пророчество Ф. М. Достоевского в «Бесах». Вполне понятно, что она тотчас же отзывалась на цензурных органах, сразу принимавших конкретные меры «по своей линии».
Глава 2. Ленгорлит и его функции
Структура и технология цензурного контроля
Леноблгорлит — Ленинградское управление по охране государственных тайн в печати при Исполкоме Ленсовета (таково его полное последнее официальное название) — возник в июне 1922 г., сразу же после создания 6 июня того же года Главлита РСФСР. Первоначальное его название — Петроградский Гублит, что расшифровывалось как Управление по делам литературы и издательств Петроградского губернского Исполкома Петроградского Совдепа. В итоговой справке «Ленинградское Управление за 50 лет», подготовленной в мае 1972 г., с гордостью сообщалось о том, что оно «вместе со всеми местными органами Советской власти достойно отмечает знаменательную годовщину — 50-летие своего существования. Созданные 50 лет назад органы советской цензуры за полувековой период проделали огромную работу по охране военных и государственных тайн и тем самым внесли большой вклад в укрепление могущества первого в мире социалистического государства»[23].
Говоря о достижениях ленинградской цензуры в юбилейном 1967 году, когда отмечалось 50-летие октябрьского переворота, автор справки отметил, что только в этом году сотрудники Управления проконтролировали 72 ООО уч. — изд. листов, предотвратили публикацию 1793 секретных сведений: «Главлит высоко оценил работу Ленинградского управления в юбилейном году. Большая группа сотрудников Управления за образцовую работу была поощрена начальником Главлита СССР тов. Романовым П. К., который специально приезжал в 1967 году в Ленинград. Свой 50-летний юбилей Ленинградское управление встречает хорошими достижениями. Как один из отрядов советской цензуры, сегодня — это хорошо сплоченный и работоспособный коллектив. Отмечая 50-летие основания органов цензуры, Ленинградское управление полно сил и энергии для того, чтобы и впредь бдительно стоять на страже государственных тайн нашей Родины»[24].
О всепроникающем контроле над всеми без исключения средствами и источниками информации можно судить по одному лишь их перечислению в огромном бланке, заполняемом в конце каждого полугодия под таким названием: «Сведения о работе по контролю музеев, выставок, библиотек, книготорговой сети, типографий, политической изопродукциии, скульптуры, произведений для театра, эстрады, цирка и художественной самодеятельности». Все они разнесены по различным графам и колонкам с такими заголовками: «Наименование объектов контроля», «Количество объектов контроля», «Сделано цензорских вмешательств», «Возвращено на доработку», «Отклонено» и т. д. Так, только за 2-е полугодие 1960 г. сотрудники проверили 26 музеев, 130 выставок, 4785 библиотек, 490 книжных магазинов, 288 типографий. В частности, из библиотек было изъято 225 названий запрещенных книг в количестве 1057 экземпляров, из 5863 названий произведений изопродукции возвращено на доработку 218, отклонено 2, «сделано 10 цензурных вмешательств в экспозиции музеев и 11 в книги отзывов»[25]. Такие статистические данные должны были уверить начальство в «эффективности» работы и необходимости ее усиления за счет, между прочим, расширения штатов сотрудников, которые с трудом справляются с таким «огромным фронтом работ».
Структура Ленгорлита неоднократно менялась. На первых порах в его составе были организованы секторы и группы по надзору за различными видами печатных материалов и других средств массовой информации: сектор художественной литературы, научно-технической литературы, книжно-журнальный, газетный, книготорговой сети и библиотек, радиогруппа, группа изопродукции, отдел искусства, музеев, музыки, сектор иностранной литературы, отдел контроля полиграф-предприятий, областной (последний включал городских и районных «уполномоченных» — сотрудников, работавших в Ленинградской области). Помимо того, первоначально (до 1936 г.) в его состав входило местное отделение Главреперткома, созданного в начале 1923 г., наблюдавшего за репертуаром драматических и музыкальных театров, эстрады и даже цирка. Не раз отделы и секторы укрупнялись и разукрупнялись, но такая специализация сохранялась, в общем, до самого конца.
Технология цензурного контроля мало изменилась по сравнению с 30—40-ми годами (подробнее об этом см. главу «Технология цензурного контроля» в нашей кн.: Советская цензура в годы тотального террора. С. 36–45). По-прежнему любой текст фильтровался на стадиях предварительного и последующего контроля (мы не говорим сейчас о редакторской и так называемой «самоцензуре», о которых речь пойдет далее). На первой стадии цензор внимательно читал рукопись (в это время уже машинопись) любого произведения, предназначенного к печати, постоянно справляясь с «Перечнем секретных сведений», циркулярными указаниями Главлита СССР, в которых, в связи с частым изменением политической обстановки», объявлялись табуированными отдельные темы, вопросы, имена и т. д. Разумеется, он должен был проявлять и «творческий подход к делу», учитывая последние веяния, уловляемые обычно из решений очередных съездов и пленумов ЦК КПСС, передовых установочных статей, публикуемых в «Правде», журнале «Коммунист» и других партийных органах печати. На этой стадии производились так называемые «вычерки», т. е. купюры в тексте, но, в отличие о прежних времен, никакая «отсебятина» уже не дозволялась. Все эти вмешательства в текст фиксировались в особом паспорте, заводимом на каждое произведение печати, а также вносились в два экземпляра машинописи, один из которых оставался в делах Ленгорлита, а другой передавался издающей организации.
На второй стадии, последующей, верстка сверялась с оставленным экземпляром текста, причем здесь могли возникнуть новые претензии — опять-таки в связи с изменением идеологической или политической ситуации. Скажем, «установлением дружеских отношений» со странами «народной демократии», о которых прежде можно было говорить только в негативном плане, например, с Югославией, Албанией и Китаем, или наоборот — разрывом таких отношений. Другая опасность, подстерегавшая авторов и издателей на этой стадии, — объявление того или иного лица «нежелательной персоной» в связи с «впадением» его в диссидентство, арестом, насильственной высылкой, эмиграцией и т. п. В таком случае текст шел по второму кругу. Только после внесения всех изменений верстка, наконец, получала обязательную разрешительную визу — «дозволено к печати». В некоторых случаях на проверку требовался сигнальный экземпляр книги, и тогда у издателей могли возникнуть новые затруднения. В еще более редких случаях, которые рассматривались как экстраординарные, цензура могла пойти на конфискацию и уничтожение уже отпечатанного тиража книги, приказав перепечатать или вообще удалить некоторые фрагменты текста.
Как и прежде, ни одно печатное произведение, начиная с открытки, спичечной, рекламной или какой-либо другой наклейки, даже пригласительного билета, не могло миновать предварительную цензуру и появиться в свет без ее разрешительной визы. Решительно пресекалось издание мелкопечатной продукции — экслибрисов, визитных карточек и т. п. — по заказам частных лиц: они могли печататься только по ходатайству организаций и при наличии цензурного разрешения.
Малейшее отступление от представленного на контроль оригинала решительно пресекалось даже в том случае, когда речь шла о стилистической правке или исправлении ошибок и опечаток. Как всегда, доходило до курьезов уже совершенно абсурдистского свойства. В архиве сохранились десятки стереотипных прошений директоров издательств такого, например, свойства: «Просим опубликовать книги со следующей правкой (далее указываются страницы книги): “предотвращали” вместо “предупреждали”, “лишь” вместо “только”, “сырье” вместо “товар”, “В. И. Ленина” вместо “вождя”, “очень” вместо “весьма”, “усами” вместо “Седыми усами”, “фриц” вместо “гад”, “оживало” вместо “оживалось”, “на юг” вместо “к югу”» и т. п.[26]
Ни в коем случае не разрешалось что-либо добавлять к разрешенному тексту. В 1965 г., к примеру, Центральное бюро технической информации представило на предварительный контроль инструкцию по пользованию электробритвой «Утро-1». Уже после получения разрешения Горлита на печатание, редактор в последний момент решил добавить к ней листок с адресами мастерских гарантийного ремонта, что обнаружилось на последующем контроле. Такой пустячный случай привел, тем не менее, к тому, что, как доносил начальник ЦБТИ, «брошюровка и рассылка уже отпечатанного тиража приостановлены, а на редактора, в связи с допущенной грубой ошибкой, наложено административное взыскание»[27]. Дошло даже до пригласительных билетов, концертных и театральных программ. Одно из информационных писем Ленгорлита, разосланное в январе 1955 г., предписывало: «Пригласительные билеты, программы и другие аналогичные издания, на которых имеются изображения классиков марксизма-ленинизма, руководителей Партии и правительства, представляются на контроль в органы цензуры в оригинале». Характерна и забавна мелочная придирка к пригласительному билету на вечер сотрудников Филармонии и Союза композиторов, на котором изображена «слишком большая рюмка»[28].
Впрочем, в 1965 г. было сделано и некоторое послабление для «толстых» литературных журналов и книг, выпускаемых крупнейшими, «проверенными» издательствами: им теперь дозволялось представлять тексты только на последующую цензуру, то есть на стадии верстки. Такое правило закреплялось «Едиными правилами издания открытых произведений печати», изданным на ротаторе в виде отдельной брошюры с грифом «Для служебного пользования» и разосланной всем местным управлениям[29]. Сделана еще одна уступка: отныне от предварительной цензуры освобождались «оригинальные материалы — законы, указы и т. д., произведения изобразительного искусства (за исключением политической продукции, видов городов и промышленных объектов), почтовые марки, конверты и бланки для телеграмм, песни, романсы и другие музыкальные произведения на опубликованные в печати тексты». Представленные верстки должны обязательно иметь визу: «Выпуск в свет разрешается». Но на этом дело не заканчивалось. В порядке последующего контроля сотрудник должен был ознакомиться с уже напечатанным экземпляром книги, а далее следовало весьма примечательное указание: «В случаях, когда в частично или полностью готовом тираже издания обнаружены ошибки, требующие исправления, тираж издания задерживается по требованию органов Главлита. Полиграфпредприятие при получении распоряжения о задержании тиража, обязано немедленно прекратить работу над изданием, задержать готовую продукцию, собрать весь тираж и отозвать контрольные экземпляры, разосланное библиотекам, Книжным палатам и Центральному коллектору научных библиотек».
С одной стороны, такой порядок вроде бы упрощал и ускорял выпуск печатной продукции, но с другой, приводил к непредсказуемым последствиям. Во-первых, окончательное разрешение действовало только три месяца, и если типография не смогла напечатать за это время весь тираж, требовалось снова представлять верстку книги или другого произведения печати. Последний пункт этих «Правил…» звучал зловеще и устрашающе: «Тираж издания, который не может быть исправлен, уничтожается (курсив наш. — А. />.). Уничтожение тиража производится под ответственность руководителей полиграфпредприятия и издательства». Конфискация и уничтожение уже отпечатанного тиража книги рассматривалась как мера экстраординарная, но все же встречалась время от времени: на какие только жертвы (а они были немалые!) не шла цензура во имя чистоты идеологии. В архивных делах сохранились десятки «актов», составленных по этому поводу. Трудно сказать, какие именно просчеты обнаружились в таких, например, изданиях, преданных огню: «Акт. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что заказ № 5242 “Перспективный план работы Ломоносовского Горкома партии на 1971–1972 год” в количестве 300 штук разрезан, а макулатура сожжена в котельной типографии», или — «сего числа нами уничтожена путем резки информация о состоянии племенной работы и искусственного осеменения крупного рогатого скота в количестве 100 (ста) штук. 16 сентября 1971 г.»[30].
В приведенных случаях речь шла о малотиражных ведомственных изданиях; гораздо серьезнее были материальные затраты, когда речь шла о книгах большого объема, изданных массовым тиражом (см., например, далее историю с подготовленным Е. Г. Эткиндом двухтомником «Мастера русского стихотворного перевода»). Роковым образом порой сказывалась установившаяся практика на графике выпуска ежемесячных журналов. Требование внести в текущий номер исправлений, исключить из него фрагменты или произведение целиком, — все это приводило к опозданию выхода текущего номера, иногда весьма значительному (см. параграф «Литературные журналы»).
«Кадры решают всё!»
Этот известный сталинский лозунг 30-х годов полностью относится к так называемому «подбору кадров» для цензурных учреждений вообще и Ленгорлита в частности. Все сотрудники должны были пройти тщательную проверку в соответствующих «компетентных» органах, тем более что многие из них получали так называемый «допуск к секретной информации». В отличие от 20—30-х годов, когда от них требовалось безупречное классовое происхождение при минимальном порой образовательном цензе, в интересующий нас сейчас период ведомство набирало чиновников с высшим, как правило, образованием. Исключение допускалось лишь для работников «низового звена» — районных уполномоченных, которым дозволялось среднее образование, но с обязательным условием повышения своего образовательного уровня: поступить в «университет марксизма-ленинизма» или на заочное отделение какого-либо института, как правило, педагогического.
Рекрутировались кадры чаще всего из среды журналистов-неудачни-ков, отставных военных, «номенклатурных детей», которых нужно было куда-нибудь пристроить, и т. д. Для работы с технической и естественнонаучной литературой набирались специалисты, имевшие соответствующее специальное высшее образование, с иностранной литературой — филологи, хорошо знавшие языки. Хотя требование членства в партии или комсомоле было обязательным (комсомольцы вскоре обязаны были стать кандидатами в партию), для цензоров иностранной группы сделано было некоторое послабление. Среди них порой встречались сведущие и весьма неглупые люди, но они, как правило, не долго там задерживались. Об интеллектуальном уровне цензоров не раз писали литераторы, лично сталкивавшиеся с ними в 20—30-х годах: позднее личные контакты запрещались. Корней Чуковский не раз саркастически отзывался о них в своем «Дневнике». Константин Федин, под старость исписавшийся и ставший литературным функционером, записал в своем дневнике о встрече с П. И. Лебедевым-Полянским, первым главой цензурного ведомства (1922–1931): «Нельзя назначать на цензорское место людей, которым место в приюте для идиотов»[31]. Такое впечатление произвели на него доводы цензора, отвергшего в 1929 г. книгу стихов Анны Ахматовой, подготовленную Издательством писателей в Ленинграде, председателем которого был Федин. В годы оттепели высмеял их А. Т. Твардовский в поэме «Теркин на том свете» (см. параграф «Звезда»).
Число сотрудников ленинградского управления достигало примерно 80–90 человек. Нужно, однако, иметь в виду, что в это число не входят цензоры, приставленные к отдельным издательствам, редакциям крупнейших газет, радио и телевидения. Прибавив к ним «уполномоченных Райлитов» — районных цензоров, наблюдавших, за неимением ничего другого, за единственной районной газетой, — число только штатных сотрудников нужно, как минимум, удвоить. Если к тому же учесть число сотрудников идеологических отделов райкомов, горкомов и обкомов партии, соответствующих отделов управления КГБ, курировавших печатное слово, особых военных цензоров, то общее число контролеров только по Ленинградской области составит, по моим приблизительным подсчетам, не менее 500–600 человек. Я не говорю сейчас о многочисленных редакторах в издательствах и редакциях газет и журналов, деятельность которых порой мало чем отличалась от собственно цензорской.
Как и в любом советском учреждении, в Ленгорлите действовала система поощрений и взысканий. Так, например, повышен был должностной оклад Л. А. Андреевой, проверявшей продукцию издательств «Советский писатель», «Просвещение» и «Художник РСФСР», поскольку она «хорошо разбирается в контролируемом материале, умеет правильно оценить его с политико-идеологических позиций. Так, в предисловии к изданию книги “Октябрьское вооруженное восстание” она обратила внимание на подборку фотоснимков, которая была составлена так, что искажались действительные события подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 году, не отражалась руководящая роль партии большевиков на тот период, чрезмерно пропагандировались члены временного правительства и царские генералы». Кроме того, «тов. Андреева JT. А. активно помогла молодым сотрудникам отдела в освоении и овладении методикой контроля материалов»[32].
В 1983 г. начальник Ленгорлита объявил благодарность четырем цензорам, обнаружившим «политические ошибки» в верстке сборника «Вспомогательные исторические дисциплины» (т. 15), подготовленном издательством «Наука»: «Они ответственно отнеслись к материалам, связанным с биографическими моментами из жизни В. И. Ленина, не поддались искушению поверить авторитетам, а, глубоко проанализировав статьи, сделали аргументированные выводы о невозможности опубликовать эти работы. Верстка была послана в НМЛ (Института марксизма-ленинизма) при ЦК КПСС, откуда за подписью директора ИМЛ пришло письмо, в котором полностью и безоговорочно подтверждается позиция Облгорлита. Материалы изъяты из сборника»[33].
«Цензору недостаточно быть только узким специалистом порученного дела, он должен обладать широким политическим кругозором, — так начинался приказ начальника управления, изданный в 1983 г. — Такими качествами, как ответственность, привычка делать всё на совесть, всей душой болеть за дело в управлении обладают многие. И. П. Пичугина, например, осуществляя предварительный контроль журнала “Нева”, обнаружила в статьях политически неверные суждения о состоянии народного хозяйства. Делались политико-идеологические замечания и по материалам, посвященным современной деревне, в которых в обобщенном виде выпячивались недостатки и утверждалось, что они свойственны вообще сельскому хозяйству страны. Полезно работает и начальник отдела Светлов П. С. Только за последние два месяца он предотвратил опубликование политически неверных статей в газете “Ленинградский рабочий”. Отмечая хорошую работу товарищей, начальникам отделов, руководителям групп следует широко пропагандировать работу лучших цензоров, создавать в коллективах атмосферу строгой взаимной требовательности, деловитости, дружной работы, повышать бдительность, сделать всё, чтобы вопросы охраны государственной тайны в печати, политической бдительности повседневно стояли на повестке дня в подразделениях. За проявление политической бдительности, четкое выполнение нормативных документов Главлита СССР, за деловую активность, четкие политико-идеологические замечания по контролируемым изданиям Н. Г. Юдина, И. П. Пичугина и П. С. Светлов награждены Почетной грамотой. Им же выдана денежная премия в размере 30 рублей каждому»[34].
Такой же суммой награжден в 1982 г. А. А. Мачерет — за то, что на последующем контроле в книге Б. Алмазова «Государство — это мы», подготовленной издательством «Детская литература» для младших школьников, «обнаружил серьезные политико-идеологические дефекты. В частности, т. Мачерет А. А. обратил внимание на сведения о Китайской Народной Республике, несозвучные с современными взаимоотношениями между СССР и КНР». По докладу тов. Мачерета были приняты меры по задержанию тиража, изготовленного уже в количестве 75 ООО экземпляров (весь тираж 150 ООО), а также приостановлена работа над производством остальной его части. Проявленная тов. Ма-черетом политическая бдительность помогли предотвратить выход в свет издания с политически ошибочными положениями, публикация которых могла нанести ущерб интересам Советского государства, а также предотвратить дезинформацию общественного мнения»[35].
За «ударную работу» полагалась премия в размере 30 рублей. Применительно к 60—70-м годам эта сумма составляла довольно существенную прибавку к жалованью. Так, в 1974 г. старший редактор и редактор, как эвфемистически называли тогда цензоров, составляла соответственно 230 и 190 рублей, что примерно равнялась зарплате вузовского доцента со степенью. В отличие от последнего, цензор, если он не проштрафился, получал ежеквартальные премии, надбавки за сверхурочную работу и т. д. К заплате, кроме того, полагались персональные надбавки: за знание иностранных языков: европейского — 10 %, восточного — 20 %[36]. Руководство управления, входившее в номенклатуру обкома, пользовалось самыми различными материальными благами: бесплатными путевками в привилегированные санатории, предоставлением жилплощади, превышающей обычные нормы, и т. п. десяти процентная надбавка полагалась также за «работу с секретными материалами» (а они все были секретны), так сказать, «за вредность». Заметим, что такая надбавка сохранилась до сих пор — для архивистов, допущенных к работе с такими документами. Такая «материальная заинтересованность» приводит к тому, что рассекречивание документов идет страшно медленно.
В то же время выходили и приказы разносного характера, в которых разоблачались нерадивые цензоры. Буквально накануне перестройки, в декабре 1984 г., был издан такой приказ начальника управления Б. А. Маркова: «В Управлении немало замечательных цензоров. В основе их работы — отличное знание дела. Это истинно деловые люди, те, кто, по ленинскому выражению, обладает умением практически делать дело. Им свойственна самостоятельность в пределах Инструкции цензора, инициатива, смелость в решениях, твердое исполнение нормативных документов, верность слову. И что очень важно — высокая нравственность в поступках. Однако у нас есть и люди пассивные, инертные, ленивые. Они при любом осложнении стараются уйти от хлопот, во вред делу. Именно таким необязательным человеком является старший редактор т. Никулин А. В. Контролируя, например, верстку “Проектирование гражданских зданий для Крайнего Севера”, т. Никулин не доложил начальнику отдела о встретившихся сложных вопросах политико-идеологического характера. Мы должны быть непримиримы ко всему тому, что мешает Леноблгорлиту точно и четко выполнять поставленные перед ним задачи». За «нарушение методов контроля и невыполнение Инструкции цензора ст. редактору т. Никулину А. В. объявить выговор и предупредить о неполном служебном соответствии»[37].
Сохранившиеся протоколы заседаний бюро и собраний первичной партийной организации Ленгорлита также позволяют понять его внутреннюю «кухню», взаимоотношения цензоров между собой и т. д. Атмосфера, царившая на них, мало чем отличалась от собраний в других советских «конторах». Разбирались, как правило, вопросы, имевшие сугубо рутинный характер: кому ехать «на картошку» (то есть «помогать» колхозу в период уборки урожая); споры насчет того, чтобы на дежурство в праздничные дни назначались не только начальники отделов, но и «рядовые цензоры», поскольку такая сверхурочная работа оплачивается гораздо лучше. Члены «партячейки», а ими являлись почти все цензоры, отчитывались о своей работе, о «своевременно» замеченных ими «нарушениях». Цензор Шахматов на одном из таких собраний 1957 г. заявил: «Недавно мною не был пропущен очерк (на радио), проникнутый пессимизмом». Он же предупреждает своих коллег, требуя повышения бдительности, поскольку «в искусстве за последнее время проявляются порочные идеологические взгляды, стали реабилитироваться формалистические направления в искусстве». Малкевич сообщил, что, контролируя справочник телефонов Горздравотдела, он обнаружил около 300 наименований режимных учреждений, которые были им вычеркнуты. Тот же цензор сообщил о другом своем достижении: контролируя вузовскую печатную лекцию «Апрельские тезисы В. И. Ленина», он обратил внимание на то, что «автор хотел дать кое-что новое, например, что в партии до апрельских тезисов в 1917 г. была растерянность. Это положение не соответствует действительности, хотя преподаватель настаивал на помещении этого утверждения»[38].
В принятой на таких собраниях стилистике чиновники ведомства открыто критиковали друг друга, не гнушаясь порой прямыми доносами. Изобличен был, например, цензор, не только прочитавший конфискованный на таможне роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», изданный за рубежом, но и передавший его товарищу по работе (см. об этом подробнее в главе «Борьба Ленгорлита и КГБ с вольной бесцензурной литературой»). Такого же рода доносы — в духе пресловутых «критики и самокритики» — публиковались на страницах стенной газеты Ленгорлита «Коммунистическое слово»: на одном из партсобраний редколлегии рекомендовалось «своевременно вскрывать недостатки отдельных цензоров». На другом собрании обсуждалось закрытое письмо ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г. «Об усилении политической работы парторганизаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов». Естественно, все наперебой говорили о «притуплении бдительности»: «Мы перестали заниматься вычерками идеологического характера… теперь мы должны перестроиться… глубоко вникать в содержание, не допуская проникновения чуждой нам идеологии… будучи дезориентированными указаниями Главлита СССР, мы перестали обращать внимание на политико-идеологические вопросы, и только сейчас мы начинаем входить в норму» и. т. п. Итог такой «дискуссии» подвел начальник Ленгорлита, заявивший, что «…некоторые товарищи потеряли бдительность и тревогу (так! — А. Б.) за работу. Мириться с этим нельзя. Некоторую расхлябанность в наши ряды внесли и разговоры об отмирании цензуры. Теперь есть решение ЦК КПСС о цензуре, и мы соответственно с ним должны строить свою работу».
Ясно, что такие выступления навеяны, одной стороны, постановлением ЦК «О работе Главлита и его местных органов», вышедшем в июле 1957 г., с другой — историей с альманахом «Литературная Москва», о чем говорилось в первой главе. На собрании решено было организовать «лекцию для цензоров о партийности в литературе с освещением вопросов, связанных с недавно вышедшими произведениями Дудинцева, Гранина, Паустовского и других». Все-таки начальник одернул слишком ретивых контролеров, решивших побежать несколько «впереди прогресса»: «Почему-то отдельные цензоры начали запрещать в печати упоминания фамилий Паустовского и Гранина, тогда как в этом нет ограничений»[39].
Все цензоры обязаны были повышать свою квалификацию: учиться на различных курсах, посещать регулярно проводимые семинары и даже выполнять контрольные работы. Под ними, как мне рассказывал один бывший цензор, подразумевались особые тесты: выдавался листок с текстом, содержащим 5 «нарушений» военного, экономического или политико-идеологического характера, испытуемый же должен был обнаружить и вычеркнуть соответствующие строки. В зависимости от числа замеченных погрешностей он и получал соответствующий бал — от 1 до 5, что приводило к дальнейшим, часто неблагоприятным, последствиям: лишению премии, предупреждению о «служебном несоответствии», объявлению выговора.
Ленгорлит и партия
В упомянутой выше справке, посвященной 50-летнему юбилею Ленгорлита, говорилось, в частности: «Борьба по мобилизации трудящихся на строительство новой жизни требовала от партии развертывания всех средств массовой информации, агитации и пропаганды и, в первую очередь, создание партийной печати. Деятельность таких средств могла стать успешной лишь при наличии очень важного условия: наличия партийного контроля за выпуском печатной продукции. Эту функцию партия осуществляла и осуществляет в настоящее время, опираясь на органы цензуры. Руководствуясь указаниями партии, эти органы становились надежными помощниками в идеологической работе, в утверждении социалистических идеалов в сознании трудящихся. В аппарат Управления пришли верные делу партии коммунисты, партийные работники, зарекомендовавшие себя на различных участках борьбы. Складывались основные принципы цензорской работы, и среди них наиболее важный — это партийность, принципиальность в оценке печатного произведения, с каких классовых позиций оно написано»[40].
Здесь всё названо своими именами. Несмотря на то, что формально Главлит СССР и его региональные управления находились, начиная с 1936 г., в ведении Совета Министров СССР (до этого они подчинялись Наркомату просвещения) и, соответственно, местных исполкомов, документы, свидетельствующие об их связи, практически отсутствуют. Зато сотни документов на сей счет хранятся именно в партийных архивах — в бывшем Центральном партийном архиве (теперь РГАСПИ) и, если говорить о нашем городе, опять-таки в бывшем архиве Обкома и Горкома КПСС, в Смольном (теперь ЦГА ИПД). Идеологические Отделы пропаганды и агитации того и другого не только руководили печатью, но непосредственно и тем ведомством, которое охраняло чистоту и неприкосновенность идеологии.
Выделим следующие направления, по которым велось партийное руководство цензурой. Во-первых, в каждом, даже микроскопическом главлитовском учреждении существовали, разумеется, парторганизации или хотя бы партячейки (в райлитах) — «рычаги», как назвал их А. Яшин в своем нашумевшем одноименном рассказе. Они подчинялись непосредственно горкомам и райкомам партии, инструкторы которых нередко вмешивались в работу цензурных учреждений, давали указания, касающиеся порой изъятия конкретных книг, пропущенных на стадии предварительного контроля, и т. п. Первичная партийная организация регулярно отчитывались перед вышестоящими инстанциями, сигнализируя о недостатках и «упущениях» в работе своего ведомства, постоянно приглядывая за сотрудниками.
Во-вторых, ее руководство именно в партийные, а вовсе не в «советские», как вроде бы полагалось, инстанции посылала отчеты о проделанной работе; ежемесячно именно в агитпроп доставлялись сведения о наиболее важных «вычерках» в текстах, списки запрещенных книг, «идеологических прочетах», допущенных отдельными книжными издательствами, редакциями журналов и газет. Вот фрагмент лишь одного из представленных отчетов:
«31.01.1975.
Леноблгорлит Для служебного пользования
Секретарю Ленинградского Обкома КПСС тов. Андрееву Б. С.
Информация о политико-идеологических замечаниях в представленных верстках.
На контроль в Ленинградское управление по охране государственных тайн в печати поступает печатная продукция от 25 издательств, 150 организаций, имеющих право выпуска печатной продукции, минуя издательства. В управлении проходят контроль 36 журналов, 14 бюллетеней, 127 газет, материалы Лен-ТАСС, комитета по телевидению и радиовещанию, сценарии художественных фильмов, произведения театра, эстрады и другие <…> Практика контроля общественно-политической, научной и художественной литературы показывает, что в ряде случаев редакции и издательства не всегда внимательно готовят к печати произведения, в ряде изданий допускаются политические ошибки, даются субъективные оценки явлениям и событиям».
Далее приводятся наиболее «вопиющие» случаи[41].
В принятом ЦК КПСС Постановлении от 3 апреля 1957 г. «О работе Главлита СССР» прямо говорилось, что «…работники цензуры не должны оставлять без внимания политически ошибочные формулировки и положения, искажающие политику Партии и Правительства, и обязаны сообщать в них соответствующим партийным органам». Другими словами, как сказали бы в XIX веке, «обязаны были доносом»…
Ленгорлит бдительно оберегал «чистоту белоснежных риз» партии, внимательно следил за тем, чтобы ни в коем случае не снижался ее образ. Доходило до курьезов, которыми так богата отечественная цензура. В 1974 г. в Обком партии послана «Информация о политико-идеологических замечаниях в представленных верстках», в которой обращено внимание на детский журнал «Искорка» (выходил в Ленинграде с 1957 по 1992 гг.): «Редакция журнала “Искорка” в № 9 за 1974 г. заверстала главу из рассказа А. Шибаева “Поиграем в слова” под названием “Операция ‘одна буква’ ”. В рассказе говорилось: “Может быть, действительно, беды большой не будет, если вместо одной буквы напишется другая. Возьмем, к примеру, слово ‘притворить’ (притворить дверь) и вместо первого ‘и’ поставим ‘е’, то есть сделаем ошибку. Что же получится? А получится совершенно другое слово— ‘Претворить’ (воплотить). Например, ‘претворить решения съезда в жизнь’ ”. Информация высылается Вам для сведения и возможного использования»[42].
В-третьих, в «сомнительных» случаях Ленгорлит старался заручиться согласием (или несогласием, что бывало чаще) идеологических структур на публикацию того или иного текста. Редакторы издательств и журналов это прекрасно понимали, действуя порою напрямую: еще до отправления того или иного произведения в Ленгорлит, посылали его в Обком партии, «для консультации».
Наконец, решающую роль играли идеологические отделы партии в деле «подбора и расстановки кадров». В упомянутом выше ЦК КПСС Постановлении ЦК КПСС от 3 апреля 1957 г. «О работе Главлита СССР» особое внимание обращалось «…на подбор и воспитание цензорских кадров, укрепление местных управлений квалифицированными кадрами». Начальник Леноблгорлита и его заместитель входили, как говорилось выше, в так называемую «номенклатуру обкома» — они назначались именно им: Глаааит СССР лишь мог согласиться с предложенными кандидатурами. Те, в свою очередь, подбирали сотрудников в соответствии с их партийно-политической подготовкой, опять-таки согласовывая «кадровый вопрос» в соответствующих партийных инстанциях.
Разумеется, партийные установки и решения пронизывали все сферы советской жизни, но в отношении верного ее стража (наравне с КГБ) они играли особую, ни с чем не сравнимую роль.
Глава 3. «Тайна, закутанная в секрет…»
Этот афоризм приписывается Уинстону Черчиллю, который после начала «холодной войны» именно так определил один из наиболее существенных признаков «Страны Советов». Ему же принадлежит другая исчерпывающая характеристика режима: «В советской России всё запрещено, а то, что разрешено — то обязательно». На страже секретов стояло, наряду органами тайной политической полиции, цензурное ведомство. С течением времени охрана военных, экономических, экологических и прочих секретов стала доминировать в его практике, тем более что политический и идеологический самоконтроль в позднейшие годы все более и более стал отдаваться на долю редакторов и самих авторов.
Об этом свидетельствуют, помимо прочего, ежедекадные «Сводки важнейших вычерков и конфискаций, произведенных Леноблгорлитом», разделенные на две части: «Литера А. Нарушения военно-экономического перечня секретных сведений. Литера Б. Нарушения политико-идеологического характера». Первый раздел занимает львиную долю в таких отчетах, доходя до 90 %. Такое же место занимает «Литера А» в особом «Перечне сведений, не подлежащих распространению…» — таково первоначальное название основного документа, которым руководствовались цензоры; в дальнейшем оно неоднократно менялось. В первом таком перечне (1925 г.) содержалось всего 16 страниц, но со временем, в связи с увеличением числа «тайн» он превратился в объемистую, до 300 страниц, книгу. Последний такой перечень вышел уже в годы «перестройки» — в 1987 г., вернувшись по своему объему к первому, поскольку начавшаяся перестройка потребовала некоторого свертывания числа «тайн»[43].
Создавался он на основе рассылавшихся по местным инстанциям секретных циркуляров Главлита. На цензорском жаргоне перечень получил название «талмуда»: «заглянуть в талмуд» — означало выяснить, не засекречены ли какие-либо конкретные сведения, отдельные темы, имена и т. д., и произвести затем соответствующие «вычерки». Выходил в обновленном виде такой «Перечень…» примерно один раз в 5–6 лет; в промежутке между ними действовали особые циркуляры Главлита, рассылавшиеся в оперативном порядке и дополнявшие (реже отменявшие) отдельные параграфы и пункты последнего издания. Власть этого секретного документа была столь велика, что правке подлежали даже речи и выступления руководителей партии и государства, в которых обнаруживалось «разглашение гостайны». В «Протоколе Совещания руководящих работников Главлита» от 30 ноября 1971 г. отмечен такой факт: «Бригада <цензоров> принимала участие в работе редакционного отдела Сессии Верховного Совета СССР. Из доклада товарища А. Н. Косыгина (в то время Председателя Совета Министров СССР. — Л. Б.) были сняты три цифры, имеющие прямое отношение к нашим документам (т. е. к «Перечню». — А. Б.): объем торгового оборота со странами СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) за пятилетку, прирост мощности по выработке пластмасс. По нашей рекомендации было сделано свыше 30 исправлений в выступлениях депутатов Сессии, неопубликованных постановлениях депутатов Совета Министров СССР и ЦК КПСС»[44].
Когда это было позволено, уже в 90-е годы, о «Перечне» рассказал В. А. Солодин (1930–1997), занимавший видные места в Главлите с 1961 по 1991 гг.: «В работе цензора было всегда две главных задачи: охрана государственных тайн и чисто политическая цензура. Что касается охраны государственных тайн, то существовал “Перечень сведений…” — это сборник в два пальца толщиной, насчитывающий 115–120 параграфов, а в каждом параграфе до шести пунктов. Параграфы были объединены в разделы: военный, экономический, финансовый, международных отношений, сельскохозяйственный, по оперативной работе правоохранительных органов. О партии там было несколько разделов — главным образом, нельзя было раскрывать численность парторганизаций в воинских частях и на оборонных заводах… Цензор, прежде чем приступать к работе, должен был назубок выучить этот “Перечень…”. У цензоров он был в постоянных пометках, впечатках: оперативную информацию им передавали по телефонам, а об основных тенденциях рассказывали на летучках в Управлении… В правовом отношении у нас было положение, что нельзя публиковать сведения, содержащие государственную и военную тайны, а также дезинформирующие читателя (курсив наш. — А. Б.). Во второй части формулировки и был весь трюк…»[45]. Вот это верно: под этот пункт подводилось всё, что угодно, — в соответствии с «текущим моментом» и партийными установками.
Тайны военные
Всеобщая милитаризация страны в 30-е годы привела, как уже говорилось в предшествующей нашей книге, к «переходу на военные рельсы» и самих цензурных учреждений. Это, между прочим, проявилось в новом названии начальника Главлита: 1935 г. он стал называться Уполномоченным СНК СССР по охране военныхтшн в печати. После войны Главлит расшифровывался как «Главное управление по охране военных (курсив наш; характерно, что это слово поставлено на первое место. — Л. Б.) и государственных тайн в печати». Слово «военных» исчезло из полного названия только в 1966 г.
Конечно, даже в мирное время государство должно охранять некоторые свои военные секреты — дислокацию войск, вооружение и т. п. Иное дело, что бдительность цензурных стражей доводилась, как и в других случаях, до полнейшего абсурда. Как правило, все исключаемые сведения представляли «секрет Полишинеля» и были известны каждому мальчишке, живущему вблизи расположения аэродромов, военных частей, заводов и т. д. Тем не менее, каждый раз редакциям требовалось доказать, что в романах, повестях и рассказах все «военные объекты» — плод художественной фантазии и вымысла автора. Вот типичный документ такого рода, посланный в Ленгорлит: «Редакция журнала “Аврора” сообщает, что все факты, имена и фамилии действующих лиц, за исключением Героя Советского Союза Сафонова, а также названия географических населенных пунктов (кроме городов Ленинград, Оренбург, Каунас и Вильнюс, а также острова Кильдин и реки Неман), упомянутые в повести Леонида Палея “Взлетная полоса”, являются вымышленными». Видимо, такая «расписка» не удовлетворила цензоров: «Редакции сообщено решение о засылке (!) повести в Генштаб»[46]. В 1982 г., в ответ на требование цензуры, издательство «Художественная литература», готовившее двухтомные «Избранные произведения» Вадима Шефнера, прислало такую справку: «Упоминаемого в повести В. Шефнера “Сестра печали” Благовещенского канала не было ни в Петрограде, ни в Ленинграде, о чем свидетельствуют карты и справочники по городу. Название придумано автором»[47].
Такую же справку прислало издательство «Детская литература» по поводу повести Вл. Арро «Бананы и лимоны»: «Все географические названия, имена героев, факты политических событий являются творческим вымыслом, повесть не содержит имен прототипов, название страны вымышлено». Таким же является город «Верховск» в повести Ильи Дворкина «Взрыв», опубликованной в 10-м номере журнала «Аврора» за 1972 г. В присланной редакционной справке содержится и такое существенное примечание: «Сцены в лагерях из этой повести в результате дополнительной правки приурочены ко времени до 1957 года (курсив наш; советский читатель должен быть уверен, что время лагерей после XX съезда закончилось… — Л. Б.)»[48]. Большие неприятности в этом смысле доставляли Ленгорлиту также и журналы «Звезда» и «Нева» (см. соответствующие разделы).
Тщательно скрывались подлинные названия и номера так называемых «почтовых ящиков», в том числе многочисленных научно-исследовательских институтов и заводов, работавших «на оборону» под более или менее легальным прикрытием. Приведу сейчас один курьезный случай. Мой добрый друг, известный пушкинист, сотрудник ИРЛИ Сергей Александрович Фомичев, готовился в 1984 г. к защите докторской диссертации. Заручившись помощью знакомого, работавшего в известном каждому Институте ядерной физики в Гатчине, он попросил напечатать на заводском ротапринте автореферат своей докторской диссертации «Поэзия А. С. Пушкина (творческая эволюция)». Поскольку в выходных данных указывалось «Тираж 140 экз. Отпечатано на ротапринте завода “Кризо”, г. Гатчина», автореферат тотчас же был переведен в отдел литературы «ДСП» (для служебного пользования) и оказался в спецхране (!) — потому лишь, что этот самый «завод “Кризо”» не мог быть назван в «открытой печати». Такие грустные анекдоты можно приводить до бесконечности. К их числу относится и такой. Цензура запретила к выпуску в 1985 г. небольшое учебное пособие «Теория взрыва», подготовленное Кораблестроительным институтом, решив, очевидно, что речь идет об изготовлении взрывных устройств или о чем-нибудь столь же секретном. Книга была разрешена лишь после того, как проректор по научной работе института Н. В. Алешин прислал такое «объяснение»: «Специальность, для которой издается учебное пособие, входит в учебный план, как составная часть дисциплины “Газовая динамика, магнитная гидродинамика и теория взрыва” и излагается в рамках гидродинамической теории»[49].
Запрету подвергались сведения о «добровольцах», принимавших участие в боевых действиях за пределами страны. 12 июля 1971 г. на сей счет разослано было секретное «оперативное указание» Главлита: «В открытой печати не давать никаких сообщений о том, что советские военнослужащие изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в национально-освободительной борьбе народов против американских и других агрессоров» (речь идет, по-видимому, о тогдашних вьетнамских событиях). В 1980 г. приказом Главлита запрещалось публиковать «…сведения о советских воинских частях, расположенных на территории Монгольской Народной Республики…»[50]. Позднее, в 80-е годы, крайне скупо освещались события в Афганистане, причем запрещалось публиковать сведения о потерях — числе убитых и раненых.
Множество хлопот доставляла переделка географических карт. Многие города, объявленные «закрытыми», в которых велась разработка атомного, бактериологического и иного секретного оружия, исчезли с географических карт или получили условные названия, в основном они фигурировали под названием «Арзамас-16», «Челябинск-40» и т. д. Белые пятна, в прямом смысле этого слова, появились там, где располагались «острова» «Архипелага Гулаг». Цензура следила за тем, чтобы географические названия, вплоть до наименований островов и мысов («Остров Сергея Каменева», «Мыс Уншлихта» и т. п.) были срочно переименованы. Эти операции обходились очень дорого, приходилось перепечатывать множество карт, атласов и других изданий, но чего не сделаешь ради сохранения государственной тайны… Уже совершенно анекдотически звучит заключение Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, которому послана на утверждение в Москву (!) карта-схема «Маршруты гор. Ленинграда». Разрешение на ее издание сопровождалось таким примечанием: «На врезке схемы Ленинградского метрополитена необходимо снять изображение р. Невы и ее притоков» (курсив наш. — А. Б.)[51]. Специальное разрешение требовалось каждый раз на публикацию фотографий Марсова поля, Адмиралтейства, той части Литейного проспекта, где виден «Большой дом», как называлось и называется до сих пор зловещее здание управления КГБ, и других известных каждому объектов.
Среди старых журналистов тогда в ходу была такая горькая шутка: «Город Севастополь на берегу N-ского моря…».
Тайны экологические
Власть могла объявить государственной тайной все, что ей по тем или иным причинам выгодно или что вообще заблагорассудится. Различные министерства и ведомства необычайно широко воспользовались таким правом и, увы, пользуются им до сих пор, несмотря на ликвидацию Главлита и отмену цензуры в 1991 г., — особенно в области экологической безопасности, о чем не раз сообщала наша пресса (см. «Эпилог»). Наряду с идеологическими и политическими секретами, природоохранная тематика всегда были одной из самых табуированных. Чтобы сохранить спокойствие советского человека и не мешать ему строить светлое будущее, цензурные инстанции оберегали его от известий о стихийных бедствиях. Тайной объявлялись все природные катастрофы — землетрясения, как, например, гигантское ашхабадское в 1948 г., унесшее тысячи жизней, наводнения, извержения вулканов и т. д. Из идеологической фантомной реальности природные катастрофы исключались, их не может быть в Стране Советов… Во всех «Перечнях секретных сведений» неизменно фигурировал параграф, предусматривавший запрет на публикацию материалов о стихийных бедствиях без согласования (!) с соответствующими ведомствами, как будто от них зависело, быть или не быть природным катастрофам. Так, одно из циркулярных указаний 1953 г. объявляло «не подлежащими оглашению в печати сведения о суммах убытков и численности человеческих жертв, вызванных землетрясениями и различными стихийными бедствиями, происшедшими на территории СССР, а также о последствиях катастрофических землетрясений и бедствий (описание повреждений зданий и сооружений, приливных волнах)».
Тем более ревниво относилась власть к публикациям о «рукотворных» бедствиях, вызванных не столько неуправляемыми природными явлениями, сколько преступной деятельностью государственных и хозяйственных руководителей. Назовем хотя бы испытания атомного оружия на живых людях в оренбургских степях, ядерную катастрофу на Южном Урале в 1957 г., преступное замалчивание в первые дни Чернобыльского несчастья, случаев утечек микробиологических и ядовитых веществ и т. д. Министерство здравоохранения засекречивало даже такие сведения, которые оно по самому своему назначению, казалось бы, должно сообщать в первую очередь, — об эпидемических вспышках заболеваний и, что особенно отвратительно, допустимых дозах радиоактивного, лазерного и сверхвысокочастотного облучений.
Засекречивалась даже информация о погоде — вплоть до того, что советские люди об ожидающей их погоде должны были знать в строго очерченных пределах и на строго ограниченный, разрешенный сверху, в самом Политбюро ЦК, срок. Да и содержание их должно быть радостным и не внушающим особых опасений. В своем рвении бдительные цензоры порождали настоящие анекдоты. В начале 1954 г. Главлит обратился к самому Н. С. Хрущеву, как Председателю Совета Министров СССР, с таким письмом: «По Вашему поручению, в связи с письмом министра сельского хозяйства тов. Мацкевича относительно передачи по радио прогнозов погоды, докладываю. Министерство сельского хозяйства предлагает продлить заблаговременность передачи по радио прогнозов погоды с 3 дней до 5–7 суток. Предложение министерства затрагивает крайне ограниченный круг показателей погоды, имеющих, однако, значение для сельского хозяйства. Ввиду этого Главлит предлагает целесообразным разрешить Главному управлению Гидрометеорологической службы Министерства сельского хозяйства СССР производить в открытом порядке по радио прогнозов погоды на период не более 5–7 суток по следующим важнейшим для сельского хозяйства элементам: температуре, заморозкам, осадкам, сильным ветрам (без указания направления)»[52]. В данном случае примечательно то, что даже такой сугубо частный вопрос мог быть решен только на самом верху: Хрущев в то время был и Первым секретарем ЦК КПСС.
Под особым подозрением природоохранная тема оказалась в 60— 70-е годы; тогда же были подтверждены и даже ужесточены циркуляры 20—30-х годов, касающиеся секретности сведений о катастрофах и стихийных бедствиях. В 1970 г., в связи с «особой важностью предмета», было разослано «Распоряжение № 32-рс», согласно которому любая публикация на экологические темы должна была пересылаться в Москву, в Главлит СССР. Только он мог дать (или не давать, что было чаще) разрешение на такого рода публикацию в местной печати. Ленинградская цензура, со своей стороны, приняла «соответствующие меры». Приведем лишь отдельные сообщения ее начальника, датированные 1971 г. (их в архиве — десятки): «Представляю для информации: 1. “Охрана водоемов — дело большой государственной важности”, “За чистоту наших рек” — для многотиражных газет. Прошу Ваших указаний о возможности опубликования; 2. О верстке книги “Метеорологические аспекты загрязнения атмосферы. Сборник докладов на Международном симпозиуме в Ленинграде. Июль 1968 г.”, Гидро-метеоиздат, 1971. В сборнике помещены тезисы докладов советских представителей, а также представителей социалистических стран. Упомянутая верстка содержит сведения, относящиеся к проблеме сохранения окружающей среды, на публикацию которых требуется согласие руководства Главлита СССР. 3. Направляем информацию “Прекратить загрязнение водоемов в Ленинграде” для газеты “За коммунистический труд” (Карбюраторный завод) и материалы ЛенТАСС “На выручку природе”, которые содержат сведения, касающиеся проблемы сохранения окружающей среды. Прошу Ваших указаний о возможности опубликования».
Порою документы на эту тему напоминают, как и многие другие, «театр абсурда». Такие, в частности: «7 апреля 1977. Леноблгорлит Директору Всесоюзного института защиты растений. Возвращаем статью группы авторов “О применении эффективной обработки природной популяции вредной черепашки” и “Влияние совеноидов на подготовку клопов к зиме” в связи с отсутствием мотивированных заключений указанных статей экспертной комиссии о возможности открытой публикации. Начальник Леноблгорлита Б. А. Марков»; «1 марта 1978 г. Агрофизический научно-исследовательский институт Начальнику Леноблгорлита. Дирекция института просит сохранить в сборнике трудов по агрономической физике “Прогнозирование вредных агрометеорологических явлений” статью кандидата технических наук А. И. Брежнева, в которой приведены метеорологические сведения. Она не может не быть связана с метеорологическими факторами, поскольку коэффициенты рождаемости и смертности насекомых являются функциями температуры и влажности».
Зная, как трудно проходят экологические материалы, обрастая порой десятками «экспертных заключений», что задерживало их выпуск в свет, некоторые издательства сами порой отказывались от упоминавшейся выше поблажки, согласно которой они могли представлять свои издания уже в виде версток. Так, в феврале 1982 г. издательство Ленинградского университета обратилось к начальнику городской цензуры Б. А. Маркову с просьбой: «В порядке исключения взять на предварительный контроль монографию Л. С. Ивлева “Химический состав и структура атмосферных аэрозолей”, поскольку приведенный материал, возможно, создает общий неблагоприятный фон, хотя значения концентраций загрязнения не превышает ПДК (предела допустимых концентраций)».
С большими затруднениями проходил в «Звезде» очерк В. Колобова и Г. Алексеева «Золотая корона Ангары», предназначенный к публикации в 1978 г. По мнению Ленгорлита, «…в очерке приводятся обобщенные данные об ущербе, нанесенном окружающей среде и советской экономике нерациональной вырубкой леса в результате общегосударственных недостатков в руководстве народным хозяйством»[53]. В приложенном отзыве рекомендовалось снять ряд мест, в том числе такое: «Следует опустить, видимо, слова, говорящие о том, что на экспорт нужно отдавать лучшую древесину». К делу приложена также верстка статьи с многочисленными вопросительными знаками и отчеркиваниями. Очерк все же был напечатан в № 12, но в сильно урезанном и исковерканном виде, со значительными купюрами. Видимо, редакции все же удалось отстоять некоторые «сомнительные» пассажи. В частности, сохранена весьма острая критика различных ведомств, равнодушно, если не преступно относящихся к проблемам сибирской экологии.
Покровом особой тайны было окружено нескончаемое строительство злополучной дамбы, последствия которой, по мнению многих экспертов, трудно предсказуемы и весьма опасны для бассейна Балтийского моря. Любая публикация о ней проходила самую жесткую многоступенчатую цензуру — как в самом Горлите, так и в «заинтересованных» ведомствах. Так, 16 ноября 1971 г. поступила докладная записка цензора Л. И. Богоявленской: «Довожу до Вашего сведения о нижеследующем. В дневном выпуске ЛенТАССа от 9 ноября с. г. цензором Черепковой Л. Б. был снят материал о строительстве 27-километровой дамбы, которая возьмет начало у г. Ломоносова и закончится близ станции Горская, для защиты г. Ленинграда от наводнений. По этому поводу цензором написан вычерк (на цензорском жаргоне — сделана купюра. — А. Б.). 14 ноября с. г. этот материал прозвучал в последних известиях Радиокомитета (утренний выпуск). Материал “Жить городу без наводнений” был передан ТАСС (Москва) по телетайпу ЛенТАССа и вернулся без поправок лентой № 1–5». «Вопрос выясняется. Направить в Москву», — такова резолюция начальника[54].
До самого конца перестройки, когда политико-идеологическая узда была уже ослаблена, органы цензуры боролись за свое право охранять от населения экологические тайны, да и сейчас эта тематика является одной из самых засекреченных (см. главу 9 и эпилог).
Тайны КГБ, самой цензуры и прочие
Цензурные инстанции всегда охраняли тайны родственной (точнее — вышестоящей) организации — Комитета госбезопасности. Прежде всего, ни одна публикация, касающаяся структуры и деятельности этого ведомства, пусть и в художественном произведении, даже простое упоминание о его существовании, не могли появиться в свет без санкции и «одобрения» последнего, дабы, как говорилось в одной из документов 20-х годов, «ни в коем случае не помешать его оперативной работе». Тогда же вышел циркуляр Главлита, в котором «вновь» предлагалось всем управлениям Главлита «не допускать в печати каких бы то ни было сообщений, связанных с деятельностью ГПУ» (так называлось это ведомство до 1923 г.)[55]. В различных редакциях текст этого циркуляра неизменно входил отдельным параграфом во все «Перечни секретных сведений», о которых шла речь выше. Это правило сохранялось до самого конца перестройки (см. главу 8). В различных главах книги я не раз буду касаться этой темы (см., в частности, далее цензурную историю публикации в «Звезде» романа Ю. Германа «Я отвечаю за всё», в «Неве», в годы перестройки, — романа В. Дудинцева «Белые одежды» и т. д.). Сейчас же приведу лишь один колоритный документ, который, кажется, не требует комментария. Ленинградский КГБ, как видно из него, решил вступиться за честь мундира наших «славных чекистов»:
Секретно
«1969. 01. 11. СССР
Комитет государственной Начальнику Управления безопасности по Ленинградской по охране Гостайн в печати области тов. Арсеньеву Ю. М.
Ознакомившись с либретто оперетты Кима РЫЖОВА и Александра КОЛКЕРА “Журавль в небе”, считаем необходимым сделать следующие замечания:
Основная сюжетная линия оперетты, по нашему мнению, вызывает сомнение с точки зрения достоверности. Главная героиня — сотрудница органов КГБ Таня, действующая под именем гида “Интуриста” Нины ШАМАНОВОЙ, покончившей жизнь самоубийством, после элементарной проверки неизбежно будет расшифрована как подставное лицо разведкой противника, располагающей фотографией подлинной Нины ШАМАНОВОЙ и имеющей возможность установить личность Тани в “Интуристе”.
Образ чекиста Афанасия Ивановича, действующего под видом “тунеядца” и “алкоголика”, вступающего, благодаря этим качествам, в контакт с графиней Де Валяй и осуществляющего охрану Тани, по нашему мнению, является неприемлемым и может быть неправильно истолкован зрителем. Наделение этого образа отрицательными качествами, очевидно, понадобилось либреттистам для того, чтобы вызвать у зрителей эффект неожиданности. Образ полковника КГБ Ивана Михайловича крайне схематичен и ходулен.
Конец одиннадцатой картины, в которой “Герцог” угрожает Тане отравленной иглой, и только появление Афанасия Ивановича с пистолетом в руке из стенного шкафа спасает ее от гибели, может вызвать своей нарочитой нереальностью веселую реакцию зрителей, прямо противоположную трагической ситуации на сцене.
При таких, на наш взгляд, существенных недостатках, устранение которых без ломки основной сюжетной линии оперетты невозможно, постановка ее на сцене Театра Музыкальной комедии не может быть осуществлена, так как она создает искаженное представление о работе органов госбезопасности.
Зам. начальника Управления КГБ Иванов»[56].
На постановку оперетты был наложен запрет, причем без всяких объяснений. Исходил он, понятно, не из КГБ, а из самого Горлита, который, якобы, все решения принимает самостоятельно.
Оберегались, начиная с конца 20-х годов и до самого конца 80-х, все тайны ГУЛАГа — его география, статистические данные о числе заключенных, сведения о применении их труда на «великих стройках коммунизма» (гидростанции, БАМ и прочее).
В 60-е годы наметилась другая линия сотрудничества КГБ и Ленгорлита. В данном случае мы наблюдаем обратную ситуацию: первый консультировался со вторым по поводу, главным образом, «самиздатских» и тамиздатских» изданий, обнаруженных при обысках (подробнее см. главу «Борьба Ленгорлита с вольной бесцензурной литературой»).
Неизменно и последовательно цензура защищала свои собственные секреты. Более того, с течением времени самое слово «цензура» стало табуированным и исчезать из лексики. Цензоры стали называться уполномоченными или редакторами Главлита, а сам процесс превентивного контроля эвфемистически был заменен словом «литование». «Зали-товать рукопись» — значит получить разрешение на ее публикацию. Охрана цензурных тайн постоянно предусматривалась все теми же «Перечнями секретных сведений». Хотя, опять-таки, все прекрасно знали о существовании в стране жесточайшей цензуры, говорить о ней было «не принято», тем более — в печатных публикациях. Любая, даже самая невинная попытка такого рода неизменно пресекалась, как говорится, на корню. Больше того: после «пражских событий» 1968 г. резко свернуты историко-цензурные исследования, пусть даже трактующие о делах «проклятой царской цензуры» или зарубежной практике. Истинная причина такой идиосинкразии к самому слову заключалась в боязни охранительных структур, что оно может вызвать нежелательные аллюзии. Строго охранялись все документы самой цензуры, особенно не раз уж упоминавшийся «Перечень секретных сведений», который хранился в сейфе: даже самим цензорам он выдавался под расписку.
Приведем один лишь пример. В сентябре 1973 г. ректор ЛГПИ им. А. И. Герцена обратился в Ленгорлит с письмом, в котором просил «.ознакомить старшего научного сотрудника кафедры физической электроники Хинича Н. И. с параграфом 57 перечня сведений Главлита». В ответ он получил настоящий разнос: «3 сентября к нам обратился автор работ Хинич Н. И. с просьбой ознакомить его с секретными документами, якобы необходимыми ему для работы. По установленному директивными органами порядку, Управление ни в какие отношения с авторами не вступает. Обращаю Ваше внимание, что в Вашем письме даны ссылки на секретные документы, что является недопустимым в открытой переписке»[57].
Сугубо секретными объявлялись подлинные данные статистических, медицинских и социологических обследований. Тогда ходила такая максима: «Есть ложь, есть сугубая ложь, а есть еще статистика». Данные, публикуемые в статистических ежегодниках и других официальных материалах, имели мало общего с действительностью. В духе заданного оптимизма звучал прогноз двух врачей, опубликовавших в книге «Вопросы врачебной деонтологии» (издательство «Медицина», 1978 г.) результаты своего исследования. Они ожидали, что к 2000 году прирост населения страны возрастет с 20 миллионов человек до 80, и численность населения составит чуть ли не 350 миллионов. Эта фраза, по настоянию цензора, была вычеркнута, поскольку тоже составляла военную тайну. Сейчас, учитывая события 1991 г., а также демографическую катастрофу, приведшую к резкому сокращению населения, прогноз медиков производит трагикомическое впечатление.
Помимо указанных «тайн», в циркулярах и перечнях можно обнаружить самые неожиданные вещи. Так, особый циркуляр 1980 г. объявлял секретными «сведения о том, что многотиражная газета “Полярная кочегарка” издается и печатается на советских угольных рудниках о. Шпицберген», «материалы о так называемых “летающих тарелках” и других “неопознанных летающих объектах (НЛО)”», «материалы о поисках в г. Калининграде и Калининградской области “Янтарной комнаты” и других ценностей» и т. п. Завесой секретности здесь же закрывались сведения о прокате в стране кинофильмов — «о выплачиваемом киносетью налоге со зрелищ в денежном выражении — от кинотеатра и выше», о числе зрителе, просмотревших в СССР зарубежные художественные фильмы (в целом и по конкретным фильмам)», «о продажных ценах и стоимости лицензий на советские фильмы, о доходах от проката этих фильмов за рубежом…»[58]. Понятно, что это связано с постоянными нарушениями авторского права и полулегальным прокатом зарубежных фильмов в СССР, за что полагались соответствующие отчисления.
Скрывались от населения практически все случаи аварий на шахтах и заводах, в особенности те, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Так, в «Циркулярном указании № 6 по вопросам цензуры печати», разосланном 1 декабря 1953 г., говорилось: «Впредь рекомендуется следующая редакция п. 228 “Перечня сведений, не подлежащих оглашению в печати”: “Запрещается опубликовывать материалы, акты и сведения о крупных авариях, катастрофах и пожарах в промышленности, на транспорте и в государственных учреждениях, злоумышленных действиях и нападениях на объекты, стихийных бедствиях в сельском и лесном хозяйстве”».
Обо всех таких событиях не позволено было говорить даже в произведениях художественной литературы, кинофильмах и т. д. Каждый раз цензура требовала заключения «компетентных органов» — министерств и ведомств, — причем именно тех, по вине которых и произошла катастрофа, повлекшая за собой человеческие жертвы. Естественно, защищая «честь мундира», начальники ведомств решительно отказывали в разрешении на публикацию любых сведений, которые могли бы бросить на них тень. Из десятков цензурных инцидентов такого рода приведем сейчас лишь один. В 1983 г. Ленгорлит возвратил директору киностудии «Ленфильм» режиссерский сценарий А. Муратова кинофильма «Решение» (по литературному сценарию Э. Володарского), поскольку он «…не может быть разрешен к печати и производству, так как согласно требованиям нормативных документов на факт гибели двух шахтеров во время аварии на шахте необходимо представить разрешение Министерства угольной промышленности СССР». Директор сообщил затем, что сценарий «…частично пересмотрен после получения Вашего письма и беседы, которую режиссер имел с помощником Министра угольной промышленности СССР тов. Поляковым В. Ф. Из сценария исключен факт гибели двух шахтеров во время аварии — они остаются в живых (подчеркнуто синим карандашом — А. Б.). Представляя режиссерский сценарий после частичной переработки, просим разрешить его к печати и производству»[59].
Таким образом, запрещалось всё, что может растревожить незамутненное сознание советского человека. Сокрытие правды создавало атмосферу таинственности, непонятности. В конце концов, наряду с прямой ложью («Правда это ложь» — вспомним партийный лозунг из романа Джорджа Оруэлла «1984»), оно способствовало формированию мифологического сознания, этого непременного условия существования тоталитарного государства.
Глава 4. Надзор за различными средствами информации
Книжные издательства и типографии
Разветвленная сеть книжных издательств, всегда существовавшая в городе, требовала специфических методов контроля. К почти каждому крупному издательству приставлен был специальный «выпускающий» цензор. Он должен был оперативно разрешать все вопросы, возникшие в процессе подготовки той или иной книги, непременно консультируясь со своим непосредственным начальством. С 1965 г., как говорилось ранее, установлены новые правила взаимоотношений цензуры с издательствами, в частности, предоставлено право представления текстов в верстках.
Руководители издательств, назначаемые из крупных партийных работников, и редакторы-выдвиженцы подвергали тексты жесткой идеологической правке, ничуть не уступая в этом смысле собственно цензурным инстанциям, а порой и превосходя их в своем рвении. Не менее роковую и зловещую роль играли руководители и функционеры так называемых «творческих союзов» — писателей, композиторов, художников и т. д., осуществлявших контроль над подведомственными им издательствами, редакциями журналов, выставками, зрелищными представлениями. Многие произведения отсекались именно на этой стадии, не доходя до собственно цензуры в лице Главлита, а именно — тот идеологический, на редакторском жаргоне, «непроходняк», который был заведомо обречен на гибель… К тому же, представление такого материала на предмет разрешения в цензурные органы (не говоря уже о других — еще более зловещих) могло создать мнение об опять-таки «идеологическом несоответствии» редакторов занимаемой должности, причем со всеми «вытекающими оргвыводыми».
В распоряжении редакторов и руководителей издательств находилось множество средств и методов, позволявших отсечь книгу неугодного автора или «сомнительного» содержания. Во-первых, метод, получивший в этой среде особую популярность и называвшийся так: «Гнать зайца дальше». Это означало — не отказывая автору, бесконечно перебрасывать его рукопись от одного «внутреннего рецензента» к другому. Чаще всего, это были проверенные люди из среды литературных критиков и самих писателей, своего рода «темные лошадки». Для таких внутренних рецензий характерна их полная анонимность, так как она показывалась гонимому автору без подписи. Иногда количество таких рецензий доходило до десятка. Процесс затягивался до бесконечности, пока загнанный автор не уставал и, махнув на всё рукой, забирал рукопись, пряча ее в стол «до лучших времен», или отдавал ее в самиздат или тамиздат.
Второй довод: «цензура не пропустит». Полная непроницаемость и засекреченность ведомства порождала по сути кафкианскую атмосферу. Редактор, вроде бы сочувствуя автору и соглашаясь с ним, многозначительно показывал большим пальцем вверх, намекая на те таинственные и всемогущие силы, от которых ни автор, ни он, редактор, не зависят. Часто бывало так, что редактор шел, так сказать, «впереди прогресса», запрещая то, что выше прошло был незамеченным. Об этом говорил Федор Абрамов, выступая в 1971 г. на расширенном пленуме Совета по литературной критике СП СССР. Он назвал вопрос о цензуре «довольно деликатным», с ним приходится «сталкиваться постоянно». Он говорил и о том, что «…еще ни разу не разговаривал с цензорами, хотя в издательстве ему говорили, что против того или иного места возражает цензура». Выступая публично, писатель вынужден был говорить на языке своего времени: «Иногда разводишь руками. Почему не пропущено именно это место? Ведь цензор и писатель — советские люди, перед которыми стоят одинаковые задачи. И все же, видимо, они не могут прийти к соглашению»[60].
Третий метод: «формирование темплана», то есть тематического плана издательства не только на год вперед, но сверстанного порой на целую «пятилетку». «Попасть в темплан» — заветная и часто несбыточная мечта автора. Добиться этого было очень трудно. Каждый такой документ непременно рассматривался и утверждался на самом верху — в идеологических структурах партии. Обком ежегодно рассматривал вопрос «О формировании планов издательств, расположенных в Ленинграде», проводил совещания с приглашением директоров издательств, на которых обсуждались меры, направленные на «совершенствование работы в свете требований» (такого-то) очередного съезда партии. Сотрудники агитпропа могли не только исключить некоторые «позиции» из плана, но и «рекомендовать», что равнялось приказу, включить в него те или иные книги, — в связи с их «актуальностью». Из темплана здесь же могли вычеркнуть «малоактуальные» произведения, книги проштрафившихся авторов (например, подписавших какие-либо протесты) и т. д. Партаппарат вникал во все детали, вплоть до количества экземпляров намеченного к выпуску издания. Например, разрешить печатание чисто символическим тиражом, каким в застойные времена издавались, скажем, произведения Цветаевой и Мандельштама. До крайности обструганные и «оркестрованные» фальшивыми вступительными статьями официозных литературоведов, они должны были играть роль контрпропагандистского оружия, направленного против «злобных выпадов» ревизионистов и прочих западных врагов советской власти.
Другой сакральный термин — «типизация издательств». Она объявлялась своего рода панацеей против всех бед и зол, подстерегающих книжное дело, страдающее, как постоянно подчеркивалось в документах, «параллелизмом и дублированием работы». Такая типизация назначалась сверху; выход за рамки программы рассматривался чуть ли не как преступление. Издательству выделялась отгороженная делянка, а дальше следует известное гулаговское правило: «Шаг влево, шаг вправо считается побег». В советских условиях сделано это было исключительно в целях регламентации деятельности издательств и усиления контроля: так было удобней начальству.
Во множестве документов Ленгорлита отмечен выпуск различными издательствами так называемой «непрофильной» литературы. Даже издание материалов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в количестве 550 экземпляров было поставлено в вину руководству Академии художеств: не спасло даже священное имя! Еще большее раздражение вызвало издание переведенной с немецкого книги «Пудель. 400 советов собаководу» Научно-исследовательским институтом связи[61].
Но самое интересное, что на практике эта, казалось бы, благая идея на деле не привела к сколько-нибудь положительным результатам: обвинения в «параллелизме и дублировании» с поразительной настойчивостью, буквально в одних и тех же выражениях, звучат во всех без исключения партийных постановлениях по издательскому делу, выходившими раз в пять-шесть лет. Не спасало это и от ведомственной неразберихи, появления в дальнейшем сотен мелких ведомственных издательств — различных министерств, управлений и других бюрократических инстанций. Не спасали эти бесчисленные постановления и от затоваривания теми же самими параллельными и дублирующими изданиями, время от времени буквально сотрясавшего кризисами книжный рынок. Это приводило к массовому «списанию», т. е. уничтожению миллионов книг, абсолютно не пользовавшихся покупательским спросом (одновременно — при колоссальном дефиците действительно нужной литературы, породившем в годы застоя спекулятивный «черный» книжный рынок). Система, установленная в книгоиздательской сфере, работала крайне неэффективно как, впрочем, и во многих других.
* * *
Одной из задач Ленгорлита являлось регулярное обследование и инспекция всех типографий города и области. В его состав входил особый Отдел контроля полиграфпредприятий, который руководствовался «Положением о VI отделе Главлита»: «Задача отдела — контроль над соблюдением полиграфическими предприятиями (типографиями и организациями, имеющими множительные аппараты) установленного порядка печатания несекретных изданий. Отдел проводит: выборочный контроль полиграфпредприятий, ведет картотеку полиграфпред-приятий и учет результатов их контроля, наблюдает о выполнении правил о доставке сигнальных и обязательных экземпляров»[62].
Неуклонное исполнение последней задачи, несмотря на ее поли-цейско-фискальный характер, имело, надо сказать, положительные последствия, обеспечивая крупнейшие книгохранилища страны всеми без исключения образцами произведений печати, изданных в стране. Хорошо известно, что в наше время, несмотря на «Закон об обязательном экземпляре», даже фонды Российской Национальной библиотеки в Петербурге страдают большими лакунами, то есть пробелами в комплектовании современной российской книгой.
Разработанные Главлитом в 60-х годах «Положение о порядке издания министерствами, комитетами, ведомствами и организациями печатной продукции» и «Единые правила печатания несекретных изданий» предусматривали такой пункт: «Право издания и тиражирования книг на множительных аппаратах, принадлежащих учреждениям и предприятиям, запрещено, а самовольное нарушение порядка является противозаконным»[63].
Такой пункт внесен был не случайно: первые, достаточно примитивные, множительные устройства, появившиеся в СССР в 60-е годы, ротапринты, аппарат «Эра» и другие, которыми располагали некоторые учреждения (главным образом, научно-исследовательские институты) начали использоваться «не по назначению». Иногда на них тайком печатали тамиздат, но не только: различные сонники, доморощенные лечебники, пособия по хиромантии, руководства по восточным единоборствам, иногда эзотерическую литературу, западные детективы и т. п. Иногда размножалась литература с полупорнографи-ческим душком. Интересно, что к последней (естественно, абсолютно несправедливо) отнесена была «Лолита» Владимира Набокова. Совершенно неожиданные круги читателей впервые услышали о Набокове благодаря этой книге, напечатанной на «Эре» и даже переплетенной.
Коллегия Главлита в 1970 г. приняла постановление под пространным заглавием «О мерах по предотвращению нарушений установленного порядка выпуска изданий, изготовляемых на множительных аппаратах, и разглашения в них сведений, запрещенных к открытому опубликованию». Все местные управления отныне должны были производить «выборочный контроль» всех организаций, имеющих множительную технику, и срочно сигнализировать об обнаруженных «нарушениях»[64]. Инспекторы время от времени обнаруживали «факты нецелевого использования множительных устройств». Громкое дело возникло по такому поводу в Библиотеке Академии наук, на множительных аппаратах которой печатались самиздатские и иные сочинения. Неожиданные налеты на типографии обнаруживали постоянные нарушения установленных правил. В 1978 г., например, начальник Ленгорлита сигнализировал во Всеволожский Горком КПСС: «Сообщаем для сведения и возможного использования, что выборочной проверкой типографий, печатно-множительных участков предприятий и организаций Всеволожского района, проведенной Ленинградским управлением, обнаружены факты несоблюдения установленного нормативными документами порядка. Из шести проверенных полиграфпредприятий в пяти обнаружены нарушения “Единых правил печатания несекретных изданий”»[65].
Во время регулярно проводимых обследований обнаруживались «…факты печатания идейно-ущербных, религиозных, порнографических изданий и материалов, не имеющих отношения к производственной деятельности организаций». При этом Ленгорлит обязательно ссылался на «указания директивных органов, постановления Обкома КПСС от 10 июля 1980 г. «О дальнейшем усилении работы по сохранению государственной тайны». Мелочность и придирчивость контролеров дошла до того, что даже тиснение имен авторов и названий произведений на переплетах старых книг считалось непозволительным без их санкции. Даже в годы начавшейся перестройки в Главлит поступила жалоба «тов. Пинчука В. И.» на то, что «переплетная мастерская Управления бытового обслуживания отказалась сделать надписи на двух сданных им в переплет книгах дореволюционного года издания — “Петербург” и “К 75-летию музыкальных концертов в Павловске”, ссылаясь на инструкцию Главлита». Обследуя типографию киностудии «Ленфильм», контролеры обнаружили на переплетном участке, причем «без оформления наряда заказа и регистрации в книге учета», ряд книг, «не имеющих отношения к производственной деятельности студии». Среди них — «Рецептурный справочник», сочинения Марка Твена, французские журналы мод и т. д. Понятно, что все это — так называемые «левые» работы. Но обнаружилось и «одно политически-дефектное издание — “Царь Иудейский”, проводящее идеи сионизма, выпущенное в Петербурге в 1914 г.»[66]. Их, видимо, смутило и насторожило второе слово в названии: на самом деле — это мистерия поэта К. Р. (вел. кн. Константина Романова), замысел которой был подсказан ему Чайковским еще 1889 г., когда и пугающего термина «сионизм» еще не было: он советовал поэту «с евангельской простотой и почти буквально придерживаясь текста» изложить стихами историю Страстей Господних. Примечательно, что пьеса была первоначально запрещена Синодом, посчитавшим, что «драма, отданная на современные театральные подмостки и в руки современных актеров, сама утратит свой возвышенный характер, превратившись в обычное лицедейство». Лишь в 1913 г. поэт получил личное разрешение Николая II на единственное представление в Царскосельском Китайском театре[67]. Об уровне подготовки советских цензоров, увидевших в христианской мистерии «пропаганду сионизма», говорить не приходится… О результатах своей проверки цензоры доложили Петроградскому райкому партии (в этом районе находится студия «Ленфильм») «для сведения и возможного использования».
В сравнительно безобидных случаях управление информировало — «для принятия соответствующих мер» — территориальные партийные комитеты. В необходимых случаях, начальник Ленинградского управления сигнализировал в органы госбезопасности, поскольку факты издания и распространения нелегальных произведений печати «антисоветского характера» входили в их компетенцию (см. далее главу 5 «Борьба Ленгорлита и КГБ с вольной бесцензурной литературой»).
Средства массовой информации (газеты, радио, телевидение)
Оперативные средства информации находились в зоне повышенного внимания, поскольку именно они призваны были проводить политику партии. Газеты — не только «коллективный пропагандист и агитатор», но и «коллективный организатор», согласно известной ленинской формуле, — являлись (наравне и вместе с сетью радиовещания и телевидения) главным рупором идеологического режима. Практически к каждой газете, вплоть до районного листка, приставлялся цензор («райуполномоченный»). Десятки постановлений и решений ЦК посвящены «низовой печати». Постоянно указывается в них на «низкий культурный уровень», «политико-идеологические прорывы» и тому подобные недостатки районных и городских газет, не говоря уже о заводских, вузовских и прочих ведомственных «многотиражках».
В Ленинградском (как и в любом другом) управлении существовал специальный сектор контроля над низовой печатью. Сотрудники его регулярно выезжали на места с целью обучения «райцензоров», созывали совещания, организовывали курсы и семинары. Они же просматривали в порядке постцензуры уже вышедшие номера газет, время от времени составляя обзоры, в которых указывались наиболее «яркие» политико-идеологические и иные просчеты, допущенные редакторами районных газет, называемые обычно «прорывами». Мелочей для контролеров не существовало. В качестве иллюстрации приведем сейчас лишь один такой документ, относящийся к маю 1975 г.:
Для служебного пользования
«Леноблгорлит
В Отдел пропаганды Обкома КПСС
Информация о нетребовательном отборе материала редакцией газеты “Невская заря” (Всеволожск), редактор В. Г. Киселев.
В № 73 от 7 мая 1975 г. помещен материал под крупным заголовком: “Юбилей президента”, посвященный президенту ФИДЕ Максу Эйве. Из центральных газет известно, какую оценку дала советская и мировая спортивная общественность неприглядной позиции, занятой президентом Всемирной шахматной федерации в вопросе о проведении матча на первенство мира между А. Карповым и Р. Фишером. “Известия”, например, 13 марта 1975 г., осуждали М. Эйве, пытающегося пойти на поводу у Роберта Фишера и втянувшего в странную недостойную игру международную организацию шахматистов. Осуждение неправомочных действий Эйве содержалось и в заявлении Шахматной федерации СССР. Вопреки очевидным фактам редакция газеты “Невская заря” поместила апологетическую заметку по поводу юбилея Эйве, которая заканчивается следующими словами: “Поздравляя своего президента, шахматисты всего мира надеются, что он и впредь будет стремиться к демократизации ФИДЕ и улучшению ее работы”. Начальник Управления Б. Марков»[68].
Порою возникали конфликты между редакторами газет и приставленными к ним цензорами. Характерно в этом отношении дело, относящееся к декабрю 1960 г. Цензор В. А. Алешин направил своему начальству докладную записку «О столкновениях с членом редколлегии “Ленинградской правды” А. Я. Гребенщиковым, зав. Отделом науки, — по поводу статьи в номере от 7 апреля 1960 г. “На пороге великих открытий”». Он жалуется, что его решение о запрете статьи «Гребенщиков назвал “глупым” и оскорбил его. Главный редактор на его жалобу не отреагировал… Прошу сообщить об этом в Обком КПСС». На докладной — резолюция начальника Леноблгорлита: о «безобразном поведении т. Гребенщикова считаю необходимым довести до сведения секретаря Обкома КПСС т. Покровского Б. А.». Отстояв «честь мундира» своего цензора, тот же Б. А. Марков вскоре уволил В. А. Алешина, придравшись к совершенно пустячному поводу: «Старший цензор Алешин В. А. в газете “Ленинские искры” разрешил опубликовать в номере от 10 декабря 1960 г. статью “У проходной”, в которой идет речь о режимном заводе им. Кулакова. На фотографии, помещенной в этой статье, показан клуб “Красный Октябрь” упомянутого завода. При получении полосы газеты Алешин не проверил — о каком заводе идет речь. В связи с тем, что Алешин и ранее допускал грубые ошибки, а также то, что его рассеянность может привести к грубым нарушениям руководящих документов Главлита СССР, считаю необходимым освободить Алешина от занимаемой должности и уволить из Леноблгорлита».
Строго преследовались малейшие отступления от принятого правила, согласно которому текст публикуемой статьи должен точно соответствовать завизированному оригиналу. Вот только один пример. «В Обком КПСС — по поводу публикации статьи, посвященной 3-й годовщине запуска первого советского спутника. Редакция сообщила, что собирается напечатать статью академика Благонравова “Подвиг науки” (в номере от 4 октября), но в опубликованной статье добавились 4 абзаца. Учитывая, что редакция газеты “Ленинградская правда” сознательно встала на путь обмана цензуры, прошу Вас поставить перед Обкомом КПСС вопрос о привлечении редактора газеты Куртынина к партийной ответственности за обман цензуры»[69].
Выборочной последующей проверке подлежали и так называемые «многотиражки» — небольшие ведомственные газеты, выпускавшиеся крупными заводами, фабриками и высшими учебными заведениями. Ответственность за их содержание возлагалась на парторганизации этих учреждений. Время от времени в них обнаруживались те или иные «нарушения» — в основном, ряда параграфов «Перечня секретных сведений». О мелочности и придирчивости надзирателей свидетельствует «Справка о фактах небрежности журналистов», подготовленная в 1965 г. Вот наиболее красочные примеры. В одной из заметок, напечатанной в газете фабрики «Веретено», обнаружено такое «сомнительное» место: «В производстве осваивается объемная пряжа. Из объемной пряжи революционно-красного цвета шьют дамские кофты». Такое же «кощунство» и насмешку над революционными святынями допустил автор газеты «За культуру торговли», начавший свою статью так: «Есть ли в городе кабаки? Да, в переулке Ильича». Ни в коем случае нельзя упоминать в газетах нежелательных авторов. Отмечен такой факт: О «задолжнике» библиотеки завода «Красный треугольник» в одноименной газете говорилось: «У Фирсова неплохой вкус: “зачитал” Ницше, Шопенгауэра, Пастернака»[70]. Редакциям всех многотиражек постоянно рекомендовалось усилить требовательность к отбору материала и, естественно, бдительность.
* * *
Множество хлопот доставляло начавшее развиваться в 50-годы телевидение. Помимо официального цензора, приставленного к телестудии (до начала 90-х годов единственной в городе), контролирующие функции выполняли сотрудники, которые официально назывались очень интересно: «сотрудники доэфирного контроля», такие, если слегка переиначить Лермонтова, «вольные сыны доэфира». Политический и идеологический контроль затруднялся на первых порах тем, что передачи часто шли «вживую», и не только трансляции спортивных матчей. Для того чтобы искоренить «политические прорывы», редакции должны были заранее представлять на предварительный контроль предполагаемые к трансляции тексты. Забавную историю рассказал знаменитый кинорежиссер Милош Форман, подвизавшийся в молодости (в 50-е годы) на пражском телевидении. По его словам, все тексты должны были утверждаться цензорами Управления по делам прессы, аналогом нашего Главлита. Для этой цели составлялись соответствующие формы в двух экземплярах: «Копия оставалась у них, и они следили за тем, чтобы все было точно. Дошло до того, что потребовали текст для выступления жонглеров, которые, как известно, производят манипуляции молча. И все-таки они должны были заполнить соответствующую форму. Они вернули мне бумагу, улыбаясь до ушей. Вот что там было написано: “Эй! Ой! Ух! Ух! Ух! Гоп, гоп, гоп!”. Спустя несколько дней оригинал пришел с нужным штампом»[71]. Нечто подобное, видимо, существовало и в отечественной практике, тем более что Советский Союз выступал в этом, как и во многих других отношениях, «законодателем мод» для «стран народной демократии». Что и говорить, — и это не анекдот! — если одно время Ленгорлит требовал от конферансье эстрадных представлений и инспекторов цирковых манежей тексты экспромтов (!), которые они собираются произносить во время представлений.
Разбор «проколов» шел уже постфактум, но от этого сотрудникам не приходилось легче: следовали «оргвыводы», часто влекшие за собой не только выговоры и предупреждения, но и — в острых случаях — увольнения проштрафившихся сотрудников. Как и для печатных средств информации, здесь существовал запрет на имя, в данном случае — его произнесение или «изображение» с помощью телевизионной картинки. Проиллюстрировать это можно опять-таки с помощью шахматной тематики. Гроссмейстер Виктор Корчной, оставшийся в 1976 г. в Голландии, тотчас же стал «нелицом». Его фамилию тотчас запрещено было произносить. Когда в 1978 г. он играл матч на первенство мира с Карповым, то об этом писали (или сообщали) так: «В очередной партии матча в Багио А. Карпов, играя белыми, начал ходом е-два — е-четыре. Претендент сыграл е-семь — е-пять». Наблюдавшие тогда за матчем помнят, что на телевизионном экране за шахматной доской виден был только Карпов: лица Корчного не видно. Более того, из кадра убрана даже табличка с его именем. Кто-то сочинил по этому поводу такое четверостишие:
И вот они: один — герой народа, Что пьет кефир в критический момент, Другой — злодей без имени и рода С презрительным названьем «претендент»[72].Только после того, как в прессе последовали разгромные статьи (матчи сопровождались скандалами), — Корчного, наконец, разрешали именовать по фамилии.
Вычеркивались не только имена, но и целые страны. В связи с очень сложными отношениями с Китаем велено поменьше упоминать эту страну, а еще лучше — вообще ее не называть. Кирилл Набутов, работавший тогда спортивным комментатором, рассказывал мне, что сообщения о спортивных играх с китайцами выглядели примерно так: «Вчера сборная СССР в очередном матче победила 3:1. Самой сложной был вторая партия, выигранная соперниками нашей команды со счетом 15:5» (чемпионат мира по волейболу 1977 года). То же самое касалось и сообщений об играх с командами Израиля.
Наибольшее раздражение контролеров вызывала редакция литературно-драматического вещания. С огромнейшим трудом сотрудникам удавалось «протаскивать в эфир» запретные или полузапретные имена ряда писателей. Несмотря на то что, например, Осип Мандельштам был вроде бы реабилитирован, любое напоминание о нем вызывало скандал на местном уровне. Как и в других случаях, огромное значение имели сиюминутные политические соображения. Одна из сотрудниц, рассказывая о 60-х годах, вспоминает, что в «…последний момент могла быть снята передача “Военная галерея 1812 года” — по той причине, что “у нас слишком хорошие отношения с Францией, чтобы вспоминать, что мы когда-то воевали”» (?!). А передача «Английский портрет XVIII века» оказалась запрещенной, напротив, потому что «у нас с Англией сейчас достаточно напряженные отношения»[73].
И. А. Муравьева, также работавшая в 60-е годы в этой редакции, в очерке под выразительным названием «Как нас отучали от правды» рассказывает о постоянных обкомовских разносах, которым подвергалась передача «Литературно-драматический Ленинград». В частности — за пропаганду «антивоенных песен» Булата Окуджавы и постановку рассказа В. Тендрякова «Ухабы». В числе «идеологических ошибок», отмеченных в специальном решении обкома партии, указаны «пропаганда формализма и абстракционизма, пропаганда творчества поэтов-формалистов В. Сосноры, Р. Рождественского, Е. Евтушенко»[74].
На долгие годы запомнился скандал с «Литературным вторником», прошедшим в эфир 4 января 1966 года. Т. Ливанова считает эту дату «рубежом, положившим конец золотому веку Ленинградского телевидения и правления его легендарного директора Бориса Максимовича Фирсова. Режиссер — Роза Сирота, а я ассистент. Единственный в моей практике случай, когда прямо в эфире раздался звонок верховного партийного начальства с требованием прекратить передачу. За что нас судили так строго, теперь понять трудно — за невинные воззвания любить и беречь русский язык и родную речь, за одно лишь упоминание имен Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой… Дикость, конечно, дикость, но помню, было по этому случаю специальное заседание партийного Олимпа, и полетели головы редакторов передачи, главного редактора, директора студии. Началась другая жизнь»[75].
Эта история вышла далеко за пределы города и вызвала резонанс на самом верху. И. А. Муравьева приводит выдержки из стенограммы специального заседания Госкомитета по радиовещанию и телевидения, на которое были вызваны основные «виновники». Передача была названа «диверсионной вылазкой, направленной против самих основ нашей идейно-политической жизни». Другой выступавший утверждал, что «любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир»[76].
В том же демагогическом духе звучала «Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС», подготовленная по этому поводу 18 февраля 1966 г. и подписанная, увы, заместителем заведующего этим отделом А. Н. Яковлевым, названного впоследствии «прорабом перестройки»[77].
Как принято было в таких случаях, опираясь на «письма трудящихся», в которых они «…справедливо протестуют против допущенных в передаче грубых ошибок и неверных положений», агитпроп подверг передачу настоящему идеологическому разгрому. В «Записке» отмечалось, в частности, что участники передачи (писатели Л. Успенский, О. Волков, В. Солоухин, литературоведы и искусствоведы Б. Вахтин, В. Иванов, Д. Лихачев, Л. Емельянов) заняли в целом неправильную тенденциозную позицию». Они «в развязном тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинину, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения, как РСФСР, ВЦСПС… Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама, Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершено не упоминались имена Чехова, Горького, Маяковского, Шолохова». «Участники передачи, — говорилось далее, — игнорировали элементарную журналистскую этику, отступив от тезисов, утвержденных руководством телевидения в соответствии с существующими правилами. Этот факт использования телевидения в целях пропаганды субъективистских и ошибочных взглядов привел к нежелательным последствиям». В записке одобрено решение Комитета по радиовещанию и телевидению «освободить от работы директора Ленинградской студии телевидения т. Фирсова и главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина», а также поручено «подготовить передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской культуры».
Эта история, пришедшаяся на самый конец оттепели, означала и окончание каких бы то ни было игр с интеллигенцией. Хотя «золотым веком телевидения» назвать предшествующую эпоху было бы натяжкой, тем не менее, она не идет ни в какое сравнение с наступившими годами застоя и царства серости.
Библиотеки
Политика тотального «библиоцида» — систематического уничтожения громадных и не поддающихся строгому учету книжных запасов страны — в наибольшей степени коснулась общественных библиотек, о чем подробно говорилось в наших предшествующих книгах. После вакханалии первого десятилетия советской власти, когда реквизировались и частично уничтожались «дворянские» и «помещичьи» библиотеки, после того, как в 20-е годы Главполитпросветом были организованы под руководством Н. К. Крупской так называемые «очистки» массовых библиотек от «контрреволюционной» литературы, этот процесс был введен в более или менее «законное» русло. Уже через год после своего создания, в мае 1923 г., Главлит разработал и разослал «Инструкцию о порядке конфискации и распределения изъятой литературы». Вот только два ее пункта: «Изъятие (конфискация) открыто изданных печатных произведений осуществляется органами ГПУ на основании постановлений органов цензуры… Произведения, признанные подлежащими уничтожению, приводятся в ГПУ в негодность к употреблению для чтения, после чего могут быть проданы как сырье для переработки в предприятиях бумажной промышленности с начислением полученных сумм в доход казны по смете ГПУ»[78].
Конечно, это не означало, что все без исключения экземпляры подвергались физическому истреблению: по одному-два экземпляра дозволялось оставлять в отделах специальных фондов (в просторечии — «спецхранов») крупнейших национальных библиотек и научных хранилищ. В библиотеках других типов, а также в книготорговых предприятиях все экземпляры подлежали уничтожению «посредством обращения в бумажную массу», что, оказывается, давало казне кое-какой доход. Начиная с 30-х годов такого рода операции должны были производиться исключительно по особым «Сводным спискам книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети», рассылавшимся Главлитом.
Выделим два основных типа запрета: «персонифицированный» и «содержательный». В первом случае осуждалось самое имя как таковое, в строй вступал argumentum ad hominem — доказательство «применительно к человеку», не основанное на объективных данных, что, кстати, признавалось несостоятельным еще в римском праве. К числу «нелиц» относились следующие категории авторов:
а) автор подвергся политическим репрессиям (арест, в большинстве случаев закончившийся расстрелом или гибелью в ГУЛАГе);
б) выслан (например, на «философском» пароходе осенью 1922 г., А. И. Солженицын в 1973 г.) или эмигрировал (массовый исход в начале революции, полунасильственная вынужденная эмиграция десятков писателей в 60—80-е гг.);
в) стал невозвращенцем (Ф. Раскольников в 1938 г., А. Кузнецов в 1969-м и др.);
г) автор оставлен под подозрением, попал в идеологический «штрафбат», став жертвой очередной кампании, объявлен нежелательной персоной, попав под обстрел партийных постановлений или официальной критики, — например, Анна Ахматова и Михаил Зощенко после выхода постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» в августе 1946 г., ряд литераторов в конце 40-х гг. в пору «борьбы с космополитизмом».
Основная часть книг, оказавшихся в спецхранах, подпадала под указанный выше пункт «а». Число писателей, подвергавшихся тем или иным политическим репрессиям (часто — со смертельным исходом), огромно. Другие, часто встречающиеся «персонифицированные» мотивы запрещения: а) книга снабжена предисловием, послесловием, вступительной статьей или примечаниями лица, относящегося к перечисленным выше категориям. Многие книги писателей погибли именно по этой причине, поскольку сопровождались статьями «бывших вождей» (чаще всего — Л. Б. Каменева и Н. И. Бухарина) или репрессированных литературных критиков — как сочувствовавших писателям «попутчикам», например А. К. Воронского и Г. Е. Горбачева, так и нещадно преследовавших их рапповских литпогромщиков Л. Авербаха и Г. Лелевича, также попавших в мясорубку 1937–1938 гг.; б) помещена библиографическая реклама книжной продукции (обычно на последней странице или обложке), перечисляющая среди прочего и выпущенные издательством книги все тех же «нежелательных персон»; в) в произведении выводится в качестве литературного персонажа или просто упоминается реальное неугодное лицо.
Парадоксальность ситуации заключалась, прежде всего, в том, что большая часть изданий, вошедших в главлитовские списки, — по нашим подсчетам, не менее двух третей — вовсе не содержала какого-либо политического или идеологического «криминала», в отличие, скажем, от дореволюционных индексов такого рода, в которые все-таки включались книги, покушавшиеся, по мнению цензоров, на «законы Божеские и гражданские». Бывали, конечно, и тогда отступления от этого правила: например, указ 1742 г. императрицы Елизаветы Петровны «О забвении известных персон», предписывавший изымать книги, в которых говорилось о предшествующем кратковременном царствовании Анны Леопольдовны, запрет на упоминание имен декабристов во времена Николая I, позднее — А. И. Герцена и других «государственных преступников», но все-таки дореволюционных цензоров интересовало прежде всего содержание книги. В отличие от них, советские были натренированы, можно сказать, «натасканы», главным образом, на поиск криминальных имен: подобно тому, как во время корриды бык обращает внимание не на главных своих противников и мучителей — тореадоров, а исключительно на красную тряпку, так и цензоры реагировали преимущественно на имена, в сравнительно редких случаях «нападая» на содержание. Да и разобраться в нем, учитывая их крайне низкий образовательный и интеллектуальный уровень, им было не под силу.
В связи с этим, ничего «антисоветского» или «контрреволюционного» в подавляющей части запрещенных произведений не было. Как раз наоборот: их авторы изо всех сил старались убедить власти предержащие в своей преданности и благонадежности, к месту и не к месту цитируя речи и высказывания вождей или выводя их в качестве литературных персонажей. Они не подозревали, конечно, что вскоре — бывало, буквально на следующий день после выхода книги в свет, — многие из вчерашних героев окажутся «врагами народа»…
Контекст при этом не имел ровным счетом никакого значения. Хотя, составляя в послевоенное время аннотированные перечни «идеологически вредных» изданий, посылаемые на утверждение в ЦК, цензоры и обосновывали запрет той или иной книги тем, что в ней «в положительном контексте упоминается враг народа… (имярек)», на самом деле оценка этого самого «врага» в инкриминируемом тексте могла быть любой: от нейтральной или прославляющей до клеймящей. Например, в 1926 г. поэт К. Н. Алтайский выпустил книгу, в которой восхвалял Троцкого, а в 1931 г. — другую, обличающую его. Тем не менее, обе книги были конфискованы: табу распространялось на имя как таковое. Ему придавалось магическое значение, что архетипически уходит чуть ли не в языческие времена. Это напоминает правило, распространенное в прошлом (да и сейчас встречается) в русских деревнях, по которому нельзя поминать имя черта, заменяя его эвфемизмами типа «он», «Анчутка», «хромой», «враг» и т. д., поскольку «он» может явиться на зов. Если не упоминать имя (или событие) — значит, ни того, ни другого в реальности не существует. Более того, они не существовали никогда. В результате такого подхода достаточно было проштрафиться самому автору или, что чаще, упомянуть запретное имя, или привести «клеветнический факт» (такое поразительное сочетание встречается в цензурных документах), как дело сделано, — несколько экземпляров книги отправлялось в вечную ссылку и без права обжалования, подавляющее же большинство уничтожалось. Роковую роль в разоблачении «затаившихся врагов» играли литературные критики, нередко вслед за тем сами становившиеся жертвами террористической машины, и, конечно, органы тайной политической полиции, всегда работавшие рука об руку с цензурными.
До середины 30-х годов, по нашим наблюдениям, в цензурной практике преобладала, если применить современный зловещий термин, «адресная зачистка», то есть произведение подвергалось запрету по преимуществу за свое содержание, не соответствующее требованиям политики и идеологии (справедливо или несправедливо — это уже другой вопрос). Ситуация меняется в 1935 г., что совпадает с начавшимися годами Большого террора. В результате проведенной акции, растянувшейся на многие десятилетия, по причинам «персонального характера» изъятию подверглись десятки тысяч книг, в том числе и художественных. Дошло до того, что книги подлежали аресту только за то, что отпечатаны были в ленинградской «типографии им. товарища Бухарина». Абсолютным чемпионом в этой области был, конечно, Троцкий, что полностью соответствовало его статусу «врага № 1» в глазах Сталина и его окружения. Редкое произведение из эпохи Гражданской войны, художественное в том числе, вышедшее до ссылки Троцкого в 1927 г., обходилось без упоминания имени «председателя Реввоенсовета». За ним следовали Бухарин и Каменев: первый из-за того, что очень интересовался литературными вопросами и не раз выступал с «направляющими» статьями (например, по поводу «есенинщины»); второй, попавший в опалу в конце 20-х годов, постоянно снабжал своими вступительными статьями книги издательства «Academia», председателем правления которого он был до ареста. По этой причине, в частности, погибло немало книг классиков мировой литературы, и не только русской, но даже античной…
Органы ОГПУ-НКВД-КГБ время от времени доставляли в Главлит сведения о репрессированных лицах — с тем, чтобы цензоры успели срочно включить их книги в приказы, циркуляры и другие распоряжения, рассылаемые «на места». Трижды (в 1940, 1950 и 1964 гг.) такие сведения объединялись в сверхсекретные «Списки лиц, все произведения которых подлежат изъятию». Несмотря на это, координация между двумя родственными учреждениями была поставлена явно неудовлетворительно. Постоянная «смена караула» в чекистских и цензурных кругах, аресты вчерашних палачей и душителей печати — все это порождало сумятицу, неразбериху. Вчерашние герои оказывались врагами, реже случалось наоборот, как, например, в 1956 г., после разоблачения «культа личности», когда пришлось реабилитировать не только сотни авторов, но и «неправильно задержанные книги». Некоторые из них не раз совершали путешествие в спецхраны и обратно. Плохо приходилось, например, однофамильцам арестованных «врагов».
«Маленькие недостатки большого механизма» приводили к тому, что имена некоторых репрессированных деятелей науки, культуры и искусства или вообще не попадали в тотальные «Списки лиц…», или фигурировали в отдельных указателях Главлита только в качестве авторов конкретных произведений. Так, например, ни в упомянутых списках лиц, ни в сводных указателях арестованных изданий по непонятным причинам ни разу не встречаются имена и книги расстрелянного в августе 1921 г. Н. С. Гумилева и погибшего в лагере в 1938 г. О. Э. Мандельштама, тогда как в советское время каждый из них успел опубликовать по несколько книг. О. Э. Мандельштам лишь однажды упомянут в «Сводном указателе…», вышедшем в 1951 г., да и то лишь как переводчик одного французского сочинения, причем основанием запрета послужило, скорее всего, имя Карла Радека — автора вступительной статьи к этой книге. Тем не менее, одно лишь упоминание их имен приводило к аресту множества книг. «Просмотрели» цензоры и книги Н. А. Клюева, не раз подвергавшегося арестам и ссылкам, начиная с 1924 г., и расстрелянного, по некоторым данным, в 1937 г. в Томске, в то время как сама «клюевщина» неизменно приводила к запрету многих произведений так называемых «новокрестьянских» поэтов — Клычко-ва, Орешина и других. Поэмы же самого Клюева, по словам «старой» «Литературной энциклопедии», представляли собой «…совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака» (Т. 5. М., 1931. С. 326).
Такого рода «накладки» и «недоработки» встречаются довольно часто: число примеров можно умножить… Еще Щедрин заметил как-то, что «…русская литература возникла по недосмотру начальства». И хотя в советское время литература скорее могла существовать по его, начальства, предписанию, все-таки — благодаря и «недосмотру», и известной российской неразберихе и безалаберности (в данном случае — спасительных!) — ряд произведений, «сомнительных» с точки зрения идеологов, но обладавших несомненными художественными достоинствами, оставался в читательском обиходе.
Если инкриминируемые «персональные» данные могут быть выявлены более или менее легко при просмотре текста, то в случае отсутствия самого цензурного документа «содержательные» мотивы запрета установить довольно сложно. Многое диктовалось требованиями «текущего момента», очередным постановлением ЦК по идеологическим вопросам, последней передовицей «Правды» и, конечно, вытекавшими из них специальными цензурными циркулярами, рассылавшимися Главлитом на места. Многое зависело также от изменения внешнеполитической и международной ситуации, когда вчерашние дружественные страны и режимы объявлялись враждебными, и наоборот: опять-таки ситуация, описанная в романе Джорджа Оруэлла.
Как уже говорилось ранее, в самом содержании книги цензоры весьма редко обнаруживали «антисоветские», «идейно-чуждые» мотивы, тем более что они фильтровались, в случае их обнаружения, на предшествующих стадиях — предварительного и последующего контроля. Выделим следующие, наиболее типичные мотивы запрета по «содержательному» признаку:
— Изображение кровопролитной междоусобицы эпохи революции и Гражданской войны, ужасов и жестокости (со стороны «красных», конечно!), пьянства, погромов, партизанщины, массового голода, случаев дезертирства — опять-таки из Красной, разумеется, армии, и т. д.
— Цитирование первых слов «царского» гимна («Боже, царя храни…») или лозунгов и призывов «враждебных партий», например, знаменитого лозунга эсеров «В борьбе обретешь ты право свое!», причем контекст и отношение автора к ним (иногда — ироническое или осуждающее) не играли никакой роли.
— Разложение в партийной среде в годы нэпа, разочарование в революции, приводившее порой к самоубийствам, пьянству, психозам, выходу из партии и т. д.
— Оппозиционное движение в рабочих профсоюзах, борьба с троцкистской оппозицией, причем контекст и авторская оценка опять-таки практически не имели никакого значения.
— Половая распущенность в комсомольско-молодежной среде во второй половине 20-х годов, ставшая довольно частым сюжетообразующим компонентом в произведениях того времени, начиная со знаменитой повести Пантелеймона Романова «Без черемухи» и повести В. В. Вересаева «Исанка». Что удивительно, сами эти произведения никогда не подвергались цензурным репрессиям, но их последователи и подражатели, порой спекулировавшие на модной теме, нередко становились объектом повышенного внимания главлитовских органов.
— Поветрие в литературе (и жизни), получившее собирательное наименование «есенинщины», упадочнические настроения, мотивы безысходности, приобретшие тогда распространение опять-таки в «молодежной» литературе.
— «Издержки» насильственной коллективизации, в том числе проявление автором малейшего сочувствия к раскулаченным и сосланным крестьянам. Изображение массового бегства из деревни в голодные 1932–1933 гг.
— Негативное или сатирическое изображение сотрудников ЧК-ОГПУ и, что тоже иногда встречалось в 20-е годы, самих цензоров и Главлита как учреждения.
— Упоминания о существовании концлагерей, принудительного труда, вообще о системе ГУЛАГа, о чем до середины 30-х годов еще позволялось писать, но, конечно, только в определенном контексте: труд способствует «перековке заблудших»; естественно, речь шла об уголовных, а не о политических заключенных.
— Массовая гибель бойцов и страдания мирных людей в годы Великой Отечественной войны, изображение ужасов ленинградской блокады.
— Прославление или, напротив, когда ситуация изменилась, осуждение деятелей зарубежных стран: например, Иосипа-Броз Тито (и режима в Югославии в целом) после 1948 г., вождей Албании, Китая и др. В результате запрету подверглись книги Сергея Михалкова, Льва Кассиля, Ник. Тихонова; подвергся нападкам даже получивший Сталинскую премию роман Ильи Оренбурга «Буря», поскольку в нем «солдаты Тито характеризуются как герои». После восстановления отношений с Югославией все эти книги были возвращены из спецхранов, но зато попали в него те, в которых разоблачался «кровавый режим Тито — Ранковича», изданные между 1948 и 1953 гг. (например, сатирические стихи и басни того же Сергея Михалкова).
— «Преклонение перед Западом» и вообще «иностранщиной». Особую популярность в идеологических и цензурных сферах такой довод приобрел в 1948–1953 гг. — в связи с развернутой кампанией «борьбы с космополитизмом». Жертвами ее стали и люди, и книги, подвергавшие сомнению «приоритет» России (даже «царской»!) буквально во всех областях культуры, науки и техники. Эта кампания приобретала нередко анекдотический характер, породив известную поговорку того времени: «Россия — родина слонов!».
— Кратковременный запрет в годы «оттепели» произведений, пропагандировавших культ личности Сталина, что повлекло изъятие ряда книг, впрочем, весьма немногочисленных. Эта кампания в конце 60-х годов закончилась.
— «Предоставление трибуны врагу». Такая сакраментально звучащая формула часто встречается в цензурных документах: речь идет об «излишнем», «избыточном» цитировании обличаемых авторов, например, писателей Русского зарубежья, «внутренних эмигрантов» и вообще «врагов». Вот, например, характерная главлитовская аннотация: «Приводится слишком много высказываний Троцкого, и хотя сам автор отрицательно относится к его личности, все же сама книга вредна, так как она может вызвать у читателя нездоровое любопытство».
Указанными темами цензурная практика изъятий, разумеется, не исчерпывается. Помимо доводов идеологического и политического характера цензоры прибегали иногда и к «эстетическим», но ничего, кроме стереотипной и никак не аргументированной формулировки, — «Книга художественной ценности не представляет» — придумать не могли. Совершенно нетерпимым было отношение к «нездоровой эротике» и ненормативной лексике, под которые подводились совершенно невинные вещи. Еще Пушкин пытался «…всё так изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольной важной дуры, нашей чопорной цензуры». Однако крайний пуританизм, которым всегда отличалась российская цензура, в советское время был доведен уже до совершеннейшего абсурда.
Решения цензурных инстанций приобрели со временем не только запретительный, но и «позитивный», императивный, наступательный характер. Они не ограничивались лишь воспрещением отдельных произведений, а также вычеркиванием из исторической памяти имен, событий и т. п., но и предписывали авторам, о чем и как именно нужно писать, вторгаясь даже в форму литературного произведения и принятую автором стилистику. Отсюда — запрет произведений вполне лояльных и, более того, просоветских, только за приверженность автора к нетрадиционной поэтике и авангардной форме (например, произведений обэриутов и даже футуристов, политические игры с которыми в 30-е годы заканчиваются). В этом — отличие тоталитарной цензуры советского времени от русской дореволюционной.
Теперь представим себе фантастическую ситуацию: «простой» читатель попадает в спецхран и начинает просматривать его фонд по алфавиту авторов, фамилии которых начинаются, скажем, на литеру «Б». Многое для него будет совершенно непонятным: он подумает, что попал в какой-то театр абсурда. Вначале он встретит все книги расстрелянного И. Э. Бабеля, издававшиеся в 20—30-е годы; вслед за ними — ряд изданий «неприкосновенного» в свое время, а затем (в середине 30-х годов) попавшего в партийную опалу Демьяна Бедного, позволившего, оказывается, в ряде фельетонов («Слезай с печки» и др.) «публичное охаивание русского народа и его истории»; рядом — стихотворные сборники 20-х годов правоверного комсомольского трубадура А. И. Безыменского, очутившиеся здесь за то, что некоторые из них выходили с предисловиями Троцкого; вслед за ними он увидит два издания книги А. Белинкова о Тынянове, вышедшие в 1960–1962 гг., поскольку автор через несколько лет эмигрировал, да и вообще вел себя нехорошо, выпустив за рубежом знаменитую книгу о Юрии Олеше «Гибель и сдача советского интеллигента». За ними он с удивлением обнаружит пять стихотворных сборников Федора Белкина, прославляющих партию и счастливую колхозную жизнь: оказывается, необдуманно показавшись в конце 50-х годов на телевидении, автор был тотчас же разоблачен как предатель и каратель, лично расстреливавший в Белоруссии партизан и евреев. Идем по алфавиту дальше… За ним следует Андрей Белый с очерками «Ветер с Кавказа», воспоминаниями «Начало века» и книгой «Мастерство Гоголя»: первая попала в спецхран только за то, что автор упоминает о встречах в Тбилиси с грузинскими поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе (первый покончил с собой накануне ареста в 1937 г., второй — расстрелян тогда же), а также погибшим Всеволодом Мейерхольдом; вторая и третья — за предисловия к ним Л. Каменева. Рядом — книга «Говорит Ленинград» Ольги Берггольц, конфискованная за «чувство обреченности и пессимизма» ее поэзии и «мрачную тональность» знаменитых выступлений по ленинградскому радио в годы блокады; за нею все зарубежные издания книг нобелевского лауреата Иосифа Бродского (до эмиграции он не смог выпустить на родине ни одной). Наконец, завершают этот ряд книги другого русского нобелевского лауреата (и первого русского лауреата по литературе) — Ивана Алексеевича Бунина, выходившие в советской России в 20-е годы, но главным образом — в русских эмигрантских издательствах Парижа и Берлина. Излишне, по-видимому, говорить, что в этом ряду читатель обнаружит все без исключения книги писателей трех волн эмиграции.
Р. В. Иванов-Разумник насчитал три типа советских писателей: «погибших, задушенных, приспособившихся». «Духовно задушенными цензурой, — говорил он в «Писательских судьбах», — были все без исключения советские писатели, физически погибшими была лишь часть их: первые — “род”, вторые “вид”, говоря языком естествознания… сотнями надо числить писателей, изнывавших под игом цензуры — и либо замолкавших волей-неволей, либо приспособившихся к “веяниям времени”»[79].
Ни те, ни другие, ни третьи не могли избежать общей участи: тысячи книг оказывались в спецхранах, несмотря на проявляемые их авторами безупречную лояльность и преданность. Только русский отдел спецхрана Российской Национальной библиотеки насчитывал до ста тысяч наименований. Приблизительно столько же хранилось в Библиотеке Российской Академии наук[80].
Массовое возвращение книг произошло на рубеже 50—60-х годов — в связи с реабилитацией многих писателей, хотя и далеко не всех. Не нужно, однако, также забывать, что уцелели лишь считанные экземпляры, сохранившиеся в крупнейших библиотеках, располагавших отделами специальных фондов. Позднее, однако, спецхраны стали получать новое пополнение — книги писателей, эмигрировавших или высланных в 60—70-е годы. Контролеры бдительно следили за тем, чтобы отделы комплектования и международного книгообмена даже крупнейших национальных книгохранилищ н в коем случае не заказывали книги «враждебного» или «сомнительного» содержания. Иностранный отдел Главлита в 1977 г. конфисковал на Главпочтамте бандероль с двумя книгами, присланными из Франции, которые Государственная Публичная библиотека заказала в Национальной библиотеке в Париже по международному абонементу: «1. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. 2. Платонов А. Чевенгур». Этого делать «не следовало». Главное управление просило Ленгорлит «…дать соответствующие разъяснения руководству библиотеки и указание вернуть прилагаемую бандероль отправителю». Последовал разнос: дирекция библиотеки объявила замечание «виновному» в этом сотруднику — «за оформление заказа без достаточных оснований»[81].
Доступ к запрещенной литературе был, естественно, крайне затруднен Для такой цели читателю требовалось запастись особым отношением с места работы, подписанным руководителем учреждения, подтверждавшим, что такие книги нужны исключительно для запланированной научной работы. В «отношении» точно указывалась тема исследования; всё, что выходило за ее пределы, которые устанавливались самими сотрудниками спецхрана, не выдавалось читателю. В 50-е годы даже выписки из спецхранных книг должны были вестись в особой тетрадке, которая затем проверялась заведующим и выдавалась (порою — с исключениями) читателю под расписку. В 60-е годы такая практика была отменена. Вся работа спецхрана контролировалась не только сотрудниками Горлита, но и городского Управления КГБ. Приведем сейчас лишь один документ, сохранившийся в архиве расформированного спецхрана РНБ: «Акт. 1.12.1969 г. Мы, сотрудник Райотдела УКГБ по Ленинградской области Бузник С. С. и начальник спец-части Государственной публичной библиотеки Волков П. И. в присутствии зав. Отделом спецхранения Соколовой Е. Н. составили настоящий акт в том, что произведена выборочная проверка порядка хранения, использования и выдачи читателям литературы, подлежащей специальному хранению. В процессе проверки было просмотрено около 100 формуляров, в которых записана выданная литература и сверена с указанной в ходатайстве. Имеются нарушения. Так, преподаватель Высшей профсоюзной школы кандидат филологических наук Филатова В. И., работающая над темой “Советский исторический роман”, систематически пользуется исторической литературой, изданной в довоенные годы в Болгарии, в Париже и других центрах проживания белоэмигрантов. Правда, возможно, эта литература ей понадобилась для практического сравнения с советским историческим романом (!). Обращает на себя внимание сравнительная легкость, с которой подписывают ходатайства некоторые руководители. Читатель Э. Моссиев, принесший ходатайство, подписанной зам. председателя правления ЛOCX РСФСР А. С. Нетьевой, интересуется исключительно иностранной мистической и оккультной литературой». В других актах автор этих строк нашел и свое имя. В начале 60-х годов я учился в аспирантуре, занимаясь изучением литературной жизни в русской провинции XVIII века, что и указано было в ходатайстве. Под этим «флагом» я читал в спецхране некоторые «подозрительные» издания, например, знаменитый русский эмигрантский журнал «Современные записки», выходивший в Париже с 1921 по 1940 гг. (отмечу, что очень многое зависело от «индивидуальности» сотрудника: среди них попадались и вполне терпимые). На этот факт также велено было обратить внимание «соответствующей организации», выдавшей отношение в спецхран. Правда, эта история не имела продолжения благодаря сочувственному и благожелательному отношению ко мне сотрудников тогдашней Публички, за что, спустя 40 лет, я и выражаю им свою благодарность.
Сам спецхран, находившийся в особом помещении, регулярно посещался сотрудниками Главлита, которые время от времени находили те или иные «нарушения» в его работе, вплоть до таких мелочей: «Помещение спецфонда находится на 3-м этаже. Оборудование его не соответствует требованиям инструкции о спецфондах Главлита СССР. Входная дверь не обита железом, не на всех окнах находятся железные решетки. Решетки на окнах не выполняют своего назначения (!). В открытых фондах обнаружены книги, подлежащие изъятию…»[82].
Последнее из указанных «нарушений» фигурирует в десятках актов и донесений Ленгорлита в обком партии. Вина библиотекарей усугублялась в тех случаях, когда речь заходила о массовых библиотеках Ленинграда и области. Время от времени инспекторы совершали налеты на библиотеки такого типа, проверяя фонды и каталоги на предмет хранения и регистрации изъятых книг. Известие о грядущей проверке порождало буквально панику в библиотечной среде: срочно проверялись фонды, спешно вырывались даже карточки из каталогов. Однако обычная неразбериха, отсутствие во многих массовых библиотеках глав-литовских списков, которые, в свою очередь, объявлялись секретными, — всё это зачастую приводило к «огрехам», тотчас же фиксируемым в особых актах обследования. Затем следовали «оргвыводы», приводившие к наказанию виновных в открытом хранении недозволенных книг в массовых библиотеках и книжных магазинах — вплоть до увольнения.
Вскоре после «пражских» событий на имя секретаря Ленинградского горкома КПСС Б. С. Андреева поступила из Ленгорлита «Информация о недостатках в выполнении директивных указаний об изъятии из открытого обращения литературы»: «Сотрудниками Ленинградского управления в мае — июне с. г. проведена выборочная контрольная проверка книжных фондов 21 библиотек города по выполнению директивных указаний об изъятии из библиотек общего пользования книг. Установлено, что работники библиотек небрежно относятся к выполнению указаний, вследствие чего подлежащие изъятию книги продолжают находиться в общих фондах и выдаются читателям». В качестве примера приводится Центральная библиотека им. В. В. Маяковского, в которой не изъяты из фонда книги, попавшие в так называемый «чешский» список Главлйта: «Грачев С. Помощь СССР народам Чехословакии в их борьбе за независимость. 1941–1945 гг. М., 1953 — 2 экземпляра; История Коммунистической партии Чехословакии. М., 1962 — 2 экземпляра; Копецкий Вацлав. Воспоминания. Из истории Чехословацкой республики и борьбы Коммунистической партии Чехословакии за победу социализма. М., 1962 — 2 экземпляра; КПЧ — организатор победы социализма в Чехословакии. М., 1961 — 5 экземпляров; Рождение Чехословацкой Народной армии. Сб. статей. М., 1959 — 1 экземпляр»[83].
В донесении перечисляются эти и подобные им книги, обнаруженные в библиотеках Педагогического института им. Герцена, Ленинградского Дома ученых и т. д., поскольку в них упоминались — в положительном, разумеется, контексте — главные деятели пражских событий, занимавшие прежде высокие посты в партийной и государственной иерархии. В 70-начале 80-х годов в главлитовские циркуляры попали десятки имен писателей, покинувших в это время СССР; книги эмигрантов первой и второй волн по определению подлежали погружению в спецхран (см. главу 5). Причины отъезда не имели никакого значения — и «законная» эмиграция по «израильской визе», и полунасильственное понуждение к эмиграции (Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Виктор Некрасов и др.), и полностью насильственная (А. И. Солженицын) высылка. Понятно, что к ним были причислены писатели-«невозвра-щенцы» — например, Анатолий Кузнецов, поехавший в Лондон собирать материал для книги о Ленине и оставшийся там.
В эти годы началось массовое изъятие всех без исключения книг писателей и ученых, эмигрировавших в Израиль или в США, причем тематика здесь уже не играла никакой роли. Изымались они из библиотек по особым «приказам» и «циркулярным письмам» Главлита. Так, в январе 1984 г. вышел «Приказ об изъятии из библиотек и книготорговой сети научных трудов и учебников Иоффе О. С.», содержавший список 31 книги этого видного правоведа, профессора Ленинградского университета, выходившие с 1954 по 1974 гг. Среди них— основные учебники по теории права для юридических вузов, «Юридический справочник для населения» и даже брошюра «Мораль и право в борьбе за коммунизм» (Л.: Общество «Знание», 1964). Попали в циркуляры все книги поэтов, писавших для детей, вполне невинные, надо сказать, — И. Керлера, З. Телесина и многих других. В содержании их никакого криминала нет, единственное основание — эмиграция. Как показали результаты «контрольных проверок», часто обнаруживались в «открытых фондах» библиотек книги Рахиль Баумволь, вполне законно уехавшей в Израиль и писавшей до отъезда идеологически-бе-зупречные книги для детей: «Из фонда библиотеки Академии художеств им. И. Е. Репина (заведующая — т. Одар-Боярская К. Н.) не были изъяты книги, не выполнено указание, изложенное в приказе № 20-дсп от 20 апреля 1971 года, не изъяты из общего фонда книги Баумволь Р. “Синяя варежка. Сказки”. М., 1955. — 2 экземпляра; “Клетчатый гусь. Маленькие сказки”. М., 1957, и по одному экземпляру: “Солнце и ветер. Стихи”. М., 1958; “Редькин хвост. Сказки”, М., 1966; “Разные сказки”. М., 1962; “Про всё сразу. Сказки”. М., 1967; “Под одной крышей. Сказки”. М., 1969; “Плюх-плих. Стихи”. М., 1964; “Чур-чура. Стихи”. М., 1965». Получив такой сигнал, руководители вынуждены были оправдываться и докладывать о «принятых мерах». Заведующая отделом культуры Ждановского района Ленинграда сообщала 1 сентября 1972 г.: «Зав. Библиотекой им. Фурманова <…> не приняла мер к безусловному выполнению приказа Главлита по изъятию из общественного пользования книги Баумволь Р. “Сказки для взрослых” (М.: Советский писатель, 1963). В настоящее время приняты меры к изъятию книги из библиотеки, а также всех аннотаций к ней и каталогов (речь идет, видимо об изъятии каталожной карточки. — А. Б.). Зав. библиотекой тяжело больна и находится на излечении в 3-й Нервнопсихиатрической больнице с 5 июля по настоящее время»[84].
Понятно, что книги писателей, вступивших в конфронтацию с советской властью и оказавшихся (как правило, не по своей воле) за границей, тем более подвергались решительному запрету. Обследование библиотек Всеволожского района показало, что «…в шести обнаружено 17 книг, подлежащих изъятию из фондов библиотек в соответствии с приказами Главлита». Далее приводятся примеры хранения запрещенных книг: «Гладилин А. Т. “Сны Шлиссельбургской крепости”, “Евангелие от Робеспьера”, “Идущий впереди”, В. Некрасов. “В о-копах Сталинграда”, “Избранные произведения”, И. Голомшток и А. Синявский. “Пикассо”, А. Кузнецов. “В солнечный день”» и др.
Результатом фронтальной проверки библиотек, проведенной в 1978 г., стало донесение начальника Управления «Об очистке книжных фондов библиотек от политически-дефектной литературы», посланное по обыкновению в обком КПСС: «Ленинградское управление по охране государственных тайн в печати провело выборочную проверку библиотек общего пользования и специального хранения, министерств и ведомств, общественных и других организаций с целью выяснения, насколько своевременно проведено изъятие из книжных фондов литературы, ограниченной для общего пользования, как соблюдаются правила хранения и выдачи этой литературы. Только за прошлый год управлением проверено 435 библиотек. В них выявлено 13.338 экземпляров политически-дефектных книг иностранных авторов. Кроме того, 376 книг изъято и уничтожено. Авторами их, как правило, являются диссиденты. Райкомы КПСС, партийные комитеты проявляют недостаточную требовательность к руководителям, которые не осуществляют контроль над очищением книжных фондов от политически-дефектной литературы. Нужно повысить также и роль в методических вопросах библиотеки Дома политического просвещения, активизировать руководство библиотеками, осуществлять оперативный и своевременный контроль за очищением фондов от дефектных книг»[85].
Не редки и весьма типичны эксцессы такого рода: «…в Тихвинской районной библиотеке, например, находились в обращении книги Эткинда Е. Г. (подробнее о цензурной судьбе ученого см далее. — А. Б.). В Бокситогорской городской библиотеке по книге Меньшутина А., Синявского А. “Поэзия первых лет революции. 1917–1922”, подлежащей изъятию, готовилось выступление перед читателями по поручению заведующей библиотекой Степановой М. М.». В Парголовской детской библиотеке «…не изъяты из массового обращения в соответствии с приказами от 1969 г. книги Кузнецова А. “В солнечный день”. Рассказы. М.: Сов. Россия, 1960. — 3 экземпляра, Здесь же не сняты были из алфавитного каталога 4 карточки на изъятые книги Кузнецова А.»[86].
Несмотря на принятые меры «в отдельных библиотеках политически дефектная литература продолжает находиться в общедоступных фондах. При проверке библиотек Главного управления культуры в 8 из них обнаружено 18 экземпляров книг, подлежащих изъятию: в библиотеке им. Фрунзе — книга М. Демина «Кочевье», книга И. Голомш-тока (так! — А. Б.) и А. Синявского «Поэзия первых лет революции. 1917–1922»; в детской библиотеке номер 3 Калининского района книга Вл. Максимова «Мы обживаем землю»[87].
Много беспокойства доставляли контролерам различного ранга книги А. И. Солженицына. В распоряжении Главлита об изъятии произведений писателей, согласованном с Отделом пропаганды ЦК, его имя, в отличие от других авторов, снабжено пометкой: «Книга и другие публикации», а в «Списке лиц, все произведения которых подлежат изъятию» — примечанием: 10 книг. В специально посвященном Солженицыну приказе Главлита № 10 (14.02.1974) перечислены отдельные издания «Одного дня Ивана Денисовича», в том числе и в переводах на эстонский язык и даже в издании для слепых. Приказ сопровожден таким примечанием: «Изъятию подлежат также иностранные издания (в том числе газеты и журналы) с произведениями указанного автора»[88]. После насильственной высылки Солженицына в 1974 г. Главлит пошел на крайнюю и уникальную для того времени меру: из всех, даже крупнейших библиотек, были изъяты и уничтожены отдельные номера «Нового мира», в которых напечатаны произведения писателя: 1962, № 11 («Один день Ивана Денисовича»), 1963, № 1 («Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор»), 1963, № 7 («Для пользы дела»), 1966, № 1 («Захар-Калита»). Органы цензуры внимательно следили за выполнением этого приказа. В архиве спецхрана РНБ сохранилась переписка дирекции с Ленгорлитом. «По сведениям, имеющимся в Ленинградском управлении, — сообщает его начальник 27 июня 1974 г., — в открытом фонде Государственной Публичной библиотеки находятся номера журналов “Нового мира”, которые должны быть изъяты из общего пользования согласно приказа начальника Главлита № 10-дсп от 17 февраля 1974 г. Ленинградское управление обращает Ваше внимание на необходимость четкого выполнения приказа. Указанные издания должны быть немедленно изъяты из обращения». Директор библиотеки оправдывался тем, что «…в открытом фонде оставались только дефектные номера “Нового мира”: в них отсутствовали произведения Солженицына (т. е. они были просто вырваны из журналов. — А. Б.). В настоящее время журналы изъяты и будут омакулатурены» (!). Считаные экземпляры этих номеров в нетронутом виде сохранились только в спецхранах крупнейших библиотек.
Упомянутый сводный «Список авторов, все произведения которых подлежат изъятию» фиксирует имена 28 эмигрировавших, высланных за границу или ставших невозвращенцами писателей. Помимо Солженицына в нем указаны: А. В. Белинков, А. А. Галич, Л. З. Копелев, А. В. Кузнецов, Е. Г. Эткинд и другие. Последняя акция по изъятию и уничтожению книг произошла незадолго до перестройки, в августе 1984 г. Тогда Главлит обратился в ЦК КПСС с особой запиской «Об изъятии из библиотек изданий лиц, ведущих за рубежом активную антисоветскую пропаганду». К их числу отнесены были В. П. Аксенов, Г. Н. Влади-мов, В. Н. Войнович и другие писатели: «Главлит СССР просит разрешения изъять из библиотек общего пользования и книготорговой сети издания указанных лиц (список прилагается), а также принять соответствующие меры по предотвращению публикации материалов о них в открытой печати». «Предложение Главлита поддерживаем», — сообщал на самый верх зав. Отделом пропаганды Б. Стукалин[89].
Усилия огромной армии чиновников привели к ограблению библиотечных фондов. Впрочем, в 70—80-е годы они давали уже небольшой эффект: как известно, многие закрытые произведения («Архипелаг ГУЛАГ» и другие) получили широчайшее хождение в «там-» и «самиздате».
Антикварно-букинистические магазины
Особую головную боль доставляли контролерам букинистические магазины, поскольку состав книг в них был, в отличие от библиотек, текучим и постоянно менялся: уследить за покупкой и продажей запрещенных изданий представлялось крайне затруднительным. Не раз Главлит рассылал на места грозные циркуляры, требуя усилить контроль «на этом участке», поскольку «некоторые главкрайоблуправления ослабили» работу, не информируя «о проведенных проверках и обнаруженных при этом недостатках». В связи с этим приказывалось ежеквартально сообщать о числе проверок, «выявленных нарушениях и принятых мерах»[90].
Такие проверки помогали, между прочим, выявлять и существенно расширять круг «антисоветской» литературы. Так, в 1977 г. ленинградские цензоры «…при контроле букинистических магазинов выявили, что некоторые из них покупали и продавали книги реакционного философа Н. А. Бердяева, контрреволюционера, реакционного философа С. Н. Булгакова». Начальник Ленгорлита обратился к вышестоящему начальству с просьбой включить их в упомянутый универсальный «Список лиц…», тем более что «с такими вопросами в горком КПСС обращаются пропагандисты»[91]. Ему, по-видимому, не было известно специальное особое «Руководство для цензоров, работающих при букинистических магазинах», изданное в виде брошюры еще в 1941 г. и не отменявшееся в течение десятков лет. В нем, в разделе «Книги, не подлежащие продаже», как раз и перечислены труды Н. А. Бердяева и других философов-эмигрантов. Как можно понять, в 40-е годы существовала особая должность цензора при каждом букинистическом магазине. В его обязанности входили: «а) просмотр всей литературы, поступающей для продажи: б) изъятие не разрешенных к продаже изданий, в соответствии с приказами начальника Главлита. Все приобретаемые букинистическими магазинами книги могут быть пущены в продажу после цензорского просмотра таковых и выдачи цензором соответствующего разрешения. На всех разрешенных цензором к продаже книгах на заднем форзаце ставится условный разрешительный штамп, присвоенный каждому цензору». Основную часть брошюры составлял раздел «Об обращении в продаже дореволюционной литературы», снабженный таким пояснением: «В продаже остается в основном литература, как русская, так и иностранная, изданная до 2-й половины XIX века (до 1850 г.). Из литературы, изданной во 2-й половине XIX века и позднее, запрещается к продаже или остается в обращении следующая». Далее текст разбит на две колонки: «Книги, не подлежащие продаже» и «Книги, остающиеся в обращении». Примерно половину брошюры составляет отдел «Художественная литература (в том числе детская), история литературы» — с такой общей установкой: «Не подлежит продаже дореволюционная литература, восхваляющая царствовавшую в России династию, националистическую и антисемитскую пропаганду и т. д.» Далее приводятся более или менее случайные примеры такого рода изданий. В числе запрещенных оказались даже романы Лидии Чарской, «а также отдельные книжки для детей с монархическим и религиозным содержанием из так называемой “Золотой библиотеки” (М. О. Вольфа. — А. Б.)». Запрещалась покупка и продажа «бульварно-эротической и порнографической литературы». Приводятся примеры, сопровождаемые любопытным примечанием: «К этому разделу литературы ни в коем случае не могут быть отнесены произведения Апулея, Боккаччо, Мазаччо, Казановы и других классиков мировой литературы». Такое предупреждение вызвано, видимо, тем, что в некоторых случаях запуганные букинисты отказывали в приемке произведения этих авторов, относя их к «нездоровой эротике».
Решительному запрету подвергалась практически вся литература Русского зарубежья — «произведения белоэмигрантских руководителей, писателей, публицистов, изданные после Октябрьской революции. Например: Мережковский, Гиппиус Зинаида, Алданов, Ив. На-живин, Замятин Евг. и др.». Их имена, естественно, отсутствуют в списке русских и зарубежных писателей, произведения которых разрешались «к обращению» в букинистической торговле. Список, насчитывающий свыше двухсот имен, составлен, надо сказать, весьма безграмотно и более или менее случайно. В нем указаны какие-то неведомые Дукатов (без инициалов), Б. Варгшаст, А. Пампурс, Махмут-Хаджи Бекбуди (очевидно, дань «дружбе народов») и др. Зато нет А. А. Блока, не говоря уже о всех писателях-эмигрантах. Из них указан лишь Куприн — потому, должно быть, что он вернулся на родину в 1938 г. «При просмотре книг других авторов, — говорилось в пояснении к списку, — если они цензору неизвестны, надлежит обращаться за справкой и консультацией к вышестоящим органам цензуры».
Крайне усеченными выглядели в руководстве разделы, посвященные философии и религии. Дозволялось принимать лишь те книги, которые представляют «историческую ценность». По-видимому, таковой не обладали философские труды, указанные в колонке «Книги, не подлежащие продаже», — произведения А. Хомякова, Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева (здесь двойная «вина»: автор оказался в эмиграции) и других крупнейших русских философов и религиеведов. Вполне понятно, что в той же запретительной колонке фигурируют «книги и журналы религиозно-проповеднического содержания». Более того, запрещалось покупать и продавать не только «книги разных религиозных сект (баптистов, евангелистов, духоборов и проч.») но и «коран, талмуд, библию, тору, евангелие». Правда, одно исключение сделано: «кроме уникальных экземпляров (как, например, Библия с рисунками Доре)».
В годы начавшейся «оттепели», в 1955 г., инструкция была пересмотрена: должность специального цензора отменена, разрешена покупка и продажа некоторых изданий без предварительного контроля, например, сочинений классиков марксизма-ленинизма, утвержденных учебников последнего времени и т. д. Но, в случае сомнений, и эти книги рекомендовалось отдавать на предварительную цензуру. В то же время решительно запрещалось приобретать издания, включенные в списки устаревших изданий и приказы Главлита, а также иностранные издания с цензорским значком «шестигранник» (см. об этом далее в главе 5). Решительно запрещалось приобретать и продавать «антисоветские и антибольшевистские издания, политически вредные книги и брошюры, авторы которых были разоблачены как враги народа; все служебно-религиозные издания, печатные произведения, пропагандирующие мистику и суеверие»[92].
В 60-е и позднейшие годы вся ответственность возлагалась на квалифицированного товароведа, занимавшегося приемкой литературы к продаже и ее оценкой. В 1977 г. разработана новая «Инструкция о покупке и продаже букинистических изданий в специальных букинистических магазинах», изданная отдельной брошюрой с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Наибольший интерес в ней представляет «Перечень изданий, не подлежащих покупке». В него вошли все издания, зафиксированные в упоминавшихся уже главлитовских списках запрещенных книг. Другие пункты сформулированы столь широко, что давали большой простор для проявления индивидуальности контролеров. Например: «книги, пропагандирующие взгляды бывших оппозиционных течений в коммунистических партиях и лидеров этих течений» — здесь метили в отшатнувшихся от генеральной линии еврокоммунистов и, конечно, деятелей пражской «весны». Товароведы-приемщики должны также отвергать «враждебную коммунизму литературу», «иностранные издания, содержащие антисоветские материалы, пропагандирующие реакционную идеологию, а также всю литературу, изданную антисоветскими эмигрантскими организациями, все служебно-религиозные произведения печати, религиозно-мистическую литературу». «Не подлежит покупке, — говорилось далее, — изобразительная продукция, восхваляющая буржуазно-мещанский быт». Весьма любопытно примечание: «Разрешается продавать только библиотекам, партийным организациям и советским учреждениям по их заявкам: стенографические отчеты съездов и конференций КПСС, ВЛКСМ и т. д., выпущенных до июля 1953 г., издания “большой” и “малой” советских энциклопедий (1-е и 2-е издания), “Литературную энциклопедию”». В перечисленных изданиях «простой» покупатель мог обнаружить массу «криминальных» имен государственных и военных деятелей, писателей и ученых, «врагов народа», расстрелянных в 30-е годы. Тем не менее, как свидетельствует опыт автора этих строк, контролерам не всегда удавалось «навести порядок» в этой сфере. Так, в 60-х годах мною и моими друзьями не раз приобретались в букинистических магазинах «криминальные» издания, в том числе упомянутая 10-томная «Литературная энциклопедия» (издание было не закончено и прекращено в конце 30-х годов). Еще проще обстояло дело в Прибалтике. В букинистических магазинах Вильнюса, Таллинна и Риги обнаруживались самые неожиданные книги, немыслимые в таких же магазинах Ленинграда или Москвы, русские эмигрантские издания в том числе.
Практика регулярных идеологических проверок антикварно-букинистических магазинов существовала буквально до конца 80-х годов. Многие знающие и опытные работники этих магазинов в 60—70-е годы подверглись репрессиям, не уголовным, правда, как это было раньше, а административным, — главным образом, увольнению с дальнейшим запрещением заниматься профессиональной деятельностью. Такая участь постигла, например, моего доброго приятеля Бориса Яковлевича Майзеля, опытнейшего букиниста и знатока литературы. Как говорилось в донесении «О результатах выборочной проверки букинистических магазинов» 1972 г., во многих их них фонды «засорены» книгами, включенными в главлитовские списки запрещенных книг. Директорам магазинов предлагалось «обеспечить строгий контроль за идейным содержанием покупаемой литературы, при этом они предупреждены об их личной ответственности за наличие в фондах магазинов изданий, не подлежащих покупке». «За неоднократные факты покупки книг, включенных в «Список книг, подлежащих исключению из общественных библиотек и книготорговой сети, — гласило заключение, — товароведу магазина № 34 Майзелю Б. Я. объявлен выговор»[93]. Вскоре он под благовидным предлогом был уволен…
Об умственном уровне контролеров и градусе проявляемой ими бдительности свидетельствует акт проверки букинистического отдела магазина № 1 «Академкниги», проведенной в 1978 г. В частности, в нем указано: «Обнаружены 2 книги религиозно-пропагандистского содержания: 1. Ренан. “Жизнь Иисуса” (на англ. яз.). “Апостолы” (СПб., 1911), 2. “Коран” (на англ. яз.) Лондон, 1967, которые не подлежат покупке и продаже». Даже книги по искусству, посвященные крупнейшим художникам XX века, столь необходимые искусствоведам и студентам художественных вузов, оказались «политически-дефектны»: «Вентури Л. Шагал. (Женева, 1956, на нем. яз.). 2. Дали. Париж, 1973 (на франц. яз.), а также одна книга с ценами в тексте: Даунс И. Американская мебель. Нью-Йорк, 1967 (на англ. яз)». Проставленные цены на произведения искусства в зарубежных каталогах и альбомах, как можно понять по выделению их в документе курсивом, делали невозможным свободное распространение таких книг. Об этом свидетельствует и акт «О нарушениях порядка хранения и использования иностранной литературы в библиотеке Ленинградского Высшего художественного училища им. Мухиной», составленный в том же году. В результате проверки книжных фондов цензоры обнаружили, во-первых, то, что иностранные издания не были представлены на контроль органами цензуры, а во-вторых, «в фонде имеется 7 каталогов с ценами, которые не подлежат хранению в библиотеке»[94].
Скорее всего, это делалось, во-первых, затем, чтобы не смущать отечественных художников, увидевших, как высоко котируются произведения искусства, продающиеся на родине за гроши, а во-вторых, что еще более важно, чтобы не давать информацию об этих ценах преступникам и конт#.. листам, замышляющим похищение из музеев тех или иных произведений искусства и контрабандную доставку их за границу.
Таковы лишь некоторые факты и эксцессы, связанные с цензурным контролем в области антикварно-букинистической торговли. Они весьма показательны и красноречивы, хотя далеко не исчерпывают вопроса. Старые букинисты многое могли бы порассказать об этом; к сожалению, мемуаров они не пишут…
Музеи и выставки
Компетенция Главлита, первоначально ограниченная лишь печатными публикациями, со временем распространилась даже на такой специфический материал, как музейные экспозиции. Окончательно она закреплена в специальной «Инструкции о порядке подготовки и представления на контроль в органы Главлита материалов, предназначенных для экспонирования в музеях и на выставках» (1982 г.). Согласно ей, «контролю органов Главлита СССР подлежат предназначенные для открытого обозрения как внутри страны, так и за рубежом, материал экспозиций (в том числе иллюстративные, текстовые, материалы звукозаписи) постоянных и временных, передвижных, а также организуемых на общественных началах, промышленных, строительных, сельскохозяйственных, научно-технических и других выставок, исторических и историко-революционных выставок и музеев (советский период), краеведческих, научно-технических и естественнонаучных музеев, а также книги отзывов посетителей всех открытых для общего обозрения внутри страны выставок и музеев». Последний пункт сопровождался таким любопытным примечанием: «Книги отзывов посетителей должны состоять из съемных не пронумерованных листов». Такой порядок предусматривался для того, чтобы, в случае необходимости, можно было бы изъять листы, на которых содержались «непозволительные» записи посетителей, содержащие, например, антисоветские высказывания или слишком резкие суждения по поводу «соцреалисти-ческого» искусства, восхищение искусством абстрактным и т. п. Изымались также листы с упоминанием секретных объектов, номеров воинских частей, военных чинов подписавшихся. Книги отзывов, как рассказывали мне старые музейные работники, регулярно обследовались штатными и внештатными сотрудниками КГБ — на предмет выявления «не тех» настроений в обществе; в тех же случаях, если такие отзывы необдуманно были подписаны подлинным именем автора, — «принятия соответствующих мер». Так, в 1978 г. дирекция «Музея В. И. Ленина» в ответе на письмо Ленгорлита, в котором указывалось на «неправильное ведение записей в книге отзывов», докладывала, что «1) Книга отзывов заменена. Она имеет теперь съемные листы, которые легко могут быть изъяты в случае надобности. 2) Тщательно проверены все записи во всех мемориальных музеях. 3) Проинструктированы все работники»[95].
Для открытия музейной экспозиции или выставки организаторы обязаны были представить в местные органы цензуры «…документы, послужившие основанием для ее создания, а также два идентичных экземпляра тематико-экспозиционного плана, утвержденного руководством соответствующего министерства, ведомства, организации». Такой план должен содержать весь текстовой и иллюстративный материал, в том числе дикторский текст к озвученным стендам, фотографии, графики, диаграммы и т. д. Один из экземпляров, оформленный штампом «к обозрению» и подписью сотрудника Управления, возвращался к руководству музея или выставки, второй хранился в Горлите до закрытия выставки. Заканчивалась инструкция обычным предупреждением: «Виновные в нарушении требований настоящей Инструкции несут ответственность в установленном порядке»[96].
Несмотря на столь строгие превентивные меры, ленинградские музеи время от времени нарушали установленные правила. Эксцессы такого рода зафиксированы в ряде докладных записок на имя своего начальника цензора М. Н. Кузнецовой, «курировавшей» музеи и выставки. Так, в ноябре 1962 г. она доносила о контрольной проверке экспозиции советского периода в «Музее Суворова». Прежде всего, она обратила внимание на материалы, связанные с именем Сталина. Дело в том, что, в связи с прошедшим в 1961 г. последним, так называемым «антисталинским», XXII съездом КПСС усилилась кампания по разоблачению культа личности. Этим поначалу и вызвано рвение цензурных органов. «На экспозиции, — доносила она, — представлена масса листовок периода Великой Отечественной войны, экспонаты-подлинники: кусок обгоревшего картона с текстом клятвы офицеров у могилы А. В. Суворова и т. п. — с подчеркнутыми красным карандашом местами, посвященными Сталину. Наблюдаются попытки обмана: газета “Сталинская гвардия” сложена так, что название читается как «Гвардия», но выдает текст в заметке. В ряде групповых фотографий времен Великой Отечественной войны встречаются ссылки на выступления Сталина в 1941–1945 гг.». Такие же просчеты обнаружила она в экспозициях клуба Табачной фабрики им. Урицкого и кинотеатра «Балтика»: «В экспозиции, посвященной Первой русской революции, помещена картина Серова “Ленин провозглашает советскую власть”, в которой фигурирует Сталин. В кинотеатре “Балтика” — фотохроника ТАСС, помещена фотография 1919 г., в которой фигурирует Сталин». (Резолюция начальника Леноблгорлита: «Предложено экспозиции переделать — эти экспонаты снять»)[97].
В 1965 г. ее внимание снова привлек «Музей Суворова»: «20 февраля с. г. мною просмотрена после внесения исправлений и доработки экспозиция музея А. В. Суворова “Суворовское наследие в Советской Армии”. Осмотром установлено:
1. В экспозиции находятся газеты 1941–1945 гг. с упоминанием г. Сталинграда и предприятий имени Сталина.
2. В газете (находящейся в экспозиции) упоминается Жуков, как представитель ставки Верховного Главнокомандующего, и приведен указ о присвоении Жукову звания Маршала Советского Союза.
3. Два материала с упоминанием имени Хрущева: листовка “Знамя Родины” 6 октября 1943 г. за подписью члена Военного Совета Хрущева, а также упоминание в списке лиц, награжденных за участие в организации партизанского движения.
4. Помещение знамен времен походов Суворова в обрамлении красных знамен Советской Армии кажется несовместимым (при всех попытках Музея спрятать двуглавого орла на знамени). Ввиду изложенного экспозицию для массового обозрения не разрешила». Резолюция Арсеньева: «Тов. Заборскому (заместителю). Связаться с И. В. Рощи-ным (Горком КПСС) и доложить ему. В прошлый раз он принимал участие в осмотре снятой потом экспозиции»[98].
Как мы видим, «несуществующими» стали впавший в это время в немилость маршал Г. К. Жуков — вместе с отправившим его в отставку Н. С. Хрущевым, который, в свою очередь, был свергнут с поста генсека в результате октябрьского заговора 1964 г. Их имена должны быть преданы забвению… Цензурная практика предусматривала даже закрашивание (!) в картинах, представленных в музейных экспозициях, портретов «нежелательных персон». Многочисленные нарушения привели к созданию в 1962 г. специальной «Записки Главлита в ЦК КПСС о пропаганде культа личности Сталина, членов антипартийной группы в экспозициях музеев и выставок Ленинграда». В ней отмечалось, что во многих экспозициях «пропагандируются культ личности Сталина, члены антипартийной группы, албанские руководители и другие материалы, демонстрация которых нецелесообразна по политическим мотивам». Приводятся многочисленные случаи такого рода. Например: «В Доме техники Октябрьской железной дороги упоминаются устаревшие названия городов, ледоколов, танкеров, паровозов, носящих имя Сталина». Руководству доложено, что приняты меры, исключающие демонстрацию материалов, «наносящих серьезный вред воспитанию трудящихся»[99].
Такая кампания, впрочем, длилась недолго. По негласному приказу свыше, начиная с 1968 г. наблюдается откат: портреты Сталина уже позволено было свободно помещать в экспозициях, печатных изданиях и т. п. Процесс десталинизации был искусственно прерван на четверть века.
Настоящая баталия разгорелась в 1972 г. между партийными и цензурными органами, с одной стороны, и директором Приозерского краеведческого музея Л. И. Потемкиным, с другой. Виновником ее оказался, как можно понять, австрийский император Франц-Иосиф, упомянутый в названии Лейб-гвардии Кексгольмского императора Австрийского Франца-Иосифа полка, сформированного в 1710 г. Директор послал на утверждение Ленгорлита фотокопию плаката по истории «…одного из старейших русских полков, участвовавшего в штурме Зимнего. Таблица получена из Артиллерийского музея. Считаю, что этот уникальнейший экспонат должен быть представлен на экспозиции музея». На обороте его письма: «Справка. Фотокопия была на консультации в Обкоме КПСС у тов. Осипова (зам. зав. отдела печати и информации) — рекомендовано не помещать в экспозицию. 27 июля передана телефонограмма исп. обязанности директора краеведческого музея тов. Потемкину Л. И. о снятии с экспозиции музея плаката истории Кексгольмского полка. Приняла телефонограмму Гусева».
Ответное письмо Потемкина исполнено чувства собственного достоинства: «Ваше указание, переданное мне тов. Куницыным, мы вынуждены были выполнить. Плакат по истории Кексгольмского полка временно нами снят. Временно потому, что мы категорически не согласны с мнением, что этот плакат не имеет воспитательного значения. Кексгольмский полк — один из старейших русских полков, участник многих знаменитых сражений (Гангут — 1714 год, Шипка — 1878 год, Бородино — 1812 год), в том числе — штурма Зимнего в 1917 году. Полк создан в 1710 году Петром Первым, а ныне, как Вам известно, отмечается даже в печати 200-летие со дня рождения Петра Первого. В плакате описан боевой путь полка с 1710 по 1910 год. И то, что в наименовании полка упоминается австрийский император Франц-Иосиф (шеф полка), по нашему мнению, не является поводом для снятия плаката с экспозиции музея. Поэтому мы оставляем за собой право использовать этот плакат в дальнейшем и решать вопрос о нем с вышестоящими организациями»[100].
В этом случае мы имеем дело с одним из редчайших в эти годы случаев противостояния действиям цензуры. Однако партийные инстанции остались глухи к доводам директора — не принесла результата даже апелляция к революционному прошлому полка. Совершенно невинные в политическом отношении материалы исторические документы и материалы были убраны из экспозиции музея. Странно, что рвение цензоров не дошло до требования переименовать архипелаг Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря, что зафиксировано на всех советских картах.
Цензурный надзор за музеями и выставками продолжался до самого конца Главлита. Даже в разгар перестройки, в 1988 г., в «Положении об отделах Леноблгорлита» предусматривался V отдел, который среди прочего «…контролирует предназначенные для открытого обозрения внутри страны и за рубежом экспозиции музеев и выставок, а также книги отзывов посетителей всех открытых для общего обозрения выставок и музеев»[101].
В других главах и параграфах нашей книги мы не раз еще коснемся цензурной судьбы музеев и выставок Ленинграда (см., в частности, о ликвидации Музея обороны Ленинграда в параграфе «Блокадная тема в цензурной блокаде», о закрытии выставок студентов и художников-неформалов в главе «Искусство»).
Глава 5. Борьба Ленгорлита и КГБ с вольной бесцензурной литературой
Самиздат
Годы оттепели породили новую культурную и политическую ситуацию, связанную, прежде всего, с массовым и неконтролируемым распространением бесцензурной литературы. Это явление со временем приобрело грандиозный размах, достигнув апогея в 70 — начале 80-х годов. С одной стороны, началось хождение самиздата, под которым понималось бесконтрольное тиражирование подручными средствами литературных и общественно-политических произведений, не имевших шанса появиться в подцензурной советской печати. С другой — тайными путями в СССР начали доставляться книги и журналы, изданные за рубежом преимущественно на русском языке (тамиздат). Этот феномен имеет, как известно, давнюю российскую традицию, насчитывающую минимум два века. Еще Пушкин писал о стихах, «презревших печать», в середине XIX века А. И. Герцен создал первую «Вольную российскую типографию» в Лондоне, что было продолжено другими оппозиционными партиями (народниками, эсерами, да и самими большевиками), а после 1917 г. — различными кругами русской эмиграции.
Изобретение самого термина «самиздат» приписывается с большим основанием поэту Николаю Глазкову (1919–1979), который писал:
«Самиздат» — придумал это слово Я еще в сороковом году…Рукописные тетрадки своих стихов он снабжал такими выходными данными: «Самсебяиздат», пародируя таким образом название Госиздата РСФСР, крупнейшего советского издательства 20-х — начала 30-х годов, да и вообще многих советских издательств, названия которых начинались словами «Государственное издательство…» (такой-то литературы).
Для изготовления самиздата использовались самые различные способы: чаще всего — перепечатка на машинке, позднее стали использовать и более совершенные — фотокопирование и микрофильмирование текстов, изготовление так называемых «восковок» для печатания на ротаторе. Изредка удавалось получить доступ к электронно-вычислительным устройствам (машина «Эра» и др.), еще позже — со второй половины 70-х годов — к начавшим проникать в страну ксероксам. Все эти устройства находились на «производственных площадях», причем в особо охраняемых помещениях, — в различных НИИ и других учреждениях, а посему использование их для самиздатских целей сопряжено было с громадным риском, и не раз заканчивалось уголовным преследованием[102].
Со временем почти в каждой интеллигентной ленинградской семье создавались целые библиотеки из самиздатских и тамиздатских книг. Наиболее типичный состав таких коллекций: печатные (или в виде машинописных копий) книги Джорджа Оруэлла, Владимира Набокова, Михаила Булгакова (чаще всего — «Собачье сердце»), Бориса Пастернака («Доктор Живаго»), Александра Солженицына, «Новый класс» Милована Джиласа, книга А. Авторханова «Технология власти» и др. Наибольшую популярность приобрела перепечатка стихотворений Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Георгия Иванова, Анны Ахматовой (преимущественно поэмы «Реквием»), Иосифа Бродского и других запрещенных поэтов. Несколько позже стала распространяться поэма Венедикта Ерофеева «Москва— Петушки». В более «продвинутых» собраниях можно было найти материалы, вышедшие из недр правозащитного движения: письма-протесты, хронику политических преследований и т. д. В некоторых собраниях хранились и проникавшие из-за рубежа отдельные номера русских эмигрантских журналов — «Граней», «Посева», «Континента» и ряда других, а также различные экзотические материалы (например, литература по оккультизму).
Тиражи самиздатских книг, особенно стихотворных сборников, достигали фантастических размеров и не поддаются хоть какому-либо учету. Они далеко превосходили тиражи показных изданий поэтических сборников некоторых поэтов (например, Мандельштама и Цветаевой), вышедших в 60-е и 70-е годы в серии «Библиотека поэта» и предназначенных преимущественно для продажи в валютной «Березке». На черном книжном рынке на них назначались умопомрачительные цены, да и состав сборников был оскоплен, будучи тщательно просеян сквозь идеологическое сито. Тиражирование не прошедших цен-зуру произведений со временем приобрело характер цепной реакции или снежного кома, что неудивительно: почти каждый читатель, получивший на короткое время (порою — только на ночь) тот или иной текст, считал своим святым долгом не только оставить для себя копию, но и сделать «закладку» на машинке — обычно на папиросной бумаге (знаменитое: «“Эрика” берет четыре копии») — для друзей.
«Пассивное» хранение или чтение такой литературы было в то время более или менее безопасным, до той поры, впрочем, пока владелец не попадал в зону повышенного внимания соответствующих органов. Тогда, если не было более отягчающих обстоятельств, владелец подвергался различного рода репрессиям, не доходящим до суда: предостережению и «профилактической беседе» в КГБ, увольнению с работы (например, дело кандидата технических наук Л. П. Романкова, уволенного в 1982 г. из НИИ телевидения), исключению из союзов журналистов и социологов (дело социолога А. Н. Алексеева, совпавшего с «годом Оруэлла» — 1984-м[103]) и т. д. Излишне говорить, что на состоявшихся политических процессах факт хранения и, особенно, распространения бесцензурных изданий являлся главным, а порой и единственным козырем обвинителей.
Феномен самиздата вызвал беспокойство в партийных и охранительных кругах. Многолетний председатель КГБ Ю. В. Андропов еще в 1969 г. в специальной «Записке в ЦК КПСС» обратил внимание на то, что «…в последние годы среди интеллигенции и молодежи распространяются идеологически вредные материалы в виде сочинений по политическим, экономическим и философским вопросам, литературных произведений, коллективных писем в партийные правительственные инстанции, в органы суда и прокуратуры, воспоминаний “жертв культа личности”, именуемые их авторами и распространителями “вне-цензурной литературой”, или “самиздатом”. В этих материалах отдельные недостатки коммунистического строительства выдаются за типичные явления, извращается история КПСС и Советского государства <…> “Самиздат”, как правило, распространяется путем передачи из рук в руки рукописных, отпечатанных на пишущих машинках, размноженных фотоспособом или на ротационных аппаратах, документов… Учитывая, что распространение политически вредной литературы наносит ущерб воспитанию советских граждан, особенно интеллигенции и молодежи, органы госбезопасности принимают меры, направленные на пресечение влияния “внецензурных” произведений на советских людей. Сообщается в порядке информации»[104].
Такое покушение на монополию государства (точнее — партии) в области издательской деятельности признано было «тревожным» и требовавшим «срочного принятия мер». Начались повальные обыски, привлечение хранителей бесцензурных книг по пресловутой ст. 70-й Уголовного кодекса РСФСР, говорящей об «антисоветской пропаганде и агитации, направленных на подрыв и ослабление Советской власти», или более «мягкой» 190-й (п. 1) ст., устанавливающей уголовную ответственность «за распространение в устной или письменной форме заведомо клеветнических измышлений, порочащих государственный и общественный строй…»
Борьба с нелегальными произведениями самиздата, казалось бы, не входила в компетенцию Главлита, поскольку такие тексты сознательно не подавались авторами и составителями на предварительный цензурный контроль. Это была епархия органов тайной политической полиции. Тем не менее, первые всегда тесно сотрудничали со вторыми, и даже подчинялись им. Как известно, начиная с 60-х годов, власть стала вести фальшивую, шитую белыми нитками игру в «законность»: на следствии и процессах требовалось доказать, что сочиненные обвиняемым или найденные при обыске у него тексты имеют ясно выраженную «антисоветскую направленность». Вот тут-то и пригодились сотрудники цензурных инстанций, которым эти тексты КГБ посылал на «независимую (!) экспертизу». Так, например, сообщая в декабре 1965 г. ЦК КПСС о завершении предварительного следствия по делу А. Д. Синявского и Ю. М Даниэля, тогдашний председатель КГБ В. Е. Семичастный и генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко подчеркивали тот факт, что их «…преступная деятельность находит подтверждение в выводах лексико-стилистической экспертизы и в заключении Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати…»[105].
Неофициальное культурное движение, получившее название «андеграунда» или «второй культурной реальности», начало складываться в Ленинграде еще в середине 50-х годов: тогда появились первые подпольные (преимущественно студенческие) журналы, начали переписываться запрещенные произведения, как отечественного, так и зарубежного происхождения. Несколько позже создались целые литературные общества и кружки, издававшие свои журналы, такие как «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал», «37» и многие другие, а также литературные сборники и альманахи — «Белые ночи», «Горожане», «Лепта» и т. д.[106]. Тогда же и начинается теснейшее сотрудничество Ленгорлита с Ленинградским управлением КГБ, которое, в случае «встретившейся надобности», регулярно посылало запросы (а точнее — требования) в цензуру. Судя по сохранившимся и доступных нам документам, они имели стереотипные, лишь слегка варьирующиеся зачины:
Совершенно секретно
«30 мая 1973 г.
СССР
Управление Комитета Начальнику Управления по
государственной безопасности по охране государственных по Ленинградской области Тов. Маркову Б. А.
В связи с возникшей необходимостью просим дать заключение, издавались ли официально и подлежат ли по своему содержанию общедоступному пользованию прилагаемые при сем документы.
Приложение: документы 122 наименований, всего 1818 листов.
Начальник Отдела УКГБ ЛО Фомин».
К запросу приложен список произведений (в основном самиздат-ской литературы), напечатанных на машинке.
Или (с такой же «шапкой»):
«Прошу сообщить, не подлежит ли изъятию из обращения нижеперечисленная литература. По миновании надобности всю литературу прошу возвратить.
Приложение: по тексту.
Начальник Следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области Барков Л. К.»
Списки таких изданий регулярно посылались в Горлит «на экспертизу», с целью доказать «антисоветский» и «клеветнический» характер изъятых произведений. Тот, естественно, «идя навстречу пожеланиям» наших «славных органов», по старинному российскому принципу — «Чего изволите?» — неизменно подтверждал их подозрения: «там» ведь зря не спросят… Обычно он отвечал в таком духе: «…перечисленные книги в своем большинстве представляют собой подстрекательское антисоветское чтиво, проникнутое духом ненависти, злобы и бессильной ярости к нашей стране». Подобная переписка возникала в связи с очередным готовившимся КГБ диссидентским процессом, но каким именно, установить очень сложно: за исключением одного случая, в запросах КГБ не указано не только имени «подозреваемого», но даже номера дела, по которому он проходил. Заметим, что наследники бывшего КГБ до сих пор скрывают свои тайны и не допускают исследователей к архивам, если не считать особо доверенных лиц, к каковым автор себя не относит. Состав книг в этих списках, впрочем, ясно свидетельствует об особой направленности намеченных процессов. Вполне понятно, что результаты такой экспертизы фигурировали на следствии, а затем и на суде над диссидентами, отказниками и другими инакомыслящими, и служили «отягчающим» (а порою и единственным) «составом преступления» при вынесении приговора. Назовем лишь наиболее известные процессы, хронологически соотносящиеся с экспертными заключениями Ленгорлита: В 70-е годы — М. Р. Хейфеца, В. Р. Марамзина, в начале 80-х — В. Э. Долинина, Р. Б. Евдокимова, К. М. Азадовского. Главным образом за чтение и распространение «антисоветской литературы» в 1983 г. осуждена была М. М. Климова (по 1 части 70 ст. УК РСФСР). Ей инкриминировалось распространение повести Ю. Даниэля «Говорит Москва», «содержащей клевету на советский государственный и общественный строй и, в частности, ложное утверждение о том, что “свобода умерщвления людей в СССР в масштабах всей страны” якобы “лежит в самой сути учения о социализме”»[107].
Отвечая на первый из указанных выше запросов КГБ от 30 мая 1973 г., начальник Управления Б. Марков сообщал, что «…перечисленные в Вашем письме материалы в СССР не издавались, за исключением стихотворения Б. Окуджавы “Размышления возле дома, где жил Тициан Табидзе”». «По содержанию представленные на заключение материалы» он разделил на пять групп, в которых перечисляются десятки документов, дающих весьма отчетливое представление о репертуаре самиздатской литературы, распространявшейся в Ленинграде[108].
В первую группу, названную «Письма и обращения», вошли открытые письма А. Д. Сахарова, В. Ф. Турчина, В. Н. Чалидзе, А. С. Есенина-Вольпина и других правозащитников, адресованные Брежневу, Косыгину, Подгорному и другим руководителям по поводу нарушений прав человека. Во вторую, озаглавленную «Разного рода документы и стенограммы, содержащие тенденциозно подобранные непроверенные сведения», вошли такие, например, «позиции»: «Документ, исполненный на пишущей машинке под названием “2000 слов”, на 8 листах» — знаменитое обращение чешской интеллигенции после ввода войск в Прагу в 1968 г.; «машинописный документ под названием “Записка о правовом статусе Комитета прав человека”. На 5 листах» (этот комитет был создан в 1970 г. А. Д. Сахаровым, В. Н. Чалидзе и А. Н Твердохле-бовым); «Обзор следственного производства по делу Пименова» (Револьт Иванович Пименов (1931–1990), математик, правозащитник, дважды подвергавшийся арестам, более 10 лет провел в ссылках и лагерях); «Машинописный документ под названием “Суд над Синявским и Даниэлем”, на 7 листах»; «Машинописный текст под названием “Обсуждение рукописи Солженицына ‘Раковый корпус’ ”, на 22 листах» и многие другие.
В разделе третьем — «Рукописные журналы» — перечислены отдельные номера «Хроники текущих событий», «Сборников избранных текстов Самиздата», журнала «Общественные проблемы» и т. д. Четвертый раздел озаглавлен так: «Статьи, направленные на искажение и очернение советской действительности». В нем перечислены самиздатские статьи Лидии Чуковской «Ответственность писателя и безответственность “Литературной газеты”» и «Не казнь, но мысль, но слово…», известный меморандум А. Д. Сахарова «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», статьи философа Григория Померанца, не опубликованные еще тогда рассказы Варлама Шаламова и т. п.
Наконец, последний раздел включал стихотворные произведения — «Реквием» Ахматовой, стихи и песни Даниэля, Окуджавы, Высоцкого, Галича и других поэтов и бардов, которые, как указано в донесении, «частично публиковались в антисоветских зарубежных изданиях».
Вывод напрашивался сам собой: «Перечисленные материалы преднамеренно содержат подбор злопыхательских и вымышленных сведений, нарочито порочащих советский строй, подтасованные под правдоподобие, с помощью которых делается попытка дать негативную оценку нашей действительности и дезориентировать общественное мнение. В связи в изложенным указанные материалы распространению в СССР не подлежат. Начальник Управления Б. Марков».
Такое «экспертное заключение» Ленгорлита сыграло, конечно, зловещую роль на процессе, инспирированном Управлением КГБ (каком именно, к сожалению, не известно). В донесении указаны, как мы видели, и песни знаменитых бардов, пошедших в магнитофонную разновидность самиздата, — так называемый «магнитиздат», получивший необычайную популярность по всей стране. Уследить за ним было трудно, но, тем не менее, КГБ и Главлит пытались обуздать его распространение. Об этом свидетельствует такой запрос, адресованный Главлиту СССР Комитетом госбезопасности 31 мая 1973 г.: «В ходе следствия по уголовному делу № 37 °Cледственным отделом КГБ были изъяты магнитофонные пленки с записями пьес Галича, Кима, Высоцкого и других…» (далее перечислены названия 171 песни. — А. Б.). «Просим Вас дать указание сообщить, издавались ли перечисленные песни и рассказы в СССР. Если издавались, то имеются ли какие-либо ограничения с их ознакомлением»[109].
В мае 1975 г. возникло еще одно «самиздатское» дело, в связи с чем спецотдел ленинградского Управления КГБ обратился за помощью в цензуру. В присланном списке содержалось 34 названия машинописных и печатных текстов. Среди них: снова открытые письма правозащитников, отдельные выпуски «Хроники текущих событий», «Письмо к советскому правительству» М. А. Булгакова, «Открытое письмо Сталину» (газета «Новая Россия», 1939, 1 октября) невозвращенца Федора Раскольникова, перепечатки стихотворений. Е. Евтушенко. «Бабий Яр» и «Наследники Сталина», выдержки из книги сбежавшей дочери Сталина С. Аллилуевой «Только один год», статьи Андрея Амальрика и др. Неожиданно выглядит в списке № 7-й: «Речь Фридриха Дюрренматта в городском театре гор. Базеля» — потому, видимо, что он выступил 8 сентября 1968 г. против вторжения советских войск в Чехословакию. «В Чехословакии, — говорил он, — человеческая свобода в ее борьбе за справедливый мир проиграла битву. Битву, но не войну…»
Начальнику Следственного управления УКГБ «тов. Третьякову» был отправлен такой ответ:
«В ответ на Ваше письмо от 16 мая 1975 года сообщаем, что перечисленные под номерами 1 — 15, 20–22, 27, 29–30, 32–33 материалы распространению в СССР не подлежат. Роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита”, стихотворения Евтушенко “Бабий яр” и “Наследники Сталина” опубликованы и находятся в открытых фондах библиотек. По поводу материалов, названных под номерами 16, 18–19, 25–26, в связи с тем, что Вами не указаны выходные данные, заключения дать не можем. По материалам неизвестных авторов, перечисленных под номером 34, дать заключение возможно только по их прочтении. Начальник Управления (Б. Марков)». На обороте интересная помета: «Отпечатано 2 экземпляра. Исп. Коробченко, печатала Никонова. Черновик уничтожен».
В ряде запросов, посланных по «уголовному делу № 86», возбужденному в 1978 г. (единственному атрибутированному делу, о котором речь пойдет в следующем параграфе), фигурирует большое количество машинописных текстов, связанных преимущественно с именем писателя В. Р. Марамзина. Сам он, входивший в группу «Горожане», в 1974 г. обвинялся в «изготовлении, хранении и распространении антисоветской литературы в течение 1964–1974 гг.». В феврале 1975-го осужден к пяти годам условно и вскоре эмигрировал и. поселился во Франции[110]. (Мне удалось побывать на этом процессе в Ленинградском городском суде. Трагикомически, помнится, выглядели попытки прокурора доказать факт не только «хранения», но и «распространения» самиздата — именно это входило в «состав преступления», в том числе и собственных произведений обвиняемого. Для этой цели вызвана была даже бывшая жена подсудимого, которой он, оказывается, давал читать свои произведения…).
Из цензуры поступил такой ответ по этому поводу: «Произведение грязного антисоветчика В. Марамзина “Человек, который верил в особое назначение” (машинописный текст) эротического содержания, пропагандирует распущенность, свободу нравов, написано в духе низкопробного буржуазного бульварного чтива. Пять рассказов Владимира Марамзина (машинописный текст) содержат клевету на советский образ жизни, советские порядки, на дружественные контакты с зарубежными странами, проповедуют пошлость, непорядочность, нечестность, нечистоплотность в человеческих отношениях. Распространению в СССР эти материалы не подлежат, так же как и “Блондин обеего цвета” (так у Марамзина. — А. Б.) того же автора. Политические выпады и злобная клевета на наш строй переплетаются с непристойностями. Все произведения Марамзина распространению не подлежат».
В том же ответе осуждению подвергся ряд других самиздатских текстов. Например: «В машинописном тексте “О социальном диалоге” автор Пименов Р. подчеркивает свою враждебность к советскому строю и советской действительности, полемизирует с А. Солженицыным и И. Шафаревичем о методах антисоветской борьбы. Книга может расцениваться как антисоветская акция». В заключение подчеркивалось, что «…право издания и размножения книг предоставлено только издательствам. Все отпечатанные материалы, осуществленные помимо издательств, на множительных аппаратах, полиграфическом оборудовании, размноженные на машинках, являются противозаконным действием»[111].
Значительное внимание в запросах КГБ, адресованных Ленгорлиту, отведено так называемому «еврейскому самиздату», получившему в Ленинграде широкое распространение, начиная с 1970 г., когда началась эмиграция евреев из СССР. Наметившееся тогда стремление некоторых кругов еврейской молодежи к осознанию своих исторических корней и самоидентификации, с одной стороны, а с другой — отсутствие возможностей в подцензурной печати выразить это, вызвало появление множества машинописных, как правило, текстов. Наиболее активно проявился еврейский самиздат в Ленинграде, где с 1982 г. стало выходить наиболее значительное издание — «Ленинградский еврейский альманах». В нем опубликованы, в частности, статьи Михаила Бейзера о жизни петербургских евреев, впоследствии объединенные также в «самиздатовскую» книгу «Евреи в Петербурге» (уже в начале перестройки — в 1986 г.).
Только один такой запрос, датируемый 19 мая 1975 г., содержал 51 название. Большая их часть имела специфический характер: явно они конфискованы при обысках в среде ленинградской еврейской интеллигенции. Среди них: «Илья Эренбург об антисемитизме», «Дословные выписки из книги Ф. Гернека “Альберт Эйнштейн”», «Русский писатель Максим Горький о еврейском поэте Бялике», «Воззвание-листовка Максима Горького» (очевидно, воззвание 1919 г. «О евреях»), «Справочные выписки из «Еврейской энциклопедии», «Поэма на зверское убийство Михоэлса» Переца Маркиша, «Легенда об Агасфере» (в списке опечатка — «об Агасфене»), стихотворение Евтушенко «Бабий яр», «Пачкун Смирнов грязно наследил…» (очевидно, имеются в виду антисемитские выступления прозаика Василия Смирнова) и т. п. Однако цензоры отделались в данном случае отпиской, поскольку дать «заключение по всем перечисленным Вами материалам» они не в состоянии, «так как ни по одному из них не приводится выходных данных, по которым можно судить о характере произведений и правомерности их распространения. Вам необходимо по этому вопросу обратиться в Центр, который по принятой системе запросит Главное управление по охране государственных тайн в печати при СМ СССР»[112].
В других запросах и списках также широко представлена литература на еврейские темы: «Евреи в СССР» (Рим, «Унита», 20 сентября 1966 г. — очевидно, вырезка из газеты); Б. Ц. Гольдберг, «Открытое письмо редактору “Советиш Геймланд” А. Вергелису»; книга Я. Гринвальда «Михо-элс», издательство «Дер Эмес», 1948 год; брошюра А. Генина «Палестинская проблема», издательство «Правда», М., 1948. В этом случае ответ цензуры был «положительным»: «указанные материалы распространению в СССР не подлежат».
Перечень самиздатской литературу, вызвавшей подозрение охранительных инстанций, можно было бы продолжить. Между прочим, изучение этих списков может пополнить наши представления о репертуаре самиздата, изготавливавшемся и распространявшемся в Ленинграде, и не только в нем…
Тамиздат
Начиная с 20-х годов все положения о Главлите неизменно предусматривали в его структуре Иностранный отдел (Иноотдел), в задачи которого входил контроль за ввозимыми в СССР и вывозимыми из него же произведениями печати, рукописями и другим материалом. Такой же отдел был создан и в Ленинградском управлении. Уполномоченные иностранного отдела работали «непосредственно на местах» — на таможнях и Главпочтамте — и, разумеется, рука об руку с органами тайной политической полиции. Конфискация происходила в тех случаях, когда они обнаруживали при вскрытии вещей и досмотре поступающие из-за границы книги так называемого «антисоветского характера», или, как они выражались, «политически-дефектную литературу». После ознакомления с провозимыми через границу или поступившими по почте книгами и бандеролями, цензор мог вынести следующие решения: вообще уничтожить их, списав в макулатуру, пропустить к ввозу или разрешить почтовую доставку (полностью или с исправлениями, вырезками, затушевыванием отдельных мест), передать на спецхранение в крупнейших библиотеках. Каждый цензор иностранного сектора вооружен был двумя штампами — треугольником и шестиугольником с вписанными в них особыми номерами и литерами, по которым можно было бы определить имя проверяющего. Треугольник ставился на разрешенных изданиях, шестиугольник — знак, на цензорском жаргоне получившем название «шайбы» или «гайки», — на запрещенных иностранных книгах, признанных не подлежащими распространению: они могли храниться только в библиотечных спецхранах. Сотрудник мог оттиснуть на книге два шестиугольника: «поставить две шайбы» означало на все том же жаргоне не только запрещение книги, но особые условия ее хранения и выдачи, — своего рода «спецхран в спецхране»: книги из него могли выдаваться лишь сотрудникам ЦК КПСС, КГБ, МИД СССР. Почти все издания на иностранных языках гуманитарного характера, тем более — русские эмигрантские книги, журналы и газеты — переводились в библиотечные спецхраны автоматически.
Таможенная группа «Иноотдела» следила не только за ввозом, но и вывозом литературы. Последний мог быть разрешен в ограниченных пределах. Разрешение на вывоз «ценных и редких» изданий могло быть дано особой комиссией, созданной при Государственной Публичной библиотеке. Особая инструкция, которой она руководствовалась, предписывала запрещать вывоз не только старинных и редких изданий, но и современных, в частности, энциклопедических, научных (интересно, как же определялась степень «научности»?), «богато иллюстрированных» и т. п. Как и всюду, здесь царило своеволие.
Крайне подозрительно относились контролеры к вывозу рукописей, среди которых могли оказаться тексты самиздата, — произведения писателей андеграунда, подпольные альманахи, журналы и т. п. Конечно, многие из них все же проникали за границу благодаря помощи зарубежных славистов, иногда дипломатов, но и цензоры-таможенники не дремали. Подозрение вызвали даже студенческие записи лекций. На одном из собраний парторганизации Ленгорлита в 1958 г. отмечены были «недостатки в таможенном контроле… необходимо решить вопрос о контроле конспектов лекций, вывозимых студентами за границу… сейчас материалы никто не контролирует»[113].
Даже сами цензоры не должны были поддаваться искушению прочитать конфискованные ими же книги. В этом отношении весьма любопытен спор, разгоревшийся на упоминавшемся выше закрытом партийном собрании Ленгорлита в октябре 1958 г. В протоколе зафиксировано выступление (точнее — прямой донос) цензора Николаева: «Таможенной группой была задержана книга Пастернака “Доктор Живаго”. Книга вредная, антисоветская, ее прочитали работники Таможенной группы. Коханович передал ее Чернышеву. А зачем это было делать? Совсем не нужно ее всем читать. Каждый должен читать то, что касается по работе». Сотрудник Таможенной группы Зелеранская попробовала, было, защитить своего товарища, сказав, что выступление Николаева «по вопросу о книге Пастернака вызвало у нас недоумение… с задержанными материалами обязательно должны знакомиться те цензоры, которым это может пригодиться в практической деятельности. Информация о задержанной литературе необходима». Согласившись с тем, что «это книга вредная, антисоветская», она, тем не менее, полагала, что все работники должны знать о ней, поскольку она может встретиться в букинистических магазинах, а также в ссылках на нее в литературе. Начальник Ленгорлита Соколов поправил Зе-леранскую, заявив, что она неправильно поняла выступление Николаева: «Нужно знакомить с задержанной литературой только тех, у кого есть деловой интерес к этому»[114].
По неясным для нас причинам романом Пастернака заинтересовалось другое охранительное ведомство — Ленинградское управление внутренних дел (т. е. милиция). Следователь управления, в отличие от своих коллег из Горлита и КГБ, ничего не знавший об этом романе и приключившейся с ним в 1958 г. громкой истории, 9 февраля 1970 г. запросил Ленгорлит: «В связи с возникшей необходимостью, прошу сообщить, издавалась ли в СССР, за границей, запрещена ли к ввозу в СССР прилагаемая книга “Доктор Живаго”. Следователь майор милиции Григорьев». Горлит рассеял «сомнения» следователя, подтвердив, что книга в СССР действительно не издавалась, «ввозу из-за границы не подлежит и запрещена к распространению в СССР»[115].
По-видимому, книга была обнаружена при обыске по какому-то уголовному делу. Не исключено, что об этом факте следователь сообщил родственному учреждению, расположенному в соседнем здании, — управлению КГБ — так сказать, по принадлежности… Роман фигурирует почти во всех запросах этой организации, на которые цензура неизменно отвечала в таком духе: «Идеологической диверсией является и распространение в СССР книги Б. Пастернака “Доктор Живаго”, в которой высказываются взгляды, чуждые миру и социализму, бросается тень (! — Л. Б.), шельмуется наша страна». Или: «Роман написан с антисоветских позиций, выражает глубокое разочарование автора в идее революции, неверие в возможность социальной перестройки общества». В зарубежном издании сборника Пастернака «Проза 1915–1958. Под редакцией Г. П. Струве» обнаружен такой «криминал»: «В предисловии, написанном В. Вейдле[116], венцом творчества Б. Пастернака признается “Доктор Живаго”, произведение в СССР не издававшееся, имеющее антисоветскую направленность, получившее в советской официальной критике резко отрицательный отзыв». В сборнике «Стихи 1936–1959» найден был другой: «Издание вышло под редакцией Г. П. Струве, ярого антисоветчика, что выразилось в подборе стихотворений, имеющих явно антисоветский характер. Сюда же включено стихотворение “Нобелевская премия”, написанное после выхода в свет за рубежом “Доктора Живаго”, где автор изображает себя “загнанным в угол зверем” (цитируется первая строка стихотворения, написанного в январе 1959 г.: «Я пропал, как зверь в загоне…» — А. Б.). Большинство включенных в сборник стихотворений в СССР не издавалось. “Темы и вариации” в Советском Союзе не издавались, распространению не подлежат»[117]. В последнем случае имеется, очевидно, в виду книга Пастернака «Темы и варьяции. Четвертая книга стихов» с выходными данными: Москва — Берлин, издательство «Геликон», 1923.
В 70-е годы «тамиздатские» книги постоянно встречаются в упоминавшихся выше запросах Следственного управления КГБ. Часто они касались правозащитных материалов, переправленных на Запад и отпечатанных там «гутенберговским» способом. Вот типичный запрос 1975 г.: «В связи с оперативной необходимостью просим Вас дать указание срочно вынести заключение о содержании брошюры “Андрей Твердохлебов. В защиту прав человека”, издательство “Хроника”, Нью-Йорк и сборника стихотворений Григорий Подъяпольского “Золотой век”, издательство “Посев”». Ответ цензоров был запрограммирован: «По своему содержанию эти книги являются антисоветскими, распространению в СССР не подлежат и, в случае поступления в нашу страну по каналам, подлежащим контролю Главлита СССР, нами конфискуются»[118].
Как уже говорилось, отсутствие в таких запросах имен обвиняемых и даже номера дела не позволяют идентифицировать их с тем или иным ленинградским процессом. Впрочем, в одном случае следователи допустили «прокол», сообщив в трех требованиях, датируемых 31 мая и 8 июня за 1978 г., (этим днем датируется два запроса), номер дела. Все они имеют стереотипные «шапки» («Управление КГБ по Ленинградской области просит…» и т. д.) и текст: «В связи с расследованием по уголовному делу № 86, прошу сообщить, подлежат ли изданию и распространению в СССР нижеперечисленные произведения» (далее следовали списки из десятков названий). Тот же номер ленинградского дела повторяется в разделе «Аресты, обыски, допросы» правозащитной «Хроники текущих событий» (выпуск № 49 от 14 мая 1978 г.).
«Ленинград. 22 марта у художника Игоря Бурихина и его жены Елены Варгафтик провели обыск по делу № 86 “О незаконном занятии полиграфическим промыслом” (ст. 162 УК РСФСР — “Занятие запрещенным промыслом”). В протоколе обыска 46 наименований: копии книг Цветаевой, Пастернака, Ходасевича, книги Бердяева, Булгакова, Зерновой, Солженицына, Копелева и др. На книги Копелева (на немецком языке) указал ст. лейтенанту Баланеву, руководившему обыском, присутствовавший в качестве понятого студент 4 курса В. А. Маликов (многообещающий молодой человек! — А. Б.). После обыска Бу-рихина и Варгафтик допросили. Допрос проводил В. В. Егерев. На вопросы “Откуда книги?” Бурихин отвечал: “От уехавших, от зарубежных туристов”. Варгафтик сказала, что она не знает людей, занимающихся запрещенным полиграфическим промыслом, и потому отвечать на вопросы по данному делу не может. Оба отказались отвечать на вопросы о других людях. В тот же день допросили троих знакомых Бурихина»[119].
Сам «виновник» — Игорь Николаевич Бурихин — поэт, специалист по германистике, аспирант Е. Г. Эткинда, и ранее «интересовал органы»: привлекался по делу В. Марамзина и другим. Он активно участвовал в самиздатских журналах («37», «Часы» и др.). Вскоре после проведенных обысков вынужден был под давлением КГБ эмигрировать в Германию[120].
В первом запросе по делу № 86 указано 23 книги — как оригинальные зарубежные печатные издания, так и книги, обозначенные примечанием «копия» (видимо, перепечатки на машинке, фотокопии или ксерокопии). «Перечисленные в Вашем письме книги, — отвечал начальник Ленгорлита Б. А. Марков, — в своем большинстве представляют собой подстрекательское антисоветское чтиво», перечисляя далее книги Солженицына, Бродского, Синявского и других писателей (см. следующий параграф)[121]. Большие претензии вызвала книга Валерия Чалидзе «Права человека и Советский Союз», изданная в Нью-Йорке: «В ней содержится правдоподобная ложь (! — А. Б.). И носит она завуалированно-подстрекательский характер. Имитируя крайнюю “озабоченность” состоянием свободы творчества в СССР, Чалидзе “требует” от Советского Союза абсолютной свободы творческого самовыражения. Отсюда пропаганда, апология аполитичности, непременнейшего условия, по мнению Чалидзе, творческой свободы. В этой книге снова и снова пускаются в оборот старые стереотипы махрового антисоветизма, убогие фальшивки о правовых органах, КГБ и Главлите. Автору “Права человека и Советский Союз” ненавистно всё советское. В ней нагромождение гнусной лжи и клеветы на советскую действительность. Это чтиво являет собой пример оголтелой разнузданной пропаганды». По-прокурорски звучит и отзыв об известной книге Леонарда Шапиро «Коммунистическая партия Советского Союза»: «Издание этой книги можно смело рассматривать как антисоветскую, антикоммунистического порядка акцию. Книга являет собой источник самой беспардонной антисоветской пропаганды и агитации, направленной на подрыв и ослабление в нашей стране социально-политической системы, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих Коммунистическую партию, наш государственный и общественный строй (цензор здесь дословно цитирует ст. 190 УК РСФСР. — А. Б.), отравляет атмосферу доверия между народами, вредит делу разрядки, и в то же время автор пытается воздействовать на читателя восхвалением “свободных” порядков и образа жизни в капиталистических странах».
«Сомнения» вызвали и серьезные труды и тексты философского и религиозного характера, хранившиеся у Бурихина, политическая окраска которых, за редким исключением, минимальна. «Известно, — продолжает Марков, — что буржуазно-клерикальная пропаганда, распространяющая домыслы об отсутствии свободы совести в СССР, намеренно искажает политику КПСС и Советского государства по отношению к религии и церкви. Лица, пропагандируя, распространяя религиозную антинаучную идеологию, сознательно обрекают верующих на пассивность, лишая их активной жизненной позиции. Именно этим целям служат и незаконно размноженные книги Льва Шестова “Только верою”, Л. А. Зандера “Бог и мир”, книга “Творения блаженного Августина” “Псалмы Соломона” с приложением “Од Соломона”, статьи священника Павла Флоренского». Досталось и Зигмунду Фрейду, с которым большевики в 20-е годы даже заигрывали, пытаясь приспособить его учение к марксизму (ряд его книг тогда был издан в СССР). В его книге «Избранное», вышедшей по-русски за рубежом, «…превалирует мотив влечения к эросу, к смерти. Рассматривая психологию отдельной личности с точки зрения поведения первобытной орды, обладавшей примитивными инстинктами, он оправдывает вседозволенность, выдвигая на первый план сексуальный мотив. Человек у Фрейда полностью оторван от социальной почвы. Такая пропаганда вседозволенности направлена на разрушение в человеке человеческого и способствует превращению его лишь в объект бесстыдной “сексэксплуатации”».
Еще большее раздражение цензора вызвали «…издаваемые за рубежом и засылаемые в СССР книги произведений Гумилева, Ахматовой, Клюева, Мандельштама», которые «…используются антисоветчиками в качестве ширмы идеологического проникновения и подрывной деятельности в нашей стране. В этих изданиях тенденциозно продумана подборка стихов, особенно тех, которые не издавались в СССР со дня революции и представляющих собой неверное отражение нашей действительности, а в предисловиях ко всем этим книгам злобного антисоветчика Г. П. Струве[122] навязывается негативное отношение к советской стране и доброжелательное к Западу. За невинными порой словами Г. П. Струве делается попытка обелить и реабилитировать Гумилева, Мандельштама, Клюева, взвалить вину за их смерть на органы КГБ и создать в нашей стране так называемую внутреннюю оппозицию, что-то вроде пятой колонны». «Экспертное заключение» заканчивалось вполне «закономерным» выводом: «Перечисленная здесь литература не издавалась в Советской Союзе и не подлежит распространению, как идейно-ущербная, проникнутая духом ненависти к советскому государству, коммунистической партии». К этому добавлено, что «…издание и тиражирование книг на множительных аппаратах, принадлежащих учреждениям и предприятиям, запрещено, а самовольное нарушение порядка является противозаконным»[123].
В следующем, присланном дополнительно запросе от 8 мая, указано семнадцать печатных книг зарубежных издательств. Среди них упомянуты — снова «Доктор Живаго», а также «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, книги Андрея Платонова, Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Марины Цветаевой и других писателей. Через неделю (15 июня) начальник Горлита прислал в управление КГБ обширный аннотированный перечень, сопровождаемый уже знакомым нам приговором:
«В Управление КГБ по Ленинградской области. Следственный отдел.
Перечисленные в письме материалы являются произведениями негативной направленности по отношению к Советскому Союзу, Коммунистической партии, советскому образу жизни».
Вот один из образцов таких «аннотаций»: «В “Повести непогашенной луны” Б. Пильняк бездоказательно утверждал, что Фрунзе, выведенный в повести под именем Гаврилова, умышленно умерщвлен при операции. Книга в СССР не издавалась. Софийское издание 1929 года находится в спецхране». Досталось даже превращенному в икону «буревестнику революции»: «Книга М. Горького “Несвоевременные мысли” представляет из себя цикл статей 1917–1918 гг. В статьях этого периода Горький высказывал ошибочную точку зрения по поводу диктатуры Советов (стр. 100, 102). Данная книга в СССР не издавалась. Статьи М. Горького этого периода находятся в спецхране». Цензор ошибается: «Несвоевременные мысли» — цикл статей, публиковавшихся после октябрьского переворота в основанной Горьким газете «Новая жизнь» — в которых Горький резко осуждал красный террор, «преступную политику» большевиков по отношению к интеллигенции и весьма критически отзывался о личности Ленина, Горький успел напечатать отдельной книжкой в советской России в ноябре 1918 г., но насчет спецхрана цензор прав. В 30-е годы Горький, как известно, исправился, и ему были прощены «кратковременные заблуждения». Статьи этого цикла были, конечно, запрещены на многие десятилетия, так же, как и многие другие статьи и письма, не публиковавшиеся даже в полном собрании его сочинений. «Несвоевременные мысли» смогли увидеть свет в СССР только в 1990 г.
Объявлена «…злобным памфлетом на Советское государство не издававшаяся в СССР и не подлежащая распространению» антиутопия Евгения Замятина «Мы». Как известно, после публикации этого романа за рубежом в конце 20-х годов против Замятина была развязана разнузданная кампания; в 1931 г., ему, к счастью, удалось уехать за границу. В СССР роман был напечатан только в 1988 г. (журнал «Знамя», № № 4–5). Такова же оценка романа Андрея Платонова «Чевенгур», тем более что, во-первых, «…за опубликованные в 1929 г. отрывки из этой книги автор подвергся критике», а во-вторых, «…в данном издании предисловие написано М. Геллером[124], где он с антисоветских позиций описывает “злоключения” А. Платонова, его травлю, а затем замалчивание».
Попал в список и ряд поэтических сборников крупнейших русских поэтов, выпущенных, главным образом, знаменитым американским издательством «Ardis», специализировавшимся на запрещенных в СССР книгах. По мнению цензора, «…в сборнике Максимилиана Волошина “Демоны глухонемые” тенденциозно подобраны стихи, в мрачных тонах изображающие революционный порыв масс в 1917–1918 гг. Книга в СССР не издавалась, распространению не подлежит». На родине поэта этот сборник был издан лишь один раз, в 1919 г. (Харьков, издательство «Камена»). Поэт видит ужас распада, осуждает кровавый разгул революции — мотивы, которые позднее будут с еще большей силой звучать в «Стихах о терроре», поэме «Россия» и других его произведениях. Они — один из самых излюбленных сюжетов самиздата. Поэт хотел «при жизни быть не книгой, а тетрадкой»: эта его «мечта» сбылась— но не только «при жизни», но, главным образом, после его кончины в 1932 г. Оказалось в проскрипционном перечне зарубежное собрание сочинений расстрелянного в августе 1921 г. Николая Гумилева, изданное в четырех томах (Вашингтон, издательство Камкина, 1962–1968). Помимо имени самого поэта внимание Горлита снова привлек Глеб Струве: «Собрание сочинений Н. Гумилева в СССР не издавалось. Подготовка текста сочинений, комментарий и вступительная статья известного антисоветчика Г. П. Струве. Предисловие написано в антисоветских тонах. Акцентируется внимание на якобы царящих в СССР беззакониях и жестокости. Книга распространению в СССР не подлежит». Он же фигурирует в отзыве о первом томе «Собрания сочинений» погибшего в лагере Осипа Мандельштама (оно вышло в трех томах под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова в Нью-Йорке в 1967 г.): «К собранию сочинений О. Мандельштама предпослано предисловие, среди авторов которого известный антисоветчик Г. П. Струве. В подстрекательских тонах извращенно рисуется картина жизни в СССР в 30-е годы; Мандельштам изображается человеком, боровшимся за справедливость и погибшим от рук ЧК. Подборка стихов носит тенденциозный характер». И снова обычная резолюция — «Книга распространению в СССР не подлежит», как будто бы без этого предисловия она бы таковому «подлежала»…
Указаны в перечне и романы Михаила Булгакова «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита». По поводу первого ошибочно утверждалось, что «он в СССР не издавался» («Белая гвардия» печаталась в середине 20-х годов в альманахе «Недра»). «По ее мотивам, — говорится далее, — автором была создана пьеса «Дни Турбиных», которая ставилась на советской сцене. Предисловие к книге написано Р. Пайпером (известным американским историком. — А. Б.) в резко оппозиционных тонах. В нем утверждается о травле, которой якобы подвергался М. Булгаков.
Книга распространению не подлежит, как содержащая антисоветские выпады». Второй роман вызвал претензии такого рода: «Книга М. Булгакова “Мастер и Маргарита” в СССР неоднократно издавалась, но не в данном варианте. Книга сопровождается предисловием, в котором содержатся выпады против советской цензуры и обвинения в недозволенных вмешательствах в авторский текст. Данное издание распространению в СССР не подлежит». Вероятнее всего, речь идет об издании, выпущенном «Посевом» во Франкфурте-на-Майне в 1969 г. (экземпляр его имеется в библиотеке автора этих строк: получен еще в начале 70-х годов). Напомним эту историю: роман был впервые опубликован в журнале «Москва (№ 11 за 1966 г. и № 1 за 1967-й), однако со значительными купюрами. «Посев» поступил весьма остроумно, отметив в предисловии «От издательства»: «При наборе мы, для облегчения позднейших анализов текста и исследований замечательного произведения Булгакова, выделили все выброшенные цензурой места курсивом, а цензорские “связки” взяли в квадратные скобки». Эти купюры ходили, между прочим, и в машинописном самиздате: видимо, пользуясь указанным посевовским изданием, собиратели вкладывали или вклеивали их в опубликованный в СССР текст романа. Так, в одном из отзывов Горлита говорится: «Машинописные отрывки из романа М. Булгакова “Мастер и Маргарита” не входят в опубликованный в СССР вариант данной книги и распространению не подлежат».
Вообще, надо сказать, книги Булгакова часто оказывались среди конфискованных, даже те, которые были в свое время опубликованы советскими издательствами 20-х годов, о которых даны такие отзывы: «“Роковые яйца” и “Дьяволиада” издавались в СССР в 1924—25 годах. Позднее не переиздавались». Эти книги в 30-е годы попали в запретительные списки Главлита и были изъяты из общественных библиотек.
Среди найденных при обыске оказался машинописный текст рассказа Булгакова «Китайская история», который, как гласил отзыв цензора, «…в мрачных тонах дает зарисовки эпизодов из жизни китайского кули в Советской России. Произведение в СССР не издавалось, распространению не подлежит». И снова цензор ошибается: рассказ опубликован впервые в журнале «Иллюстрации Петроградской правды» (1923, № 7) и вошел затем в сборник «Дьяволиада» (М.: Недра, 1925). Тем более запрет относился к самиздатским копиям «Собачьего сердца», хранившимся практически у каждого интеллигентного ленинградца. Еще в конце 20-х годов тогдашний начальник Главлита П. И. Лебедев-Полянский доносил в ЦК: «“Роковые яйца” Булгакова — произведение весьма сомнительного характера. Это же издательство («Недра». — А. Б.) пыталось, но Главлит не разрешил печатать “Записки на манжетах” и “Собачье сердце” того же Булгакова, вещи явно контрреволюционные…»[125]. Хранение повести, в связи с этим, было безопасным лишь до поры до времени, поскольку в том же отзыве Ленгорлита утверждалось: «Книга “Собачье сердце”, где последствия революции, по мнению автора, разрушительны для культуры, в СССР не публиковалась и распространению не подлежит».
Настороженно относился Главлит к различного рода библиографическим и рекламным материалам, в которых лишь упоминаются нежелательные книги и журналы. К таковым был, в частности, отнесены каталоги «Русские книги», регулярно выпускавшиеся в 70-х годах в Мюнхене издательством и книжным магазином В. Нейманиса, поскольку они «…рекламируют журнал “Континент”, являющийся трибуной диссидентов, также книги таких отщепенцев, как Солженицын, книги, выпускаемые “Самиздатом” и др.». Еще раз упомянут Павел Флоренский — на сей раз как автор знаменитого труда «Столп и утверждение истины» — «книга религиозного содержания о поисках истины, стыде, грехе, христианском догматизме и т. д.». Кроме того, каталог «…рекламирует произведения диссидентов-антисоветчиков, таких как Бергер Иосиф “Крушение поколения” (о судьбах лиц, с которыми автор сталкивался в советских концлагерях), Юрий Айхенвальд[126] “По грани острой” (“Сталин и третий лишний”), книги “самиздата”».
В этом же списке — знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984», который охарактеризован так: «Фантастический роман на политическую тему. В мрачных тонах рисуется будущее мира, разделение его на три великих сверхдержавы, одна из которых, “Евразия”, представляет собой поглощенную Россией Европу. Описывает противоречия, раздирающие эти три сверхдержавы в погоне за территориями, богатыми полезными ископаемыми. Рисуется картина зверского и безжалостного уничтожения женщин и детей во время войн. Книга в СССР не издавалась, распространению не подлежит»[127]. Между прочим, мало кому известно, что этот роман в СССР был все-таки издан еще в 1959 г. «Издательство иностранной литературы» выпустило тогда «1984» с грифом «Рассылается по специальному списку. N9…», причем без указания тиража и даже имени переводчика. Повелел перевести на русский язык и издать роман сам агитпроп, называвшийся тогда Идеологическим отделом ЦК КПСС. Сделано это было в целях «контрпропаганды», для того, чтобы «знать врага» и вооружить доверенный и крайне узкий круг лиц такого рода «знаниями». Все экземпляры предназначались исключительно для высшего слоя партийной номенклатуры. Это закрытое издание отсутствует даже в крупнейших библиотеках; познакомиться с ним удалось по экземпляру, чудом оказавшемуся в Научной библиотеке Санкт-Петербургского гос. университета.
Нелегальный вариант романа постоянно фигурирует в следственных и прочих делах. Например, в числе книг, изъятых во время обыска у социолога А. Н. Алексеева, — «политически вредное произведение Дж. Оруэлла “1984” на английском языке…» «Оргвыводы» были сделаны: «социолог-рабочий» получил по линии КГБ предостережение, заводской парткомитет исключил его из партии. Открытое издание романа появилось в России только в 1988 г.[128].
Заканчивается отзыв о присланных книгах опять-таки стереотипным заключением: «Все указанные книги изданы за рубежом, рассчитаны на подрыв и ослабление установленных в нашей стране порядков и их распространение в Советском Союзе следует расценивать, как идеологическую диверсию».
В посланном вдогонку (тоже 8 июня) требовании по делу № 86 перечислено 38 названий тамиздатских и самиздатских произведений[129]. Сугубое внимание на этот раз обращено на хранение и распространение зарубежных журналов — «Континент», «Посев», «Грани», отдельных номеров «Хроники защиты прав в СССР», «…все материалы которых, — как гласил цензурный отзыв, — изобилуют грязной клеветой на Коммунистическую партию, Советское государство. В издаваемой за рубежом “Хронике защиты прав в СССР” помещены материалы подрывного антисоветского характера, по существу предназначены для информации и “инструктажа” диссидентов». Указаны также книги Андрея Амальрика «Статьи и письма 1967–1970 гг.» (серия «Библиотека Самиздата») и Льва Копелева «Хранить вечно», вызвавших такую характеристику: «“Статьи и письма 1967–1970” Андрея Амальрика, злобного антисоветчика, высланного из СССР, написаны в злопыхательском духе, в духе утверждения о якобы отсутствующей в СССР свободе творчества, измышлений об органах КГБ. Произведение Л. Копелева “Хранить вечно”, издательство “Ардис”, 1975, в Советском Союзе не издавалось. Книга изобилует антисоветскими обобщениями и выводами, злобной клеветой, описанием “ужасов” лагерной жизни. Его же книга “Две эпохи немецко-русских отношений. Толстой и Гете — диалог двух эпох”, на немецком языке, также в Советском Союзе не издавалась. “Сборник литературно-критических статей по литературе ФРГ и ГДР” (на немецком языке). Как указано в предисловии, представляет собой переработанные автором материалы, ранее опубликованные в СССР. Автор был дважды арестован: в 1945 и 1946 гг., отбывал наказание за антисоветскую агитацию и пропаганду».
Подвергся осуждению ряд художественных изданий, обнаруженных при обыске по делу № 86, тем более что в них опубликованы произведения современных русских художников-авангардистов. Так, альбом («Ардис», 1975) художника-нонкорформиста, участника войны Бориса Биргера, исключенного из Союза советских художников и в 1990 г. уехавшего в Германию, «…сопровождается предисловием Генриха Бёлля, где он, сравнивая Биргера с Рембрандтом, выражает сожаление, что в Советском Союзе не разрешают экспонировать такие “талантливые” произведения из-за того, что они не попадают под официальное художественное волеизъявление — “реализм”». Нашумевший в свое время альманах «Аполлон-77», вышедший в Париже, вызвал такую оценку: «Альманах содержит стихи, прозу, рисунки антисоветского содержания с предисловиями диссидентов В. Максимова, В. Марамзина, В. Петрова. Помещенные здесь произведения художественной ценности не представляют, в большинстве своем абсурдны, иногда непристойны, и все полны ненависти к советскому строю». Такую же судьбу разделил альбом «Современная русская живопись» (Дворец конгрессов. Париж, 1966) — по той причине, что он «…представляет собой каталог выставки современных авангардистов, многие из которых эмигрировали из СССР. Большинство картин в СССР никогда не экспонировалось».
Помимо «еврейского самиздата», о котором сообщалось выше, значительный интерес проявил КГБ и тамиздату такого рода. Первый такой запрос относится именно к 1970 г., что не случайно, так же как и то, что он имел ленинградское происхождение. Датирован он 10 ноября и связан, как можно полагать, с декабрьским процессом «самолет — чиков» — группы еврейских активистов-отказников во главе с Марком Дымшицем и Эдуардом Кузнецовым, пытавшимся в Ленинграде захватить самолет, чтобы бежать из СССР. В основном список содержал печатные издания, но встречаются и машинописные, такие, например, — «Документ, исполненный на пишущей машинке под названием «Дело о попытке угона самолета Ленинград-Приозерск. 15.06.70 на 4 листах».
Приведем лишь некоторые образцы цензурного творчества: «Книга Д. Шуба “Политические деятели России” (изд. “Новый журнал”, Нью-Йорк, 1969, № 3) — является антисоветским изданием, имеющим злобные выпады против В. И. Ленина, коммунистической партии, марксизма-ленинизма. Книга на английском языке Бернарда Бамбергера “История иудаизма” (США, 1964) содержит злобные клеветнические выпады против СССР и стран социалистического лагеря. Книга Р. Черчилля и У. Черчилля “…И победили на седьмой день” на немецком языке содержит клеветнические антисоветские материалы. Брошюра “Научные исследования и образование в Израиле”, изданная на немецком языке в Швейцарии, — являются националистическими, сионистскими изданиями, не подлежащими распространению в СССР. Брошюра В. Жаботинского “Еврейское государство” является сионистским, националистическим изданием с антисоветским предисловием». В обширном списке цензоры нашли лишь одну книгу, над которой решили смилостивиться: «Книга Эрнеста Ренана “История народа Израиля”, изданная на французском языке в Париже в 1887 г., — политических дефектов не содержит»[130].
Литература Русского зарубежья
Все произведения писателей трех волн русской эмиграции подверглись остракизму, причем независимо от содержания, — так сказать, по определению. Уже в первой инструкции, данной свыше Главлиту РСФСР, образованному в июне 1922 г., специальным пунктом предусматривалось запрещение «…ввоза в СССР произведений, носящих определенно враждебный характер к советской власти и коммунизму», «произведений авторов-контрреволюционеров» и т. д. [131].
В том же 1922 году А. В. Амфитеатров, бежавший из советской России годом раньше, писал в «Очерках красного Петрограда»: «Сквозь кордоны и шпионские фильтры ЧК заграничные газеты и журналы доходят до петроградского общества в таком малом количестве, так случайно, что голос их под Невою — не более чем подпольный шепот, которому внимают лишь очень немногие уши и повторяют его лишь очень немногие уста»[132].
Такая ситуация закреплена была почти на 70 лет. Правда, на первых порах режим вел потаенные игры с эмиграцией, пытаясь расколоть ее и привлечь на свою сторону, что частично и удалось… В связи с этим, некоторая часть эмигрантских изданий на первых порах все же разрешалась к провозу в СССР, однако к 1927–1928 гг. такие игры заканчиваются. С той поры все, за очень малым исключением, они конфискуются на таможнях; в лучшем случае, их передают в спецхраны крупнейших библиотек, в худшем — уничтожаются на месте. Из читательского обихода «метрополии» были вычеркнуты книги и имена крупнейших писателей, творческий путь которых продолжался или начинался в эмиграции.
Во многих книгах писателей Русского зарубежья никакого «антисоветского криминала» обнаружить не удавалось; единственным, впрочем, «составом преступления» выглядел в глазах цензоров сам факт выпуска их зарубежными русскими издательствами. В. А. Солодин, бывший заместитель начальника расформированного в 1991 г. Главлита СССР, выступая на одной из конференций, посвященных цензуре, говоря о «генерально ограниченных» изданиях, отметил, что «…в число таких генеральных ограничений попадали все эмигрантские издания за рубежом. От изданий Чехова и Камкина (имеются в виду русские издательства в США. — А. Б.) до НТСовских изданий, до ИМКА-пресс и прочее, прочее, независимо от того, что там есть. Предположим, двухтомник Ахматовой, только потому, что это в камкинском издании, не пропускался». Здесь же он говорит о том, что «…вообще говоря, политический контроль определялся одной фразой: запрещается пропускать материалы, содержавшие военную и иную тайну, а также материалы, дезинформирующие общественную мнение», вполне справедливо добавив: «Вы сами понимаете, что при такой формулировке можно было очень многое, фактически все, подвести под эту формулировку»[133].
В упоминавшихся ранее запросах КГБ в Ленгорлит по поводу обнаруженных во время обысков книг часто встречаются не только указания на машинописные копии, но и на оригинальные зарубежные издания произведений ряда писателей-эмигрантов. Как правило, в са-миздатском варианте распространялись «Окаянные дни» и «Воспоминания» И. А. Бунина. Хотя последние и вошли в 9-й том собрания его сочинений, изданного в СССР, но со значительными купюрами. Очерки «Горький», «Маяковский», «Гегель, фрак, метель» и другие, как не поддающиеся «купюризации», были полностью исключены из его состава, существенно обкорнали очерк «Третий Толстой». К числу печальных анекдотов нужно отнести историю, поведанную Сергеем Довлатовым в рассказе «В тени чужого юбилея». Вместе с Андреем Арье-вым им был подготовлен еще в 1968 г. сценарий документального фильма о Бунине — к столетнему юбилею писателя в 1970 г. Экспериментально-творческая киностудия, высоко оценив качество сценария, тем не менее, под благовидным предлогом все же отказалась ставить этот фильм. Как сообщил тогда же авторам Евгений Рейн, истинная причина отказа состояла в том, что Бунин «нахально родился почти одновременно с товарищем Лениным», и руководство киностудии посчитало политически неправильным отмечать в год столетия вождя мирового пролетариата такой же юбилей «белоэмигранта».
Почти ничего не знал советский читатель о романах В. В. Набокова, признанных сейчас классикой XX века, за исключением, впрочем, «Лолиты», которая в 60-е годы неожиданно и в массовом порядке проникла в читательские круги, до того вообще не подозревавших о существовании самиздата и тамиздата. Это и понятно: проходила она по ведомству «клубнички», что, конечно, совершенно несправедливо. Впрочем, так же она расценивалась в первое время и западными издателями, отказывавшимися печатать «Лолиту»[134]. Сам Набоков прекрасно понимал, насколько невозможны его книги в СССР: «Очень любопытно вообразить себе режим, при котором “Дар” смогут читать в России»[135].
Тем не менее, в самиздатском, обычно ксерокопированном виде, в 60—70-е годы довольно широко распространялись его воспоминания «Другие берега», роман «Дар» и ряд других произведений, часто попадая затем в упомянутые выше гебистские списки. Так, например, оказался в них его ранний и совершенно невинный в политическом смысле роман «Машенька», заслуживший такую «экспертную» оценку Ленгорлита: «Роман Сирина “Машенька” впервые был издан в 1926 г. за границей. В Советском Союзе не издавался и распространению не подлежит»[136].
Не раз попадали в те же списки произведения Марины Цветаевой, как правило, в машинописном или фотографическом исполнении, но иногда и в виде оригинальных печатных изданий. По одному из возбужденных дел «проходила» фотокопия ее книги «Проза», изданная в Нью-Йорке, — тем более что автором предисловия был Иосиф Бродский. Книга квалифицирована как «…специально подобранные воспоминания об эмигрантской жизни, о неприятии Советской власти, нападки на Советское государство», и снова — трафаретная резолюция: «Книга в СССР не издавалась и распространению не подлежит».
В другом требовании, адресованном Ленгорлиту, перечислен целый ряд книг Цветаевой: «Царь-девица», «Световой ливень», «Молодец», «229 листов фотокопий книги “Неизданные письма”», «83 листа фотокопии книги “Лебединый стан. Перекоп”», «32 листа фотокопий произведения, озаглавленного “Русский литературный архив. Под редакцией М. Карповича и Дм. Чижевского”» (сборник выходил в Нью-Йорке с 1956 г. — А. Б.). «Все указанные в списке произведения Марины Цветаевой, — гласило заключение, — являются копиями книг. В Советском Союзе не издавались, распространению не подлежат. Большинство произведений повествует о жизни в эмиграции, проникнуто негативным отношением к Советской России, воспевает белоэмигра-цию. Редакторы “Неизданных писем” Цветаевой Г. П. и Н. Струве, известные антисоветчики, яростно нападают на советские порядки, клевещут на советскую действительность». Упомянутый сборник «Русский литературный архив» целиком был посвящен публикации писем М. И. Цветаевой 1933–1937 гг., адресованных поэту и литературоведу Ю. П. Иваску (1907–1986), жившему тогда в Эстонии. Сборник, согласно цензурному отзыву, представляет собой «…копию книги, в которой Цветаева воспевает белую эмиграцию».
Таков же приговор — в отношении поэтического сборника Владислава Ходасевича «Тяжелая лира», изданного впервые в Берлине (издательство Гржебина, 1923): «Факсимильное издание. Ярый антисоветчик-эмигрант Ходасевич в своих стихах тоскует о прошлом, выражает ненависть по отношению к новой Советской власти. Книга после 20-х годов не переиздавалась»[137].
Попала под запрет «Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма», изданная в Мюнхене в 1973 г., включавшая стихотворения Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и других поэтов. Она вызвала такую реакцию: «В сборник включены стихи 37 поэтов, значительная часть которых является эмигрантами, занимающими негативную позицию по отношению к Советскому Союзу. Многие стихи содержат прямые или завуалированные антисоветские высказывания». И — в который раз: «Антология в СССР не издавалась, распространению не подлежит».
Серебряный век, частично унесенный с собой и продолженный в 20—30-е годы поэтами русской эмиграции, был, как точно заметил К. М. Азадовский, «…обречен изначально… Погруженная в глубину физического и духовного рабства, страна ничего не должна была знать о той духовной свободе, которой дышала интеллигенция предреволюционного поколения»[138]. Сам автор процитированных строк, филолог Константин Азадовский, на собственном горьком опыте узнал, во что обходится советскому человеку эпохи застоя научный и даже просто читательский интерес к литературе Серебряного века и Русского зарубежья. В 1980 г. он был осужден по делу, спровоцированному ленинградским управлением КГБ. «Фигуранту», говоря языком следователей, удалось получить доступ к протоколу обыска и, что очень важно, к одному из тех экспертных заключений Ленгорлита, о которых речь шла выше. В протоколе зафиксированы изъятые во время проведения обыска фотографии Гумилева, Есенина, Клюева, Цветаевой и других поэтов: «они изымали то, о чем их инструктировали (эмигрант Северянин, эмигрантка Цветаева)…» В экспертной оценке, посланной, как обычно, в ответ на требование следователей КГБ, упомянут ряд книг, имеющих отношение к нашей теме. Например: «Альбом-фотобиография “Цветаева”. Издание антисоветского издательства “Ардис” 1980 г., содержит фотографии литератора Гумилева, казненного за участие в белогвардейском мятеже в Кронштадте (! — А. Б.), и Ходасевича, эмигрировавшего из СССР и занимавшегося антисоветской деятельностью за рубежом. Предисловие к альбому Карла Р. Проффера (одного из основателей издательства «Ардис». — А. Б.) исполнены клеветническими измышлениями по поводу судьбы М. Цветаевой и причинах ее смерти после возвращения в Советский Союз. Альбом сопровождается комментариями злобных антисоветчиков В. Набокова и Н. Мандельштам (Надежды Яковлевны. — А. Б.)». Об уровне компетенции цензоров говорит хотя бы пассаж о Гумилеве: как известно, он не имел никакого отношения к восстанию в Кронштадте в 1921 г, а казнен за участие в так называемом «Таганцевском заговоре». Или: «Книга на немецком языке “Wir” (“Мы”) Е. Замятина, издана в ФРГ, 1975 г. Роман “Мы” — злобный памфлет на Советское государство. В СССР не издавался»; «Книга эмигрантки-антисоветчицы З. Гиппиус “Письма к Берберовой и Ходасевичу”. Издание антисоветского издательства “Ардис”, США, 1978 г.». Попал в поле зрения обыскивающих и Зощенко потому, главным образом, что в его повести «Перед восходом солнца», изданной «антисоветским издательством “Международное литературное содружество” в 1967 г. содержится реклама книг злобных антисоветчиков А. Авторханова, Р. Арона, И. Бродского, Н. Бердяева, Г. Струве и других».
Позднее К. М. Азадовскому удалось получить доступ к документу, неопровержимо свидетельствующему о том тотальном «библиоциде», который царил в советское время, а именно к «Акту», составленному «на основе заключения Леноблгорлита № 196 от 22.12.1980 г.». Специальная «тройка», руководствуясь этим «заключением», «…отобрала к уничтожению следующие материалы, не подлежащие ввозу и распространению в СССР, а также не представляющие научной ценности (далее перечислены 10 книг.). Материалы перед уничтожением сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем сжигания (подписи членов комиссии, везде курсив наш. — А. Б.)». Ничего нового, впрочем, в такой практике не было… Еще в декабре 1926 г. явно старорежимные, а потому еще немного наивные сотрудники Ленинградского губернского архивного бюро попытались причислить и приравнять к архивному материалу рукописи, запрещенные местным Гублитом к печати. Они полагали, что «гранки и тексты рукописей, как имеющие следы делопроизводства в виде ремарок сотрудников Гублита и штампов о выпуске в свет», должны обязательно передаваться на государственное архивное хранение. Запрошенный на этот счет Главлит РСФСР прислал такое поразительное и не оставлявшее никаких надежд распоряжение: «Гранки и тексты рукописей сдаче в Центрархив не подлежат, их следует уничтожать как секретный материал, утративший свое значение» (курсив наш. — Л. Б.). Цензоры, таким образом, совершенно серьезно полагали, что факт запрещения ими какого-либо текста означал одновременно и окончательную утрату его ценности для человечества. Самое страшное и непоправимое последствие этого решения состояло в том, что незамедлительному уничтожению подлежали все отклоненные рукописи художественных произведений. Замечу, что дореволюционная цензурная практика абсолютно исключала такое варварство[139].
Но не только писатели первой волны эмиграции, принадлежащие к Серебряному веку и оказавшиеся затем за рубежом, исключались из читательского обихода. В 70-е годы наступила пора писателей третьей волны, которых постигла та же участь. Книги десятков литераторов и ученых подверглись уничтожению, в «лучшем случае», заточению в библиотечные спецхраны (об этом уже заходила речь в параграфе «Библиотеки»). Они же фигурируют во многих документах, затребованных КГБ в связи с обнаружением их во время обысков. Главный «криминал», разумеется, состоял в хранении книг А. И. Солженицына, прежде всего, — зарубежного издания «Архипелага Гулаг», заслужившего такую оценку цензоров: «Книга диссидента А. Солженицына “Архипелаг Гулаг”. Советское правительство трактуется как диктаторский режим» и т. п. В «Нобелевской лекции» и «Письме вождям Советского Союза» они нашли «…измышления об отсутствии свободы творчества в СССР», «…в книге “Солженицын и другие” (ФРГ) пропагандируются произведения Солженицына и других диссидентов, оправдываются их отступнические действия. Диссиденты выдаются за лучших людей России, покинувших Союз потому, что они не могли выдержать жестокую духовную атмосферу».
Эксперты из Ленгорлита впадают в прокурорский тон именно тогда, когда речь заходит о книгах Солженицына и других «врагов советского народа»: «Такие бредовые сочинения, как “В круге первом”, “Бодался теленок с дубом” ярого антисоветчика Солженицына, “Голос из хора” Абрама Терца (это псевдоним известного антисоветчика, диссидента А. Д. Синявского), “Часть речи” Иосифа Бродского начинены самой беспардонной антисоветской клеветой, грубыми инсинуациями и дезинформацией, рассчитанной на политических недоучек и невежд».
Не раз попадала в поле зрения КГБ и цензоров книга товарища Солженицына по лагерной «шарашке» (см. «В круге первом»), переводчика, германиста-литературоведа Льва Копелева (1912–1997), вынужденного покинуть родину в 1980 г. (см. с. 97)[140].
Серьезные препятствия возникали на пути нечастых попыток издания произведений писателей первой волны эмиграции в самой «метрополии», чем занималась уже цензура «внутренняя». Советский читатель не должен был знать о Ходасевиче, Георгии Иванове, Набокове и других крупнейших поэтах и прозаиках Русского зарубежья. Исключения были сделаны буквально в считанных случаях — для Куприна и Цветаевой, потому, должно быть, что они «искупили свою вину», вернувшись на родину в конце 30-х годов, для Бунина (все-таки классик!), Саши Черного, поскольку его сатиры метили в «обанкротившихся растленных интеллигентов» и вообще «разоблачали пошлость буржуазного мира» (трафаретные высказывания советских литературоведов). Но и в этих немногих случаях творчество писателей было представлено преимущественно дореволюционными произведениями; тексты эмигрантского периода или вообще не были представлены, или обезображены до неузнаваемости с помощью усечений.
Первым совершил прорыв цензурной блокады Саша Черный. В 1960 г. вышел впервые после сорокалетнего забытья (поэт в 1920 г. эмигрировал) сборник его стихотворений в Большой серии «Библиотеки поэта», снабженный вступительной статьей Корнея Чуковского. Подготовка сборника шла с большими цензурными препятствиями. Начальник Ленинградского управления О. Соколов, получивший верстку сборника, сразу же сигнализировал в обком — «заведующему Отделом науки и культуры Богданову Г. А.»: «…Издание сборника целесообразно только при правильном отборе текстов. Однако издательство подошло недостаточно тщательно к отбору, включив в сборник стихотворения, печатание которых нецелесообразно (“Воробьиная элегия”, стр. 453, “Песня”, стр. 244, “Лошади”, стр. 184, “Амур и Психея”, стр. 264, и др.) В связи с вышеизложенным прошу Вашего указания»[141].
Правда — то ли сыграл свою роль авторитет Чуковского, то ли «Богданов Г. А.» решил не связываться, — сборник Саши Черного все-таки вышел в свет без купюр, на которых настаивал главный цензор Ленинграда. Другие случаи вмешательства в тексты заканчивались не столь благополучно…
Глава 6. Литературная жизнь Ленинграда
Литературные журналы
«Звезда»
Литературные журналы вообще, а ленинградские в особенности, всегда вызывали настороженный и, конечно, сугубо специфический интерес различных инстанций, надзирающих за чистотой идеологии. На протяжении десятилетий в этом играл большую роль августовский синдром 1946 года — память о разгроме ленинградских журналов…
«Черный август» не раз уже привлекал внимание исследователей и публицистов[142]. Московская ордынщина посчитала, что двух литературных журналов для опального и всегда находившегося под подозрением Ленинграда слишком много, — и одного вполне довольно. Между прочим, в самом начале века в Петербурге одновременно выходило свыше десятка «толстых» литературных журналов, не говоря уже о массе иллюстрированных еженедельников. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», принятое 14 августа, вместе с докладом Жданова, положило начало новой эпохи оледенения… Власть дала ясно понять, что она не потерпит никаких «идеологических шатаний»; затем был развязан жесточайший террор в отношении литературы и искусства. Нужно было дать «урок» творческой интеллигенции, почувствовавшей некоторое ослабление идеологической узды во время войны и в первый послевоенный год. Многие писатели разделяли иллюзию тех лет, надеясь на смягчение тоталитарного режима: «после войны всё будет по-другому…»
К семилетию 1946–1953 гг. вполне и даже в еще большей степени применимы слова А. И. Герцена, называвшего так называемое «мрачное семилетие» (или «эпоху цензурного террора») 1848–1855 гг. «моровой полосой в истории России». В отчете Отдела агитации и пропаганды Смольного за 1946 г. «с удовлетворением» отмечалось: «В свете решений ЦК ВКП(б) была пересмотрена деятельность Союза писателей, его секций. Ленинградские писатели единодушно осудили порочную практику редакций журналов “Звезда” и “Ленинград”, приведшую к аполитичности, к проникновению на страницы этих журналов пошлых и враждебных советской идеологии произведений. Из членов Ленинградской писательской организации были исключены пошляки Зощенко и Ахматова <…> Коммунисты Ленинграда правильно оценили постановление ЦК, понимая, что значение этого документа выходит за пределы литературы. Собрания показали, что писатели Зощенко и Ахматова и ранее вызывали справедливое негодование многих коммунистов, что никакой опоры в массах эти несоветские писатели не имели <…> Вредное влияние Зощенко и Ахматовой успешно преодолевается, и идеологически чуждые и ошибочные произведения на страницах “Звезды” больше не появляются»[143].
Еще бы… Каждая страничка журнала просматривалась буквально на просвет. Для него были выработаны особые условия прохождения в цензурных и партийных инстанциях. Не доверяя «ленинградским товарищам», допустившим такой «идеологический провал», в главные редакторы «Звезды» определен был А. М. Еголин, ортодоксальный критик и литературовед, занимавший высокий пост заместителя начальника Управления пропаганды и агитации ЦК. Ему ведь «и карты в руки»: именно он, вместе со своим непосредственным начальником, «выдающимся советским философом», академиком Г. Ф. Александровым, готовил материалы к постановлению ЦК и докладу Жданова. Сам Еголин в Ленинград приезжал очень редко; все материалы и верстки журналов доставлялись ему в Москву «спенпочтой». Таким образом, журнал проходил как минимум тройную цензуру: Ленгорлита, Обкома и ЦК партии. Справившись с поставленной задачей, окрасив «Звезду» в единственный разрешенный цвет — серый (впрочем, и другие журналы не отличались тогда разнообразием оттенков), Еголин через год передал бразды правления журналом критику В. П. Друзину; с 1957 г. пост главного редактора в течение 30 лет занимал прозаик Г. К. Холопов.
«Звезда», надо сказать, издавна, буквально с момента своего возникновения в 1924 г., постоянно вызывала неудовольствие властей и следовавшие затем строжайшие цензурные санкции — еще в 20—30-е годы[144]. Менее известна цензурная судьба журнала в «послеавгустовскую» эпоху.
Несмотря на суровые превентивные меры, журнал даже в страшное семилетие (1946–1953) умудрялся допускать отдельные «просчеты»: предугадать все извивы политики и идеологии редакция все же не могла… В ту пору вожди и герои, еще вчера прославляемые в печати, могли быть по указанию сверху, буквально на следующий день, объявлены «несуществующими». Так случилось, в частности, с А. А. Кузнецовым и П. С. Попковым, руководителями города в период блокады, осужденными и расстрелянными в 1950 г. по инспирированному «ленинградскому делу»[145]. В связи с упоминанием их имен изъятию подверглись два номера журнала за 1947–1948 гг. (подробнее об этой истории см. раздел «Блокадная тема в цензурной блокаде»).
В 1949 г. в 1-м номере начала печататься повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы», положившая начало известному циклу произведений писателя о врачах в годы Великой Отечественной войны. Однако — редчайший случай в журнальной практике — публикация была оборвана чуть ли не на полуслове: во втором номере, как и во всех других, обещанного «продолжения» читатель не увидел. Вместо него в 3-м номере появилось покаянное письмо автора. Вот что он вынужден был написать: «Моя повесть “Подполковник медицинской службы”, напечатанная в журнале “Звезда” (№ 1 за 1949 г.), была подвергнута принципиальной и справедливой читательской критике. Было указано (кем именно, понятно: под «читателями» подразумевались инструкторы агитпропа. — А. Б.), что главный герой повести доктор Левин живет замкнувшимся в своем ограниченном мирке, целиком погружен в свои страдания, что такой человек не имеет права называться положительным героем. Душевное самокопание ущербного героя, сложность его отношения к людям — всё это вместе взятое создало неверную картину жизни госпиталя гарнизона. Осознав эти ошибки, я не считаю возможным печатать продолжение повести в журнале “Звезда”, так как она нуждается в коренной переработке с первой главы до последней». Письмо Германа сопровождалось таким примечанием: «Редакция журнала “Звезда” считает своей ошибкой опубликование в № 1 за 1949 г. первых глав повести Ю. Германа “Подполковник медицинской службы”, в которой главный герой изображается отрешенным от жизни, ущербным, болезненно-раздражительным индивидуалистом, и прекращает печатание этого произведения»[146].
Искусство выкручивания рук доведено было тогда до совершенства, и кто сейчас бросит камень и в писателя, и в редакцию? В интервью, которое в 1992 г. Алексей Герман дал Льву Сидоровскому, он вспомнил об этой давней истории: «…Отец часто попадал в беду, и одна из них была связана с книжкой “Подполковник медицинской службы”. В ней отец в страшном сорок девятом, несмотря на предупреждения, что не сносить ему головы, открыто поднял (может быть, единственный из русских писателей) голос против официального в стране антисемитизма. И был страшно наказан: его исключали из Союза писателей, описывали имущество, он ждал ареста…»[147].
Истинная причина прекращения публикации повести в 1949 г. заключалась, конечно, вовсе не в злокозненности и «ущербности» главного героя повести доктора Левина, а исключительно в его неудобной и подозрительной фамилии, да и отчество малость подкачало — «Маркович». Как известно, в конце 1948 г. по указке сверху началась антисемитская кампания, получившая эвфемистическое название «борьбы с безродными космополитами». Разумеется, люди с сомнительными фамилиями стали вычеркиваться не только из жизни (убийство Михо-элса, расстрел писателей — деятелей Еврейского антифашистского комитета, позднее — «дело врачей» 1953 г., закончившееся, правда, не столь трагически), но даже из литературных текстов. Слава богу, дело все-таки не дошло до «Анны Карениной», в которой один из главных персонажей носит такую же фамилию; правда, как считают некоторые толстоведы, она должна произноситься как «Лёвин». На этом настаивал и В. В. Набоков в лекции о Толстом[148], но принятые в издательской практике правила (может быть, и напрасно) никак это не акцентируют. Полностью повесть Германа была выпущена отдельным изданием только в пору оттепели, в 1956 г., и тогда писателю позволили сохранить фамилию и отчество героя.
Через два года журнал снова проштрафился: ему, точнее одной лишь публикации в № 5 за 1951 г., полностью посвящена редакционная статья «Правды» под устрашающим названием «Против идеологических извращений в литературе» (1951, 2 июля). Тогда такие установочные статьи приравнивалась чуть ли не к постановлению ЦК, недаром она была перепечатана многими литературными журналами. Речь в нем шла о стихотворении украинского поэта Владимира Сосюры «Люби Украину», написанном еще в 1944 г., под которым «…подпишется любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем Петлюра, Бандера и т. п.». «В стихотворении Сосюры, — говорилось далее, — нет образа, бесконечно дорогого для каждого патриота, — образа нашей социалистической Родины, Советской Украины <…>. Не такую Украину воспевает в своем стихотворении В. Сосюра. Его волнует извечная Украина с ее цветами, кудрявыми вербами, пташками, днепровскими волнами». Приводя далее отдельные строфы стихотворения (вполне, надо сказать, невинные), «Правда» напомнила журналу «урок» 1946 г.: «Стихотворение В. Сосюры напечатано в журнале “Звезда” в переводе поэта А. Прокофьева, который к тому же является членом редколлегии журнала и отвечает за отдел поэзии<…> Опубликовав идейно порочное стихотворение “Люби Украину”, редакция журнала показывает, что она не сделала необходимых выводов из решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам». Заодно досталось поэту Николаю Ушакову, который, переводя то же самое «националистическое» стихотворение, допустил отсебятину, пытаясь «обелить» Сосюру. «В 1948 г. Н. Ушаков начало 5-й строфы перевел следующим образом:
Она за плетнем в тишине, вся в цветах, и в песнях, нет звонче которых…В 1951 г. этот текст был преобразован переводчиком в корне:
В богатстве колхозов она, вся в цветах, и в песнях, нет звонче которых…»В годы «хрущевской оттепели» идеологический диктат несколько смягчается: во всяком случае, в архиве Леноблгорлита не обнаружено сколько-нибудь значительных документов, касающихся «Звезды», если не считать замечаний по поводу нескольких нарушений ею так называемой «государственной» тайны (публикация военных, экономических и других сведений), уловленных цензорами на стадии предварительного контроля. Ситуация резко меняется под занавес краткосрочной «оттепели», в 1963–1964 гг., что вызвано известными разгромными речами и выступлениями Хрущева на встречах с художественной интеллигенцией, объединенными в его книге «Высокое призвание литературы и искусства» (М.: Изд-во «Правда», 1963). В июне 1963 г. состоялся пленум ЦК «Очередные задачи идеологической работы партии». Естественно, цензура тотчас же сделала стойку…
Первой ее жертвой стала «повесть в новеллах» М. Алексеева «Хлеб — имя существительное», предназначенная для № 1 «Звезды» за 1964 г. Редколлегия, судя по всему, посчитала полученную рукопись большой удачей для журнала. Более того: в последнем (12-м) номере за 1963 г. на последней странице она поместила анонс, в котором говорилось: «…Отлично написанные характеры, выразительный язык, идейная глубина и целеустремленность повести — всё это, по мнению редакции журнала “Звезда”, делает повесть М. Алексеева достойной высокой награды — Ленинской премии». В связи с такими достоинствами повести, журнал официально выдвинул ее на указанную премию. Новеллы Алексеева, действительно, написаны живо и даже, по тем временам, довольно смело, — в духе нашумевшей за несколько лет до этого очерковой книги Валентина Овечкина «Районные будни». Но случилось по-другому… В начале января 1964 г., когда верстка номера уже давно должна была пройти предварительную цензуру и быть «подписана к печати» (согласно существующим правилам, разрешительная виза ставилась минимум за 2–3 недели до выхода очередного номера в свет, то есть примерно в середине предшествующего месяца), цензор В. Ф. Липатов резко воспротивился ее публикации и не подписал верстку январского номера. «Во многих новеллах этой повести, — доносил он начальнику Ленгорлита Арсеньеву, — содержится критика на колхозное строительство (так! — А. Б.) в прошлом и настоящем, на мероприятия властей и партийных органов, описывается в мрачных тонах жизнь крестьянина. Такой подбор и изложение негативного материала перерастает рамки критики и в целом начинает работать не на нас, а против нас. Резко отрицательный материал содержится в новелле “Председателевка” (с. 22–28). Здесь и описание того, как огульно раскулачивали крестьян в период коллективизации, и как колхозникам навязывают против воли их председателей, и о номенклатурных работниках всех масштабов <…> В новеллах “Астрономы” и “Вечный депутат” рисуется картина страшного голода в деревне 1933 г. (приводит обширные цитаты. — А. Б.) <…> Новелла “Исповедь отца Леонида” (с. 48–51) с проповедью необходимости веры для человека, с поповскими рассуждениями о диалектике конечного и бесконечного, с доказательствами того, что религия будет еще долго на свете, так как молодежь не получает нужной духовной пищи и т. д. — очень сомнительная по своей ценности и может принести не пользу, а только большой вред <…>».
В целях, так сказать, «объективности» повесть поручено было прочитать также цензору Т. И. Панкрееву, который 8 января полностью солидаризовался со своим коллегой: «По указанию начальника отдела мною параллельно со старшим цензором Липатовым В. Ф. прочитана повесть Михаила Алексеева “Хлеб — имя существительное” (в верстке журнала “Звезда”, № 1 за 1964 г.) <…> В своих новеллах <автор> нарисовал потрясающую картину современной деревни, и эта картина вызывает серьезные возражения политического характера <…> Повесть, на мой взгляд, ни в какой мере не способствует укреплению колхозного строя. Наоборот, она может сыграть роль “ушата холодной воды”, обрушенного на головы людей, воодушевленных решениями декабрьского пленума ЦК (он был посвящен очередному подъему сельского хозяйства. — А. Б.). История деревни “Выселки”, описанная в повести, это история катастрофического разорения крестьян. Коллективизация, как утверждает автор, вызвала “море людских слез” (с. 37) <…>». Приводит он еще один «неопровержимый» довод, делающий невозможным публикацию повести: «“Выселки” рисуются страшной глухоманью… Между тем, они находятся в Саратовской области, в непосредственной близости от величайших в мире гидроэлектростанций (курсив наш. — А. Б.). И в этих-то условиях автор позволяет “героям” своей повести полемизировать с важнейшими ленинскими положениями о строительстве коммунизма. Чего стоит, например, хотя бы такая возмутительная реплика: “Выходит, наши выселки есть советская власть минус электрификация” (с. 53). Видимо, не случайно и то, что вопреки установившейся у нас транскрипции слова “ Советская власть” везде пишутся с маленькой буквы (с. 38, 53, 76) <…> Партийные органы в повести выглядят в роли душителей народной демократии (например, решение о выборах председателей колхозов) либо в роли главных очковтирателей. Ну и не мудрено, что для такой роли автор подобрал секретарю РК КПСС довольно символичную фамилию “Бивень”<…>». И, наконец, последний убийственный довод, столь часто используемый цензурой, — отсутствие «оптимизма»: «Слов нет, тяжело пришлось женщинам, потерявшим мужей в годы войны. Глубокие душевные раны у многих из них еще не зарубцевались по сей день. Но по прочтении повести невольно возникает вопрос: зачем ворошить прошлое, травить эти кровоточащие раны, не лучше ли помочь людям преодолеть постигшее их горе? Мрачная концовка делает произведение в целом глубоко пессимистическим. Считаю, что подписывать к печати повесть М. Алексеева нельзя. О ее содержании необходимо информировать вышестоящие партийные органы»[149].
Оба отзыва, написанные, как заметит читатель, весьма коряво, по жанру и стилистике скорее напоминающие политические доносы, поставили под удар январский номер 1964 г. Подписанный к печати только 21 января, он вышел с опозданием на месяц. Повесть все же появилась в нем: по-видимому, редакции удалось отстоять ее в партийных инстанциях, за которыми всегда оставалось последнее слово (к сожалению, в бывшем партархиве не удалось найти документальных следов этой истории: зачастую всё решалось по телефону или при личных встречах.). Конечно же, кое-чем пришлось пожертвовать… Убрано было «море слёз» в период коллективизации, исчезла, разумеется, «возмутительная реплика» деда Капли (вариант местного деда Щукаря) насчет электрификации, в которой цензор увидел пародирование сакрализованной ленинской формулы коммунизма. «Символичная фамилия» секретаря райкома «Бивень» заменена его чином, — «Первый», строчная буква в опять-таки сакральном сочетании «Советская власть» заменена прописной, сделаны кое-какие купюры и т. д. В связи с этим, как можно понять, редакция отказалась от своего первоначального замысла — выдвижения повести на соискание Ленинской премии. Хотя она и вышла в Москве миллионным тиражом в конце года (в серии «Роман-газета») и много раз издавалась впоследствии, Алексеев премию не получил; он, правда, был награжден спустя 12 лет (1976 г.), но другой премией (Государственной) и за другое произведение — роман «Ивушка неплакучая». Между прочим, во многих московских переизданиях повести мы обнаружим точно такие же купюры, что и в первой публикации, появившейся в «Звезде»: возможно, это совпадение, но, скорее всего, московские цензоры получили соответствующий сигнал от своих «ленинградских товарищей»…
В 1964 г. — последнем году «оттепели» — внимание цензоров снова привлек Юрий Герман. Дело в том, что по установленным еще с 20-х годов правилам малейшее упоминание о деятельности «чекистов» и созданной ими системе лагерей могло проникнуть в печать только с благословения их самих. Дабы уберечь журнал от неприятностей, главный редактор журнала 14 сентября 1964 г. напрямую, минуя цензуру, обратился к начальнику Ленинградского управления КГБ В. Т. Шумилову. Имеет смысл полностью привести сейчас этот «документ эпохи»:
«Уважаемый Василий Тимофеевич!
В 10, 11 и 12 номерах журнала “Звезда” публикуется новый роман Ю. Германа “Я отвечаю за всё”. Это завершающая часть трилогии, начатой романами “Дело, которому ты служишь” и “Дорогой мой человек” (произведениями, завоевавшими признание критики и читателей). Один из главных положительных героев романа — чекист Август Штуб, человек, в полную меру сил противостоящий нарушениям социалистической законности. Тов. Герман заверил редакцию, что по всем главам романа, связанным так или иначе с работой органов госбезопасности, он консультировался с ответственными работниками Управления КГБ и сделанные ими замечания учел.
В настоящее время 10-й номер журнала находится уже в Горлите, но товарищи из Горлита хотели бы иметь официальную визу Вашего Управления. Редколлегия журнала полагает, что: а) в части, касающейся разведывательной работы Штуба в тылу врага, никакие секретные методы не раскрываются, ибо там сказано об этом гораздо меньше, чем в десятках книг, уже выпущенных Воениздатом на эту тему (“Библиотека военных приключений”); б) в части, касающейся работы Инны Горбанюк врачом в системе ГУЛАГа, также нет ничего, выходящего за пределы острой критики, какой партия подвергла клику Берия (на эту тему опять-таки во многих произведениях советской литературы последних лет сказано гораздо больше — достаточно прочесть одни только 7-е номера за 1964 г. “Октября”, “Нового мира”, “Москвы”); в) в части, касающейся непосредственно работы Штуба на посту нач. областного управления НКВД, создан образ честного коммуниста, чекиста школы Дзержинского; этот образ противопоставлен бериевским выкормышам и является успехом писателя. Именно Штуб хранил честь чекистского имени даже в самые трудные годы.
В связи с изложенным редколлегия “Звезды” очень просит Вас по возможности ускорить прочтение корректуры 10-го номера и дать необходимую для Горлита визу: задержка хотя бы на один день грозит срывом графика журнала, уже готового к печати. Сейчас нам каждый час дорог. Главный редактор журнала “Звезда” Г. Холопов».
В свою очередь начальник Леноблгорлита также обратился в КГБ:
Сов. секретно.
«4 сентября 1964 г.
Начальнику Ленинградского управления КГБ тов. Шумилову В. Т.
В представленном в Леноблгорлит романе Ю. Германа “Я отвечаю за всё” (журнал “Звезда”, № 10) содержатся сведения о деятельности органов Госбезопасности, агентурной разведке в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны (2-я глава). В третьей главе романа раскрывается режим лагерей для политических и уголовных заключенных и противозаконные действия лагерного руководства.
Исходя из вышеизложенного, прошу Вас ознакомиться с версткой романа и дать свое заключение о целесообразности публикации указанных сведений. Начальник Управления Ю. Арсеньев».
«С текстом корректуры первой части романа Ю. Германа “Я отвечаю за всё”, касающегося органов КГБ, согласны», — отвечал начальник ленинградского КГБ Холопову, добавив при этом: «Для того чтобы ускорить рассмотрение последующих частей романа, просим выслать их нам своевременно»[150].
Однако, судя по всему, другие части романа Германа (он печатался с 10 по 12 номера журнала за 1964 г. и с очень показательным, почти полугодовым перерывом, в NqNq 5 и 6 за 1965-й) проходили с гораздо большими затруднениями. Так, в докладной записке цензора Березиной на имя начальника Леноблгорлита, датируемой маем 1966 г., говорилось: «Серьезной переработке были подвергнуты главы романа Германа “Я отвечаю за всё” (№ № 5–6, 1965 г.), в которых речь шла о деятельности органов КГБ в годы культа личности Сталина, о многочисленных репрессиях, о тех зверствах и истязаниях, которым подвергались заключенные старые большевики со стороны работников КГБ. Эти главы были посланы в органы КГБ, по указанию которых текст был переработан»[151].
Это и понятно: после свержения Хрущева начинается медленный попятный процесс ресталинизации, «лагерную тему», как и вообще тему репрессий, велено было свернуть. «Июльские номера журналов» за 1964 г., на которые в качестве «прецедента» ссылается главный редактор журнала («Октябрь» напечатал в нем «Повесть о пережитом» Б. А. Дьякова, «Новый мир» — роман Ю. О. Домбровского «Хранитель древностей», «Москва» — повесть А. И. Алдана-Семенова «Барельеф на скале»), оказались фактически последними, в которых присутствует эта табуированная затем тема. Доводы идеологических контролеров были стандартны: «Сколько можно? Партия сама осудила культ личности на XX съезде КПСС, и хватит…» Такая установка действовала на протяжении двадцати лет.
* * *
Вместе с наступлением застоя вполне закономерно оживляется и затихшая на время, в годы оттепели, ленинградская цензура. Простор для ее деятельности расширяется. Цензор А. Березина, «курировавшая», как можно понять, «Звезду», составила обширную докладную записку, снабженную таким примечанием: «Направлена справка в ОК КПСС. Начальник Леноблгорлита Арсеньев. 27. 05. 1966»[152]:
«В 1965–1966 гг. в контролируемых материалах “Звезды” были заверстаны произведения, которые, по согласованию с Обкомом КПСС, были либо полностью отклонены, как идейно порочные, либо переработаны. В необходимых случаях по некоторым материалам получены консультации и разрешения органов КГБ.
В ряде материалов были сделаны отдельные вмешательства перечневого[153] или политическо-идеологического характера.
Так, в № 4 за 1966 г. был заверстан рассказ Федора Абрамова “На задворках”, который построен исключительно на отрицательном материале. В рассказе идет речь о быте нашей советской деревни, однако автор показывает только теневые стороны этого быта, его “задворки”… В рассказе нет ни одного положительного персонажа. Все они либо пьяницы, либо взяточники, как председатель сельсовета, председатель колхоза, начальник лесопункта и пр. Офицер Советской Армии показан подлецом, соблазняющим школьницу, и скрывается. По согласованию с ОК КПСС рассказ был из номера изъят, как идейно порочный»[154].
Заметим, что «Звезда» первой стала печатать рассказы и очерки Федора Абрамова, обратившегося от критики и литературоведения к художественному творчеству. В № 1 за 1961 г. журнал опубликовал цикл рассказов «На Северной земле» («В Питер за сарафаном», «Собачья гордость» и др.), в № 4 за 1962-й — рассказ «Последняя охота» и т. д.[155].
«Существенной переработке, — продолжает цензор, — были подвергнуты следующие материалы:
Михаил Жестев. “Глинские пороги”. № 9, 1965 г. По согласованию с ОК КПСС из очерка были изъяты многочисленные отрывки, в которых принижалась роль партийных органов на селе, проводилась мысль об их ненужности <…> (Далее идет приведенный выше пассаж, касающийся романа Ю. Германа. — Л. />.).
В различных материалах журнала были изъяты следующие сведения, которые не подлежат открытому опубликованию:
Сведения о спецпереселенцах и сам термин “спецпереселенцы” — Г. Холопов. “Докер”. Роман.
Обнародован факт чрезвычайного происшествия в армии — предание суду военнослужащего — Ставский. “Из военных дневников”[156].
Упоминание Синявского А. — Дм. Молдавский. “Об однотомнике Пастернака”[157].
Употребляется термин “Германия” — Марк Еленин. “Тысячи отчаянных километров”. Повесть».
Последнее «вмешательство» выглядит, надо сказать, особенно абсур-дистски: слово «Германия» применительно к послевоенным событиям было изъято из лексики — требовалось писать «ГДР» или «ФРГ». Не избежал, как мы видим, «внимания» цензора даже сам главный редактор журнала Г. К. Холопов. Его роман «Докер», печатавшийся в № 2 за 1965 г., проходил с большим трудом; он вызвал претензии начальника ленинградского КГБ, приславшего в Ленгорлит такой отзыв о романе (видимо, ему он был послан для «предварительной консультации»):
«Сов. секретно. 14 января 1965 г.
<…> В период коллективизации семьи раскулаченных направляются на спецпоселения <…>. В романе “Докер” Г. Холопова все спецпо-селенцы выглядят пострадавшими незаслуженно. Видимо, было бы более правильно показать и тех, кто активно боролся против Советской власти. По нашему мнению, автор создал художественное произведение, в котором сгустил мрачные краски, односторонне отразил события этого периода. Следовало бы порекомендовать Г. Холопову более объективно отобразить сложность того периода.
Начальник Управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области В. Шумилов»[158].
Роман был, в результате такого «совета», изрядно пощипан, кое-что пришлось смягчить, убрать термин «спецпереселенцы» и т. п. Затем он не раз печатался отдельной книгой, но, судя по всему, также в несколько урезанном виде.
Касаться опасной темы запрещалось до конца 80-х годов. Буквально накануне перестройки, в 1984 г., запрету подвергся сборник рассказов Льва Куклина «Динамитный патрон», который, «…по согласованию с Обкомом КПСС, не может быть разрешен к изданию как не отвечающий идейно-политическим критериям, поднимающий решенные нашей партией вопросы культа личности»[159].
Еще боле сложной становится судьба журнала в годы «зрелого застоя», особенно после пражских событий 1968 г. «Сомнения» вызвала, например, рукопись очерка старого журналиста И. Пешкина, автора ряда популярных книг по истории металлургии в России (в частности, о выдающемся русском металлурге П. П. Аносове). Очерк «Начало», посвященный строительству сталелитейных заводов в годы первых пятилеток, журнал предполагал напечатать в № № 6–7 за 1978 г. Ленгор-лит, чтобы обезопасить себя, послал ее на рецензию в Москву, в Институт марксизма-ленинизма. Тот, в свою очередь, высказал ряд критических замечаний. В частности, такое: «На с. 51–52 нельзя давать в таком виде впечатления автора от поездки в колхоз. Из текста вытекает, что положение в деревне было таким же безотрадным, как и в дореволюционное время. В этом же месте следует снять фамилию американской журналистки Анны Луизы Стронг, участвовавшей в этой поездке, поскольку позже она проявила себя как антисоветская деятельница маоистского направления». П. Жур, заместитель главного редактора «Звезды», подтвердив получение этой рецензии, сообщил в Лен-горлит, что «все замечания ИМЭЛ при ЦК КПСС учтены, изменено название» (вместо «Начало» — «На заре индустриализации»)[160]. В очерках, опубликованных в указанных выше номерах, вообще исчез рассказ о поездке в колхоз вместе с именем Анны Луизы Стронг, «прогрессивной американской журналистки, друга Советского Союза», подпавшей в 60-е годы под влияние идей Мао Цзедуна и, естественно, преданной остракизму[161].
Обкому партии, видимо, очень не нравился Александр Вертинский. Петр Жур, занимавший пост заместителя главного редактора и часто имевший дело с цензурой, сообщал начальнику Ленгорлита: «По указанию Обкома КПСС из готового № 5 «Звезды» за 1979 г., представленного на контроль, были исключены воспоминания Н. Ильиной “Города свои и чужие”. Вместо них в номер вставлено окончание уже представлявшейся на контроль документальной повести К. Полькена и X. Сцепоника “Омерта — закон молчания”. Ввиду того, что в результате переверстки техническое состояние номера не полностью соответствует требованиям Управления (некоторые страницы занумерованы от руки, есть небольшие помарки), прошу Вас в виде исключения разрешить принять номер в таком виде, чтобы не задерживать выход журнала, уже значительно запаздывающего против графика редакции и типографии»[162].
Речь шла о воспоминаниях Натальи Иосифовны Ильиной, известной писательницы, репатриировавшейся из Китая в послевоенные годы и встречавшейся с Вертинским в Шанхае, где она жила в 30-е годы. Об этом и шла речь в ее воспоминаниях, запрещенных для публикации в «Звезде». Интересно, что Ильина вскоре беспрепятственно опубликовала их в московских изданиях сначала под безличным названием, а затем и прямо — «История одного знакомства. Об А. Н. Вертинском» (М., 1987)»[163].
Крайнее раздражение Ленгорлита вызвала верстка 3-го номера «Звезды» за 1981 г. Заместитель начальника Г. К. Данилов направил 22 января «Информацию о некоторых замечаниях по журналу “Звезда” № 3», адресованную «зав. отделом культуры ОК КПСС тов. Пахомовой Г. С.». Претензии вызвали, прежде всего, воспоминания литературного критика Дмитрия Терентьевича Хренкова (в то время главного редактора «Невы») «Осень в Переделкине», посвященные, в основном, встречам и беседам с Н. С. Тихоновым. Вот что, в частности, сообщалось: «Автор записок часто и широко цитирует слышанные им высказывания Н. С. Тихонова, которые, как можно судить по тексту, носили в ряде случае доверительный характер и потому публикация их требовала осторожности, внимательности. А в некоторых случаях соответствующего пояснительного комментария. Записки содержат положения, которые односторонне рисуют моменты творческой биографии писателя»[164].
В качестве примера приводится разговор с Тихоновым, в котором он объясняет причины, по которым он не может в настоящее время написать правдивую книгу о блокаде Ленинграда (см далее раздел «Блокадная тема в цензурной блокаде»).
«На стр. 165, — продолжал цензор, — т. Хренков некритически цитирует высказывания некоторых литературоведов, которые утверждали, что “Киплинг и Гумилев стояли у изголовья Тихонова, когда он во сне видел первую книгу своих стихов”». Борьба с властью за хотя бы упоминание имени расстрелянного поэта шла тогда в печати с переменным успехом (о публикации его наследия не могло быть и речи). В нашем случае «Звезда» отстояла текст, отделавшись от цензора вставкой только одного слова после имени Гумилева — мол — которое должно было подвергнуть сомнению утверждения «некоторых литературоведов» и несогласие автора с ними.
Такой же «криминал» наблюдатели обнаружили в очерке В. Баевского «Из встреч с Н. И. Рыленковым»: «На с… 207 приведена объективистская характеристика Гумилева: “Гумилев не успел развиться… В ‘Огненном столпе’ он только достиг подлинной зрелости… Вот переводчик он был замечательный. Блестящий… создал эпоху в истории перевода”». И снова редакция отстояла этот текст, пожертвовав только последней фразой.
Крайне недоволен был зам. начальника Ленгорлита пассажем очерка Хренкова «Осень в Переделкине», повествующем о том, какая буря разразилась в связи с появлением в печати нашумевшей в свое время поэмы А. Т. Твардовского «Теркин на том свете». Хотя она и была опубликована за 18 лет до этого, в 1963 г., но в дальнейшем признана чуть ли не «клеветнической» и не публиковалась в сборниках поэта: впервые после перерыва она вошла в его том «Поэмы», изданный только в 1988 г.: «На стр. 166, — сообщает цензор, — т. Хренков цитирует письмо Н. С. Тихонова в редакцию “Библиотеки поэта” по поводу первой публикации поэмы Твардовского “Теркин на том свете”, в котором говорится: “На предстоящей редколлегии, несомненно, встанет вопрос о составе поэм, входящих в книгу А. Твардовского, — там нет поэмы “Теркин на том свете”. Вокруг этой поэмы в свое время было много споров, не утихших и до настоящего времени. До сих пор у разных критиков отношение к ней разное. После раздумья я, отнюдь не принадлежащий к поклонникам этой поэмы, должен был, однако, согласиться с тем, чтобы эта поэма была включена в состав поэм А. Твардовского. В предисловии к книге можно в своем месте остановиться на расхождениях критики по поводу поэмы, а в примечаниях к тому поэм подробно указать на разность отношений и привести наиболее существенные отклики… Поэма широко обсуждалась и не нуждается в новой дискуссии, тем более что и автор выразил свое отношениие поставив ее в прижизненное издание поэм”. Публикация выдержек из служебной переписки Тихонова, на наш взгляд, наряду с этическими вопросами, видимо, нецелесообразна еще и потому, что широкому читателю, не знакомому с характером дискуссии специалистов, непонятна суть вопроса».
У цензоров надо сказать, были давние счеты с этой поэмой еще и потому, что сами они выведены в ней в крайне неприглядном и «компрометирующем» их контексте. Вторая книга знаменитой книги А. Т. Твардовского о Василии Теркине — «Теркин на том свете» — проходила в цензурных инстанциях с огромнейшим трудом. Напечатана она была (как и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына) лишь благодаря Н. С. Хрущеву и его зятю Алексею Аджубею, редактору «Известий»: она и опубликована впервые в этой газете 18 августа 1963 г.[165]. Сам Твардовский, тогда еще главный редактор «Нового мира», готовивший параллельную публикацию поэмы в «своем» журнале (напечатана она была в № 8 журнала за этот же год), в этот день оставил такую запись в своем дневнике: «Появление ее даже подготовленным к этому людям представляется невероятным, исключительным, не укладывающимся ни в какой ряд после совещаний и пленума. Третьего дня Виктор Некрасов исключен из партии одним из киевских райкомов[166]. Может быть, появись “Теркин” днем раньше, этого не случилось бы. Впрочем, у нас все возможно и все необязательно. “Известия”, столько гадившие “Н. М.” (“Новому миру”. — А. Б.), затравившие Некрасова, вчера “с любезного разрешения журнала” публикуют эту поэму. Цензор С. П. Оветисян — сперва от себя лично, затем от имени бывшего главного цензора, ныне председателя Комитета по делам печати Романова, слезно просил меня опустить “одно слово” <…> Трудно еще представить, во что мне, журналу, обойдется это словечко. Но уже получили! “Над нами же все будут смеяться”. Я забыл, что только что говорил о безотносительности этих строк насчет цензуры к ним, действующим представителям этого ордена: “Ах, уж столько от вас плака-но, что не грех немного и посмеяться”. — “Да ведь цензуры в нашей стране нет, А. Т.” — “Тем более, зачем же вам брать на свой счет то, что относится к “загробным” установлениям? Почему редактор “Известий” не взял на свой счет все, что там есть о “редакторе”. — “Да ведь там об одном лице, а тут о целой системе. Бедняга не заметил, что пользуется словом уже подорванным, уже несерьезным после прокатки его в тексте с большой буквы. Впрочем, я слукавил под конец и сказал на всякий случай, что и хотел бы, может быть, но не могу ничего тронуть в поэме после чтения “где и перед кем — вы знаете”. — “Но ведь были же замечания у Никиты Сергеевича?” — “Были по одной строфе, и они мной учтены”»[167].
Какое же «слово» (точнее — несколько слов) так слезно просил убрать цензор из поэмы? Обиделся он, очевидно, на строки, затронувшие «честь цензорского мундира». Потусторонний «Главк» распределяет номенклатурных дураков по соответствующим «кругам».
Дуракам перетасовку Учиняет на постах. Посылает на низовку. Выявляет на местах. Тех туда, а тех туда-то — Четкий график наперед. — Ну, а как же результаты? — Да ведь разный есть народ. От иных попросишь чуру, И в отставку не хотят. Тех, как водится в цензуру — На повышенный оклад. А уж с этой работенки Дальше некуда спешить… Все же — как решаешь, Теркин? — Да как есть: решаю жить.Цензоры не забыли нанесенной им обиды. На возглавлявшийся Твардовским «Новый мир» сразу же посыпался град репрессий. Поэт записывает 4 ноября в своем дневнике: «Это, конечно, уже “личная” месть цензуры, которую она в первую очередь обрушила на журнал… прицепки, помехи, укусы при всякой малой возможности»[168].
Сама же поэма после снятия в 1964 г. Хрущева перепечатывалась в «застойные» годы лишь дважды: она вошла в 5-томник Твардовского в 1967 г. и в посмертный 6-томник 1978 г. Не удалось, несмотря на все старания, включить ее ни в один из томов серии «Библиотека всемирной литературы» (1968 г.), ни в другие издания. Даже в начале перестройки, в 1986 г., вышедшие в серии «Библиотека поэта» «Стихотворения и поэмы» А. Т. Твардовского остались без этой замечательной поэмы.
«Вызвала сомнение» цензора «необходимость цитирования (стр. 172) неопубликованного стихотворения Тихонова “И новый голос мне шептал…”, которое навеяно событиями, связанными с периодом культа личности И. В. Сталина», о котором велено говорить как можно меньше:
И новый голос мне шептал: «Держись! Скажи о всем, О чем молчали годы!…» Кому-то я рассказываю жизнь, И кажется, Что слушают народы!Но даже обком посчитал, что цензор перегнул палку, и разрешил оставить это, в общем-то невинное, стихотворение.
И совсем уже курьезно звучит такой упрек «Звезде»: «На стр. 173 приводится рассказ Н. С. Тихонова (в кругу знакомых) о том, что Д. Неру был якобы влюблен в отдаленную родственницу А. С. Пушкина — жену вице-короля Индии». Такое «принижение» образа великого друга советского народа, каким был Неру, не прошло. В опубликованном тексте: «Тихонов был в ударе. Рассказывал, будто один из общественных деятелей Индии был влюблен в отдаленную родственницу Пушкина».
Даже в насквозь ортодоксальной статье, призывавшей художников слова «…противопоставлять подрывной идеологической пропаганде нашего классового противника, его злобной клевете на социализм непоколебимую сплоченность и идейное единство своих рядов, глубокую убежденность и политическую бдительность», был найден просчет: «В статье А. Иезуитова “Идеологическая борьба и литература” на стр. 213 названы писатели, чье творчество пользуется сейчас всемирной известностью. Среди них указано имя Ф. Искандера — одного из активных участников самиздатовского журнала “Метрополь”». Имя Фазиля Искандера исчезло из ряда писателей, представляющих литературу «народов СССР», — Ч. Айтматова, Н. Думбадзе и других.
До полного абсурда доводилась «охрана гостайн», о которой речь шла выше в специальной главе. В 1966 г. существенной «купюризации» подверглась повесть Эльмара Грина «Жил-был Матги», поскольку в ней помещены сведения, «не подлежащие открытому опубликованию»: «Сведения об аэродромах, наличии авиационных заводов на Урале и даже данные, которые в совокупности дают возможность определить конкретное лицо военнопленного страны, воевавшей против СССР»[169].
Множество документов такого рода отложилось в архиве самой редакции «Звезды». Она, согласно заведенному правилу, должна была получить санкцию КГБ на публикацию сведений, которые, с точки зрения редакторов, могли вызвать претензии со стороны контролирующих инстанций, даже в том случае, когда речь шла о далеком прошлом… Чтобы обезопасить себя, редакция то и дело посылало запросы в управление КГБ, имевших стандартное начало: «Редакция журнала “Звезда” просит Вас ознакомиться с текстом статьи (или рассказа, повести и т. д. — А. Б.) и дать заключение о возможности ее публикации»[170].
К ним прилагались иногда опять-таки стандартно звучащие «справки»: «Географические названия в повести (такой-то) вымышлены и не имеют никакой реальной привязки». В № 8 за 1976 г. журнал печатал повесть Андрея Битова. Редакция сочла нужным предупредить возможные претензии, сопроводив посылаемую на контроль верстку такой гарантией: «Редакция журнала “Звезда” настоящим свидетельствует, что в повести А. Битова “Улетающий Монахов” эпизод с гибелью людей при строительстве объекта в г. Ташкенте, как и вся эта повесть, является авторским вымыслом, художественными построением, под которым не имеется никакой сколько-нибудь непосредственной документальной и фактографической основы».
Массу замечаний вызвала верстка № 6 журнала за 1983 г., которая целиком была возвращена «…в связи с тем, что отдельные материалы не полностью подготовлены к печати». Велено исключить информацию «Из редакционной почты» (стр. 208–209): номер заканчивается на 206-й странице: указанный раздел в нем вообще отсутствует (к сожалению, этот «криминальный» текст в архиве не сохранился). Во-вторых, приказано решить «вопрос о возможности публикации на страницах журнала статьи А. Ваксберга “День разводов”». Очерк все-таки помещен в рубрике «Заметки писателя» (с. 162–171), причем редакции удалось отстоять «опасные места», в частности, статистику разводов. «Кривая разводов, — писал публицист, — неумолимо и угрожающе ползет вверх, ни разу за последние 30 лет не споткнувшись». Размышляет он о социальных причинах разводов, но, возможно, в первоначальном, доцензурном, тексте очерк звучал более остро…
В-третьих, «несвоевременной» показалась публикация подборки стихов балкарского поэта Кайсына Кулиева (1917–1985), в частности, стихотворения «Я помню». Его стихи предписывалось «в представленном виде согласовать с партийными органами». Видимо, цензуру насторожило то, что многие стихи Кулиева посвящены судьбе его народа, целиком высланного (как и ряда других народов Северного Кавказа и Крыма) в Казахстан и Сибирь в феврале 1944 г. по приказу Сталина. Стихотворение «Я помню» в цикле стихов Кайсына Кулиева, все-таки опубликованном «Звездой», в журнале отсутствует: как можно понять, произошло это после «согласования с партийными органами».
Несмотря на то что подвергшиеся геноциду народы и были реабилитированы, за ними, тем не менее, тянулся (и тянется до сих пор!) шлейф подозрений. Многие книги писателей и поэтов этих народов на долгие годы погрузились в спецхраны. Вместе с ними оказался там же ряд произведений русских авторов, неосмотрительно рисовавших в 20— 30-е годы (тогда это было разрешено) кавказские события XIX века как проявления героической борьбы «горских народов» за свою независимость, как сопротивление «колониальной политике царизма» (книги Бориса Пастернака, Веры Пановой и других)[171].
И, наконец, из этого же номера журнала была изъята статья И. Эвен-това «В. Маяковский и М. Зощенко» (см. об этом подробнее в разделе «Цензурная судьба Зощенко»).
Последнее цензурное дело возникло незадолго до перестройки — в связи с публикацией романа Г. Николаева «Город без названия». Лен-горлит возвратил верстку журнала № 10 за 1983 г. — «…в связи с тем, что исправления по тексту проведены Вами не полностью: оставлены сведения об использовании труда осужденных на крупной гражданской стройке (стр. 56, 59) и не учтены замечания ОК КПСС. В соответствии с требованиями “Единых правил печатания несекретных изданий” Вам необходимо представить новые оттиски, без правки, изменяющей содержание текста»[172].
Между прочим, автор романа, многолетний сотрудник журнала и первый выбранный главный редактор «Звезды» (1988), опубликовал в 2001 г. чрезвычайно интересные и насыщенные воспоминания, в которых поведал о закулисной стороне журнального дела, о тех сложных и драматических ситуациях, которые возникали в среде редакции в годы перестройки[173]. Они живо рисуют обстановку в журнале, борьбу различных «партий», «неоднозначную», как принято теперь говорить, фигуру главного редактора Холопова. Для будущей полной истории «Звезды» они представляют самый непосредственный интерес. Приводит он и ряд цензурных эксцессов, возникавших на стадии внутрире-дакционной жизни и не доходивших до самого Горлита. Г. Ф. Николаев вспоминает и о своих мытарствах, вызванных замечаниями обкома партии и Горлита: «Их было так много, что вначале я, видавший на своем веку всякое, просто оторопел. Действительно, хоть снимай весь роман».
Кое-чем ему все-таки пришлось пожертвовать, но вдумчивый читатель, привыкший читать между строк, конечно, все же понял, о каких «рабочих» на сибирских стройках идет речь.
Для сюжета нашей книги большой интерес вызывает рассказ Г. Ф. Николаева о Викторе Конецком, резко и прямо выступившем на встрече в Обкоме партии с так называемым «активом» Ленинградской писательской организации 28 марта 1978 г. Вел его всесильный 1-й секретарь Обкома Г. В. Романов. «Целью этого чисто ритуального мероприятия было показать, кто здесь хозяин. Ну и заслушать самоотчеты о проделанной работе, своего рода рапорты о достижениях. И конечно же, дать партийное напутствие, благословить писателей Ленинграда на новые творческие свершения». Выступивший Конецкий «…звенящим голосом, сильно грассируя, долбал цензуру вообще, а ленинградскую в особенности, заодно с ней и обкомовских стражей, работающих в одной упряжке с цензурой и, повернувшись к Холопову, сказал примерно следующее: вот только что выступал главный редактор “Звезды” и ни единым словом не обмолвился о самом больном, о том, что цензура ему жить не дает, давит, душит. А почему не обмолвился? Да потому, что скажи он про цензуру, вы его сегодня же снимете с работы. Я сейчас готовлю для “Звезды” новую повесть и не уверен, что ее пропустят. Вот главное, о чем надо говорить». Разразился скандал. Конецкому указано на «неправильное поведение».
* * *
Конечно же, «Звезда» не была исключением: и другие «толстые» литературные журналы контролировались очень жестко, особенно «Новый мир» в эпоху Твардовского. Но «Звезде» позволено было еще меньше, чем ее столичным собратам: мрачная тень 1946 года, нависшая над ней, не рассеивалась в течение сорока последующих лет.
«Нева»
Власти смилостивились лишь в начале «оттепели», позволив в 1955 г. преобразовать выходивший до этого «Ленинградский альманах» во второй «толстый» литературный журнал Ленинграда. Его сотрудники, знавшие редакционную кухню изнутри, оставили ряд ценнейших свидетельств о том, в каких условиях приходилось издавать журнал[174].
Началось с неудачной попытки «Невы» впервые опубликовать перевод романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Судьба его в СССР вообще складывалась драматически (помнится, в свое время у нас ходила такая шутка: «Обком звонит в колокол»). «Обком», и верно, зазвонил, и даже рангом повыше — в Управлении агитации и пропаганды ЦК партии, когда в 1940 г. роман решил напечатать журнал «Интернациональная литература» Управление тогда сообщало Жданову: «<…> совершенно неприемлемо, в искаженном виде изображает Хемингуэй коммунистов. В романе действует под собственным именем Андре Марти, который изображен жестоким, ограниченным человеком, приносящим вред делу борьбы испанского народа. Журналист Карков с его цинизмом и аморальностью представлен Хемингуэем как выразитель коммунистической идеологии. В противовес коммунистам герой романа, американский журналист Роберт Джордан, республиканец, верующий в свободу, равенство и братство, жертвующий жизнью своей за свободу испанского народа, наделен Хемингуэем чертами моральной чистоты и благородства. Идейный смысл романа “По ком звонит колокол” заключается в стремлении показать моральное превосходство буржуазно-демократической идеологии над идеологией коммунистической; поэтому, несмотря на то, что роман написан с сочувствием делу борьбы испанского народа против фашизма, печатать его нельз я»[175].
Упоминаемый в документе Андре Марти (1886–1956) — французский коммунист, один из виднейших деятелей французской компартии. Во время Гражданской войны в Испании — генеральный комиссар интербригад. В 1953 г., уже после смерти Сталина, исключен из партии и предан анафеме за «несогласие с руководством, фракционную деятельность и подрыв авторитета Мориса Тореза». Недавно стало известно, что именно по доносу Марти был арестован в 1938 г. Михаил Кольцов (расстрелян в 1940-м); нужно иметь также в виду, что его имя, в связи с этим, вообще не должно упоминаться в печати, пусть и под прозрачным псевдонимом.
Значительнейший роман Хемингуэя не мог увидеть света в СССР даже в годы оттепели. Три, по крайней мере, последующие попытки публикации русского перевода, предпринятые «Невой», «Новым миром» и «Иностранной литературой», были пресечены на самом верху — в ЦК КПСС. Запрет был наложен самой «Пасионарией» — Долорес Ибаррури, увидевшей в нем поклеп на деятелей Республиканской армии. В «Записке Отдела культуры ЦК КПСС», датируемой 25 января, 1958 г., говорилось: «Переводчики и близкие к ним люди настойчиво рекомендовали издательствам роман Хемингуэя “По ком звонит колокол”, описывающий события 1936–1938 годов в Испании с позиций, враждебных прогрессивным силам»[176].
Но вернемся к «Неве», впервые решившей опубликовать роман. Газета «Советская Россия» 19 февраля 1960 г. поместила небольшую заметку «нашего корреспондента» под названием «Очень рад… Хемингуэй». Имеет смысл процитировать ее полностью — настолько точно оно передает дух и стилистику времени: «Роман одного из крупнейших американских писателей Эрнеста Хемингуэя “По ком звонит колокол” рассказывает о событиях в Испании тридцатых годов, о мужестве — борцах с фашизмом, о тех, кто пришел на помощь республиканцам. На русском языке эта книга еще не издавалось. Недавно этот роман был переведен для редакции ленинградского журнала “Нева”. Но как получить согласие автора на публикацию его произведения? Где сейчас Хемингуэй, который много времени проводит в путешествиях? Ответ на этот вопрос дали газеты: первый заместитель Председателя Совета министров СССР А. И. Микоян посетил писателя в Гаване. Из Ленинграда на Кубу полетела телеграмма: “Литературный журнал ‘Нева’, открывший год окончанием романа Шолохова ‘Поднятая целина’, от имени 121 тысячи своих подписчиков и многочисленных читателей просит Вас разрешить публикацию романа ‘По ком звонит колокол’ ”. Через сутки пришел короткий ответ: “Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания. Хемингуэй”. Роман американского писателя будет опубликован в ближайших номерах “Невы”».
Обещание не было выполнено «по независящим от редакции обстоятельствам», как изящно писали дореволюционные редакторы журналов, намекая на цензурный запрет. Более того — даже заметка, в которой говорилось лишь о намерении журнала, названа была в особой «Записке Отдела Культуры ЦК КПСС» «крикливой», а «характеристика романа Э. Хемингуэя, содержащаяся в этой заметке, несостоятельной, самый же факт обращения “Невы” к Хемингуэю является ошибкой». Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии постановила: «Признать нецелесообразным публикацию в советском журнале романа Э. Хемингуэя “По ком звонит колокол”. Указать и. о. главного редактора журнала “Нева” Серебровской Е. П… на допущенную ошибку, выразившуюся в организации рекламной шумихи вокруг этого произведения»[177]. Не помог и М. А. Шолохов, роман которого печатался в «Неве», обратившийся к секретарю ЦК Е. А. Фурцевой (вскоре она была назначена министром культуры) с просьбой разрешить публикацию романа Хемингуэя в журнале. В противном случае, по его мнению, это «…может вызвать недоумение к самого Хемингуэя и даст повод буржуазной печати сочинять небылицы о том, что наши журналы не могут распоряжаться портфелями (редакционными.) по своему усмотрению». Но тщетно: роман был запрещен к публикации. Сама Е. Се-ребровская, специально летавшая к Шолохову, была вызвана «на ковер» в ЦК. Речь курировавшего литературу Д. А. Поликарпова (правой руки Суслова), по ее воспоминаниям, состояла из резких политических упреков: «Вы что, хотите нас с братскими партиями поссорить?»[178]. Е. П. Серебровская, стоявшая у истоков журнала, была уволена из редакции. Но вот что интересно: сам агитпроп (тогда он назывался Идеологическим отделом ЦК КПСС) повелел перевести на русский язык и издать роман, но для так сказать «внутреннего употребления». Он вышел в «Издательстве иностранной литературы» в 1962 г. мизерным тиражом (300 экз.), с грифом «Рассылается по специальному списку. N9…». Все экземпляры предназначались исключительно для высшего слоя партийной номенклатуры, поскольку, как говорилось в предисловии, в нем «…встречается ряд моментов, с которыми трудно согласиться. Так, например, обращает на себя внимание не совсем правильная трактовка образов коммунистов, бесстрашных и мужественных борцов с фашизмом в трудное для испанского народа время». Книга не поступила ни в одну из библиотек; даже в бывших спецхранах крупнейших книгохранилищ (петербургских, во всяком случае), обладавших правом получения «обязательного экземпляра», она отсутствует. Цензурная эпопея растянулась почти на 30 лет, и закончилась только в 1968 г., когда вышло 4-томное собрание сочинений Хемингуэя, в 3-й том которого, наконец, вошел роман, но со значительными (более чем двадцатью) купюрами.
Партийные инстанции и практические исполнители их воли в лице цензоров обратили внимание на «крайне нежелательное» направление «Невы», проявляющей «повышенный интерес» к эпохе сталинизма. Претензии вызвал 4-й номер журнала, о котором 13 марта 1963 г. доносил цензор И. А. Федоровский в специальной докладной записке, адресованной всё тому же начальнику Ленгорлита «тов. Арсеньеву Ю. М.»: «Мною прочитан журнал “Нева”, № 4, 1963, ответственный редактор Воронин С. В этом журнале помещены произведения о советских лагерях: Л. Семин. “Один на один”. С. Воронин. “К поезду”. На мой взгляд, эти произведения опубликовывать нецелесообразно, так как содержание указанных произведений не отвечает требованиям ЦК КПСС, изложенным в выступлениях и докладах Н. С. Хрущева на встречах с руководителями партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Кроме того, в этом же номере помещены стихи А. Яшина “Таруса”, посвященные К. Паустовскому, а также В. Кулемина “Только о любви к тебе”. Указанные стихи являются идеологически невыдержанными и политически вредными.
Так, например, в стихах А. Яшина читаем:
Трудно живу, Молча живу, Молчу до ожесточения, И не сказавшееся наяву Врывается в стихотворения. Как же душа должна быть полна Горечью и обидами, Если ни разу доброго сна Я о тебе не видывал!»Имя поэта Александра Яшина, так же, как Паустовского, возникло в этом контексте не случайно. Поэт подвергался злобным идеологическим нападкам после публикации во 2-м сборнике «Литературная Москва» (М, 1956) знаменитого рассказа «Рычаги», а К. Г. Паустовский попал на заметку после выхода не менее знаменитого сборника «Тарусские страницы» (Калуга, 1961), который вышел по его инициативе и под его редакцией. Да и установка поэта на «ожесточенное молчание» выглядела весьма подозрительной. Ленгорлит пошел и на такую крайнюю меру, как прекращение публикации. Продолжения романа известного прозаика Л. П. Семина (1923–1980) «Один на один» в № 4 читатель так и не увидел: опять-таки в связи с тем, что в нем затрагивалась опасная тема. Роман повествует о судьбе молодого офицера, ленинградца Алексея Клочкова, попавшего в плен и оказавшегося в одном из фашистских концлагерей. Бежав из лагеря и очутившись в расположении советских войск, он подвергается долгим и унизительным допросам в СМЕРШе, обвинениям в сотрудничестве с «власовцами» и других грехах…
Обиделся цензор и за Сталина:
«В стихах В. Кулёмина под видом борьбы с последствиями культа личности автор по существу клевещет на нашу советскую действительность:
Средь прочих мы не пробивались боком. В то утро Сталин жизни сдал ключи. Давно привыкший слыть превыше бога, Он вдруг предстал с анализом мочи. ………………………………………… Рабочие, крестьяне и крестьянки, Все как один мы, господи прости, Всё перетряхиваем останки, Как будто больше нечего трясти.Вышеуказанные стихи опубликовывать, на мой взгляд, нецелесообразно»[179].
Стихотворение так и не увидело света. Последнее четверостишие приобретает сейчас неожиданно актуальный характер — в связи с попыткой «перетряхивания останков» Ленина и неудачными попытками вынести, наконец, «священное тело» из Мавзолея.
Вообще., надо сказать, 1963 год стал несчастливым для журнала. В итоговой справке перечислено свыше 20 произведений, запрещенных к публикации или подвергшихся «купюризации»[180]. Только из 4-го номера изъято 7 текстов. Среди них — два рассказа главного редактора «Невы» С. Воронина «В старом вагоне» и «К поезду», два стихотворения Н. Н. Кутова, повесть В. С. Шефнера «Счастливый неудачник» и другие произведения. В повести поэта и прозаика С. М. Бытового «Счастье на семь часов раньше», «в которой упоминаются репрессии во время так называемого “Ленинградского дела”», велено изъять несколько страниц. Рассказы С. Воронина изъяты из номера (вместо них появился рассказ «Гантиада»), так же как и повесть Вадима Шефнера: он смог опубликовать ее лишь через 2 года в сборнике с одноименным названием (Счастливый неудачник. Повести и рассказы. М.; Л., 1965). Изрядно пощипаны другие номера «Невы» за 1963 г.: «Сняты следующие материалы: 1. Е. Мин. Снята сказка для взрослого “Заячья душа”, как двусмысленное произведение. 2. В. Солоухин. “Дом и сад”, как пропагандирующий частнособственническую тенденцию. 3. В. Солоухин “Бутылка старого вина”, как пустое и мелкое произведение. 4. Н. Альтман. Снят рисунок “В. И. Ленин”, искажающий образ В. И. Ленина. Из 12-го номера удален целый ряд стихотворений — Н. Ушакова, А. Гитовича (“О переводах”), Н. Кутова (“Ива”), А. Решетова (“стихотворение без названия”), А. Гольдберга (“Так пел акын”). Кроме того, получили отрицательный отзыв: Абрамов Ф. “Вокруг да около”».
Судя по всему, редакция «Невы» сумела отстоять публикацию цикла «деревенских» рассказов Федора Абрамова в № 3 за 1963 г., но они тотчас же вызвали обвинения писателя в «очернительстве» и прочих грехах. Инспирировано даже было, как мы знаем, «открытое письмо односельчан писателю Ф. А. Абрамову» «К чему зовет земляк?», перепечатанное из «Правды Севера» газетой «Вечерний Ленинград» (1963, 29 июня). На заседании Идеологической комиссии ЦК «Об итогах встречи с деятелями литературы и искусства 16 мая 1964 г.» председатель ее, секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев, указал: «В лучших произведениях о жизни тружеников села определяющим является утверждающее начало. И тем они отличаются, скажем, от очерков, печально известных очерков, не знаю, какими идейными соображениями продиктованных, очерков Абрамова, да, я думаю, даже и повести “Матренин двор” <Солже-ницына>»[181]. Понятно, что это вызвало настороженное, мягко говоря, отношение местных цензурных инстанций к писателю, отлученному затем на несколько лет от печатного станка.
Специальный раздел «Справки» посвящен так называемым «перечневым вмешательствам», под которыми подразумевались нарушения различных параграфов «Перечня сведений, запрещенных в открытой печати». Как доносил один из цензоров, в 1963 г. он вынужден был сделать целый ряд «перечневых вмешательств», то есть купюр: например, в № 9 — в повести Новоселова «Младшая сестра»: «Он работает в научно-исследовательском институте им. академика Крылова». В № 10, по его словам «…показаны (то есть упомянуты. — А. Б.) аэродромы в Имане, Бекине, Удэге, закрытый завод “Электроприбор” им. Энгельса». Одно из замечаний выглядит непонятным современному молодому читателю: «В нескольких журналах показаны Германия, Вьетнам». Здесь имеется в виду, что эти страны не разделены по принадлежности к разным политическим блокам: не было Германии, но ГДР и ФРГ, не было Вьетнама, а Демократическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам.
Постоянные нарушения идеологических табу в 1963 г. переполнили чашу терпения партийных органов: тогда ряд членов редколлегии «Невы» был выведен из ее состава, а главный редактор, С. Воронин, смещен за допущенные журналом «цензурные прорывы».
Несмотря на «перетряхивание кадров» в редакциях журналов, чем очень любили заниматься партийные органы, время от времени в «Неве» обнаруживались «нарушения государственной и военной тайны». В 1973 г. начальник Ленгорлита Б. А. Марков направил «главному редактору журнала “Нева” тов. Попову А. Ф.» такое «предупреждение»: «За первую половину 1973 г. в верстках журнала “Нева” в 20 случаях исключены сведения, запрещенные к опубликованию в открытой печати.
Между тем, директивными органами установлен следующий порядок подготовки рукописей к печати: “Редакции журналов обязаны провести тщательную проверку сдаваемых в печать и до сдачи в набор удалить из текста сведения, не подлежащие открытому опубликованию” (“Единые правила печатания несекретных изданий”, общие положения). Ответственность за содержание сдаваемых в печать материалов несет редакция журнала. Невыполнение этих обязанностей со стороны редакции может привести к утечке сведений, запрещенных к открытому опубликованию. Настораживает, что в шести номерах текущего года Управление вынуждено было сделать уже 20 вмешательств (за весь прошлый год их было 16). Достаточно сказать, что из версток мартовского, майского и июльского номеров были изъяты сведения по вопросам охраны государственных границ СССР (повести И. Дворкина “Восемь часов полета”, С. Довлатова “По собственному желанию” и Е. Воеводина “Пуд соли”). Дважды в верстках журнала появились запрещенные сведения о наличии аэродромов в тех или иных населенных пунктах СССР, назывались закрытые предприятия и организации с указанием места их дислокации. Рост числа запрещенных сведений, которые должны быть удалены из материалов до сдачи их в набор, требует от редакции принятия безотлагательных мер по пресечению проникновения в открытую печать сведений, запрещенных к открытому опубликованию. О принятых мерах просим сообщить Ленинградскому управлению»[182].
Не располагая доцензурными текстами указанных выше версток, трудно сказать, какие именно «сведения по вопросам охраны государственных границ», были изъяты их них. Сергею Довлатову, как известно, почти не удавалось напечатать свои произведения в подцензурной советской печати. Рассказ «По собственному желанию», напечатанный в № 5 «Невы» за 1973 г., — один из немногих таких случаев. До эмиграции в августе 1978 г. его рассказы распространялись преимущественно в самиздате, одна книга накануне отъезда опубликована в США («Невидимая книга», Анн Арбор, Ардис, 1977). Тогда он печатался лишь в газете «Советская Эстония», сотрудником которой был в 1974–1976 гг., иногда — в «Звезде», где опубликован ряд его рецензий. Сюжет рассказа — увольнение «по собственному желанию» романтически настроенного рабочего паренька, мечтающего повидать неведомые страны или уехать «за туманом» в тайгу… Какую именно «тайну» умудрился раскрыть Довлатов — неизвестно.
Возникла и вечная еврейская тема. В январе 1979 г. обком разработал «мероприятия по дальнейшему разоблачению реакционной сущности сионизма»[183]. Однако ряд «проколов», случившихся при массовом издании «антисионистской литературы», заставил власти более осторожно относиться к ней в начале 80-х годов. Во всяком случае, требовалась «точность и политически выверенный тон», удостоверить которые могли «компетентные органы». В этом смысле примечательна попытка Л. Корнеева опубликовать в 1981 г. в «Неве» свою статью «Ядовитая отрава сионизма». Как принято было в то время, требовалось заключение Министерства иностранных дел и, конечно же, Комитета государственной безопасности. Первое отделалось отпиской, сообщив, что «…вызывает определенные сомнения характер освещения в статье некоторых общих принципиальных вопросов, в связи с чем представляется целесообразным, чтобы редакция проконсультировалась с соответствующими идеологическими инстанциями».
Такой инстанцией был, прежде всего, Комитет госбезопасности. Начальник Пресс-бюро КГБ СССР Я. П. Киселев оказался более требовательным: в связи с «усложнившейся мировой обстановкой» и протестами «прогрессивной западной общественности», еврокоммунистов, в особенности, уже не годилась лобовая критика сионизма. «Представляется нецелесообразным, — сообщал он, — в критике сионизма использовать ругательный тон, ибо предмет критики требует логически последовательно, трезвого, научно обоснованного и убедительного рассмотрения. Автор, возможно, не замечая, иногда отождествляет евреев и сионистов (стр. 3 и другие), сионистов и так называемых диссидентов (стр. 30), что может только дезориентировать читателя (но как раз именно этого добивалась пропаганда! — А. Б.). Вряд ли целесообразно в статье, разоблачающей сионизм, ссылаться на неизвестное лицо с русской фамилией (Удодов — уголовник, за садистское убийство отбывал наказание, выдворен из СССР), и более того, принимать его утверждения о буржуазно-сионистской пропаганде за какой-то постулат (стр. 1–2). Учитывая важность затрагиваемых вопросов, полагаем, что статья должна быть рецензирована компетентным органом, которым, возможно, является Комиссия АН СССР по координации комплексных исследований проблем сионизма».
Редакция журнала послала рукопись и в это учреждение, более точное название которого — Комиссия по координации научной критики сионизма при Президиуме Академии наук СССР (была и такая!). Она посчитала, что «статья может быть рекомендована в печать после тщательной редакционной правки» и посоветовала изменить заголовок статьи, назвав ее «Психологическая война международного сионизма»[184]. Хотя, по словам автора статьи, он учел все «пожелания и замечания», статья, к чести журнала, все же так и не появилась в нем.
Как и в случае со «Звездой», не раз возвращались в редакцию верстки журналов в связи с тем, что «отдельные материалы не полностью подготовлены к печати». Вот типичные претензии, высказываемые Лен-горл итом: «Возвращаем верстку журнала “Нева”, № 6, 1983 г. В соответствии с требованиями нормативных документов Вам необходимо:
— на записи конструктора М. Максадова “Зигзаги” и на предисловие к ним необходимо получить разрешение Военной цензуры Генерального штаба, Министерства радиопромышленности, Министерства авиационной промышленности. Целесообразность публикации сведений на стр. 102, 106, 108, 115, 116, 119 проконсультировать в партийных органах;
— на факт гибели пассажирского парохода (стр. 10) следует получить разрешение Министерства морского флота; представить разрешение военного цензора на стр. 19, 37, 58, 70»[185].
В указанной выше статье А. Н. Петрова приводится немало аналогичных претензий Ленгорлита к «Неве», порою весьма курьезных. Например, цензор приказал однажды перекрасить машину «Волга» из черного в какой-либо другой цвет, поскольку на черных ездят только партийные руководители города, а в повести на ней разъезжает какой-то мошенник. Часто «экспертизой» следовало заручиться в том самом учреждении, которое подвергалось критике. Так, разрешение на публикацию записок инспектора рыбнадзора из Псковской области следовало получить в научно-исследовательском институте, рекомендации которого оказались губительными для озерного хозяйства.
Без «согласования» не обходилась практически ни одна публикация: «Вопрос о возможности публикации на страницах журнала статьи А. Павловского “Говорит блокада” и Н. Чуковского “Коктебель” в представленном виде согласовать с партийными органами», — без них, как уже говорилось, и шагу нельзя было ступить. Оба произведения все-таки удалось напечатать в 6-й книжке журнала за 1983 г. Статья критика А. Павловского — расширенная рецензия на «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина[186]. «Читать эту книгу — трудно. Она — ожившее, заговорившее страдание», — так начинает Павловский свою статью. Возможно, она прошла затем соответствующую обработку на предмет «смягчения опасных рассуждений», навеянных «Блокадной книгой». Такой же операции, вероятно, подверглись воспоминания Н. К. Чуковского «Коктебель», посвященные встречам с Максимилианом Волошиным в его знаменитом «пристанище поэтов» (опубликованы в двух номерах — 6-м и 7-м за 1983 г.). По-видимому, Ленгорлит приказал «согласовать» их «с партийными органами» по той причине, что Чуковский часто вспоминает «неудобных» поэтов (Андрея Белого, например), цитирует стихи Осипа Мандельштама: «Вообще в Коктебеле мы постоянно припоминали стихи Мандельштама, привезенные им из Крыма…»
Режим все-таки, несмотря на некоторые зигзаги и временные отступления, оставался верен самому себе. Незадолго до «перестройки», в 1983 г., претензии Ленгорлита вызвала верстка 6-го номера того же журнала «Нева», «поскольку отдельные материалы не полностью подготовлены в печати… В соответствии с требованиями нормативных документов вам необходимо… целесообразность описания еврейских погромов накануне Первой мировой войны проконсультировать (так! — Л. Б.) в партийных органах»[187]. Видимо, «партийные органы» не рекомендовали редакции касаться этого вопроса: во всяком случае, ни в 6-м, ни в других номерах «Невы» за этот год никаких упоминаний о погромах нет. Тема, закрытая в годы Большого террора, оставалась табуированной и в начале 80-х: никаких погромов в России никогда не было.
Одна из последних «предперестроечных» акций цензуры относится к самому концу года:
«Леноблгорлит
Главному редактору журнала
“Нева” т. Хренкову Д. Т.
О возврате верстки журнала “Нева”, № 7—84 г.
1. В октябре 1984 г. Леноблгорлит ставил Вас в известность, что для опубликования повести А. Нинова “Так жили поэты” необходимо представить в Управление обстоятельную официальную рецензию ИРЛИ (Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. — А. Б.) Вами это не сделано.
2. Для опубликования детективного романа Жоржа Сименона “Донесение жандарма” необходимо получить согласие партийных органов. В сопроводительном письме Вы ссылаетесь на Отдел культуры ОК КПСС, однако, с кем и когда согласован вопрос, не указываете.
В связи с отсутствием сопроводительной документации, на необходимость которой Вам указывалось ранее, верстка журнала “Нева” не может быть принята на контроль. Нач. Управления Б. А. Марков»[188].
Повесть известного литературоведа и театроведа А. А. Нинова «Так жили поэты. Документальное повествование» была напечатана в 7-м номере «Невы»: сомнения цензоров вызвали опять-таки подозрительные имена поэтов, но их удалось отстоять. Курьезно выглядит требование получить согласие партийных органов на публикацию детективной повести популярнейшего Жоржа Сименона: она все же напечатана в № 7 «Невы» за 1984 г. Ничего «антисоветского» в повести, конечно же, нет, но дело, видимо, в том, что тогда требовалось согласие высших партийных инстанций на публикацию зарубежных детективов, тем более, в таком серьезном издании, как «органе Союза советских писателей и Ленинградской писательской организации», каковым была «Нева»[189].
Как и в других случаях, перечень столкновений «Невы» с цензурой может быть продолжен. Последний инцидент относится к началу перестройки, когда журнал печатал роман В. Дудинцева «Белые одежды» (см. главу 10).
«Аврора»
Больше всего доставалось в «разгар застоя» журналу «Аврора», основанному в 1969 г., как журналу молодежному, призванному воспитывать подрастающее поколение строителей коммунизма. В связи с такой установкой, к нему, естественно, предъявлялись повышенные идеологические требования. Выходил он под эгидой комсомола, что подчеркнуто подзаголовком: «Общественно-политический и художественный ежемесячник ЦК ВЛКСМ и Ленинградской писательской организации».
Несмотря на двойное и даже тройное «кураторство» (собственно Ленгорлита, обкомов партии и комсомола), журнал постепенно всё больше и больше отбивался от рук. О «нездоровых явлениях» в журнале глава местной цензуры 20 июня 1972 г. счел необходимым сигнализировать «наверх», самому начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати при СМ СССР П. К. Романову, направив «Некоторые замечания по политико-идеологическому содержанию журнала “Аврора” за первое полугодие 1972 года»[190].
Как обычно, в начале — «во здравие»… Отмечены «достижения» журнала: он опубликовал «несколько крупных повестей, большое количество рассказов и стихотворных подборок», в очерках, «рассказывающих о людях труда, как правило, поднимаются нравственные и эстетические проблемы»: они и являются «наиболее злободневными публикациями журнала». Ну, а дальше — «за упокой»: «Но именно на этом фоне так заметны политико-идеологические просчеты, свойственные прозе и поэзии “Авроры”». Во-первых, «…за полугодие не появилось ни одного сколько-нибудь заметного прозаического произведения, в котором бы рассказывалось о нашем молодом современнике, человеке труда, представителе рабочего класса». В этом замечании сказалось отличие советской цензуры от всех других, ограничивавшихся, как правило, чисто запретительными мерами. Советская же должна была играть и «организующую», «позитивную» роль, рекомендуя, а точнее, предписывая органам печати обращаться к тем или иным «актуальным» темам и сюжетам.
Прежде всего, «ошибкой» журнала объявлена публикация рассказа Фазиля Искандера «Ночные тайны» в № 6-м: «Мальчик Чик с жутким, но сладким упоением слушает рассказ об убийстве человека. Рассказывает об этом его дальний родственник, Ясон, о котором “все знают, что он был вором”. И вот, несколько страниц, набранных в журнале убористым шрифтом, занимает подробное описание преступления. Немудрено, что после этого Чик долго не может заснуть. “Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг тебя кто-то убивает ни с того ни с чего” (стр. 30). Чик думает о том, “как, оказывается, просто убить человека”, “раз человек доверился, значит, нельзя” (стр. 29)». «Мы сочли необходимым, — замечает автор справки, — обратить на этот рассказ Ф. Искандера внимание обкома КПСС. К сожалению, исправления, которые редакция “Авроры” внесла в текст, не спасают положения, тем более что автор претендует на воссоздание национального абхазского характера. Однако рассказ Ф. Искандера “Ночные тайны” может создать только превратное представление о жизни и нравах братского советского народа». Рассказ появился с некоторыми купюрами, например, убрана фраза: «Как, оказывается, просто убить человека».
Еще большие нарекания вызвал очерк Андрея Битова «Феномен нормы» опубликованный в 5-м номере «Авроры» под рубрикой «Союз нерушимый». В нем «…в особенно яркой форме проявилась нечеткость идейных позиций. Очерк посвящен Грузинской ССР. О чем же писал автор? “Грузия курортная и экзотическая заслоняет. Грузия кинохроник и газетных сводок — Грузия новых заводов, плантаций и научных центров — лишь несколько объективизирует односторонние представления о стране: это мы и про себя знаем, про свершения и победы”. “И совсем вдалеке и в тайне оказывается тогда еще одна Грузия, собственно Грузия, Грузия для грузин (!). Это естественная национальная тайна, та тайна, по которой именно эти люди родились на этой земле и только на ней могут быть счастливы или живы” (стр. 58). Субъективистский взгляд писателя А. Битова стремится во всем отыскать эту пресловутую “Грузию для грузин”. Как это делается, можно показать на примере главы, посвященной сценаристу Ревазу Габриадзе <…> Что еще может узнать читатель из этого очерка, “посвященного пятидесятилетию со дня образования СССР”? За главой о сценаристе идет глава, посвященная винокурению. “Нехорошо пить с горя — вредно, но не напиться от счастья — невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти мне волевые люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго от того, что упустили его!). Не может отвернуться от счастья человек, а время течет и точит и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло — куда…? Нет! Никогда! Никогда не предадим мы счастья сами! Просто — разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало” (стр. 63). Трудно поверить, что эта апология пьянства помещена в наши дни, на страницах молодежного журнала! Цензура обратила внимание отдела культуры обкома КПСС и на эту публикацию, в которой пресловутая “Грузия для грузин”, рожденная под чрезмерно бойким пером писателя А. Битова, противопоставляется Грузии новых заводов, плантаций и научных центров!»
Крайнее раздражение вызвала «тенденциозная» и «подозрительная» подборка в «Авроре» имен знаменитых русских поэтов, о которых предписывалось говорить как можно меньше, а еще лучше — вообще помалкивать: «И еще одно: если читать журнал внимательно, из номера в номер, то невольно обращаешь внимание, что у авторов “Авроры” есть свои излюбленные поэтические имена». В качестве примера приводится помещенная на обложке № 3-го маленькая заметка о скульпторе В. Петрове, снабженная «эпиграфом из А. Ахматовой:
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…».Столь же нежелательным показался эпиграф из другого гонимого поэта — Бориса Пастернака, которым начинается очерк А. Агейчика «Три этажа моря»:
Приедается всё. Лишь тебе не дано примелькаться.Большое неудовольствие вызвала также попытка скрытого цитирования стихов Гумилева в очерке Г. Балуева «Следы на Устюрте» в 3-м номере журнала (об этой истории см. в главе 8). «Можно подумать, — резюмирует цензор, — что авторы журнала постоянно обеспокоены тем, как бы не забылись имена этих поэтов. При этом делается вид, что редакции “Авроры” ничего не известно о крупнейших ошибках, которыми было отмечено их творчество». «Опыт анализа материалов, опубликованных за первое полугодие текущего года, — подытоживает начальник Управления — показывает, что редакция “Авроры” до сих пор не сделала достаточно серьезных выводов из критики и продолжает публиковать произведения, в которых показ различных сторон многосложной жизни советского общества, исследование насущных проблем формирования духовного облика советского человека подменяется бескрылым бытописательством, уходом в инфантилизм, обывательским заигрыванием с читателем».
Несмотря на столь серьезное внушение, Аврора» никак не хотела «исправляться». Спустя два года, в ноябре 1974-го, снова последовал цензурный донос, на сей раз — в обком партии, которому была послана обширная «Информация о некоторых недостатках журнала «Аврора»[191]. Прежде всего, «…вызвала озабоченность, что в представляемых на контроль в Управление про охране государственных тайн в печати журналах “Аврора” всё чаще встречаются произведения — стихи, рассказы, публицистические статьи, — свидетельствующие о том, что редакция не всегда достаточно требовательно подходит к их отбору, некритично относится к литературным опусам отдельных авторов. В результате в журнал заверстываются произведения ущербно-пессимистического характера, им недостает ясной идейной позиции. На языке некоторых авторов журнала гражданственность — это тенденциозное отношение к советской действительности, выпячивание ее негативных сторон». Далее подробно разбирается заверстанная для № 12, но запрещенная к публикации в порядке предварительного контроля публицистическая статья Андрея Островского «В Тихом океане, с рыбаками», — «за слишком мрачное изображение жизни рыбаков».
Как всегда, трепетно относилась цензура к изображению теневых сторон жизни армии. В том же 12 номере редакция намеревалась опубликовать рассказ Бориса Штейна «Командировка во внешнюю жизнь». Этого ей сделать не удалось: «Цель этого рассказа или неясна, или недостойна с точки зрения честного литератора, понимающего свой долг перед людьми, советскими воинами, о которых он пишет. Автор захотел убедить молодого читателя, на которого и рассчитан журнал, в беспросветности и отвратности жизни и поведения офицеров и воинов, призывников, не способных понять и оценить свои действия, интересы которых не идут дальше выпивок, хулиганства и воровства, нарушения воинского порядка и уставов (далее следуют примеры, показывающие, что нынешние порядки в армии вовсе не являются изобретением новейшего времени. — А. Б.). Естественно, отдел культуры ОК КПСС, которому нами было доложено о серьезных просчетах в этом и других произведениях двенадцатого номера, дал указание переработать их с учетом замечаний управления, а рассказ Бориса Штейна не был разрешен для опубликования».
Отмечены «…и другие факты недостаточно зрелого подхода редколлегии “Авроры” к важным общественным понятиям, факты упрощенчества. В некоторых произведениях можно видеть, как искажаются порой в произведениях поэтов и прозаиков истинное содержание значительных и сложных проблем, требующих диалектического, глубоко исторического освещения». Такие «просчеты» обнаружены, в частности, в повести Даниила Гранина «Эта странная жизнь» (№ 1–2), посвященной жизни и судьбе уникального в своем роде человека — ученого Александра Александровича Любищева: «Автор рассказывает о талантливом ученом, который нашел в себе силы, как пишет автор, “для одинокого пути”, в котором был “дух противостоять”. Что же это за одинокий путь и чему должен противостоять “дух ученого”? Ответом на этот вопрос служит глава двенадцатая — “За всё надо платить”, посвященная в основном событиям 1937 и 1948-го годов. Рассказывая о “проработках”, которым подвергался Любищев, писатель подчеркивает главное, на его взгляд, кредо ученого: “в науке голосование ничего не решает, наука — не парламент, а большинство оказывается чаще всего неправым”. В 1937 г. Ученый совет ВИЗРа признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом о лишении его звания доктора наук. (Далее приводятся большие выдержки из повести Гранина. — А. Б.). Вот что говорится, например, о Любищеве на страницах повести: “У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы”». Беседуя со мной, Д. А. Гранин сообщил об одном колоритном эпизоде, связанном с публикацией этой повести. Секретарь ленинградского обкома по идеологии, Б. С. Андреев, оказавшийся в соседнем номере в одной из московских гостиниц, зашел к нему и, находясь в серьезном подпитии, сказал, переходя по партийной привычке на «ты»: «У нас в обкоме хорошо поняли, кого ты имеешь в виду… Конечно, Сахарова!» Отдельное издание повести Гранин предпочел выпустить «подальше от Ленинграда» — в Москве (изд-во «Советская Россия», 1974), затем она неоднократно перепечатывалась.
Цензор снова вспомнил о «национализме», который якобы присутствует в материалах журнала. Он нашел его не только в очерке А. Битова, но и в рассказе Глеба Горышина. Отзыв о нем напоминает по стилистике истерическую речь на каком-либо собрании, разоблачающем «врагов народа»: «Как известно, буржуазная пропаганда в своих идеологических диверсиях против социализма делает главную ставку на оживление националистических настроений, стремясь ядом национализма отравить прежде всего молодежь. Национализм — этот тот стержень, на который наш идеологический противник нанизывает все ухищрения, направленные на “разрыхление”, “расшатывание” морально-политического единства советских народов. Знает ли об этих коварных происках буржуазной пропаганды редколлегия журнала? Должна знать. Тогда непонятно, чем она руководствовалась, заверстав в тот же второй номер рассказ Г. Горышина “Человек с Запада”, в котором герой рассказа, молодой ветврач, и сам автор противопоставлены местному коренному населению Алтая (следуют совершенно невинные цитаты. — А. />.). С незначительными коррективами рассказ напечатан под другим названием»: он появился во 2-м номере за 1974 г. под названием «Человек за горами».
И снова, в который раз, журналу инкриминируется даже самое упоминание имен Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, несмотря на то, что их поэтические сборники, хотя и крайне редко и микроскопическими тиражами, печатались все же в 60—70-е годы. В таком «педалировании» их имен усматривали тенденцию, проявляемую редакцией «Авроры», тем более что предназначена она «молодежному» читателю. «Наша советская поэзия не просто богата и разнообразна, для нее характерна тесная связь со временем, с правдой народного миропонимания, — апеллирует цензор «к народу». — Однако обращает на себя внимание постоянство, с которым обращается журнал “Аврора” к именам таких поэтов, как А. Ахматова и Б. Пастернак. Как правило, по утверждению журнала, именно творчество этих поэтов, их стихи являются наиболее полным мерилом — и таланта поэтического, и смысла жизни. К стихам Б. Пастернака неоднократно обращается и Д. Гранин в повести “Эта странная жизнь…” — “ты сам свой высший суд…”, “но пораженье от победы ты сам не должен отличать” и т. д. Яков Смоленский в статье “Четверть века с Евгением Онегиным” ведет сопоставление пушкинской поэзии со стихами Б. Пастернака (“Аврора”, № 7). На Пастернака ссылается и Юрий Любимов в статье “Алгебра гармонии” (“Аврора”, № 10). То же самое и с Ахматовой — ее имя со “священным трепетом” произносит тот же Я. Смоленский; Г. Новосадюк в очерке, посвященном творчеству художника Ю. Межирова (“Аврора”, № 7) вспоминает ее портрет работы Петрова-Водкина, к гробу А. Ахматовой ведет С. Давыдов Ярослава Смелякова (так! — А. Б.) и т. д.». Имя полузапретного Пастернака удавалось иногда отстоять, но из статьи знаменитого режиссера Юрия Любимова, рассказавшем в «Авроре» о своем творческом пути, оно все-таки было вычеркнуто.
Целый набор «нежелательных имен» обнаружен был на предварительной стадии в стихотворении Александра Кушнера. В № 4 «Авроры» предназначалось стихотворение А. Кушнера «Русские поэты»:
Конечно, Баратынский схематичен. Бесстильность Фета всякому видна. Блок по-немецки втайне педантичен. У Анненского в трауре весна. Цветаевская фанатична муза. Кузмин манерен. Пастернаку вкуса недостает: болтливость — вот порок. Есть вычурность в строке у Мандельштама. И Заболоцкий в сердце скуповат. Какое счастье даже панорама Их недостатков, выстроенных в ряд!В беседе с поэтом выяснилось, что «Русских поэтов», как и ряд других «несозвучных эпохе» стихотворений, ему удалось опубликовать лишь спустя много лет — в пору объявленной сверху «гласности и перестройки».
Исполненный патетики вывод начальника Управления Б. А. Маркова напрашивался сам собой: «В решении такой задачи, как “формирование сознания людей, воспитания в каждом советском человеке качеств, необходимых для строителя коммунизма” (Л. И. Брежнев) важная роль принадлежит молодежному журналу “Аврора”. Однако, даже небольшая часть примеров, приведенных в информации, из имеющихся в нашем распоряжении, свидетельствует о том, что на страницах журнала всё чаще появляются, к сожалению, повести, рассказы и стихи, не отвечающие высоким требованиям времени, такие, в которых присутствуют всякая идейная неопределенность, двусмысленность».
В такой же тональности выдержана «Информация о политико-идеологических замечаниях по материалам журнала “Аврора”, № 1 за 1975 год», посланная спустя год на имя «секретаря Обкома КПСС тов. Андреева Б. С.»[192]: «Управление ранее информировало Областной комитет КПСС о низком идейно-политическом уровне ряда произведений, подготовленных к опубликованию на страницах журнала “Аврора”. Только в первом полугодии 1975 года по согласованию с отделами пропаганды и агитации и культуры ОК КПСС не была разрешена публикация семи произведений. В семи случаях редакция журнала по замечаниям Управления вносила в материалы существенные исправления». Вывел из себя 7-й номер «Авроры», в котором «вновь были заверстаны материалы, потребовавшие вмешательства по политико-идеологическим мотивам».
Прежде всего, «криминал» обнаружен в главах из книги уже упоминавшегося выше Дмитрия Хренкова «Дорогие спутники», «…посвященной литературным встречам автора… <в ней> высказывается недовольство ошибочной, с точки зрения автора, литературной политикой. Так, например, о поэте Борисе Корнилове сказано, что его “имя надолго было вычеркнуто из поэтической рубрики”». Несмотря на то, что, как мы видим, сказано было о трагической судьбе поэта крайне осторожно, — о факте расстрела в 1938 г. вообще не упоминалось— в этом обнаружилось «недовольство литературной политикой» (!). Значит, правильно с ним поступили?!
«В другом месте, — говорилось в «Информации…» — Д. Хренков приводит слова, сказанные ему в беседе Рыленковым об Александре Грине: “Грин ошибался, но всегда вел себя так, как тебе хочется сегодня. Он вел жестокую борьбу за существование. Всё это не могло не отразиться на нем. Нетрудно вычеркнуть его имя из списка рекомендованных к чтению авторов. Но ведь это — непростительная расточительность. А может, дурость? Вспомни, сколько замечательных писателей мы пытались отдать нашим противникам. Вооружали противостоящий лагерь, обедняли собственный арсенал. Надо ли назвать имена? Бунин, Куприн, Есенин, Ахматова… Зато как умножилась наша сила, сила нашей литературы, когда мы вернули их по принадлежности!”». Часть инкриминированного цензурой фрагмента все-таки увидела свет в 7-м номере; выброшены лишь строки, выделенные нами курсивом — в связи, очевидно, с нежелательным подбором имен. В эту компанию заодно попал и Сергей Есенин, отношение к которому в годы оттепели (ранее его имя также подвергалось остракизму) изменилось, хотя время от времени партийные инстанции предостерегали издательства и редакции от излишнего, «нездорового» интереса к его «упадочническим» стихам. Полностью книга Д. Хренкова под названием «Встречи с друзьями», отдельные главы которой печатались в «Авроре» (1975 г., № 7–8), вышла в 1986 г. в Ленинграде в издательстве «Советский писатель». Кое-что, хотя далеко не всё, автору удалось в ней восстановить.
Из того же 7-го номера за 1975 г. выброшена была статья критика Владимира Соловьева «Литературный герой: функция и фикция», посвященная 80-летию со дня рождения Зощенко (см. далее).
Чаша терпения партийных и цензурных органов переполнилась в 1976 г., когда появилось в 11-м номере стихотворение поэтессы Нины Королевой «Оттаяла или очнулась?…» Как видно из контекста, речь идет в нем о Тобольске — «здесь умер слепой Кюхельбекер…» В этот же город первоначально сослана была семья Николая Второго, перевезенная в 1918 г. в Екатеринбург и там же расстрелянная. Последние две строфы звучали страшной крамолой и вызовом, даже не очень понятно, почему они не были замечены цензором:
И в год, когда пламя металось На знамени тонком, В том городе не улыбалась Царица с ребенком. И я задыхаюсь в бессилье, Спасти их не властна, Причастна к беде и насилью И злобе причастна.Этот номер «Авроры» шел нарасхват, стихотворение перепечатывалось на машинке. Но, разумеется, грянул гром… 2 апреля 1977 г. на самый верх, в Главлит, ушла бумага такого содержания:
«Для служебного пользования. Начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати тов. Романову П. К.
По получении партийными органами информации Управления о политико-идеологических замечаниях, сделанных при контроле журнала “Аврора”, в областной комитет партии были вызваны руководители писательской организации вместе с главным редактором журнала т. Торопыгиным В. В. и членами редакционной коллегии.
Они были ознакомлены с фактами, изложенными в информации, после чего секретариату ленинградского отделения Союза писателей РСФСР было предложено разобраться досконально в причинах низкого идейно-художественного уровня произведений, систематически появляющихся в верстках журнала, и принять меры к укреплению состава редколлегии журнала “Аврора”.
Секретариат принял решение освободить т. Торопыгина В. В. от обязанностей главного редактора журнала и т. Островского А. Л. от обязанностей зам. главного редактора как не обеспечивших руководство. Одновременно партийное бюро Союза писателей разобрало вопрос о партийной ответственности коммунистов — ответственного секретаря журнала т. Шарымова А. М. и зав. отделом поэзии т. Шевелева А. А. — и объявило каждому из них по строгому партийному выговору. Начальник Управления (Б. А. Марков)»:
Вслед за тем, в августе, по тому же адресу послано было «…дополнение к информации Облгорлита об ошибках в журнале “Аврора”, в котором сообщалось о том, что «…Бюро Обкома утвержден новый редактор — писатель Глеб Горышин. Сотрудник Ленинградского управления т. Коробченко Ю. В. принят в эту редакцию на должность зам. главного редактора»[193].
Однако цензурная история «Авроры», несмотря на предпринятое «укрепление кадров», на этом не закончилась. Время от времени в ней по-прежнему находили идеологические и прочие «просчеты». Неудовольствие обкома вызвало намерение опубликовать статью Наталии Крымовой «О Высоцком», умершем в июле 1980 г. Его имя рекомендовалось упоминать как можно реже. Редакция, через голову обкома, обратилась прямо в ЦК КПСС, найдя там неожиданную поддержку (Высоцкого любили слушать и «высшие круги»), о чем и сообщала в Ленгорлит: «Редакция “Авроры” информирует о том, что статья Н. Крымовой “О Высоцком”, помещенная в № 8 журнала за 1981 г., согласована с Отделом Культуры ЦК КПСС, с зам. зав. Отделом т. Беловым А. А.»[194].
Однако в том же, 1981 году, разразился настоящий скандал, вызванный публикацией «Юбилейной речи» Виктора Голявкина, переполнивший «чашу терпения» обкома. В ней увидели «оскорбление величества» — сатиру на опусы генерального секретаря Л. И. Брежнева (см. об этом инциденте подробнее в главе 9). Главный редактор Глеб Горышин и ответственный секретарь журнала Магда Алексеева были уволены, на пост руководителя «Авроры» в 1982 г. назначен Э. А. Шевелев, заведовавший до того отделом культуры горкома КПСС[195]. До перестройки оставалось три года…
Альманахи и сборники
Выходившие в городе литературные альманахи и сборники, ориентированные на массового, преимущественно молодого читателя, требовали повышенного внимания. Если в изданиях, приближающихся по своему типу к академическим, еще можно было пойти на некоторые уступки и послабления, то совершенно по-иному, убийственно серьезно, относились контролеры к изданиям такого рода. Наиболее опасной в глазах властей выглядела представленная популярными тогда именами молодая поэзия. Именно благодаря ей, хотя и не лишенной элемента поверхностной эстрадности, в стране после долгого перерыва возникла необычайно насыщенная поэтическая атмосфера. О специфическом интересе властей к современной поэзии свидетельствует то, что в архиве Ленгорлита дела о ней встречаются чаще всего. И что примечательно: падают они на последние три года хрущевского правления — именно на то время, когда состоялась череда «исторических встреч» Первого секретаря с творческой интеллигенцией. Заодно пресекались попытки популяризации забытых и полузапрещенных поэтов Серебряного века и авангардистов 20—30-х годов, в частности, обэриутов.
Чаще всего нападкам подвергаются ежегодные альманахи — ленинградский «День поэзии» и «Молодой Ленинград». Так, в «Справке о некоторых вопросах политико-идеологического содержания художественной литературы и изопродукции, выпускаемой в Ленинграде», посланной в 1963 г., — опять-таки в обком КПСС, — отмечено, что в целом «…политико-идеологическое содержание художественной литературы и изопродукции в ленинградских издательствах в основном соответствует требованиям, предъявляемых Партией и Правительством к советской литературе и искусству. Выпущенные за последние 2 года книги написаны с позиций социалистического реализма. Они партийны, народны, помогают делу строительства коммунизма». Но есть, конечно, «отдельные недостатки»: «…иногда у некоторых авторов наблюдается некритический подход к отбору фактов для своих произведений». Крупные недостатки обнаружены в альманахе «Молодой Ленинград» за 1961 г. Ряд рассказов «…перерабатывался по нашему указанию, так как в них неправильно, не с позиций социалистического гуманизма изображаются советские люди»[196].
Еще большие просчеты обнаружились в таком же ежегоднике на 1963 г., вышедшем под редакцией Даниила Гранина: «В нем редко встречается слово “коммунизм”, праздник 7 ноября упоминается всего один раз, да и то в связи с кражей конюхом мешка овса (в этот день. — А. Б.). От всей книги разит возмутительной аполитичностью. При прочтении его невольно возникает вопрос: как могли собраться в кучу, в одном альманахе, столько похожих друг на друга произведений (в смысле охаивания нашей действительности). С идейно порочной прозой созвучны и многие стихи, представленные в альманахе. От них также веет пессимизмом»[197].
Постоянно подвергался цензурным нападкам ленинградский ежегодник «День поэзии». В «порядке последующего контроля» проверен был альманах на 1962 год., причем наибольшее неудовольствие вызвали в нем поэтические тексты. «Серьезным недостатком произведений сегодняшних поэтов, издаваемых “Советским писателем”, — считают критики из цензурного ведомства, — является чисто описательный характер, зарисовки с натуры, камерность тем. Сюжетных произведений выходит очень мало. В основном поэты пишут о весне, о ручейках, о березках, о распустившихся цветочках, о первой травке, о дожде, тумане, журавлях и т. д.». В ежегодник «…включены стихотворения без всякого выбора», причем многие из них снова «носят камерный и описательный характер»[198].
К их числу отнесены, например, стихотворение поэтессы Елизаветы Полонской «Плана» и начало первой главы «Поэмы без героя» Анны Ахматовой (см. далее). Вызвали неудовольствие напечатанные в «Дне поэзии-1962» «…стихи Александра Гитовича из цикла “Пикассо”, в которых берется под защиту и восхваляется абстракционизм. В стихотворении “Пикассо” Гитович говорит:
…И я гляжу, как мальчик, вновь и вновь, На этих красок и раздумий пятна — И половина мне их непонятна, Как непонятна старая любовь <…> Нет, я не варвар. Я не посягну На то, что мне пока еще не ясно, И если половина мне прекрасна, Пусть буду я и у второй в плену».«Ну, а мы, — восклицает обиженный цензор, — выходит, варвары, если посягаем на непонятные “красок и раздумий пятна”? И почему мы должны быть в плену того, что нам непонятно? В этом же цикле напечатано стихотворение, в котором предельно ясно выражено кредо автора по вопросам искусства. Привожу его полностью (снова цитируются отрывки из стихотворений “Пикассо” и “Бессонница”. — А. Б.)». Этот отзыв (редчайший случай!) стал текстуально известен Лидии Чуковской, записавшей тогда же: «Гитовича прорабатывают за стихи, где говорится, что он-то не варвар и потому любит Пикассо. “А, значит, мы варвары!”».
Заодно разносу подвергся отдельно изданный поэтический сборник А. Гитовича «Звезда над рекой», вышедший в 1962 г.: «Это хорошая книга, и где много интересных стихов о войне, но в ней же есть два стихотворения, которые не совсем понятны. Одно называется “Битва” (написано в 1946 г.), в котором автор претендует на какую-то исключительность (цитирует стихотворение. — А. Б.). Второе написано в 1962 г. и называется “Клеветникам”. В подобных стихотворениях надо тоже указывать адрес, чтобы не возникли у читателей неправильные толкования, чтобы не отнести их в адрес тех, кто этого совершенно не заслуживает»[199]. Нападки на стихотворения Гитовича, несомненно, вызваны событиями того времени, прежде всего, «скандалом в Манеже», учиненным Хрущевым. Стихи поэта «Из цикла “Пикассо”» прозвучали как протест против вмешательства власти в искусство. Ахматова даже придумала слово «манежность», как некий настораживающий знак поворота. Л. Чуковская говорила ей в декабре 1962 г.: «Ведь щель вот-вот закроется… Мощную пробоину начнут заклепывать… — Да и Манеж… — сказала Анна Андреевна, — Мой “Реквием” не успеет, если манежность перекинется на литературу»[200].
Поэт и переводчик Ачександр Ильич Гитович (1909–1966) давно был на заметке, еще с 1940 г., когда он руководил объединением молодых поэтов при ленинградском отделении ССП. Ему тогда инкриминировалось то, что он «развивает среди поэтической молодежи тенденции аполитичности поэзии, пессимизма, ухода от советской действительности в интимный замкнутый мир личных переживаний. Чему учит Гитович молодежь, очень ярко показывают строки его стихотворения, появившегося в результате поездки в Мурманск:
Чего-то ждать в пути и не дождаться, Чему-то верить, в чем-то сомневаться, И ничего как следует не ждать»[201].«Ряд возражений политического характера» вызвало содержание «Дня поэзии» на 1964 год: «Мы являемся современниками грандиозных свершений советских людей. Страна развертывает могучее соревнование за достойную встречу 50-летия Великого Октября. И, естественно, читатели ждут волнующих произведений о наших отцах, смело пошедших на штурм твердынь капитализма, построивших социалистическое общество, ведущих младшие поколения к коммунизму», — так в пафосной стилистике того времени начинает цензор свою докладную записку, и продолжает: «Но, к сожалению, эта главная тема звучит в книге как-то приглушенно. Чувствуется, что многие авторы испытывают робость, когда обращаются к оптимистическим сторонам нашей жизни. Если не считать разрозненных упоминаний о “кораблях в межпланетном просторе”, то и не угадаешь, что сборник издается в 1964 г. Его содержание в смысле показа действительности, в основном, обрывается годами блокады Ленинграда. Он, образно говоря, бьет мимо цели, мимо главного. Авторы не обращаются к оптимистическим сторонам нашей жизни…»[202].
Снова не понравилась Анна Ахматова: в сборнике «День поэзии-1964» помещено четыре стихотворения из цикла «Песенки». Возражения вызвала поэма полузапрещенного Анатолия Мариенгофа «Денис Давыдов», сочиненная еще в 1942 г. Даже публикация затерянного, не вошедшего в собрания сочинений стихотворения Сергея Есенина «Тихий вечер» из цикла «Персидские мотивы», обнаруженного Вл. Орловым на страницах ленинградской «Красной газеты» за 1926 г., вызвала нарекания: «На мой взгляд, новое стихотворение Сергея Есенина “Тихий вечер” может быть напечатано в полном собрании его сочинений. Взятое же изолированно, оно создает превратное представление о большом поэте».
Протест цензора вызвали «…двусмысленные, похожие на ребусы стихи», помещенные в этом сборнике, — А. Кушнера, В. Сосноры, Г. Горбовского и других ленинградских молодых поэтов (заодно перечислены и московские — Е. Евтушенко и Б. Окуджава), «причем, — добавляет он, — отдельные из названных стихотворений нацелены против недавних указаний партии по вопросам литературы и искусства. Всего в “Дне поэзии-1964” нам пришлось сделать 10 вычерков. От ряда включенных произведений разит не совсем нашим политическим душком, сняты полностью стихотворение А. Кушнера “Калмычка”, стихотворение Б. Окуджавы “Как научиться рисовать” и другие». Резко выступает он против публикации стихотворений Глеба Горбовского, которому, замечу, вообще больше всего не везло в цензуре: «Особо следует доложить о стихотворении Глеба Горбовского “Зрелость” (стр. 161). По Вашему (т. е. начальника Ленгорлита. — А. Б.) указанию оно нами дважды снималось (альманах “Молодой Ленинград” —1963 год и журнал “Нева” № 5 — 1964 год). Теперь это архиупадочническое стихотворение предлагается третий раз. Такую настойчивость автора нельзя расценить иначе, как сознательное протаскивание в печать идейно-порочных произведений».
Но наибольшее, пожалуй, раздражение цензора вызвала общая «мрачная» тональность сборника — главным образом, его «нацеленность» на лагерную тему. Последним, в сущности, прорывом начавшейся уже тогда, в «царствование Хрущева», информационной блокады (но зато каким!) этой темы стал факт публикации «Одного дня…»
А. И. Солженицына, чудом напечатанного А. Т. Твардовским в 1962 г. в «Новом мире» с личного разрешения самого Хрущева: последнее доброе его дело… С тех пор тема объявлена практически закрытой. Говоря об отсутствии в сборнике оптимистических стихотворений, посвященных героической современности, цензор акцентирует внимание своего начальства на таком «моменте»: «Зато многие авторы пишут с явным удовольствием, с “творческим подъемом”, когда обращаются к теме репрессий и жертв, связанных с культом личности. Бросается в глаза обилие таких материалов — о Елене Владимировой (стр. 47–49), о Николае Олейникове (стр. 154–160), о Борисе Корнилове (стр. 96–98). Вообще коммунисты упоминаются в книге либо в связи с репрессиями, либо в связи с гибелью в бою (“…простреленные партбилеты” — стр. 71; “…и гибнет героически… за мир коммунистический” — стр. 282). 22-й съезд КПСС назван один раз (см. стихотворение О. Шестинского “Стихи о партии, написанные в тайге”, стр. 272), и тоже в связи с реабилитацией репрессированных лиц. Как видно, эта тема красной нитью проходит через весь сборник, и она (наряду с блокадными стихами) воспринимается как главная, ведущая тема. На мой взгляд, согласиться с таким тенденциозным подбором материала нельзя. Считаю, что сборник нуждается в серьезной доработке. Прошу дать указание на возвращение его издательству».
Помимо произведений двух расстрелянных поэтов (Олейникова и Корнилова), упомянута в отзыве цензора посмертная публикация трех, написанных в колымских лагерях стихотворений Елены Львовны Владимировой (1902–1962), поэтессы, отдавшей Колыме двадцать лет жизни, — «Судьбою нам нынче начерчен…», «Закат на Охотском море» и «Владивостокские ночи». Ее знаменитая поэма «Колыма», так же как стихотворение «Мы шли этапом…» (оно было в 1965 г. опубликовано за рубежом, в 57 номере журнала «Грани», с пометкой: «Ни имя автора, ни судьба его неизвестны»), широко ходили в свое время в самиздате и не имели шанса появиться в печати[203]. Легально стихи и поэмы Владимировой смогли появиться лишь спустя тридцать лет после ее смерти — в 1992 году.
Различного рода репрессиям подвергался и ряд других литературных альманахов и сборников, печатавшихся в городе. Показательна в этом смысле судьба «Круга» — первого сборника прозаиков и поэтов литературного андеграунда, издававшегося в 1985 г., накануне перестройки (см. о нем в главе 10).
Цензурная судьба Зощенко и Ахматовой
Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду…
Осип Мандельштам. 1930 г.Кто не хочет перестраиваться, например, Зощенко, пускай убирается ко всем чертям…
Иосиф Сталин. 1946 г.«Беречь» Зощенко призывал из далекого эмигрантского далека А. М. Ремизов, добавив при этом: «Это наш, современный Гоголь». Но в слове «беречь» таился и второй смысл, который уловлен был властями как призыв тоже оберегать Зощенко, но по-своему — от читающей публики. На первых порах — в годы «относительно вегетарианского», как говаривала Анна Ахматова, НЭПа, когда слава Зощенко была по-истине всенародной, — такое «обережение» имело еще скромный характер. Впрочем, писатель был взят на заметку буквально с первых же его шагов в литературе, уже в 1923 г., когда готовился 6-й номер журнала «Россия», предполагавший напечатать его рассказ «Старуха Врангель». Сверхсекретный «Бюллетень Главлита РСФСР» за март этого года зафиксировал: «Материал: журнал “Россия”, № 6, в доцензурном виде. Смакование из номера в номер “гримас революции”. На этот раз здесь помещен рассказ “Старуха Врангель” (запрещен): советский быт изображается здесь приемами гофманских кошмаров; следователь ЧК — кретин, с примесью хитренького паясничанья, — арестовывает старуху Врангель, та умерла со страха»[204]. Тем не менее, Зощенко сумел в том же 1923 г. напечатать этот рассказ во второй своей книге — сборнике «Раз-нотык». В позднейшие годы рассказ не печатался и смог увидеть свет лишь в эпоху «перестройки». Между прочим, этот рассказ, ходивший в рукописном виде, был прочитан А. М. Ремизовым еще до эмиграции, в 1921 г., и так ему понравился, что он тотчас наградил Зощенко созданным им шутливым «Орденом Обезьяньей Великой и Вольной Палаты»[205].
О цензурных злоключениях Зощенко до августа 1946 г. написано уже немало, в том числе и автором этих строк[206]. Много внимания в публикациях уделяется, естественно, последним двенадцати страшным годам жизни писателя[207], хотя собственно цензурная сторона вопроса пока еще не нашла адекватного отражения. Обнаруженные документы Ленгорлита позволяют глубже и полнее представить последовавшую после 1946 г. трагедию, случившуюся, прежде всего, с двумя главными, назначенными сверху жертвами ждановского погрома, — Ахматовой и Зощенко.
Чиновники различных идеологических и охранительных ведомств наперегонки норовили заявить о своей преданности, добивая писателей. Через две недели после выхода постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» Главлит принял меры по своей линии, приказав изъять все три книги Зощенко, вышедшие в 1946 г. Приказ Главлита № 42/1629с от 27 августа 1946 г., предписывавший «…изъять книги Зощенко и Ахматовой из книготорговой сети и библиотек общественного пользования», сопровождался любопытным примечанием: «Снята копия и отправлено в Главсевморпуть»[208]. Это означало, видимо, что даже на судах, героически пробивающих себе путь сквозь льды северных морей, должны были предать огню эти книги (или выбросить за борт?). Такую же операцию, согласно полученной радиограмме, производили и зимовщики на подчинявшихся Главсевморпути полярных станциях, если книги Зощенко и Ахматовой оказались в их библиотечках.
Свою лепту в травлю Зощенко внесла, разумеется, и ленинградская партийная организация. 16 августа состоялось общегородское собрание писателей и работников издательств в Актовом зале Смольного, на котором выступил Жданов. Опубликованная стенограмма этого заседания производит удручающее впечатление: от Зощенко поспешили отмежеваться почти все писатели, даже (увы!) бывший друг по «Сера-пионову братству» Н. Н. Никитин[209]. Еще через три дня (19 августа) на имя секретаря обкома П. С. Попкова (арестованного, как известно, по «Ленинградскому делу» в 1949 г. и через год расстрелянного) поступило донесение, в котором редколлегия ленинградского юношеского журнала «Костер» (он был основан по инициативе С. Я. Маршака в 1936 г.) обвинялась в «отсутствии элементарной политической бдительности». Как оказалось, «…в 7-м (июльском) номере журнала помещен в числе других портрет Зощенко с краткой хвалебной характеристикой его “творчества”». Выяснилось также, что тираж журнала поступил в областную контору «Союзпечати» в тот самый злосчастный день, когда вышло постановление ЦК, — 14 августа, а 17-го контора начала рассылать его по стране. Автор послания, сотрудник Отдела пропаганды и агитации Обкома Хохоренко, с гордостью доносил, что ему удалось задержать на складе «Союзпечати» 12 500 экземпляров журнала (из общего тиража 17 ООО) и предать их уничтожению. Редколлегия журнала, по словам Хохоренко, «хорошо знала о содержании подготовленного к выпуску журнала, знала о решении ЦК ВКП(б) <…> но не приняла мер к тому, чтобы задержать рассылку журнала». Всем членам редколлегии — опять-таки «за притупление политической бдительности» — был объявлен строгий выговор по партийной линии[210].
«Круги по воде» расходятся все шире и шире, захватывая книги Зощенко, не вызывавшие прежде претензий. Цензоры и иные «ответственные товарищи» начинают запрещать их задним числом, спеша проявить бдительность и тем самым обезопасить себя от возможных неприятностей. Так, 13 ноября 1946 г. запрещено переиздание диафильма «Галоши и мороженое». Смешной и вполне невинный рассказ Зощенко, по которому он снят, был напечатан впервые в 5-м номере журнала «Крокодил» за 1939 г. «Кинодиафильм является наглядным пособием, помогающим воспитывать детей в духе преданности и любви к нашей Социалистической Родине, искусству, науке и пр., — так начиналось донесение Мособлгорлита 1946 г. — Но какую мораль преподносит детям диафильм “Галоши и мороженое”? (далее подробно излагается содержание рассказа — А. Б.). Что же полезного может дать нашим детям просмотр такого диафильма? <…> Диафильм опошляет нравственность наших детей и их родителей, безыдеен, показ его детям невозможен. Пленку диафильма изъять». Главлит согласился с этим решением, приказав «изъять из книготорговой сети, клубов, школ и библиотек диафильм “Галоши и мороженое” (“Кинодиафильм”, вып. 1946 г.)»[211].
Через год после августовской расправы вспомнили о замечательной книге А. Г. Архангельского (1889–1938) «Избранное. Пародии, эпиграммы, сатира», очередное издание которой вышло в 1946 г. с иллюстрациями Кукрыниксов. Книга свыше года лежала под спудом. В июне 1947 г. директор Гослитиздата Ф. Головенченко обратился в ЦК с такой просьбой: «В феврале 1946 г. Гослитиздатом была отпечатана тиражом в 25 тыс. экз. книга Архангельского “Пародии” с иллюстрациями художников Кукрыниксы. Книга была издана в соответствии с планом изданий Гослитиздата, утвержденным ЦК ВКП(б). Сразу по выходе в свет книга была задержана по указанию Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), так как помещенная в ней пародия на произведения Зощенко вызвала сомнение в целесообразности ее опубликования. Учитывая несомненную литературную и художественную ценность пародий Архангельского и иллюстраций Кукрыниксов, прошу Вашего разрешения на распространение книги». Однако Управление пропаганды и агитации посчитало «целесообразным отклонить предложение т. Головенченко о распространении книги»[212]. Книга подверглась запрету и запрятана в спецхран, однако в некоторых библиотеках, как удалось установить, она хранилась в общих фондах, но с вырезанными страницами (с. 41–42 и др.), — как раз теми, на которых напечатана пародия на Зощенко: его имя тщательно выскабливалось даже в оглавлении.
В «потере бдительности» обвинены были цензоры. Начальник Управления Г. Чахирев вызван в сентябре в Москву «для объяснений», затем в Ленинград нагрянула особая комиссия Главлита, выявившая множество недостатков. Сам Чахирев, как гласил приказ «О работе Леноблгорлита», «…не проявил политической остроты и партийной принципиальности при осуществлении контроля художественной литературы <…> не воспитывал кадры цензоров в духе большевистской ответственности за идеологическое содержание произведений печати, не прислушивался к голосу отдельных работников, ставивших вопрос о запрещении некоторых произведений Зощенко и Ахматовой, не информировал об этих сигналах областной и городской комитеты ВКП(б), а также Главлит <…> не сделал всех необходимых политических выводов по обеспечению в должной мере политико-идеологического контроля произведений печати». Заодно досталось цензору А. А. Троицкому, который «…в декабре 1946 г. разрешил к печати сборник стихотворений Вс. Рождественского, проникнутого духом ахматовщины. Издание настоящего сборника Главлитом запрещено». Набор подготовленного и сверстанного уже сборника был рассыпан, а руководители Леноблгорлита вскоре отстранены от работы за «проявление политической близорукости»[213].
В течение приблизительно трех недель (вторая половина августа— начало сентября 1946 г.) по поводу Зощенко и Ахматовой повсеместно проводятся «пятиминутки ненависти», если вспомнить роман Джорджа Оруэлла «1984»: проходят писательские собрания, принимаются резолюции, редкая газета не откликается статьей или заметкой, названия которых говорят сами за себя, — «Пошлость и клевета под маской советской литературы», «О пошлых писаниях одного журнала» («Звезды», конечно) и т. п. Затем, по команде сверху и опять же по Оруэллу, Зощенко и Ахматова объявлены «нелицами»: их имена вообще было запрещено упоминать, пусть даже и в отрицательном контексте. В отличие от Ахматовой, Зощенко пытался как-то «вписаться», начав работать над книгой «Никогда не забудете», материалом для которой послужили записи, сделанные им еще в 1944 г. во время встреч с вышедшими из лесов Ленинградской области партизанами. Лишь в сентябре 1947 г., благодаря особому ходатайству в ЦК только что назначенного на пост главного редактора К. М. Симонова, «Новому миру» позволили в 9-м номере опубликовать десять коротеньких рассказов (примерно треть от присланных). Кое-что на рубеже 40—50-х годов изредка появляется в журналах «Крокодил» и «Огонек» — опять-таки преимущественно рассказы из «партизанских» и «солдатских» циклов. Что же до сатирических и юмористических рассказов, принесших славу Зощенко, то редакция «Крокодила» посоветовала ему, опять-таки, «перестроиться» и попытаться «создать положительный жанр в комическом фельетоне». Напрасно писатель в ответном письме ссылался на то, что «…в русской комической литературе нет примеров, на которых можно учиться», поскольку «она всегда была обличительной», на то, что в ней «не было иной традиции»… Он даже пытался заняться «поисками в этом направлении», полагая, что «тем интереснее сломать традицию и поискать новых путей». Но тщетно: редакция отклонила высланные «на пробу» три рассказа, написанные в невиданном дотоле жанре «положительной сатиры».
Исключенный из Союза писателей в сентябре 1946 г., отлученный от печатного станка, загнанный писатель, как и многие другие, пытался «уйти в переводы». К этой работе с отвращением, как известно, относились Ахматова, Арсений Тарковский («О восточные переводы! / Как болит от вас голова…») и другие крупнейшие писатели. Всё же это давало хоть какие-то средства к существованию. Зощенко «ушел» в переводы с финского. В петрозаводском журнале «На рубеже» (1948, № № 8—10) публикуется в его переводе роман М. Лассилы «За спичками», но характерно вот что: в первых двух номерах имя Зощенко, как переводчика, отсутствует. Нет его и в большей части тиража отдельного издания романа (Петрозаводск, 1948).
Зощенко пробовал тогда найти другую нишу, пытаясь поставить на сцене свои многочисленные водевили, скетчи, сценки и т. п. Но тщетно: сценическая площадка была для него практически закрыта. На сей счет «профилактические меры» были предприняты Главным управлением по контролю за репертуаром и зрелищами (Главреперт-комом)[214]. 24 августа 1946 г. им был издан и разослан развернутый приказ, «нацеливавший» подведомственные ему структуры на неукоснительное выполнение постановления ЦК от 14 августа, в котором дана «исчерпывающая идейно политическая оценка политически вредным писаниям несоветских литераторов Зощенко и Ахматовой». «Это постановление, — отмечалось далее, — является боевой программой действий для всех работников советского искусства. А между тем, в работе как Центрального аппарата Главного управления, так и в республиках, краях и областях, имели место серьезные ошибки, обусловленные тем, что многие работники системы Главреперткома проявили либерализм по отношению к произведениям, чуждым и враждебным советскому искусству своей безыдейностью, обывательской пошлостью, реакционной аполитичностью. Грубой ошибкой Главного управления является разрешение к исполнению ряда клеветнических, пошлых рассказов Зощенко (“Рогулька”, “Операция”, “Дрова”, “Славный философ Диоген”, “Фокин-Мокин”, “Монтер”, “История болезни”) и его пасквилянтской пьесы “Парусиновый портфель”, а также проникнутых духом пессимизма и упадочничества декадентских стихов Ахматовой». И, как итог: «Приказываю: 1. Уполномоченным Главреперткома изъять из репертуара театров, эстрадных и концертных исполнителей и художественной самодеятельности все пьесы и рассказы Зощенко и стихи Ахматовой, равно как и декадентские романсы, написанные на тексты Ахматовой. 2. Уполномоченного Главреперткома по г. Ленинграду тов. Гусина, допустившего грубую политическую ошибку, дав разрешение на показ пошлой и вредной комедии Зощенко “Очень приятно”, запрещенной Главным управлением, с работы снять»[215].
Постоянно вызывал претензии сценарий «Опавшие листья», причем на доцензурном уровне, о чем, в частности, свидетельствует сохранившаяся стенограмма заседания Редакционного совета Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Еще в июле 1946 г., незадолго до выхода постановления ЦК, на нем обсуждалась рукопись новой книги Зощенко «Рассказы. Фельетоны. Театр. 1941–1945»[216].
Наибольшие претензии членов Редсовета вызвал именно этот сценарий. Зощенко пытался отстоять его: «Если бы это была книга “Избранное”, я бы процедил его, но позвольте мне издать то, что я написал во время войны». Двусмысленную позицию занял Саянов, пытаясь «защитить» Зощенко от грядущих неприятностей: «У меня вызывает сомнения одна вещь — “Опавшие листья”… Зная примерно круг критиков и цензоров, я знаю, что к этой вещи могут быть придирки, поэтому пересмотреть кое-что нужно… Эту вещь нужно пересмотреть… писатель рискует вызвать нарекания критики… (Зощенко, перебивая: “Мы же не цензурный орган…”). Я не могу, уважая тебя, не говорить об этом… Иногда из желания говорить только приятные вещи в глаза, не указывают на то, что есть…»
Но все точки над i расставил А. А. Прокофьев, через год ставший секретарем Ленинградской писательской организации и заявивший с большевистской прямотой: «Я не читал этого произведения Михаила Михайловича. Но хочу сказать в пользу разговора. Я имею в виду следующее: мы, члены Редсовета, имеем право указывать автору на то, что, по нашему мнению, идеологически слабо или не так желательно в книге. Да, мы не цензура. Но мы в то же время должны следить не только за стилистикой, но и за политикой. Цензура имеет свои законы, но мы можем, не вступая на ее путь, тоже указать Михаилу Михайловичу. В цензуре тоже люди сидят не о семи головах, но та редакционная работа, которую мы делаем, является помощью цензуре». Выделенные курсивом слова говорят сами за себя. Во-первых, литературный функционер и, все-таки, неплохой поэт, не стесняется признаться, что он не знаком с «Опавшими листьями», прибегая к знаменитой формуле, — «Я не читал, но скажу», — которой обычно пользовались представители «простого народа», осуждавшие в печати и на собраниях «враждебные происки» писателей, например Пастернака, Солженицына. Во-вторых, он, опять-таки, не стыдится произнести слова, немыслимые и невозможные в устах редактора или издателя дореволюционного времени, слова о том, что редакторы должны помогать цензуре.
За публикацию сценария высказались Ольга Берггольц и Николай Никитин. Последний (напомним, что всё это происходило еще до выхода постановления) попробовал примирить выступавших: «Ясно, что мы обязаны обсуждать с идеологической точки зрения, но не в порядке замены цензуры». Понятно, что вся эта «полемика» потеряла после августа какой-либо смысл. Книга так и не вышла в свет, собратья по перу угадали грядущие перемены…
В течение последующих десяти лет не появилось ни одной книги Зощенко. Правда, после смерти Сталина и вслед за наступившим легким «потеплением» судьба Зощенко несколько улучшается. 23 июня 1953 г. его не восстанавливают, как предлагали некоторые «руководящие» писатели, а заново принимают в члены Союза советских писателей. «Ленинградский альманах», вышедший в начале 1954 г., публикует три его рассказа, Зощенко даже пробует подать заявку на издание книги. Затем, однако, снова начинаются гонения, вызванные известным самоубийственным выступлением на встрече с английскими студентами в Ленинграде 5 мая 1954 г. Газета «Ленинградская правда» (1954, 28 мая) сообщала тогда в отчете о партийном собрании писателей: «Участники партийного собрания отмечают, что и среди ленинградских писателей есть люди, которые занимают неправильную позицию. До сих пор не сделал никаких выводов из постановления ЦК ВКП(б) “О журналах «Звезда» и «Ленинград»” М. Зощенко. Факты последнего времени свидетельствуют о том, что М. Зощенко скрывал свое истинное отношение к этому постановлению и продолжает отстаивать свою гнилую позицию». 3 июня уже центральный орган партии — газета «Правда» — помещает статью известного литпогромщика В. Ермилова «За социалистический реализм», обвинявшей Зощенко в «безыдейности» и прочих грехах.
Лишь в 1956 г. ситуация изменилась в лучшую сторону — после десятилетнего перерыва началась подготовка издания «Избранных рассказов и повестей. 1923–1956». В «Деле автора М. М. Зощенко по изданию отдельных произведений» помещена так называемая «внутренняя рецензия» Д. А. Гранина, в которой он горячо рекомендует издательству выпустить эту книгу. Весьма примечательна аргументация автора рецензии, решившего, для пущей убедительности, говорить с теми, от кого зависела судьба книги, на понятном им «партийном» языке: «Наконец, издание сборника лучших рассказов Зощенко имеет и политическое значение — наша борьба за партийность литературы никогда не означала пожизненного отчуждения того или иного писателя без разумного ответа, достаточно вспомнить позицию Ленина в отношении сборника рассказов Аверченко». Как известно, ряд книг Аверченко, в том числе сборник «Осколки разбитого вдребезги», включившем ряд рассказов из книги «Дюжина ножей в спину революции», был издан в двадцатые годы благодаря своеобразной рекомендации В. И. Ленина: «<…> Огнем дышащая ненависть делает рассказы Аверченко — и большею частью — яркими до поразительности <…> Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять»[217].
Затем, видимо, спохватившись, решив, что, несмотря на апелляцию к священному имени, такой прецедент может сыграть скорее отрицательную роль, — напомним, что книги Аверченко в то время не издавались, а все издания его рассказов, советские в том числе, запрятаны в спецхраны, — рецензент добавляет: «Пример этот может показаться бестактным по адресу советского писателя, но я привожу его не в порядке сходства, а для различия»[218]. Зощенко успел увидеть еще одну свою книгу, изданную за месяц до его кончины — в июне 1958 г. (Рассказы и фельетоны. М.: Гос. изд. художественной литературы): 24 июля он умирает.
И все же, даже после смерти, Зощенко был оставлен под подозрением. Хотя в 60-е — начале 70-х гг. изредка и в крайне усеченном виде его произведения появляются в свет, но говорить о них рекомендовалось (а вернее — разрешалось) как можно меньше и обязательно в иде-ологически-выдержанном тоне. Время от времени выходили его однотомники и даже двухтомники, но корпус текстов тщательно при этом выверялся, отсекалось всё, что не совпадало с «текущим моментом» в идеологии. Не могло идти речи о публикации не издававшихся ранее текстов писателя, да и многие произведения, созданные в относительно либеральные 20-е годы, не имели шанса увидеть свет в печати. Так, например, под занавес «оттепели», 26 апреля 1963 г., Зощенко фигурирует в «Справке о некоторых вопросах политико-идеологического содержания художественной литературы». Вначале с «чувством глубокого удовлетворения» констатируется, что «…политико-идеологическое содержание художественной литературы и изопродукции в ленинградских издательствах в основном соответствует требованиям, предъявляемых Партией и Правительством к советской литературе и искусству. Выпущенные за последние два года книги написаны с позиций социалистического реализма. Они партийны, народны, помогают делу строительства коммунизма». Дальше, как и положено, начинается негативная часть справки: «Но иногда у некоторых авторов наблюдается некритический подход к отбору фактов для своих произведений». В качестве примера приводится содержание ленинградского сборника «День поэзии» за 1962 г., о котором речь шла выше, но большую часть справки занял «анализ» книги Зощенко: «В январе 1962 г. была подписана к печати, а в апреле 1962 г. вышла в свет книга “Неизданные произведения” М. Зощенко. В книге в ряде случаев гитлеровские солдаты рисуются добродушными простачками (рассказ “Хозяева идут”), а условия партизанской борьбы облегченными. Вот в рассказе “Федот, да не тот” утверждается, что уже с конца 1943 года население приходило в партизанский отряд как в свое советское учреждение, находящееся в тылу у немцев. “Приходили люди по многим делам своим. И даже, не страшась немцев, везли на санях больных лечиться… Между прочим, в отряд пришел один гитлеровец, солдат, служивший в комендатуре при волости. Пришел он с жалобой на своего коменданта, который побил его по лицу” (с. 127).
В рассказе “Хозяева идут” на стр. 121 нами был снят текст с описанием героической смерти немецких солдат, облагораживающем фашистскую армию: “Я тоже считаю, что немцы не трусы. Они очень, очень смело дерутся и умеют храбро умирать. Помню, мы догнали в поле одну группу немцев. Деваться им было некуда. Они встали у стога сена, крепко взяли друг друга за руки и стоят. И вдруг тихо начали петь. Мы кричим им, кричим: “Сдавайтесь, фрицы!”, а они отрицательно качают головой и продолжают петь” (этот фрагмент подчеркнут. — А. Б.).
В “Рассказе знакомого полковника” дано неправильное описание кадров руководителей колхозов. “По нашим прежним понятиям, Петруша, председатель колхоза, — это недоучка, а то и попросту серый мужик. Сами из деревни, знаем, как у нас нередко бывало! Как не рассмеяться, если я занял должность, какая раньше не требовала ничего, кроме, пожалуй, умения произносить цветистые речи с трибуны (с. 211)” (подчеркнуто. — А. Б.)»[219]. Книга, хотя и подвергнутая указанной выше вивисекции, все-таки вышла в свет в 1962 г. под названием «Рассказы. Фельетоны. Комедии. Неизданные произведения».
Крайне ревниво и настороженно относилась ленинградская цензура к публикациям, посвященным жизни и творчеству писателя. Журнал «Аврора» намеревался в 1975 г. откликнуться в июльском номере статьей, посвященной 80-летию со дня рождения Зощенко. В «Информации о политико-идеологических замечаниях по материалам журнала “Аврора”, № 7 за 1975 год», опять-таки посланной в обком, сообщалось, между прочим: «В этот номер журнала редакция поместила статью Владимира Соловьева “Литературный герой: функция и фикция”.
Критик заявляет: “Сейчас меня тревожит судьба Михаила Зощенко и куда меньше интересуют разборы отдельных его произведений”. Зощенко, по мнению В. Соловьева, “любил скрываться, и маску писателя читатель видел чаще, чем его лицо. У него были авторские наместники, которым он доверял свой талант. Одному из таких “наместников” он передоверил свою судьбу”. Кто же этот “наместник»? Критик отвечает на этот вопрос так: “Он (Зощенко) создал в двадцатые годы усредненный тип обывателя, образ колеблемый и неустойчивый — то жертвенный, то агрессивный, то вызывающий жалость, а то — опаску”. И далее о зощенковском герое сказано: “Он многолик и многозначен — и в ряде случаев, в ряде столкновений вызывает сочувствие. Порою он даже не авторская маска, а авторское alter ego. Своего героя Зощенко одаривает автобиографическими чертами: участие в войне, отравление газами, ранение, нервное заболевание. Через этого героя писатель пытается выразить свое отношение к тем или иным явлениям жизни — инциденты в бане или в больнице наглядное тому свидетельство”. Соединив таким образом автора и его героев в одно лицо, критик В. Соловьев тем самым вольно или невольно приписывает писателю взгляды его литературных героев. Между тем, эти взгляды охарактеризованы в статье следующим образом: “Зощенковский герой относится к революции меркантильно, пытаясь извлечь из нее ближайшую выгоду… <он> глубоко убежден, что о человеке должно судить не по личным его заслугам и достоинствам, а по принятому “обменному” что ли курсу ценностей: от социального происхождения до союзной книжки… В представлении зощенковского героя-рассказчика бюрократическая функция подменяет человека” и т. д. Нечеткость и поверхностность суждений, проявленные В. Соловьевым в понимании творческого пути писателя, сказались и в оценках творческого метода Зощенко. “Михаил Зощенко обнаружил и четко сформулировал конфликт своего (да и не только своего!) времени — конфликт уже не классовый, но всё равно острый и непримиримый”, — читаем по поводу известного рассказа “Серенада”. Рассказы “Аристократка”, “В бане”, “История болезни” В. Соловьев определяет как “фантастические” и добавляет при этом: “Фантастика — способ показать абсурдность реальности, к которой мы постепенно привыкаем, а не надо бы…” В статье “Литературный герой: функция и фикция” мимоходом упоминается, что повесть М. Зощенко “Перед восходом солнца” была “резко встречена критикой”, при этом ни слова не говорится, что оценка этому произведению была дана в известном партийном постановлении, определившем характер целого периода в творчестве Зощенко. Как видно, критик не счел нужным обратиться к этому документу. По согласовании с отделом культуры ОК КПСС статья В. Соловьева не была разрешена к опубликованию»[220]. Замечу, что некоторые, вырванные из контекста, положения его статьи выглядят весьма спорно; во всяком случае, они нуждаются в доказательствах, которые, возможно, имелись в полном тексте.
Незадолго до перестройки, в 1983 г., цензурные претензии вызвал 6-й номер «Звезды»: Леноблгорлит потребовал изъятия ряда материалов и возвратил верстку номера в редакцию — «в связи с тем, что отдельные материалы не полностью подготовлены к печати». В частности, в одной из статей он заметил «перекос», благодаря которому Зощенко уделяется слишком большое внимание: «Вызывает сомнение целесообразность публикации статьи И. С. Эвентова “В. Маяковский и М. Зощенко”, фактически посвященной М. Зощенко, а не В. Маяковскому, девяностолетие со дня рождения которого отмечается в 1983 году»[221]. После «консультации» с обкомом партии статья Эвентова выброшена из журнала.
«В ЦК КПСС поступают письма, авторы которых обращают внимание на широкое издание в последние годы произведений Зощенко», — так начиналась справка, подготовленная 12 сентября 1984 г. заведующими отделами культуры и пропаганды ЦК КПСС В. Шауро и Б. Стукалиным. Такими «авторами» вряд ли были обычные читатели; скорее всего — толпившиеся у кормушки «обиженные» писатели и литературные функционеры. В справке приведены, по данным Всесоюзной книжной палаты, сведения о тиражах и количестве изданий книг писателя с 1947 по 1983 гг. Особое внимание обращено на то, что «…коллегией Госкомиздата принято решение о подготовке к выпуску в издательстве “Художественная литература” четырехтомного собрания сочинений М. Зощенко тиражом 100 тыс. экземпляров. Причем составители собрания намечают включить в него и повесть “Перед восходом солнца”, первая часть которой была опубликована в журнале “Октябрь” в 1943 г. и получила резкое осуждение в постановлении ЦК в 1946 году». Вывод: «Имея в виду, что такое широкое тиражирование произведений М. Зощенко вряд ли оправданно, Отдел культуры и Отдел пропаганды ЦК КПСС считают необходимым поручить Госкомиздату СССР принять меры к упорядочению произведений М. Зощенко»[222]. Под эвфемизмом «упорядочение» понималось, конечно, уменьшение количества изданий и снижение тиражей.
Вновь выплыла и повесть «Перед восходом солнца», публикация которой была оборвана в журнале «Октябрь» в 1943 г.: в двух сдвоенных номерах (№ № 6–7, 8–9) напечатано шесть глав из тринадцати. С нее и начались злоключения Зощенко. Как известно, она сразу же была квалифицирована как «политически вредное и антихудожественное произведение». Журнал «Большевик» (1944, № 2) публикует установочную статью «Об одной вредной повести», обвинявшую Зощенко в «клевете на советских людей», в том, что он написал «галиматью, нужную лишь врагам нашей родины». 20 июня того же года вернувшегося в Ленинград писателя вызывают в Управление МГБ, требуя ответить на более чем 30 вопросов, связанных с этой повестью. В 1972 г. «Звезда» совершает неожиданный прорыв, опубликовав вторую часть запрещенной книги под более или менее нейтральным названием «Повесть о разуме» (1972, № 3) с предисловием известного философа Арсения Гулыги. Ни словом не упоминая о злосчастной публикации начала повести «Перед восходом солнца» в 1943 г. и даже ни разу не назвав ее, он, тем не менее, довольно подробно пересказал в предисловии ее содержание. Таковы были способы обмана цензуры в то время… М. О. Чудаковой в книге «Поэтика Михаила Зощенко» (М, 1977. С. 166–168) все же удалось рассказать о работе Зощенко над окончанием повести и частично коснуться вопроса об осуждении ее официальной критикой. Но книга Чудаковой была издана в Москве; перепуганные цензоры Леноблгорлита изрядно пощипали вышедшую в том же году в Ленинграде книгу Дмитрия Молдавского «Михаил Зощенко. Очерк творчества» (Л., 1977), хотя ему все же удалось сказать о том, что Зощенко называл эту вещь своей «главной книгой» и боялся «умереть, не закончив эту книгу» (с. 254).
Последнее упоминание о Зощенко и его повести, сохранившееся в архивах ЦК партии, относится уже к началу «перестройки»: 17 апреля 1985 г. первый секретарь Союза писателей СССР Г. Марков направляет «в порядке информации» письмо, присланное ему тем же Д. Молдавским, который посчитал «своим долгом сообщить о сделанной находке»: при изучении рукописей Зощенко ему удалось найти несколько страниц, не вошедших в публикацию «Октября» 1943 г. «Мне кажется, — писал литературовед, — для пользы дела следовало бы выпустить “Перед восходом солнца” полностью, включив выпущенные страницы». 29 мая письмо легло на стол заместителя заведующего Отделом культуры ЦК А. Беляева, который, видимо, не знал, что с ним делать: как раз незадолго до того, в апреле 1985 г., состоялся «исторический» пленум ЦК КПСС, на котором новый генсек Горбачев заговорил о каком-то неведомом «человеческом факторе», а также малопонятных «ускорении» и даже «гласности». На всякий случай — мало ли куда еще ветер подует! — он оставил такую «констатирующую» резолюцию: «Повесть М. Зощенко “Перед восходом солнца”, напечатанная в журнале “Октябрь”, вызвала резкую критику в партийной прессе, получила осуждение в постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. “О журналах ‘Звезда’ и ‘Ленинград’ ”. Тов. Маркову сообщено, что информация в ЦК КПСС получена»[223].
Как видно из этой переписки, вопрос о публикации повести мог быть решен только на самом высоком уровне. Полностью она начала печататься только в конце 80-х годов. Тогда же впервые публикуются документы и письма, свидетельствующие об организованной травле Зощенко, начавшейся в 1943 году и продолжавшейся до конца его жизни[224]. Более того: как видно из приведенных выше документов, цензурные мытарства писателя продолжались на протяжении трех десятилетий посмертно…
* * *
Устойчивую и постоянную идиосинкразию вызывало имя Ахматовой, о чем не раз уже говорилось в нашей книге (см. Указатель имен); существует и ряд исследований, специально посвященных этой теме[225]. Как известно, на имя Ахматовой с тех пор, как в 1922 г. в Петрограде вышел ее сборник «Белая стая», было наложено вето. Переиздать его через год удалось только за рубежом, в Берлине, украсив суперобложку известным портретом работы Натана Альтмана. Кооперативное издательство «Петроград» попробовало было выпустить в 1926 г. двухтомное «Собрание стихотворений», но безуспешно: уже набранная верстка подверглась запрету. Сборник «Из шести книг», неожиданно вышедший после восемнадцатилетнего замалчивания Ахматовой, сразу же вызвал ряд репрессивных мер: «Вдруг случилось невероятное: было свыше разрешено издать том избранных ее стихотворений. Прошло всего полгода после выхода книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и библиотек… Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей» — заметил Р. В. Иванов-Разумник[226]. На имя Жданова 15 сентября 1940 г. поступил запрос-донос управляющего делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крупина, в котором, в частности говорилось: «Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее “поэзия”: бог и “свободная любовь”, а “художественные” образы для этого заимствуются из церковной литературы. Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой». Жданов приказал разобраться с этим делом: «Как этот ахматовский “блуд с молитвой во славу божию” мог появиться в свет? Какова также позиция Главлита? Выясните и внесите предложения»[227].
Говоря о том времени, Н. Я. Мандельштам пишет: «…пострадали люди и книга Ахматовой, которая пошла под нож. Из всего тиража, уже сложенного в пачки, уцелело несколько экземпляров, украденных рабочими. Можно считать, что книга вышла в количестве двадцати экземпляров. Мы живем в стране неслыханно больших и неслыханно малых тиражей»[228]. В данном случае — это преувеличение. Несмотря на то, что постановлением ЦК велено было «книгу стихов Ахматовой изъять», большая часть ее тиража все-таки успела попасть в продажу и моментально была раскуплена.
Гораздо драматичнее сложилась судьба двух книг Ахматовой, вышедших в июле, как раз накануне августовского постановления ЦК 1946 г. Тиражи этих книг успели почти полностью уничтожить: остались буквально считанные экземпляры. Повелевалось также приостановить производство и распространение двух книг Ахматовой, готовившихся к изданию в этом же году («Стихотворения» и «Избранные стихи»). Заодно велено «выкорчевать ахматовщину», в связи с чем, как уже говорилось ранее, в декабре 1946 г. уничтожен набор уже сверстанного сборника стихотворений Всеволода Рождественского.
После 1946 г. наступила 12-летняя пора гробовой тишины. Начиная с 1958 г. книги Ахматовой время от времени появляются, но в крайне усеченном виде. Камнем преткновения остаются «Реквием», полный текст «Поэмы без героя» и другие произведения. Даже в «Стихотворениях и поэмах», вышедших в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1977 г. и подготовленных академиком В. М. Жирмунским, литературное наследие поэтессы представлена далеко не в полном виде. О постоянных «издательских подлейших мошенствах» Ахматова неоднократно рассказывала Лидия Чуковская. В «Беге времени» 1965 г. редакторы заставили убрать обращенные к ней строки Иосифа Бродского, поставленные в качестве эпиграфа к стихотворению 1962 г. «Последняя роза» («…вы напишете о нас наискосок»). Вместо «Памяти Бориса Пастернака» они же предложили озаглавить «Смерть поэта». Ахматова согласилась — потому, быть может, что такое название, начиная со стихотворения Лермонтова, как нельзя лучше передавало смысл трагедии, приключившейся с затравленным поэтом после 1958 г. «Но уже без спросу, — рассказывала Ахматова, — негодяи подменили даты: вместо 1960-го под “Смертью поэта” в надежде на беспамятство читателей поставлено “1957”, и под стихотворением “И снова осень валит Тамерланом” не 47-й, а тоже 57-й». Л. Чуковская так комментирует эти редакторские «мошенства»: «Сняли строку Бродского — понятно: его имя запрещено цензурой. Поставили под стихами “Смерть поэта” не 60-й, а другой год — тоже понятно: мало ли какой поэт умер в 1957-м году! В чем была задача злоумышленников, подменявших дату под последним стихотворением, не совсем понимаю. Просто, чтобы подальше от 46-го?»[229].
Словобоязнь, столь характерная для логократического режима, заставила редакцию журнала «Москва» в 1959 г. даже снять название стихотворения «Август», заменив его «Сном», в котором есть такие строчки: «О август мой, как мог ты весть такую / Мне в годовщину страшную отдать!» По мнению Л. Чуковской, «названия они испугались, потому что постановление 46-го года было в августе»[230]. Но, судя по контексту, в стихотворении все-таки скорее речь шла о другом августе — 1921 года, когда был расстрелян Гумилев.
Выше уже упоминалось о репрессиях, обрушившихся на сборник «День поэзии-1962». Резкое недовольство вызвала попытка публикации первой главы «Поэмы без героя» Ахматовой: «К числу недостатков этого сборника, — сообщается в справке Ленгорлита, представленной в обком, — следует отнести стихи Анны Ахматовой с их какой-то потусторонней, салонной лирикой…», приводя в «доказательство» следующие первые 17 строк:
1913 год (Петербургская повесть) Глава первая Я зажгла заветные свечи, Чтобы этот светился вечер, И с тобой, ко мне не пришедшим, Сорок первый встречаю год. Но… Господняя сила с нами! В хрустале утонуло пламя, «И вино, как отрава, жжет». Эти всплески жесткой беседы, Когда все воскресают бреды, А часы всё еще не бьют… Нету меры моей тревоге, Я сама, как тень на пороге, Стерегу последний уют. И я слышу звонок протяжный, И я чувствую холод влажный, Каменею, стыну, горю…»[231].Как видно из этого донесения, смысл и даже стилистика цензурных претензий к творчеству Ахматовой (так же, как и М. М. Зощенко), в сущности, несмотря на «оттепель», не изменились спустя шестнадцать лет после выхода постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда и «Ленинград» и доклада Жданова, жертвами которых были выбраны именно эти авторы. Иное дело, что, как хорошо известно, поэма Ахматовой и, особенно, ее «Реквием», попав в российский «самиздат», еще при ее жизни достигли фантастического тиража, который не снился ни одному подсоветскому писателю. Отрывки из «Поэмы без героя» печатались в различных изданиях, но до 1974 г. полностью не увидели света ни в одном из них. Первая, наиболее авторитетная публикация по авторизованной машинописной копии, подписанной автором и подаренной в 1963 г. В. М. Жирмунскому «с устным указанием, что этот текст — последний и окончательный», вошел в сборник Анны Ахматовой «Стихотворения и поэмы» («Библиотека поэта». Л., 1977).
На первых порах запрету подлежали и любые упоминания об Ахматовой, тем более, восхваление ее творчества в литературоведческих и иных трудах. В 1950 г. Главлит вспомнил о первой книге, посвященной творчеству поэтессы, — исследовании академика В. Виноградова «О поэзии Анны Ахматовой. Стилистические наброски», изданной в Ленинграде еще в 1925 г. в серии «Труды Фонетического института практического изучения языков». Несколько экземпляров книги запрятали в спецхран, остальные — уничтожили. Мотив изъятия: «В книге приводится множество цитат из стихотворений Ахматовой, вошедших в сборник ее стихотворений “Из шести книг”. Кроме того, автор книги восхваляет и пропагандирует творчество Ахматовой, считая его образцом поэтического мастерства»[232].
Руководство ленинградского Управления всячески поощряло рвение сотрудников, сумевших распознать в представленных текстах «нежелательную тенденцию». Даже в конце 70-х годов лишний раз упоминать имя Ахматовой не рекомендовалось. В 1977 г. отличилась на этом поприще цензор Л. А. Андреева: «В феврале с. г. издательство “Советский писатель” представило на контроль в Управление верстку книги “Люди — народ интересный” Л. Рахманова. Тов. Андреева Л. А. обратила внимание на главу, в которой автор вспоминал об А. Ахматовой. Текст главы изобиловал бытовыми подробностями. Аътор утверждал, что в послевоенные годы он был тем, кто способствовал А. Ахматовой легче перенести годы испытаний, которые, якобы, незаслуженно были взвалены на ее плечи. По согласованию с отделом культуры ОК КПСС эти рассуждения автора были исключены из текста главы». «Ходатайствую о повышении должностного оклада т. Андреевой Л. А. при возможности», — так оценило бдительность сотрудницы ее начальство[233].
В полном виде наследие Ахматовой стало публиковаться лишь в конце 80-х — начале 90-х годов. Появился, наконец, «Реквием» (Октябрь, 1987, № 3). Между прочим, сама Ахматова опасалась, что в напечатанном виде этот цикл может лишиться притягательности: «Вы заметили, что случилось со стихами Слуцкого о Сталине? Пока они ходили по рукам, казалось, что это стихи. Но вот они напечатаны, и все увидели, что это неумелые, беспомощные самоделки. Я боялась, с моим “Реквиемом” будет то же…»[234]. Ахматовой так и не удалось увидеть его на страницах официальной печати, но время показало, что опасения ее были совершенно напрасны…
Блокадная тема в цензурной блокаде
Через пять лет после полного снятия блокады была предпринята широкомасштабная цензурная акция: пересмотру и «зачистке», если применить современный зловещий термин, подлежала вся книжная продукция Ленинграда послевоенного времени. Причины, вызвавшие такую акцию, вполне понятны: во-первых, необходимо было прореагировать на августовское постановление 1946 г., а во-вторых, — и это стало непосредственным сигналом к проведению акции— в 1949–1950 гг. пущена была в ход очередная, одна из последних «судорог» сталинского режима, — «Ленинградское дело».
По приказу идеологических структур обкома партии Леноблгорлит составил тогда около десятка аннотированных проскрипционных списков, в которые вошло несколько сот книг, подлежащих изъятию и уничтожению. В свою очередь, обком посылал эти списки в Управление пропаганды и агитации ЦК на предмет получения санкции. Сопровождались они таким «предуведомлением»: «Ленинградский обком, рассмотрев предложение Леноблгорлита об изъятии из библиотек Ленинграда и Ленинградской области книг, указанных в прилагаемом списке… просит о его утверждении»[235]. За редчайшими исключениями, ЦК «шел навстречу» таким пожеланиям. Мало того: эти книги подлежали тотальному запрету, включаясь затем в особые главлитовские «Списки книг, подлежащие изъятию из библиотек и книготорговой сети», рассылавшиеся по всей стране.
Среди книг, указанных в «ленинградских списках», более двух десятков, по нашим подсчетам, относится непосредственно к блокадной тематике. Если блокада Ленинграда продолжалась приблизительно два с половиной года, то многие книги о ней получили гораздо больший срок заключения в библиотечных узилищах — спецхранах. Ряд таких книг, арестованных на рубеже 1940—1950-х годов, освобожден был спустя 7–8 лет, — после реабилитации пострадавших по «Ленинградскому делу», другие задержались по разным причинам на три-четыре десятилетия, будучи освобожденными только под самый занавес перестройки.
Основными «виновниками» уничтожения литературы на блокадную тему (не по своей, конечно, вине!) стали Алексей Александрович Кузнецов (1905–1950) и Петр Сергеевич Попков (1903–1950), арестованные в 1949 г. по так называемому «Ленинградскому делу» и через год расстрелянные. Кузнецов в 1938–1943 гг. был вторым, а в 1944–1946 гг. — первым секретарем обкома партии. В связи с назначением Кузнецова в 1946 г. секретарем ЦК ВКП(б), на этом посту сменил его Попков, до того работавший председателем Ленгорисполкома. После снятия его с поста 22 февраля 1949 г. и объявления выговора, он, дабы в городе не появились излишние разговоры, был направлен на «учебу» в Москву, в аспирантуру Академии общественных наук, но вскоре арестован[236]. Оба они, организаторы обороны Ленинграда, не покидавшие его в годы блокады, не раз выступали на собраниях, городских общественных митингах по случаю освобождения города и т. д. Естественно, эти «руководящие» материалы неоднократно цитировались или хотя бы упоминались практически во всех книгах блокадной тематики.
Так, например, оказались в спецхранах «Северные повести», дважды выпущенные Лениздатом в 1948 и 1949 гг., ленинградского прозаика, военного корреспондента в годы Отечественной войны Геннадия Семеновича Фиша. Единственная причина — «…на с. 189 и 292 упоминается фамилия П. Попкова»[237]. По той же причине запрещен роман поэта, прозаика и литературного критика В. М. Саянова «Небо и земля», причем с такой пометкой в главлитовском списке: «Все издания» (роман выдержал 5 изданий). Сам автор был в 1944–1946 гг. главным редактором журнала «Звезда»; снят со своего поста после выхода упомянутого выше идеологического постановления ЦК. По поводу одного из изданий романа (Л.: Молодая гвардия, 1948) Леноблгорлит доносил: «На с. 500–501 передается выступление на радиомитинге А. Кузнецова как секретаря Ленинградской парторганизации в период блокады и обращение к ленинградцам Попкова. Данное издание переиздано в 1949 г. с устранением указанных криминалов. Сохранение указанного издания нецелесообразно»[238].
Попал под нож ряд альманахов и сборников, содержащих произведения ленинградских писателей, в частности, литературно-художественный сборник «Великий город Ленина», изданный в Куйбышеве в самый страшный год для ленинградцев — 1942-й. В него вошли стихи, рассказы и очерки Вс. Иванова, Веры Инбер и других писателей, посвященные началу блокады и героизму горожан. Запрещен он, в отличие от других, по приказу Куйбышевского обллита, поскольку в нем снова обнаружилось обращение «Ко всем трудящимся города Ленина», подписанное П. Попковым.
Сразу же после освобождения города от блокады Лениздат выпустил в 1944 г. сборник «Женщины города Ленина: Рассказы и очерки о женщинах Ленинграда в дни блокады». В него, в числе прочего, вошли стихи Вс. Рождественского, В. Инбер, Н. Тихонова и других поэтов. Однако сборник открывается предисловием все того же П. Попкова, в котором он благодарит женщин Ленинграда за совершенные ими трудовые подвиги. И снова — лапидарная резолюция цензора: «На с. 12 подпись Попкова. На с. 7–9 — выступление Попкова»[239].
Цензурное ведомство пошло даже на такую «крайнюю» меру как конфискация отдельных номеров журнала «Звезда» (1947. № 3; 1948. № Ю—11). Обычно она считалась экстраординарной, ибо пробелы в годовых комплектах журнала вызывали «неуместные» вопросы и разговоры среди читателей. В протоколе заседания Бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) «Об изъятии политически вредных книг и брошюр из библиотек Ленинграда» от 17 февраля 1950 г., тем не менее, зафиксировано: «Изъять № 3 журнала “Звезда” за 1947 г. — на с. 148–149 выдержки из выступления Кузнецова», а также «сдвоенный № 10–11 за 1948 г.: на с. 164 в статье “Тема нашего искусства” есть упоминание о выступлении Кузнецова, посвященном восстановлению промышленности Ленинграда». Не исключено, что эти номера подлежали изъятию и уничтожению и за пределами Ленинграда[240].
Развязанная верхами кампания по искоренению неугодных имен коснулась и Музея обороны Ленинграда. По воспоминаниям Г. И. Миш-кевича, заместителя директора по научной работе музея в конце 40-х годов, экскурсоводам было дано указание: «У портретов Попкова, Кузнецова не останавливаться». На картине «Жданов и Кузнецов у аппарата Бодо» фигура Кузнецова была замазана: на ее месте нарисовали… окно»[241]. Затем все «подозрительные» картины и фотографии приказано было снять. Хорошо известна драматическая участь этого музея, начавшегося с выставки «Великая Отечественная война советского народа против немецких захватчиков», созданной по самым свежим следам событий весной 1942 г. Экспозиция открылась на углу 1-й Красноармейской ул. и Измайловского проспекта; затем, в конце 1943 г., была перенесена в Соляной городок под названием «Героическая оборона Ленинграда». Созданием выставки, преобразованной затем в «Музей обороны Ленинграда», руководил известный историк и искусствовед, занимавший позднее посты директора Гос. Публичной библиотеки, а затем библиотеки Академии художеств, Лев Львович Раков. В связи с начавшимся все тем же «ленинградским делом», в августе 1949 г., музей приказано было закрыть для посетителей, Л. Л. Раков и четверо других сотрудников подверглись политическим репрессиям за «прославление антипартийной группы и террористическую деятельность» (!). «Основанием» для последнего обвинения послужило хранение в музее образцов оружия с остатками пороха. В 1952 г. музей ликвидирован, многие образцы военной техники сданы на переплавку, некоторые экспонаты уничтожены или переданы в другие музеи. «Музей обороны Ленинграда» восстановлен только в 1989 г.[242].
К нашему сюжету непосредственное отношение имеет звучавшее в годы разгона музея обвинение сотрудников в том, что они занимались «пропагандой» экспонатов, в основном фотографий, «натуралистически» изображавших ужасы блокадной зимы 1941–1942 гг. Вот этот второй, «содержательный», мотив стал одним из главных во время «очистки» библиотек от «идеологически чуждой» литературы. В списки Главлита попал, в частности, солидный (512 с.) литературно-художественный сборник «Девятьсот дней. К 5-летию освобождения Ленинграда от вражеской блокады» (Л.: Лениздат, 1948). В сборнике обнаружен текст выступления все того же П. Попкова на митинге в 1942 г., но главная его «вина» состояла в другом: «В сборнике, — фиксирует упоминавшийся уже протокол заседания Бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) «Об изъятии политически вредных книг и брошюр из библиотек Ленинграда» от 17 февраля 1950 г., — опубликованы “Ленинградский дневник” В. Инбер и “Февральский дневник” О. Берггольц. Авторы показывают жизнь города оторванной от общественной и политической жизни страны. В подчеркнуто черном свете Инбер рисует ужасы блокады…»[243].
По той же причине приказом Леноблгорлита № 5 от 14 ноября 1951 г. изымалась повесть Ивана Федоровича Кратта (1899–1950) «Суровый берег», трижды выпущенная в 1947 г. различными ленинградскими издательствами. Повествует она о людях героической ладожской трассы («Дороге жизни» в годы войны), о страшных бедствиях и настроениях людей в те годы. Мотивированного отзыва о ней в архивах обнаружить не удалось, но, судя по всему, конфискована книга за «предоставление трибуны врагу» (мотив, часто встречающийся в цензурных решениях) — на этот раз «паникерам», сомневающимся в скорой победе и освобождении города. Хотя автор и осуждает таких людей, приведенные им выдержки из дневника одного блокадника не могли не обратить на себя внимания идеологических контролеров: «Ленинград обречен, потому что у него нет надежды. Что будет с Россией?… На что люди могут рассчитывать?… Продолжают рыть окопы. А немцы потом их используют…» Говоря же о массовом бегстве из города, автор дневника задает уже явно «непатриотический» и «безыдейный» вопрос, тут же отвечая на него: «Беженцы или эмигранты?.. Странники по родной земле» (с. 29).
Такую же участь, согласно приказу Леноблгорлита № 13 от 4 декабря 1951 г., разделил сборник рассказов поэтессы и переводчицы Елизаветы Григорьевны Полонской (1890–1969), входившей в 20-е годы в группу «Серапионовы братья». Под названием «На своих плечах» сборник издавался дважды в 1948 г., и, хотя «одиозные» имена в нем отсутствуют, был все-таки запрещен, — скорее всего, за слишком мрачные картины блокадной жизни Ленинграда, изображение страданий людей, голода ит. п., о чем «лишний раз» напоминать не следовало.
Весной 1942 г., побывав несколько раз в Ленинграде, начал работу над трилогией о судьбах людей осажденного города А. Б. Чако вс кий, тогда — военный корреспондент на Волховском и Ленинградском фронтах в 1941–1943 гг. Его повесть «Это было в Ленинграде», вышедшая в 1945 г., впоследствии использованная для документально-художественного повествования, романа «Блокада», вышедшего в 5 книгах (1968–1974), также не избежала общей участи. Формальным мотивом изъятия ее послужила сцена встречи автора с Попковым в Смольном. Рассказывая о положении в городе, Попков сказал, в частности: «Сейчас главная задача доставить в город продукты и организовать борьбу с ворами и мародерами» (с. 96). Однако «сомнительными» могли показаться сцены страданий ленинградцев и повальных смертей, публикация отрывков страшного документа — дневника блокадницы. Писатель, посетив Ленинград, «…видит какие-то высохшие скелетообразные существа», умирающих от стужи и голода людей. Оказался в спецхранах и 2-й номер «Ленинградского альманаха», вышедшего в 1948 г., также, скорее всего, за публикацию слишком «откровенных и жестоких», с цензурной точки зрения, сцен в «Записках военного хирурга» А. Коровина.
Такого же рода претензии высказывались к уже упоминавшимся ранее воспоминаниям Д. Т. Хренкова «Осень в Переделкине», посвященным встречам и беседам с Н. С. Тихоновым (см. параграф «Звезда» — они печатались в 3-м номере журнала за 1981 г.). «На стр. 164, — докладывал цензор, — т. Хренков приводит обширную выписку из его беседы с писателем, в которой говорилось о желании Н. С. Тихонова написать книгу о блокаде Ленинграда. На вопрос т. Хренкова: “Почему не был «запущен в дело» написанный вместе с Саяновым сценарий о блокаде Ленинграда?” — Н. С. Тихонов, якобы, ответил: “Нельзя отделить подвиг от страданий. А кое-кому кажется — можно… Подумать только, — в сердцах говорил он, — нашлись авторы, которые с самым серьезным видом утверждают, что снабжение Ленинграда в блокаде было организовано образцово и что число потерь от голода явно преувеличено!”. Основываясь на этом, автор делает вывод, что книга о блокаде Ленинграда не была написана Тихоновым “…не только потому, что он был перегружен текущими неотложными делами, но и потому, что не знал, хватит ли у него сил на полемику”. На стр. 163–164 приводятся высказывания Н. С. Тихонова о А. А. Кузнецове»[244]. Воспоминания Д. Т. Хренкова все же были в журнале опубликованы. Кое-что редакции удалось отстоять — например, упоминание Тихоновым А. А. Кузнецова, без которого нельзя «…представить себе 900 дней битвы за Ленинград». Но не обошлось, как всегда, и без жертв. Так, например, вместо выделенных курсивом слов появились другие: «что просто она еще не созрела в нем» (с. 164).
Наиболее драматично, пожалуй, сложилась судьба книги Ольги Федоровны Берггольц «Говорит Ленинград», выпущенная Лениздатом в 1946 г. тиражом 15 тыс. экземпляров. В книгу вошли стихи и ставшие уже легендарными тексты почти ежедневных радиопередач Ольги Берггольц, обращенных к жителям осажденного блокадного города: недаром ее называли тогда «ленинградской мадонной». О ее подвижнической деятельности в тот период написано уже немало[245], однако цензурная судьба произведений поэтессы пока еще мало изучена. Книга подверглась изъятию из обращения согласно приказу самого начальника Главлита СССР (№ 1302 от 17. ноября 1949 г.)[246]. Показательно, что в дальнейшем она попадала практически во все запретительные списки Главлита и освобождена из спецхранов одной из последних — только в 1991 г. Формальным поводом запрещения стало включение в сборник очерка «Севастополь», написанного вскоре после освобождения этого города. Мотив: «На стр. 7, 31, 135, 138–139 положительно упоминается старший научный сотрудник Херсонесского Историко-археологического музея А. К. Тахтай, который, по данным соответствующих организаций, во время Великой Отечественной войны сотрудничал и работал у немцев»[247]. Обвинение в этом Тахтая, крупного крымского археолога[248], сохранившего коллекции музея в годы войны и оккупации, впоследствии было снято. Вот что пишет Ольга Берггольц: «Какое пиршество для очей археолога, — сказал ученый хранитель Херсонесского городища А. К. Тахтай, — какое грустное пиршество…»; «Мы ловили голос Ленинграда с особым трепетом, — рассказывал Тахтай, — это был голос собрата по судьбе…».
На деле же конфискация сборника, как видно из других цензурных документов, объясняется общей его тональностью, трагическими нотами выступлений Ольги Берггольц по радио (а какими они должны были быть в то время?). Эта история неожиданно возникла спустя двенадцать лет, когда готовился в издательстве «Советский писатель» сборник Берггольц «Очерки и рассказы». При обсуждении рукописи на заседании Редсовета, отнесшегося к сборнику положительно, началась полемика по чисто техническому вопросу: считать ли цикл «Говорит Ленинград» первым или вторым изданием. Вот выдержки из протокола заседания, сохранившегося в архиве издательства: «В. Н. Орлов: Книга “Говорит Ленинград” выходила отдельной книгой в 1946 г. В. К. Кетлинская. Книга выходила в Ленинграде и была изъята из-за Тахтафия (так! — А. Б.), севастопольского хранителя Херсонеса. A. Л. Слонимский: Книга фактически не была дана читателю. Как это может считаться переизданием? Это чисто формальный подход…»[249].
В упомянутом выше изъятом сборнике «900 дней», помимо «Ленинградского дневника» В. Инбер, внимание цензоров привлек и «Февральский дневник» Ольги Берггольц. Как видно из «Протокола заседания Бюро Ленинградского Горкома ВКП(б)» от 17 февраля 1950 г., «…в поэме Берггольц преобладает чувство обреченности, пессимизма, содержатся элементы так называемой кладбищенской поэзии»[250]. В официальных партийных кругах с тех пор за ней прочно укрепилось имя «плакальщицы» с уничижительно-пренебрежительным оттенком этого слова. Такая репутация сохранилась за ней на долгие годы. Проявилось это в «Докладной записке цензора В. Ф. Липатова начальнику Отдела предварительного контроля»: «Докладываю, что в октябре-ноябре 1961 г. имели место следующие вмешательства по идеологическим вопросам (указывает, на множество примеров. — А. Б.). В частности произведено изъятие из пьесы Ольги Берггольц “Рождены в Ленинграде”, поставленной Ленинградским театром им. Комиссаржев-ской. Один из героев — Никитин — говорит, что ему было страшно “за советскую власть”, “когда наша дивизия народного ополчения из-под Луги отходила”. “Богданов (радостно): От-хо-ди-ла? Наша дивизия, понимаешь, — бежала! Драпала!”
Утверждение автора о бегстве дивизии народного ополчения снято, как неправильное, набрасывающее тень на героическую борьбу ополченцев по защите Ленинграда»[251].
Творчество Ольги Берггольц и ранее привлекало внимание цензуры. Из наиболее важных цензурных эксцессов упомянем факт запрещения в 1940 г. ее стихотворного сборника «Память», который так и остался в корректуре. «Из этого видно, — доносил начальник Ленобл-горлита в обком партии, — что среди литературных работников имеются лица, протаскивающие в литературу идеологически вредные материалы»[252]. Основную претензию вызвало стихотворение «Родине», навеянное Большим террором, «глухонемым временем», как сама Берггольц называла те годы, да и собственной трагической биографией — расстрелом в 1938 г. мужа, поэта Бориса Корнилова, ее арестом в конце того же года и более чем полугодовым заключением и тюремной больницей.
Оказался в спецхранах коллективный сборник «Стихи и поэмы. 1917–1947» (М.: Правда, 1947). Формальным поводом послужило включение стихотворения Н. Тихонова «Югославия», содержащего строчки: «Поют они песни о Тито, / О Сталине песни поют…». Как известно, в период разрыва отношений с «братской» Югославией в 1948–1953 гг., все хвалебные отзывы о Тито исключались: наоборот — он должен был быть представлен как «кровавый палач» и «наймит англо-американского империализма». Включение в сборник имени Тито усугубило его «вину».
Несколько раз переходила из открытых фондов библиотек в спецхран и обратно документальная повесть В. Азарова и А. Зиначева «Живые, пойте о нас!» (издавалась дважды — в 1969 и 1972 гг., каждый раз тиражом в 100 тыс. экземпляров). Авторы попробовали было оспорить это решение: создана была даже комиссия обкома партии, долго разбиравшая это дело и рекомендовавшая, в результате, вернуть книгу из спецхрана. Однако вмешался Главлит СССР, сообщивший, что «поступила просьба из Главного политуправления Вооруженных Сил временно не предпринимать выводов по этой книге, так как расследование продолжается». Приведем сейчас пометки на карточках спецхран-ных каталогов Российской Национальной библиотеки и Библиотеки Российской Академии наук: «Запретить: Приказ Леноблгорлита № 9.
11.11.1976. Вернуть в общие фонды: Приказ Ленгорлита № 12. 16.12.1977. Приказ о возврате аннулировать (устное распоряжение Леноблгорлита (по телефону). Действительным считать прцказ № 9. 13.12.1978. Возвратить в общие фонды: Основание: нет в Сводном списке запрещенных книг 1978 г.»[253]. Повесть, в которую вкраплены стихи Азарова, посвящена одной из военных операций, приведших к гибели множества людей. Такими эпизодами, как известно, богата история Великой Отечественной войны; чаще всего, они тщательно скрывались. Авторы рассказывают о трагической (и бессмысленной, хотя об этом говорится очень глухо) гибели заранее обреченного десанта двух тысяч кронштадтских моряков, высаженных в Петергофе в октябре 1941 г. Весь отряд был тогда тотчас же окружен и почти полностью уничтожен.
Последний цензурный эпизод, связанный с блокадной темой, произошел уже в эпоху «позднего застоя» — на рубеже 70—80-х годов. В 1975 г. Даниил Гранин и Алесь Адамович стали собирать материал для «Блокадной книги» — дневники, воспоминания, фотографии и другие материалы, сохранившиеся у ленинградцев, переживших ужас 1941–1943 гг. Сам Даниил Гранин, оставивший свидетельства о цензурном прохождении этой книги (см. главы «О блокаде» и «Запретная глава» в его книге «Тайный знак Петербурга» — СПб., 2001), сообщает: «Были истории настолько страшные, что мы не решились использовать их, и до сих пор они не опубликованы». Но даже в таком усеченном виде написанная книга резко расходилась с принятым стереотипом в его идеологической неприкосновенности и незыблемости. Согласно этому стереотипу, блокадная тематика почти полностью должна ограничиваться, чуть ли не исчерпываться, «показом» героических и трудовых подвигов ленинградцев в те годы. Разумеется, все это имело место, зафиксировано немало случаев самопожертвования, необыкновенного мужества, проявленного жителями города. Но было и другое… Как и во всякой экстремальной ситуации — на войне, в тюрьме, в осаде и т. п. — в человеке проявляется то, что в обычных условиях до времени дремлет и может вообще никогда не актуализироваться. Как известно, бывали тогда и случаи мародерства, и предательства близких, и даже людоедства. «Мы спускались в такие бездны человеческой психики, человеческих поступков, которые было бы слишком жестоко повторить», — говорит писатель. И хотя в книге эти эксцессы были сглажены, она, тем не менее, в 1979 г. была отклонена всеми ленинградскими журналами. Издательство, которое собиралось выпустить книгу, обратилось в идеологический отдел Обкома КПСС, который решительно высказался за ее запрещение. Таким образом, в Ленинграде тогда книга так и не увидела света. Первые два отдельных издания удалось выпустить только в Москве (1979 и 1982 гг.), хотя и там, несмотря на все старания редакции «Нового мира» (в нем первоначально печаталась «Блокадная книга») рукопись проходила с огромными затруднениями. Авторы получили свыше 60 замечаний Главлита, которые, главным образом, сводились к требованию удалить из книги наиболее «жестокие» сцены, изъять все упоминания о воровстве и мародерстве, бездарности и равнодушии партийных властей, обрекших город на вымирание. Решительно не согласилась цензура с приведенными авторами статистическими данными, в особенности, с указанной ими цифрой — свыше миллиона погибших: на самом верху была установлена «планка»: ни в коем случае цифра не должна превышать 600 тысяч. Из первых изданий книги выброшена была полностью глава, в которой речь шла об интервью, которое с большим трудом Гранину все-таки удалось взять у А. Н. Косыгина (тогда — Председателя Совета Министров СССР). В годы войны Косыгин, ленинградец по происхождению, не раз бывал в осажденном городе и пытался кое-что сделать для спасения его жителей. По мнению писателя, включению этой главы помешала только что вышедшая тогда «главная книга» о войне, а именно воспоминания Л. И. Брежнева. «Малая земля». «Косыгинс-кая глава», в которой речь шла о несоизмеримо более масштабных и трагических событиях, могла быть, с точки зрения идеологов, «противопоставлена» книге тогдашнего генсека партии и даже могла «заслонить» ее в глазах Читателей. В Ленинграде «Блокадная книга» стала печататься только с 1984 г., выдержав затем еще три издания, частично дополненных и исправленных.
Чем же все-таки объясняется столь подозрительное отношение к блокадной теме в партийно-цензурных кругах? В первую очередь, конечно, тотальной установкой на «оптимизм», которым должна быть пронизана советская литература, на необходимость активной «формовки» ею «человека будущего», не страдающего никакой рефлексией, человека с незамутненным и ничем не омраченным сознанием. Страдания, голод, повальная смерть ленинградцев — всё это не вписывалось в предписанный сверху парадно-фанфарный героизм, которым должна быть овеяна литература о войне: отсюда и преследование долгое время «лейтенантской» поэзии и прозы, обвинявшейся в так называемой «окопной правде», — слишком мрачном и «одностороннем» изображении военных будней. Кроме того, ни в коем случае не разрешалось акцентировать внимание на особом положении города, тем более после «Ленинградского дела».
И все же главная причина столь щепетильного, мягко говоря, отношения цензуры к блокадной тематике заключалась в постоянном стремлении власти превратить все население России в инфантильных, пожизненно несовершеннолетних подданных, — идеальный материал для построения «светлого будущего».
Глава 7. Литературоведение
Книги репрессированных литературоведов
По различным причинам десятки книг ленинградских литературоведов оказались под арестом в спецхранах крупнейших библиотек. В ряде случаев их имена попадали в «Список лиц, все произведения которых подлежат изъятию» (М., 1950) и Приказ Главлита № 4087с (М., 1950), также предусматривавший запрет всех без исключения произведений. Касался он, в основном, книг авторов, арестованных в годы Большого террора, тогда же расстрелянных, или погибших в лагерях. После их реабилитации с конца 50-х годов начался процесс возвращения книг в так называемые «общие фонды» библиотек. Однако возвра-щать-то было почти что нечего, за исключением буквально считаных экземпляров, оказавшихся в спецхранах; остальные были уничтожены. Процесс этот шел медленно, многие книги застревали в секретных фондах на многие годы, а некоторые — в связи с упоминанием в них, главным образом, «нежелательных персон» — освобождены из пленения лишь в конце перестройки[254].
Среди них — масса книг литературоведов Ленинграда. Изъяты были, согласно упомянутым спискам, все книги Григория Ефимовича Горбачева (1897–1938), главного редактора журнала «Звезда» в 1925–1926 гг., автора ряда крупных работ по истории и теории литературы. Их участь разделили книги Павла Николаевича Медведева (1891–1938), литературоведа, критика, автора многих работ по методологии литературы и психологии творчества. Он читал курсы истории литературы в различных вузах Ленинграда, с 1935 г. — профессор Ленинградского университета. 12 февраля 1938 г. был арестован, обвинен в участии в антисоветской организации, приговорен к расстрелу (18 июня 1938 г.)[255]. После реабилитации все книги Медведева, за исключением одной, были освобождены из спецхранов. До 1987 г. задержан его «Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику» (Л.: Прибой, 1928; некоторые исследователи полагают, что большая часть книги написана М. М. Бахтиным) — в связи с цитированием Троцкого (с. 225). Своеобразие ситуации заключается в том, что Медведев не сам приводит высказывание Троцкого, а цитирует его по книге Б. М. Эйхенбаума «Литература. Теория. Критика. Полемика» (Л.: Прибой, 1927 — она также была арестована на долгие годы), в которой последний ссылается на книгу Троцкого «Литература и революция». Хотя Медведев весьма резко полемизирует с «формалистами» (Б. М. Эйхенбаумом, В. Б. Шкловским и другими), он, тем не менее, отдает им должное: «Мы полагаем, что марксистская наука должна быть благодарна формалистам, благодарна за то, что их теория может стать объектом серьезной критики… Всякая молодая наука — а марксистское литературоведение очень молодо — гораздо выше должна ценить хорошего врага, нежели плохого соратника» (с. 232). Как известно, в конце 20-х — начале 30-х годов ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) и возникшая в его недрах «формальная школа» подверглись уже решительному разгрому за «аполитизм, то и дело оборачивающийся прямой реакционностью» (Литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1934. С. 27). Помимо того, в тексте Медведева обнаружена масса ссылок на книги «неугодных» авторов, в том числе «Письма о русской поэзии» Н. Гумилева.
Запрету подверглись все без исключения книги драматурга, театроведа, переводчика пьес античных классиков Адриана Ивановича Пиотровского (1898–1937). В 20-е годы он был организатором массовых зрелищ и агиттеатров, заведующим Театральным отделом Петроградского губполитпросвета, заведующим Литературным отделом БДТ; в 30-е — художественным руководителем Ленинградской фабрики Госкино (позднее названной Ленфильмом). Арестован Пиотровский 20 июля 1937 г., расстрелян 21 ноября того же года. Изъятию подверглось свыше 10 его книг, изданных с 1919 по 1936 гг.: фундаментальные труды по истории западноевропейского театра, кино, ряд пьес, в том числе «Падение Елены Лэй», «Смерть командарма» и др. Искалечены, по приказанию Главлита, переводы пьес античных классиков — потому только, что они были им переведены и подготовлены к печати, а также снабжены его обстоятельными статьями. В 1941 г. ЦК утвердил предложенный список книг, в которых нужно «сделать исправления». Среди них: «Аристофан. Драмы. М.: ГИЗ, 1924. — Вычеркнуть упоминание Пиотровского на титульном листе. Аристофан. Комедии. Л.: Academia, 1934. Перевод, вступительная статья и комментарии Пиотровского. — Удалить стр. 7—50, 55–62, 141–148, 235–242, 339–344, 437–444; Эсхил. Прикованный Прометей. Перевод, вступит, статья и комментарии Пиотровского. — удалить стр. 4—28; Петроний. Сатирикон. М.; Л.: Гос. изд., 1924. — удалить предисловие (с. 510) и затушевать на с. 236 слова “Римское общество и “Сатирикон” Адриана Пиотровского»[256].
Изъятию подверглись десятки театроведческих трудов, в которых он принимал участие в качестве редактора, составителя, автора статей в коллективных сборниках. Так, например, запрещена первая книга о 26-летнем тогда театральном художнике (режиссурой он начал заниматься с 1935 г.) Н. П. Акимове «Н. П. Акимов. Статьи Адр. Пиотровского, Ник. Петрова, Б. П. Брюллова» (Л.: Academia, 1933). После реабилитации Пиотровского, в 1957 г., одна из его книг — «Меч мира: Праздничное зрелище» (Пг.: Политпросвет Петрогр. Военного округа, 1921) все-таки продолжала оставаться в спецхране. В агитационной патетической пьесе в стихах, действующими лицами которой являются «Народный Комиссар, Белый генерал, Три волхва» под первым из них цензура опознала все того же Троцкого, «воплощающего революционную энергию масс», возглавляющего советскую делегацию при заключении Брестского мира в 1918 г. Перипетии этого события и стали основным сюжетом пьесы.
Следующая волна репрессий, повлекшая за собой, в свою очередь, массовое изъятие книг, приходится на рубеж 40—50-х годов. Тогда, как известно, подверглись травле крупнейшие ленинградские литературоведы — Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, М. К. Аза-довский и другие, объявленные «безродными космополитами»[257].
Запрещены были все без исключения книги Григория Александровича Гуковского (1902–1950). Первый раз он подвергся аресту НКВД в октябре 1941 г., но вскоре был освобожден. В 1949 г., после кампании обличений, развязанной на филологическом факультете Ленинградского университета, арестован, умер в Лефортовской тюрьме в апреле 1950 г. В каталоге спецхрана PH Б числятся все книги Гуковского, в том числе «Очерки по истории русской литературы XVIII века» (М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1936); написанная вместе с В. Евгеньевым-Максимовым книга «Любовь к родине в русской классической литературе» (Саратов: Саратовское обл. кн. изд., 1943. (Ленингр. гос. ун-т))[258].
Тогда же изъяты все книги Симона Давыдовича Дрейдена (1905–1992), крупного ленинградского театроведа, автор ряда монографий и статей, составителя многих сборников, частично подвергшихся запрету. Дрейден входил в группу «антипатриотически настроенных театральных критиков», подвергшуюся разгрому в конце 40-х годов. Постановлением Особого совещания МТБ СССР от 28 июня 1950 г. осужден по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Постановлением УКГБ по Ленинградской области от 21 августа 1954 г. следственное дело прекращено за недостаточностью предъявленного обвинения[259]: «Дрейден С. Л. из-под стражи освобожден», однако его книги еще долгое время обретались в спецхранах.
Весьма выразительна цензурная судьба произведений Ефима Григорьевича Эткинда (1918–1999), известного литературоведа, переводчика, профессора Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Не только ученый, но и просветитель по своей натуре, он пользовался исключительной популярностью в Ленинграде, благодаря, в частности, созданному им устному альманаху «Впервые на русском языке», на который в Дом писателей стекались сотни слушателей. Именно там в авторском чтении прозвучали впервые переводы Иосифа Бродского из Джона Донна и другие произведения. Активная общественная позиция, защита и поддержка И. А. Бродского и А. И. Солженицына привели к лишению его ученых звания и степени, увольнению в 1973 г. из института, исключению из Союза советских писателей. В 1974 г. он вынужден был эмигрировать, жил в Париже, став профессором Сорбонны.
Еще до отъезда Эткинд и его книги неоднократно привлекали внимание охранительных инстанций, в том числе цензурных. Наиболее известен скандал, разразившийся в связи с подготовленным им двухтомником «Мастера русского стихотворного перевода», вышедшим в 1968 г. в Большой серии «Библиотеки поэта». Эткинд включил в него не только переводы Гумилева и Ходасевича, но и допустил «враждебный выпад» во вступительной статье. Внимание привлекла безобидная, в общем-то, фраза. Е. Г. Эткинд завуалировано, для понимающего читателя, умеющего читать между строк, утверждал, что крупнейшие русские поэты в годы сталинизма вынуждены были уходить в переводы, потеряв всякую надежду увидеть в печати свои оригинальные стихотворения. Сам Эткинд так рассказывает об этой истории в главе 4 «Дело о фразе», вошедшей в его книгу «Записки незаговор-щика»: «Кто-то наверху (в ЦК? КГБ? В ленинградском обкоме?) заметил в самом конце одну фразу: речь идет о том, что в советское время поэтический перевод достиг небывалого прежде уровня, а дальше автор пишет: “Общественные причины этого процесса понятны. В известный период — в особенности между XVII и XX съездами — русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гете, Орбе-лиани, Шекспира и Гюго”. Эта фраза расценена была как идеологическая диверсия…. Велено было ее перепечатать: весь 25-тысячный тираж пошел под нож». На колоссальные расходы пошли лишь для того, чтобы удалить переводы указанных выше поэтов и приведенную фразу. Чистота идеологии требовала жертв: «за ценой мы не постоим…»[260].
В архивных делах Ленгорлита сохранились отзвуки этой нашумевшей истории. Книгой, насколько можно понять, заинтересовались «директивные органы», причем на самом верху. И октября 1968 г. директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» (именно оно выпускало «Библиотеку поэта») обратился к начальнику Ленгорлита Арсеньеву с такой просьбой: «Прошу Вашего разрешения на получение от типографии № 5 10 экземпляров 1 и 2-й книги “Мастера русского перевода”, которые могут потребоваться директору издательства “Советский писатель” Лесючевскому Н. В. для передачи в директивные органы. По миновании надобности эти экземпляры будут уничтожены (курсив мой. — А. Б.)». На обороте этого документа вписано от руки: «Передано указание и. о. директору типографии № 5 о разрешении выдать издательству “Советский писатель” по 5 экземпляров каждого тома книги “Мастера русского перевода”»[261].
Естественно, после отъезда Эткинда все без исключения его книги подверглись изъятию и уничтожению. В приказе Главлита № 65 (30.10.1974) перечислены все изданные им книги, вплоть до автореферата докторской диссертации «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» (Л.: Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1965). Изъят был также ряд книг Бертольда Брехта в его переводах и т. д. Для книг, в которых фигурирует имя Эткинда, все же сделан ряд «послаблений». Об этом свидетельствует карандашная пометка на карточке каталога бывшего спецхрана Российской Национальной библиотеки: «Согласовано с Горлитом, с тов. Тупицыным. В OCX (Отдел спецхранения) взяты только издания, перечисленные в приказе. Те, где Эткинд является составителем, оставлены в открытом фонде»[262]. Имя ученого, как и во многих других случаях, должно было исчезнуть из научного и литературного обихода. Как указывалось в одном из постановлений, «в ряде издательств и издающих организаций отдельные редакторы, зная о неблаговидном поступке и поведении Е. Эткинда, сочли возможным цитировать, ссылаться на его произведения. Так было в книге Л. Гинзбург “О лирике” (изд. “Сов. писатель”), и в сборнике “Урок литературы в школе”, и книге Я. Духана “Литературный Ленинград” (обе книги издавались в ЛГПИ им. Герцена)»[263].
Во время налетов на библиотеки, о которых шла речь выше, нередко обнаруживались запрещенные книги ученого. Например, по донесениям инспекторов, «…в Тихвинской районной библиотеке находились в обращении книги Эткинда Е. Г. “Бертольд Брехт” и “Разговор о стихах”, подлежащие изъятию», «…в детской библиотеке им Лермонтова — книги Е. Эткинда “Бертольд Брехт”, “Разговор о стихах”»[264].
Несмотря на то, что сохранившиеся в библиотечных спецхранах книги ученых-литературоведов возвращены из библиотечных спецхранов в конце 80-х годов, урон, нанесенный исследователям (да и обычным читателям), лишенных доступа к порою классическим трудам, не поддается оценке. Впрочем, это касается практически всех отраслей знания.
История литературы под цензурным конвоем
Помимо изъятия историко-литературных трудов применительно к именам их авторов, часто даже независимо от содержания, довольно много цензурных инцидентов возникало в связи с содержанием трудов современных исследователей. Наука о литературе, как и сама литература, призванная активно участвовать в «формовке» сознания советского человека, всегда находилась в центре внимания ведомств, контролирующих чистоту идеологии. Такая установка сказалась, между прочим, в первоначальной расшифровке аббревиатуры «Главлит», верховной цензурной инстанции, созданной 6 июня 1922 г., как Главного управления по делам литературы и издательств; впоследствии это сокращенное название читалось как Главное управление по охране государственных тайн в печати.
«Литературоведы (или искусствоведы) в штатском», как иронически называли сотрудников компетентных органов, приставленных к искусству и литературе, считали себя специалистами буквально по всем вопросам, начиная с истории древнерусской литературы, в частности, в трудах Д. С. Лихачева (см. в следующем параграфе о купюрах в его книге «Слово о полку Игореве — героический пролог русской литературы»).
Не менее «свободно» они ориентировались и в литературе XVIII века. По поводу одной из книг, выпущенных ленинградским отделением Гослитиздата в 1963 г., в донесении говорилось: «Г. П. Макого-ненко. “Денис Фонвизин”. Неправильно и нечетко формулировались некоторые положения истории России XVIII века, путаные и неправильные формулировки»[265].
Чем ближе к нашему времени, тем увереннее чувствовали себя контролеры. «Неправильная, политически не выверенная» интерпретация событий литературной жизни XX века замечена во многих работах, посвященных крупнейшим поэтам Серебряного века. Значительные «просчеты обнаружены, в частности, в монографии известного литературоведа В. Н. Орлова (1908–1985) “Пути и судьбы”», готовившейся к печати в 1962 г. Уже на стадии превентивного контроля цензоры сигнализировали в Обком КПСС: «По поводу книги В. Н. Орлова “Пути и судьбы” (ленинградское отд. издательства “Советский писатель”), повествующей о жизни и творчестве писателей и поэтов прошлого. Книгу заключают два очерка (“История одной любви” и “История одной дружбы-вражды”). Приведенные очерки в настоящем виде не могут быть помещены в сборнике по мотивам идейной нецелесообразности. По идеологическим соображениям были также возвращены на переработку по согласованию с Обкомом КПСС два очерка В. Н. Орлова об Александре Блоке. В этих очерках автор пытался объяснить творчество Блока перипетиями его личной жизни, взаимоотношениями с женой, их взаимными изменами и т. д. Хотя известно давно, что подобные попытки бесплодны и осуждены в нашей литературе. По этому поводу было помещено несколько редакционных статей в центральных газетах в связи с выходом тома “Литературного наследства” “Новое о Маяковском”»[266].
В результате книга В. Н. Орлова вышла в свет с исключениями целых глав, но и такая операция не устроила надсмотрщиков. В начале 1963 г. они снова информируют обком: «В апреле 1962 г. к нам поступила книга В. Н. Орлова “Пути и судьбы”. Серьезные возражения у нас вызвал очерк о Блоке под названием “История одной любви”. В очерке много внимания уделяется интимным моментам в жизни А. Блока и его невесты (Л. Менделеевой), ее отношениям с поэтом А. Белым. Возражения у нас вызвал и другой очерк об А. Блоке “История одной дружбы-вражды”, в котором на 223 страницах широко цитируются реакционный философ Вл. Соловьев и его последователи, а также подробно разбираются все оттенки мировоззрений и взаимоотношений декадентских течений. По нашему настоянию издательством были сделаны исправления и сокращения в обоих очерках, хотя далеко не достаточные. В декабре книга была подписана в печать, а в феврале вышла в свет, неся широкому читателю как описание интимных сторон личной жизни А. Блока, так и подробное изложение реакционных философских воззрений Вл. Соловьева, Мережковского и др.»[267].
И, конечно, буквально под микроскопом рассматривались работы, посвященные советским писателям, тем особенно, которые сверху были объявлены «неприкосновенными». Так, в порядке предварительного контроля, задержана в 1961 г. верстка книги С. Владимирова и Д. Молдавского «В. В. Маяковский. Биография. Пособие для учащихся», готовившаяся Учпедгизом. Цензор мотивировал это следующими соображениями: «Публикация писем поэта в томе “Литературного наследства” была грубой ошибкой. Тем более вызывает недоумение — зачем лишний раз привлекать внимание школьников к личной интимной переписке. На стр. 99 характеризуя личную жизнь Маяковского, авторы биографии лишний раз привлекают внимание к изданию “Новое о Маяковском”, где опубликована переписка поэта и в изобилии рассыпаны по страницам рисунки, оскорбляющие память Маяковского. “В конце письма, — пишут авторы биографии, — обычно рисунок. Себя автор изображает в виде добродушного щенка с большими ушами”». Кроме того, «…не следует писать в школьном издании биографии Маяковского о самоубийстве поэта». В заключение цензор предлагает: «1. Направить верстку в Ленинградский обком КПСС для получения консультации по вышеизложенным вопросам. 2. Затребовать от издательства “Учпедгиз” 2-ю рецензию (лучше всего от сестры поэта Людмилы Владимировны Маяковской)»[268].
Книга вышла в свет с весьма существенными изменениями. Убраны ссылки на упомянутый 65-й том «Литературного наследства» «Новое о Маяковском», вышедший в 1958 г., редакция которого за публикацию переписки поэта с Лилей Брик подвергалась жесточайшей партийной критике. Цензор почти текстуально повторяет текст Постановления Идеологической комиссии «О книге “Новое о Маяковском”», опубликованный в 1961 г. в сборнике «Вопросы идеологической работы»[269]. Отметив «грубую ошибку», допущенную редакцией «Литературного наследства», постановление отметило, что «…в книге содержатся материалы, искажающие облик выдающегося поэта, опубликована переписка, носящая сугубо личный, интимный характер, не представляющая научного интереса… материалы, тенденциозно подобранные в книге, дают неверные сведения о поэте, якобы находившемся в разладе с советской действительностью, что перекликается с клеветническими измышлениями зарубежных ревизионистов о Маяковском». Сестра поэта обратилась и тогда же к М. А. Суслову с письмом, в котором просила оградить поэта от литераторов, продолжающих “…чернить его честное имя борца за коммунизм”»[270].
Некоторые сотрудники Музея Маяковского, участвовавшие в подготовке 65-го тома, были уволены, на него запрещалось ссылаться в работах, посвященных поэту, о чем был выпущен особый главлитовский циркуляр: именно этим и вызвана такая реакция ленинградской цензуры. В книге Владимирова и Молдавского смягчен, помимо прочего, пассаж, повествующий о последних днях жизни поэта и обстоятельствах его гибели, которым придан «жизнеутверждающий», оптимистический характер: «Творческий путь поэта не был закончен (!? — А. Б.). Он трагически оборвался 14 апреля 1930 г. не в момент остановки и передышки, а на ходу, в упорном движении» (с. 126). Что из этой тирады мог понять школьник — не очень ясно… Но такова уж была предписанная свыше советская стилистика.
Дважды поступала на контроль — предварительный и последующий — и книга Е. И. Наумова о Есенине. Отношение к поэту не раз менялось, начиная с 20-х годов, — в диапазоне от почти полного запрета в 30-х до снисходительно-либерального, но в то же время настороженного в 50—70-х. Возврат книг поэта во 2-й половине 50-х годов, массовое издание его сборников и литературы о нем вызвали строгий окрик Идеологической комиссии ЦК в 1958 г. В специальном постановлении «О неправильном подходе к переизданию сочинений С. Есенина» отмечалось, что «…в творческом наследии С. Есенина… есть и такие произведения, которые проникнуты упадочническими и религиозными настроениями, отражавшими идейную незрелость и растерянность поэта, не понимавшего смысла перестройки страны на социалистических началах». Такая партийная директива тотчас же усилила бдительность контролеров. Цензор Я. Б. Малкевич в своем «объяснении» писал 22 июня 1960 г.: «Мною проконтролировано монографическое исследование “Сергей Есенин. Жизнь и творчество” (автор Е. И. Наумов. Учпедгиз, редактор Е. М. Прокофьев), являющееся “первой попыткой подробной характеристики жизненного и творческого пути поэта”, как указано в рецензии кандидата филологических наук И. С. Эвентова. В монографии содержится ряд материалов, в особенности неприемлемых в массовом издании (тираж 45 тыс. экз.). Например, на стр. 82 приводится следующее высказывание С. Есенина: “Если говорить о памятниках, то рабочие хотят воздвигнуть его Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове” (С. Есенин. “Ключи Марии”). На стр. 57, 157 и др. не выполнено серьезное замечание рецензента, рекомендовавшего заменить пересказом цитатный материал некоторых писем Есенина. Так, на стр. 157 цитируется письмо 1922 г.: “Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство (разрядка цензора — А. Б.), зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадоб-ностыо под смердяковщину”. На стр. 57 в пересказе цитаты есенинского письма Г. Панфилову дается неправильная оценка поэта-рево-люционера Н. А. Некрасова (“…притеснял дворовых людей”). Давая оценку Р. Иванову-Разумнику как “наемнику германского фашизма”, автор считает возможным приводить ряд высказываний Иванова-Разумника, которые не представляют никакой ценности (например, о “чистом искусстве”, стр. 92). Не находит объяснения положительная оценка Б. Пастернака (стр. 277). Предлагаю Учпедгизу обсудить монографию на Редакционном совете и представить протокол обсуждения, а также представить в Леноблгорлит 2-ю рецензию, кроме полученной)»[271].
Редакторы с помощью автора срочно внесли кое-какие изменения в текст, но и они — опять-таки, как и в случае с предыдущей книгой, — не полностью удовлетворили цензора М. В. Дмитренко, составившего через 6 дней (28 июня) такую докладную записку: «На последующем контроле мною прочитана книга Е. И. Наумова “Сергей Есенин. Жизнь и творчество”. Отмечаю, что с точки зрения методологии эта монография нигде не рассматривалась и не обсуждалась». Как и во многих других случаях, он апеллировал к последней инстанции: «Ответить на вопрос о целесообразности ее опубликования в таком состоянии, как она представлена, могут только партийные органы — соответствующий отдел ЦК КПСС»[272].
В результате хождения по инстанциям и всевозможных проволочек книга Наумова о Есенине вышла в свет спустя 5 (!) лет, в 1965 г., в издательстве «Просвещение» (ленинградское отделение), которое унаследовало редакционный портфель ликвидированного в 1964 г. Учпедгиза. Понятно, что во многом пришлось пойти «навстречу пожеланиям» цензора, иначе книга вообще бы не появилась. Убран ряд высказываний Р. В. Иванова-Разумника, которому дана «справедливая», с точки зрения цензора, а на самом деле совершенно тенденциозная характеристика[273], но вместе с тем предоставлена «трибуна врагу»; исчезла «положительная оценка» Бориса Пастернака; сделаны купюры в процитированных текстах самого Есенина и т. д. В юношеском, слегка наивном письме Г. Панфилову, в котором Есенин дает оценку классикам русской литературы, также сделаны купюры, в частности, такая: «Тебе, конечно, известны… лицемерие, азарт и карты и притеснения дворовых Н. Некрасова» — образ «народного заступника» ни в коем случае не должен быть снижен…
Немало мытарств испытала книга А. А. Максимова «Советская журналистика 20-х годов», вышедшая в издательстве Ленинградского университета в 1964 г. Она также была задержана на стадии верстки, поскольку, как доносил цензор Т. И. Панкреев, «ряд положений книги вызывает возражения». Образ неприкосновенного создателя «метода соцреализма» не должен быть запятнан: «На стр. 9 описывается сотрудничество А. М. Горького в меньшевистской газете, называется его брошюра “Несвоевременные мысли”». Ранее, в параграфе «Тамиздат», уже говорилось об отношении цензуры к этому циклу статей Горького, опубликованных первоначально в основанной им (а вовсе не «меньшевистской») газете «Новая жизнь» на рубеже 1917–1918 гг. В окончательном варианте книги Максимова о цикле все же вскользь сказано, но дана «партийная оценка»: «Под влиянием партийной критики Горький отказывается от своих ошибочных позиций».
Независимо от контекста, независимо от «правильного», «классово-выверенного» подхода автора к описываемым им событиям, «нежелательные» имена не должны фигурировать в книге: «Автор чрезмерно много площади отводит описанию журналистов и издателей, которые враждебно относились к Советской власти и политике партии. Причем, тут непременно называются фамилии редакторов и членов редколлегий антисоветских журналов. Их фамилии пестрят чуть ли не на каждой странице. Невольно возникает вопрос: нужно ли, хоть и в критическом плане, увековечивать память всякого рода Троцких, Ворон-ских, Лелевичей, Авербахов, детально разбирать их эстетические программы (как это делается на стр. 56, 63, 81, 115–121, 138–139). Думается, книга и, главное, — читатели только выиграют, если о троцкистах в литературе рассказать где-то в одном месте, короче, яснее и острее. Известно, что в конце 1927 г. А. К. Воронский был отстранен от редактирования журнала “Красная новь”. Но незадолго до этого, в феврале 1927 г., он на юбилейном вечере журнала пространно говорил о своей близости к Ленину, об участии вождя в его журнале. Кто знает, может быть, всё это потребовалось троцкисту Воронскому для того, чтобы представить себя в лучшем свете. Но тов. Максимов широко цитирует Воронского в целях показа роли В. И. Ленина в журналистике». Заканчивает он свой доклад неподражаемой фразой: «На мой взгляд, подобные источники оскорбительны для Ильича»[274]. О Воронском в книге кое-что сказано, но, под влиянием цензурных нареканий, в книге усилена оценка с партийных позиций, другие имена вычеркнуты практически полностью. «Недореабилитированный» Н. И. Бухарин также не должен упоминаться в книгах — опять-таки независимо от контекста и оценки.
Несмотря на реабилитацию в конце 50-х годов упомянутых лиц (кроме Троцкого, конечно), расстрелянных в годы Большого террора, они по-прежнему находились сфере пристального внимания. Наибольшее раздражение, как можно убедиться, вызвала фигура А. К. Воронского (1884–1937), литературного критика, прозаика, публициста, одного из крупнейших организаторов литературного процесса в 20-е годы, создателя и первого редактора лучшего журнала 20-х годов «Красная новь»[275]. Притязания, в связи с такой установкой, вызвала монография Л. А. Плоткина «Партия и литература» (Учпедгиз, 1960), казалось бы безупречная по части идеологии. Но и в ней нашлись недостатки: «Сообщаю, что по Вашему указанию (начальника Главлита. — А. Б.) книга мною просмотрена… — доносил начальник Управления, — В ней подвергнуты острой критике различные ревизионистские нападки на принципы советской литературы, соцреализм… Однако, подвергая острой критике доклад Бухарина на I съезде ССП, в книге излишне растянута полемика с Бухариным, слишком часто упоминается его имя (с. 195–197)»[276].
Крайне щепетильно относились наблюдатели к отражению и интерпретации в художественной литературе событий Великой Отечественной войны. В приводимом далее отзыве слышны отзвуки той острой полемики, которая велась по поводу военной темы и, в частности, вокруг повести Э. Казакевича «Двое в степи» в 50-е годы. Критика обрушилась на нее за «искажение» в повести «правды жизни» и предпочтение ей так называемой «малой окопной правды». Развязана она была, как всегда, по инициативе (точнее — приказу) свыше, поскольку попала в 1948 г. в постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журнале «Знамя». В нем говорилось: «В повести Э. Казакевича “Двое в степи” подробно расписываются переживания малодушного человека, приговоренного военным трибуналом к расстрелу за нарушение воинского долга. Автором морально оправдывается тягчайшее преступление труса, приведшее к гибели воинской части»[277].
Спустя почти 20 лет такая «установка» продолжала оставаться актуальной. В 1967 г. на самом верху, в Главлите, обращено внимание на выход в местном отделении издательства «Советский писатель» книги Л. А. Плоткина «Литература и война», но книги под таким «нейтральным» названием не существует. Видимо, она была в последний момент переименована и вышла в том же году и в том же издательстве под названием «Великая Отечественная война в русской советской прозе». Автор защищает повесть Казакевича «Двое в степи», которая «…подверглась сокрушительной и несправедливой критике. Повесть надолго исчезла из обихода читателя. Только в начале 60-х годов она была возвращена и теперь занимает достойное место» (с. 87). Такая переоценка показалась Главлиту преждевременной, ибо еще действовало упомянутое выше постановление ЦК. Москва затребовала «объяснительную записку» от начальника Горлита, а тот, в свою очередь, от руководителя издательства. Первый доложил, что об оценке повести Э. Г. Казакевича «Двое в степи» он доложил в Обком КПСС, приложив докладную записку цензора В. Ф. Липатова, читавшего книгу на предварительном контроле. Второй же пробовал защитить книгу от необоснованных, с его точки зрения, нападок: «В главе “Человек на войне” Плоткин со всей решительностью и, на наш взгляд, совершенно справедливо возражает против вульгаризаторского утверждения Тарасенкова о том, что Казакевич якобы отошел в этой повести («Двое в степи». — А. Б.) от метода социалистического реализма, сделав своего героя “ущербным человеком”, и мы не видим никаких оснований оспаривать эту точку зрения. Позиция издательства по этому вопросу сообщена в Обком партии»[278].
По-видимому, Главлит спохватился поздно: книга уже разошлась, сохранив вызвавшее раздражение утверждение автора.
Как и в других случаях, цензура имела дело с текстами литературоведческих книг, так сказать, «на выходе», когда они уже прошли фильтрацию, осуществляемую издательствами и редакциями журналов. Об этой внутренней «кухне» немало поучительного и рассказал Б. Ф. Егоров, на личном горестном опыте столкнувшийся с ней в процессе издания своих книг по истории русской литературы XIX века[279].
«Имя Пушкинского Дома в Академии наук…»
…«не пустой для сердца звук…», если продолжить цитирование предсмертного стихотворения Александра Блока, посвященного Пушкинскому Дому — Институту русской литературы Академии наук, отметившему свое столетие в 2005 г.[280].
Фундаментальные научные труды и академические собрания сочинений русских классиков, готовившиеся сотрудниками Института, подлежали обычному цензурному контролю. Однако к этому прибавлялось то, что помимо многочисленных фильтров, поставленных на пути издания и распространения произведений печати, в научных учреждениях судьба текста изначально определялась решениями членов Ученых или Редакционно-издательских советов, которые также вносили нужные коррективы, нередко— чисто идеологического свойства. Цензурные ведомства вступали в бой уже на последнем этапе, когда одобренный ученым ареопагом текст поступал в них на предмет получения разрешительной визы, или в тех случаях, когда «просчеты» обнаруживались постфактум, уже в напечатанном виде, в порядке последующего контроля[281].
Труды Пушкинского Дома стали объектом повышенного внимания с начала 30-х годов — после известного «Академического дела», главным «фигурантом» которого стал его директор, академик С. Ф. Платонов[282]. Примечательно, что вступительная статья «От редакции», помещенная в первом томе продолжающего выходить до сих пор сборника «Литературное наследство» (М., 1931), почти полностью посвящена Пушкинскому Дому, который «…под видом работы над историко-литературными материалами развил прямую контрреволюционную деятельность. Бывшее руководство Пушкинского дома во главе с Платоновым, являющееся в то же время верхушкой монархической организации, в числе многих “деяний” проводило вредительскую тактику в отношении к ряду ценнейших архивных фондов» (с. 3). Столь «своевременный» отклик не спас первый том от включения его в проскрипционный список запрещенных книг, выпускаемый Главлитом, и погружения его в спецхран на долгие, вплоть до 1990-го, годы. Поводом для изъятия послужило включение в него доклада Градского (Л. Б. Каменева) о «богостроительстве» (из «Протокола Совещания расширенной редакции “Пролетария” от 23 июня 1909 г.»), а также упоминание «одного из руководителей Пушкинского Дома троцкиста Горбачева»[283].
Главлитовские органы с недоверием относились не только к изданиям, адресованным массовому читателю, но и к выпускаемым ИРЛ И серьезным академическим трудам, рассчитанным, казалось бы, на узкий круг специалистов-литературоведов. В 1937 г. в ежедекадную «Сводку Леноблгорлита о важнейших вычерках и конфискациях», посланную «для информации и принятия мер» в обком партии, попало одно из пушкиноведческих изданий ИРЛ И: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». № 2. Издательство Академии наук. Ответственный редактор — Оксман. В статье М. Аронсона “Конрад Валленрод” и “Полтава” содержатся места с открытым прославлением предательства. Анализируя произведение Мицкевича “Конрад Валленрод”, автор статьи оценивает это произведение как “могучее прославление предательства во имя высокого патриотического служения героя”… Эти мысли, развивающиеся и в других местах статьи, звучат особенно подозрительно по отношению к автору и редактору сейчас, когда разоблачены враги народа — троцкистско-зиновьевская банда, применявшая в своей подлой работе метод двурушничества, как основной метод маскировки и предательства»[284].
Речь здесь идет о статье литературоведа и критика Марка Исидоровича Аронсона (1901–1937), памяти которого Николай Тихонов, разделявший с ним увлечение альпинизмом, посвятил стихотворение «Он альпинист, а умирал в постели…» Вызвавшая цензурные претензии статья все-таки была опубликована во «Временнике» (Т. 2. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1936. С. 43–56) под названием «“Конрад Валленрод” и “Полтава” (к вопросу о московских любомудрах 20—30-х годов)». Очевидно, под давлением цензуры в статье убраны инкриминируемые фразы и вставлены другие, резко осуждающие «предательство» и «двурушничество». Например, такие: «Конечно, прославление предательства как способа политической борьбы не имеет ничего общего с подлинно революционной тактикой. Валленродизм был методом бесплодным и безнадежным. Более того, с точки зрения общественной морали он мог внушать только естественное человеческое отвращение и в конечном счете сыграть не прогрессивную, а регрессивную роль. В Польше на этом образе воспитывалась националистическая молодежь…» (с. 52). Далее автор (или те, кто «выправил» и дописал его статью) несколько искусственно и с большими натяжками противопоставляет Валленроду Мицкевича образ Мазепы в «Полтаве», для которого «…Пушкин не находит ни одной положительной черты». Но и такие купюры и замены не спасли «Пушкинский Временник»: первые три выпуска, вышедшие в 1936–1937 гг., оказались в спецхране по той причине, что первые два вышли под редакцией арестованного в ноябре 1936 г. Ю. Г. Оксмана, а, кроме того, во всех трех «…упоминаются положительно, цитируются Воронский, Лелевич, Бухарин, Луппол, Бубнов и другие враги народа»[285].
Освобождены они были из спецхранов крупнейших библиотек только в конце 50-х годов; там, где таковых не было, все экземпляры пушкинских «Временников» подверглись истреблению.
Даже в годы наступившей оттепели, не говоря уже о застое, ситуация сохранялась почти в неизменном виде. По-прежнему издания института проходили тщательный контроль на предмет уловления, главным образом, «нежелательных персон», упоминаемых в них. Даже в сугубо академических изданиях не позволялось ссылаться на их труды, попавшие в запретительные списки Главлита, тем более — «предоставлять им трибуну». Таким «нелицом» объявлен был упоминавшийся уже Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), историк литературы, текстолог, занимавший с 1933 г. должности заместителя директора Пушкинского Дома и руководителя коллектива, готовившего тогда юбилейное академическое собрание сочинений Пушкина. В 1936 г. он был арестован и в течение 10 лет находился в ГУЛАГе, затем преподавал (до 1958 г.) в Саратовском университете. Переписка Оксмана с зарубежными литературоведами и его независимый характер привели в 1964 г. к новым репрессиям: за нарушение правил общения с иностранными учеными, действовавшими тогда в Академии наук, «за связи с антисоветскими элементами за рубежом» (имелось в виду, что среди его корреспондентов были русские эмигранты) он подвергся обыску, отстранению от работы в Институте мировой литературы, исключению из Союза писателей. В 1960—1970-е годы, по указанию Главлита, наложен запрет не только на публикацию трудов Оксмана, но и на самое упоминание его имени и ссылки на его работы[286].
Еще ранее в библиотеках варварской вивисекции подвергались книги, в подготовке которых он принимал участие. В качестве примера можно указать на воспоминания Е. М. Феоктистова «За кулисами политики и литературы. 1848–1896. / Ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана; Вводная статья А. Е. Преснякова и Ю. Г. Оксмана» (Л.: Прибой, 1929), в которых удалены страницы примечаний и предисловия, принадлежащих Ю. Г. Оксману. Последний раз перед долгим перерывом его имя на титуле книги фигурирует в 1964 г. — в книге «А. С. Пушкин. Капитанская дочка», вышедшей тогда в серии «Литературные памятники»: «Издание подготовил Ю. Г. Оксман». В дальнейшем его имя исчезает со страниц печати. Лишь во втором издании, вышедшем через 20 лет (1984 г.), на титуле все-таки оно появляется, но в такой редакции: «Издание 2-е, дополненное. 1-е издание подготовил Ю. Г. Оксман»[287].
В мае 1977 г. М. И. Гиллельсон (1915–1987), известный историк литературы, тесно связанный с Пушкинским Домом на протяжении всей своей жизни, обратился с письмом непосредственно к начальнику ленинградской цензуры, что по существовавшим тогда правилам считалось непозволительным: к нему могло обратиться только учреждение«частный человек» вообще не должен был знать о существовании этого ведомства. М. И. Гиллельсон сообщает о том, что в ленинградском отделении издательства «Просвещение» «…находится в производстве книга “А. С. Пушкин. Капитанская дочка. Комментарии”», о том, что «…Ю. Г. Оксман несколько десятилетий занимался изучением этого литературного памятника». «Естественно, — продолжает он, — что в представленном комментарии несколько раз упомянуто его имя. Труды и коллекция покойного ученого стали неотъемлемой частью культуры. Исходя из вышеизложенного, прошу Вас дать указание работникам издательства не чинить препятствий в упоминании имени Юлиана Григорьевича Оксмана в книге “Капитанская дочка. Комментарии”». На письме — пометка: «В дело». Ответа нет, да и не положено отвечать частному лицу… Трудно сказать, дано ли было такое «указание», но ученому удалось все же отстоять право хотя бы однажды упомянуть Оксмана. В книге М. И. Гиллельсона и И. Б. Мушиной «Повесть А. С. Пушкина “Капитанская дочка”: Комментарий. Пособие для учителя» (Л.: Просвещение, 1977) он указан в библиографии как автор статьи «Пушкин в работе над романом “Капитанская дочка”», помещенной в приложении к изданию «Литературных памятников» 1964 г. Тот факт, что издание целиком подготовлено Оксманом, опущено. Не упомянут он и в других, явно необходимых случаях.
Дошло до того, что имена проштрафившихся литературоведов не дозволялось указывать в библиографиях, даже в таких, которые имели чисто регистрационный характер. Так, по распоряжению Ленгорлита, из составленного В. П. Степановым указателя содержания журнала «Русская литература», вышедшего в 1975 г. [288], удален, в нарушение всех правил, целый ряд имен. Появился в результате невиданный «псевдоним» — «и др.». Например, полемический отклик Ф. Я. Приймы (1960, № 1) по поводу подлинных и мнимых статей В. Г. Белинского, включенных в академическое «Полное собрание сочинений», на самом деле имел подзаголовок «Ответ В. М. Потягину и Ю. Г. Оксману». В указателе второе имя заменено на «и др.». Заодно повелевалось исключить статьи Е. Г. Эткинда, о котором уже велась речь в этой главе. В указателе снова появляется указанный выше «псевдоним» — в описании статьи Ю. Д. Левина и Е. Г. Эткинда о В. М. Жирмунском (1966, № 3). Такая же операция производилась с именем А. Д. Синявского, вышедшего из лагеря и эмигрировавшего во Францию в 1973 г. В описании рецензии на книгу «Поэзия первых лет революции» (1965, № 1), написанную им в соавторстве с А. Меньшутиным, оставлено только имя последнего: Синявский превратился в «и др.»…
В небытие отправлялись не только люди, но и целые страны. В 70-е годы крайне осложнились отношения с Китайской Народной Республикой, а посему повелевалось убрать название этой страны из всех публикаций. Именно поэтому в публикации Б. В. Мельгунова конспекта записок М. Н. Волконской в издаваемом ИРЛИ «Некрасовском сборнике» (Л., 1980. Вып. 7. С. 186) появилась фраза: «Гуляла верхом. Ступила на < 1 нрзб> землю». На самом деле это слово в рукописи читалось вполне разборчиво — «китайскую»…[289].
С начала 60-х годов сделано было некоторое «послабление» для академических (но отнюдь не массовых!) изданий, которым дозволялось упоминать табуированные прежде имена писателей, однако требовалось обязательно подводить под них «марксистский базис». За два года до «перестройки» появился такой документ:
«31 августа 1983 г.
Леноблгорлит
Директору издательства “Наука ” тов. Чепурову С. Н.
О возврате верстки “История русской литературы”, т. 4.
Верстка 4-го тома “Истории русской литературы (литература конца XIX — начала XX века)” не может быть подписана к печати.
Некоторые главы написаны объективистски, без учета марксистского анализа литературных течений того периода. Ничем не оправдано то, что значительное место в книге уделено непомерному восхвалению творчества, а также исторической роли отдельных реакционно настроенных представителей литературы. В частности, неправомерно показано значение в литературе вел. кн. К. К. Романова, Д. Мережковского, З. Гипииус, Н. Гумилева. В связи с этим, по согласованию с партийными органами, возвращаем верстку на доработку.
Приложение: Верстка “История русской литературы”, т. 4, несекретно.
Зам. нач. Управления Д. Г. Данилов»[290].
Четвертый том выпускавшейся Пушкинским Домом 4-томной «Истории русской литературы» посвященный литературе конца XIX — начала XX вв., вышел все же в 1983 г., но, судя по всему, в искореженном виде. По требованию цензуры авторы вынуждены были расставить «классовые акценты». Не упомянув ни словом о том, что К. Р. (К. К. Романов) был великим князем, они отметили, что «…в его лирике, носившей дилетантский характер, преобладают меланхолическое настроение…», да и вообще «…К. Р. был далек от общественных настроений своего времени» (с. 106). Гумилеву все-таки отведено несколько страниц в параграфе «Акмеизм», но заканчиваются они таким пассажем: «От абсолютно сильной личности в духе Ницше — к прославлению “дела благородной войны”, к крайнему антидемократизму, острому неприятию Октябрьской революции — такой путь Гумилева, закономерно закончившийся в стане ее активных врагов» (с. 700). О расстреле поэта в августе 1921 г. — ни слова. Как мало все-таки изменилось с 30-х годов! Приведенная характеристика Гумилева чуть ли не текстуально повторяет концовку статьи рапповского критика О. Бескина («мелкого Бескина», как называл его Корней Чуковский), опубликованной в 1930 г. в «Литературной энциклопедии» (Т. 3. С. 86): «И Гумилев вполне последовательно окончил свою жизнь активным участником контрреволюционного заговора против советской власти». В таком же духе характеризуются творчество инкриминируемых цензурой русских писателей-эмигрантов.
Под подозрением находились и «Ежегодники Рукописного отдела Пушкинского Дома», выходившие с 1947 г. (с перерывом в 1961–1967 гг., первое название — «Бюллетени Рукописного отдела ИРЛИ»), вполне академическое издание, снискавшее себе заслуженный авторитет[291]. Но и в них не дозволялось «популяризировать», хотя это издание было рассчитано на специалистов, творческое наследие определенных писателей — преимущественно Русского зарубежья. Выходили ежегодники порою с большим опозданием, как правило, «по независящим обстоятельствам», как говаривали издатели и редакторы еще в XIX веке, намекая читателям на цензурные затруднения. Приведем сейчас лишь один эпизод, связанный с ежегодником на 1973 г. Он немало попутешествовал по различным цензурным и партийным инстанциям. Камнем преткновения стала статья А. В. Лаврова «Архив П. П. Перцова» — обзор архивного фонда Петра Петровича Перцова (1868–1947), литературного критика, поэта и публициста, жизнь и деятельность которого теснейшим образом связана с зарождением и становлением русского символизма. В его архиве, помимо других ценнейших документов, сохранились многочисленные и важные в научном отношении письма Д. С. Мережковского, характеристика которых и вызвала наибольшие возражения: цензоры решительно воспротивились этой публикации. Наконец, после долгих проволочек, Ф. Я. Прийма, исполнявший в то время обязанности директора ИРЛИ, решил в начале 1976 г. апеллировать к последней инстанции — естественно, к Обкому КПСС. Чтобы не портить отношения с Ленгорлитом, он послал ему копию своего письма, даже поставив его на первое место, с таким грифом:
«16 января 1976 г.
Институт русской литературы
АН СССР (Пушкинский дом)
В Леноблгорлит
В Обком КПСС
Прошу еще раз вернуться и просмотреть статью об архиве П.П. Перцова (в ее переработанном варианте) и положительно решить вопрос о ее публикации в “Ежегоднике Рукописного отдела за 1973 г.” (тираж 2250 экз.)», — так начиналось это письмо. Далее в нем говорилось, что ежегодник содержит обзор архива П. П. Перцова, материалы из которого него «не раз упоминались в открытой печати» и даже вызвали «сочувственный отзыв Ираклия Андроникова <…> В обзоре архива раскрывается история издания “Нового пути”, в редакции которого входили Д. Мережковский и З. Гиппиус, имена которых упоминались в печати. Обзор А. В. Лаврова раскрывает одну из малоисследованных страниц в истории русской журналистики и русского символизма <…> Без характеристики литературной деятельности Мережковского, одного из зачинателей символизма, не обходятся и более популярные издания, отражена она в пособии для студентов». Ф. Я. Прийма (или те, кто составлял это письмо) приводит еще один довод, к которому нередко прибегали в подобных случаях: «В “Плане выпуска литературы издательства ‘Наука’ за 1975 г." (курсив наш; напомним, что письмо написано в 1976-м. — А. Б.) в аннотации к ‘Ежегоднику…’ указан и обзор архива П. П. Перцова, и входящие в него материалы. Тем самым изъятие этого обзора из книги может обратить на себя внимание и вызовет за рубежом нежелательные кривотолки. В новой редакции сокращены цитаты из писем и внесены дополнительные критические акценты. Прошу положительно решить вопрос о возможной публикации и возвратить нам ее корректуру, отпечатанную в одном экземпляре для Управления по охране государственных тайн в печати».
К этому документу приложено письмо С. А. Фомичева, тогда — ученого секретаря ИРЛИ, удостоверяющее, что в статье А. В. Лаврова «цитируются материалы только из открытых архивохранилищ». На полях — резолюция начальника Ленолблгорлита: «Издательству “Наука”. По согласованию с Главным управлением (Главлитом СССР, куда, как можно понять, для перестраховки был послан запрос по этому делу. — А. Б.) статья оставлена в “Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г.”»[292]. Статья появилась в печати (Л., 1976. С. 29–50), хотя кое-чем, в немногих, впрочем, случаях, пришлось пожертвовать.
* * *
Как и прежде, крайне затруднена была исследовательская работа литературоведов, в том числе и по причинам чисто «технического порядка». Категорически запрещалось, например, ксерокопирование книг в полном виде: на это требовалось специальное разрешение цензурных органов, даже когда речь заходила о вполне «открытых» изданиях. В качестве иллюстрации приведем посланное начальнику Ленгорлита 14 июля 1980 г. ходатайство директора Пушкинского Дома академика А. С. Бушмина: «Дирекция Института убедительно просит Вас дать разрешение на изготовление ксерокопий в 2-х экземплярах следующих книг: Александр Блок. Стихи к Прекрасной Даме. М.: Гриф, 1905, и Александр Блок. Собрание сочинений. Т. 1. Пб.: Алконост, 1922. Копии этих книг, имеющихся в библиотеке Института, необходимы для работы членов группы по изданию академического Собрания сочинений и писем Александра Блока. После окончания работы все экземпляры будут сданы в библиотеку Института»[293]. Цензура милостиво согласилась с этим — «в порядке исключения»…
Еще большие затруднения возникали в связи с недоступностью многих источников, частично вообще отсутствующих в российских библиотеках, частично изъятых и погруженных в спецхраны. Касалось это не только русских эмигрантских книг, но и серьезных научных изданий на иностранных языках (журналов, прежде всего), в которых обнаруживался политический или какой-либо иной «криминал». Для изучения этого вопроса, помимо документов самого Ленгорлита, большую ценность представляет еще один источник — карточный каталожный ящик, сохранившийся, к счастью, в архиве бывшего спецхрана Библиотеки Российской Академии наук (он преобразован в 90-е годы в Отдел русского зарубежья), снабженный интригующей и загадочной надписью: «Личные книги». В разделе «Институт русской литературы» помещены сотни карточек с описаниями книг, посланных крупнейшим филологам, — Д. С. Лихачеву, В. М. Жирмунскому и другим. Дело в том, что в годы «застоя», да и ранее, многие книги и журналы, присылаемые ученым зарубежными друзьями и коллегами, конфисковывались на Главпочтамте или на таможнях, не доходили до адресатов; в лучшем случае, они передавались в спецхраны, в худшем — уничтожались на месте. Согласно секретному предписанию Главлита, «…все издания с антисоветским содержанием подлежат конфискации и переадресовке», как будто речь шла об исправлении оплошности почтового ведомства или смене адреса получателя. «Получатель», конечно, был известен и заранее определен: спецхран… Согласно исторической справке «Личные книги в фонде специального хранения БАН СССР», составленной в сентябре 1988 г., «…в отделе спецфондов хранилось 1638 изданий, направленных первоначально в адрес 346 читателей. Большая часть из них — монографии по общественным наукам, но есть и издания естественнонаучного профиля»[294].
Книги, содержавшие «идеологические дефекты» (таков был официальный термин), естественно, на дом не выдавались, не отражались они и в доступных читателям каталогах. Чаще всего подлинные владельцы о них даже не подозревали, иногда вынуждены были подвергаться унизительной процедуре: заручившись «отношением с места работы», читать свои же собственные книги в особом помещении под наблюдением бдительного сотрудника. Некоторые ученые не желали мириться с таким порядком, требуя вернуть им эти книги или хотя бы выдать их на дом на определенное время, поскольку они необходимы для работы. Об этом неоднократно просили академики Д. С. Лихачев и М. П. Алексеев, директор ИРЛ И В. Г. Базанов и другие, от которых требовалось в заявлении обещать, что они не будут «показывать и давать книгу посторонним лицам» (!). В ряде случаев (но не всегда) им все-таки шли навстречу. Ссылаясь на свой почтенный 78-летний возраст, академик В. М. Жирмунский попросил выдать на временное пользование книги, присланные ему лично. Его письмо снабжено сохранившейся пометкой сотрудника спецфонда: «Книги выданы лично акад. В. М. Жирмунскому. 25.07.1969 г. Возвращены. 10.03.1971 г.»[295].
Одним из первых — еще в 50-е годы — заинтересовался недоступной тогда литературой Русского зарубежья основатель «Древлехранилища» Пушкинского дома Владимир Иванович Малышев (1910–1976).
Его корреспонденты, французские преимущественно, присылали ему обычной почтой (что, конечно, было с их стороны необдуманно) книги русских писателей, оказавшихся в изгнании[296]. Нарушая принятые правила, Малышев еще в 1957 г. начал переписываться с А. М. Ремизовым, жившим в Париже. Старый писатель прислал Малышеву двенадцать книг, украшенных его неподражаемыми стилизованными автографами; его примеру последовали и другие писатели-эмигранты. Человек проницательный и дальновидный, Малышев передал книги Ремизова не в основной фонд библиотеки, а в Рукописный отдел — под видом «автографов»[297]. В противном случае, ничто не спасло бы эти книги от заточения в спецхран.
В указанной выше картотеке содержатся описания 33 книг и других печатных изданий, присланных ему из Парижа и не дошедших до адресата. Среди них книга стихов талантливого поэта Виктора Мамченко «Восприятие сердца» (Париж, 1964), автобиографическая повесть Георгия Гребенщикова «Егоркина жизнь», изданная в США в 1966 г., сборник стихотворений Ирины Одоевцевой «Десять лет» (Париж: Рифма, 1961), книга очерков Эммануила Райса «Под глухими небесами» (Нью-Йорк, 1967) и ряд других. Значится в списке и небольшая монография Юлии Кутыриной «Иван Сергеевич Шмелев» (Париж, 1960). Прислан был Малышеву и ряд научных изданий, например, первый выпуск сборника «Наследие», посвященный вопросам церковного искусства и выпущенный в 1968 г. в США. Значится в перечне конфискованных изданий и выходящий до сих пор в Нью-Йорке русский «Новый журнал» (1960, кн. 61).
На большинстве книг — автографы авторов или дарителей. Так, на авантитуле книги Э. Райса «Под глухими небесами» читаем: «Владимиру Ивановичу Малышеву с глубоким уважением и искреннейшею привязанностью, как ко всему, что в России. Райс». Однако, «привязанность» автора к России не спасла его книгу: она снабжена главлитовским шестигранным штампом, означавшим запрет, а на последнем листе можно увидеть пометку, сделанную синим карандашом: «Книга прислана н/сотр. (научному сотруднику. —А. Б.) ИРЛИ АН СССР В. И. Малышеву». Книга, казалось бы, не подпадала под «генеральное ограничение», которому подвергались все эмигрантские издания: она выпущена обычным американским издательством, да и в самом тексте опять-таки ничего «антисоветского» нет. Скорее всего, цензоры обратили внимание на большой «Перечень книг, продающихся в магазинах русской книги Европы и Америки», помещенный в конце книги в качестве рекламного приложения: в нем указаны «Дневник моих встреч» художника Юрия Анненкова, американское издание «Стихотворений и поэм» Иосифа Бродского, 4-й том американского же издания «Сочинений» Б. Пастернака, в который вошел роман «Доктор Живаго», русский перевод романа Джорджа Оруэлла «1984», вышедший в издательстве «Посев», сборник «Синявский и Даниэль на скамье подсудимых» и ряд других книг.
Некоторые надписи предельно лапидарны и подписаны только инициалами, как, например, на упоминавшемся уже сборнике «Наследие»: «В. И. Малышеву. П. С. 1969». Одна книга, посланная Малышеву (очерк об И. С. Шмелеве), снабжена дарственной надписью: «В библиотеку Пушкинского Дома. Юл. Кутырина». Другие имеют более «личностный», как принято теперь говорить, характер. И. Одоевцева написала на сборнике своих стихотворений: «Глубокоуважаемому Владимиру Ивановичу Малышеву с сердечным приветом от Ирины Одоевцевой. 12.5.61. Саньи». Сборник этот вполне безобиден, если не считать посвящения одного из стихотворений, крайне манерного и кокетливого, надо сказать, Георгию Адамовичу и упоминания в нем имени Н. С. Гумилева:
Дом Искусств. Литераторов дом, Девятнадцать жасминовых лет. Гордость студии Гумилева Николая Степановича… Но постойте, постойте. Нет. Это кажется так сгоряча, Это выдумка, бред.Другой значащий автограф, позволяющий судить о широте дружеских связей Малышева с крупнейшими зарубежными славистами, — надпись на книге и поныне здравствующего профессора Сорбонны Мишеля Окутюрье «Pasternak par lui-meme. Paris, 1961» («Пастернак своими глазами»): «Владимиру Ивановичу Малышеву с чувством глубокой благодарности за ленинградское гостеприимство. М. Aucouturier. 12.11.67 г.». «Криминал» ее, видимо, состоял в неоднократном упоминании «Доктора Живаго» и известных перипетий, связанных с присуждением в 1958 г. Борису Пастернаку Нобелевской премии.
Вторую группу указанных в малышевском списке изданий составляют — весьма неожиданно, надо сказать, — десять номеров газеты «Русские новости» за 1969 и 1970 гг. (не путать с одновременно выходившей и издающейся до сих пор парижской газетой «Русская мысль», традиционно занимавшей антикоммунистические позиции). Эта газета, печатавшаяся, начиная с 18 мая 1945 г., в Париже на русском языке и возникшая на волне некоторой эйфории, царившей в эмигрантских кругах в связи с победой над Германией, стояла на чисто просоветской платформе и издавалась пресловутым «Союзом возвращенцев на родину». Скорее всего, печаталась она на советские деньги и занимала соответствующие этому факту позиции. Главным редактором ее в 60-е годы был некий человек, носивший весьма инфернальную и соответствующую содержанию его газеты фамилию: М. Бесноватый. Тем не менее, «культурная страничка» «Русских новостей» представляла некоторый интерес, сообщая порой о литературной жизни русской эмиграции. Проявляла редакция интерес и к событиям культурной и научной жизни в СССР. Ею в 60-е годы, как видно из опубликованной библиографии работ В. И. Малышева, были перепечатаны из советских газет некоторые его статьи (например, из «Недели» за 1965 г. — по поводу установления памятника Аввакуму в Пустозерске, из «Литературы и жизни» за 1960 г. — о старинных переплетах, о древнерусских рукописях Рогожского кладбища и т. д.)[298]. Однако и эта правоверная в политическом отношении газета, как выяснилось, не избегала порой внимания аргусов из Главлита. В бывшем спецфонде БАН хранится под одним переплетом подшивка, состоящая именно из тех номеров, которые указаны в упомянутом выше списке конфискованных у Малышева печатных изданий. Остальные — поступали в «общее хранение». Внимательный просмотр их показал, что после пражских событий газета несколько отбилась от рук и порой позволяла себе выход за установленные рамки (не случайно она, не оправдав, видимо, надежд, в конце 1970 г. была закрыта). В содержании этих номеров, в целом абсолютно лояльном, усмотрена все же была «крамола», что и повлекло их изъятие. В основном, она связана с упоминанием имени А. И. Солженицына. Так, например, в № 1234 от 4 апреля 1969 г. опубликован отчет о литературном вечере, посвященном ему, состоявшийся в Париже в зале Русской консерватории. Цензурные претензии вызвал, видимо, такой пассаж из этого отчета: «Георгий Адамович указал, что вопреки установившемуся мнению о том, что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате» Толстого, при чтении книг Солженицына возникает впечатление, что русская литература продолжается». В другом номере (№ 1285 за 16 октября 1970 г.) внимание цензуры привлекла подборка «Нобелевская премия по литературе», — по-видимому, в связи с вошедшим в нее фрагментом выступления коммуниста и «бывшего друга Советского Союза» Луи Арагона, несколько изменившего свою окраску (из красного он стал розоватым — опять-таки после пражских событий 1968 г.): «Французский писатель и поэт Луи Арагон откликнулся на присуждение Нобелевской премии А. И. Солженицыну следующей фразой: «Солженицын — превосходный писатель, и лучше дать премию хорошему, чем плохому» (!). Заявление, надо сказать, несколько странное… Номер был конфискован и передан в спецхран. Не спасла его и опубликованная ниже — очевидно, в виде «компенсации» — выдержка из статьи «Юманите», в которой высказывается «недоумение» по поводу «странного обычая» Нобелевского комитета, который из 4 русских писателей, которым присуждалась эта премия, выбрал трех (имеются, конечно, в виду, Бунин, Пастернак и Солженицын) находившихся в «оппозиции к Советской власти». Добавлю, что случись эта история позднее, счет бы изменился (4 из 5 — добавлен был бы Бродский).
Оказались на «специальном хранении» отдельные номера английских славистских журналов, присылавшиеся ученому: «Oxford Slavonic Papers», «The Slavonic and East European Review» и некоторых других. Запрещались они выборочно — в зависимости от состава и содержания того или иного номера. Наиболее выразителен случай запрещения 44-го тома (№ 103) второго из указанных выше журналов (1966 г.). На сохранившейся карточке с описанием этого номера есть такая помета: «По согласованию с Ленобллитом вырезана и выдана статья В. Н. Канта. Остальное списано в спецмакулатуру». Как можно понять, Малышев настоял на том, чтобы ему была выдана интересующая его статья; после этого весь номер журнала пошел под нож. Как видно из содержания второго экземпляра этого номера лондонского журнала, в полном виде сохранившегося в БАН, Малышеву была отдана статья С. В. Канта (привожу далее названия статей в переводе на русский) «Протопоп Аввакум и его шотландские современники». Причиной конфискации стали, скорее всего, статьи В. Пахмусса «Иван Бунин глазами Зинаиды Гиппиус», К. Коллинса «Замятин, Уэллс и традиции утопической литературы».
Такова же судьба ряда книг, не дошедших до Л. Н. Назаровой, многолетней сотрудницы Пушкинского Дома. В 60-е годы она работала в «Тургеневской группе», занятой подготовкой академического полного собрания сочинений классика. Тогда она завязала активную переписку с Борисом Константиновичем Зайцевым, написавшим замечательную книгу «Жизнь Тургенева» (издана в Париже в 1949 г.). Писатель регулярно писал ей письма, присылал книги, столь необходимые для научной работы, но в большинстве своем они опять-таки оседали в спецхране Библиотеки Академии наук[299].
* * *
Приведенные эпизоды, разумеется, не исчерпывают всех случаев подобного рода. Идеологические просчеты цензоры находили даже в трудах по древнерусской литературе, в которой они тоже считали себя компетентными. «Выправлена» была, между прочим, знаменитая книга академика Д. С. Лихачева, обвиненного в «идеализме»: «В июле 1961 г. подписана к печати книга Д. С. Лихачева “Слово о полку Игореве — героический пролог русской литературы”. Здесь на стр. 128 автор приводит текст подписи на одном греческом надгробии, которая гласила: “Я не был — был — никогда не буду”, и далее говорит, что с этим необходимо поспорить. Д. Лихачев доказывает, что “человек живет еще до своей жизни, до рождения, живет как некая потенция”. Эта ненужная, путаная концепция, ведущая к идеализму, была снята»[300].
За пределами нашей книги осталась «подводная», закулисная сторона вопроса: та «внутренняя кухня», которая сопровождала издание трудов, добровольная цензура, сопровождаемая порой прямыми доносами на уже вышедшие издания, и т. п. Укажу сейчас лишь на один эпизод такого характера. Связан он с развернувшейся кампанией антисемитизма, слегка замаскированной лозунгом «борьбы с сионизмом». Как раз в январе 1979 г. состоялось особое заседание секретариата Ленинградского обкома под председательством первого секретаря, члена Политбюро Г. В. Романова «О мероприятиях по дальнейшему разоблачению реакционной сущности международного сионизма и антисоветской сионистской пропаганды». Как видно из «секретного протокола № 13» этого заседания, издательствам и средствам массовой информации, телевидению в особенности, предписано было усилить работу в этом направлении, отмечены успехи Ленинградского телевидения, выпустившего фильм «Ради наживы», ряда газет, опубликовавших статьи на эту тему, и т. д. [301]. «Сионистская пропаганда» виделась в самых неожиданных текстах; цензорам и другим надзирателям за печатью и идеологией, впавшим в «парадоксальное состояние» (термин И. П. Павлова), всюду мерещился «замаскированный враг». Претензии к «Ежегоднику Рукописного отдела на 1979 г.», на сей раз не цензуры, а партийных идеологических инстанций, в том числе и местной «партячейки», вызвала публикация писем Б. Л. Пастернака к Григорию Эммануиловичу Сорокину (1898–1954), поэту и крупному издательскому работнику (публикация А. В. Лаврова, Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака). Сорокин был преемником С. М. Алянского на посту заведующего «Издательством писателей в Ленинграде» в начале 30-х годов, затем всю войну прошел на действительной службе военным корреспондентом, а в последние годы был главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Активная и очень дружеская переписка велась им с Пастернаком, когда в Ленинграде выходила в 1933 г. его книга «Стихотворения в одном томе». В молодости Г. Э. Сорокин писал стихи; входил в литературную группу «Содружество» вместе с Н. Л. Брауном, Б. А. Лавреневым и М. Э. Козаковым, опубликовал в 1925 г. сборник «Галилея». Одно лишь упоминание об этом факте во вступительной статье, фраза «Библейские мотивы сочетались в стихах Сорокина с темами Петербурга и русской культуры…», но особенно четверостишие из сборника «Галилея»:
Что делать мне на Невских берегах, В метелях, бурях и туманах, Когда слеза в открывшихся глазах, Запомнивших цветенье Ханаана… —вызвали доносы на публикаторов. Они, конечно же, пытались протащить в ежегодник «сионизм» и «иудаизм»: «хотящий видеть да видит…» Начался разгром ежегодника — устроено закрытое партийное собрание, создана специальная комиссия партбюро ИРЛИ, разбиравшего это дело, возникшее, надо сказать, «снизу», в результате доносов некоторых сотрудников Пушкинского Дома. В отчете парткомисии по этому делу, занимавшему 26 страниц убористой машинописи, утверждалось, что «идейно теоретический уровень публикуемых в “Ежегоднике” материалов, посвященных, с одной стороны, различным кризисным явлениям предреволюционного модернизма с его проповедью эстетизма, религиозно-идеалистической философии, мистико-упадоч-нических настроений, буржуазного индивидуализма и воинствующей аполитичности, а с другой — столь же ущербным явлениям литературного процесса первых послеоктябрьских лет, в не меньшей мере пронизанным идеями буржуазной идеологии и нередко представлявшим собой, по определению Ленина, лишь “литературное прикрытие белогвардейской организации” (Полн. собр. соч., т. 54, с. 198), требует особого внимания». Инкриминировалось сотрудникам «Ежегодника» также «протаскивание» наследия «активных ниспровергателей социалистической культуры», — «высланного за границу в 1922 г. за свою контрреволюционную деятельность за границу С. Л. Франка или активного врага советской власти П. Б. Струве»[302]. Редколлегия была разогнана, заменена частично «проверенными товарищами». Но этим не ограничились (ежегодник проштрафился вдобавок публикацией писем М. О. Гершензона): ценнейшее издание по решению обкома велено было закрыть навсегда; удалось выпустить уже подготовленный ежегодник за 1980 г., и на этом издание его прекратилось на 10 лет (возобновлено было только в 1993 г. (ежегодник на 1990-й).
Мелочные придирки характерны не только для собственно цензуры, но и для администрации, сотрудников райкома партии (Василе-островского района, на территории которого располагается институт). Даже выпускавшиеся в ограниченном числе экземпляров (на машинке, позже — в ксерокопированном виде) программы научных конференций подлежали строгому идеологическом контролю. Так, например, в программе вторых «Малышевских чтений» 1978 г., как называются в память В. И. Малышева проходящие до сих пор ежегодные конференции по проблемам древнерусской литературы, из названия доклада Н. В. Понырко «Богородица — покровительница риторов» вычеркнуто первое слово. Еще курьезнее (и печальней, конечно), выглядит операция, произведенная в программе чтений 1985 г. Первоначально доклад А. Г. Боброва и А. Е. Финченко назывался так: «Пастушеский заговор на Русском Севере». Велено переименовать его на «Пастушеский фольклор на Русском Севере» — из опасения, должно быть, что первое название может навеять мысль, что существует некий тайный заговор пастухов (против советской власти?).
Тексты программ должны были «визироваться» не только администрацией, но и сотрудниками райкома КПСС. Примечателен в этом смысле сохранившийся экземпляр программы «Малышевских чтений» за 1982 г. На нем имеется круглая печать Василеостровского райкома с неразборчивой подписью; кроме того, этим же лицом, видимо, вычеркнут подзаголовок: «К 300-летию со дня казни протопопа Аввакума»[303].
* * *
Приведенные эпизоды, конечно, не исчерпывают тему взаимоотношений сотрудников Пушкинского Дома с «внешней» и «внутренней» цензурой. Обычно принято говорить о непоправимом ущербе, который тоталитарная цензура нанесла интеллектуальному потенциалу страны применительно к естественным, точным и техническим наукам — генетике и кибернетике, прежде всего, «прислужницам империализма», как называли их в известные годы. У филолога оставался по крайне мере текст, который он мог интерпретировать, комментировать и т. д., чем в основном и занимались многие видные ученые, ушедшие почти исключительно в текстологию, — по типу крупнейших поэтов, вынужденно уходивших в переводы. Но это касалось преимущественно классических текстов; хуже, когда и текста-то не было, вернее, он был приравнен к несуществующим.
Глава 8. Искусство
Искусство идет впереди, конвой идет сзади…
Из фольклора 60-х годовЗрелищные искусства
Наблюдение за идеологической чистотой произведений искусства возлагалось на различные комитеты и учреждения культуры, а также «творческие союзы» — кинематографистов, художников, композиторов и т. д. Именно «художественные советы» этих учреждений решали и определяли судьбу театрального репертуара, эстрады, кино, художественных выставок и даже цирковых реприз. Как и в других случаях, решающий голос принадлежал партийным инстанциям — не только идеологическим отделам ЦК и обкомов, но и соответствующим парторганизациям. На долю собственно цензуры все же кое-что оставалось, о чем и пойдет речь далее.
Прежде всего, на ее рассмотрение поступали любые печатные издания, относящиеся к драматическому искусству. Значительные затруднения возникали, в частности, при издании театроведческих трудов, особенно по истории советского театра. С большим трудом проходило издание фундаментального многотомного труда «Советский театр. Документы и материалы», готовившегося Институтом театра, музыки и кинематографии в 60—80-е годы. В него вошли сотни впервые публикуемых документов, почерпнутых из многих архивов страны. Им заинтересовались на самом верху — в Главлите СССР, который прислал в 1982 г. такое распоряжение: «О верстке книги “Советский театр. Документы и материалы. 1917–1964. Т. 4. Ч. 1. 1926–1932”. Издательство “Искусство”. Большинство материалов взято из архивов (далее перечисляются их названия. — А. Б.) и ранее не публиковалось». Более всего «центр» был встревожен разглашением «гостайн», а именно тех, которые связаны с деятельностью самого Главлита и подчинявшегося ему в 20—30-е годы Главреперткома, контролировавшего репертуар всех зрелищных предприятий. Перечислив десятки страниц верстки, на которых встречаются документы такого рода (с. 16, 36, 63, 73 и другие), Главлит требует «решить вопрос о возможности публикации документов, связанных с деятельностью цензуры». На обороте этого документа от руки вставлено примечание: «Верстка книги была прочитана зам. нач. отдела Главлита т. Наргалиевой Г. А. Предложено исключить сведения на стр. 73, 346 (Багровый остров»)»[304]. Публикацию документов, посвященных деятельности Главреперткома, удалось все-таки отстоять. Что же до сведений о пьесе М. А. Булгакова «Багровый остров», запрещенной к постановке в конце 20-х годов, они отсутствуют на указанных страницах, хотя на с. 7, 334–336, 343–345 и других она неоднократно упоминается: видимо, всё не усмотрели…
Судьба запланированных спектаклей определялась в результате предварительных просмотров, генеральных репетиций, «прогонов» и т. п. с приглашением «общественности». Под ней подразумевались преимущественно чиновники управления культуры, городского и областного комитетов партии. Они могли запретить уже поставленный спектакль, потребовать изъятия отдельных реплик и даже сцен, а также изменения самой режиссерской «трактовки» пьесы. Таких случаев — множество, о чем не раз говорилось в мемуарах актеров и режиссеров. Больше всего доставалось, как известно, Большому драматическому театру им. М. Горького (теперь — им. Г. А. Товстоногова).
Но даже после этого Ленгорлит предъявлял свои права, считая себя последней и главной инстанцией. Время от времени он посылал в обком донесения, в которых указывалось на идеологические просчеты в репертуаре ленинградских театров. Вина возлагалась, прежде всего, на Управление культуры, которое и само-то редко проявляло признаки либерализма. Например, в 1975 г. в Горком КПСС отправлена «Информация об идейных недостатках пьес, одобренных и разрешенных Областным управлением культуры Ленгорисполкома к публичному исполнению в театрах имени Комиссаржевской и имени Ленсовета». Ошибкой первого из них признавалась постановка пьесы молдавского драматурга И. Друцэ «Святая святых»: «Приводимые в пьесе в большом количестве факты бесхозяйственного отношения к социалистической собственности, злоупотребления властью, очковтирательства и социальной демагогии перерастают в итоге в заостренную картину нежизненности, негуманности социалистического строя. Финал пьесы трагичен: Кэлин (единственный положительный герой) погибает, по сути, от безысходности… Все это позволяет сделать вывод, что пьеса И. Друцэ “Святая святых”, неверно изображающая взаимоотношения рядовых людей и руководителей, противопоставляющая их представления о справедливости и пользе общегосударственной политики, тенденциозно обобщающая отдельные недостатки, не может быть разрешена к показу на сцене ленинградского театра без генеральной ее переработки».
Такая же участь постигла другую пьесу И. Друцэ — «Возвращение на круги своя», посвященную уходу и смерти Льва Толстого, поставленную Малым драматическим театром. Она привлекла внимание инструктора обкома Бельдюгова, доносившего зав. Отделом культуры Г. С. Кругловой о том, что пьеса «грешит серьезными недостатками», «очевидны потери в исторической правдивости воплощения личности писателя» (курсив наш: таков обычный стиль донесений. — А. Б.). Инспирированная сверху кампания борьбы с «сионистскими тенденциями» в искусстве нашла, по-видимому, отражение в таком пассаже: «Очень субъективно отобраны действующие лица, окружающие Толстого в пьесе. Наряду с близкими ему людьми здесь почему-то присутствуют и случайные и далекие Толстому лица, как “переплетчик” Самуил Иосифович Беленький, “фотограф” из столицы Шапиро. Театр правильно поступил, исключив их из состава действующих лиц. Однако неоправданно укрупнен образ Гольденвейзера (знаменитого пианиста, часто игравшего в Ясной Поляне. — А. Б.). Толстой застывает перед ним в молитвенно-благоговейных позах. Обнимает, советуется, целует. В спектакле он никому больше не оказывает таких знаков внимания. Место Гольденвейзера в спектакле не соответствует его действительной роли в окружении писателя». Обвинен был драматург также в отсутствии патриотизма, поскольку «в произведении не нашлось места для главных мыслей и поступков Толстого, характеризующих его любовь к России и русскому народу, но есть фразы, косвенно бросающие тень на отношение писателя к патриотизму вообще: “У Ганди всё прекрасно, за исключением его индийского патриотизма, который всё портит” (!?)».
«Странное впечатление» произвела «представленная на контроль в Облгорлит пьеса Г. Горбовицкого “Чистый лист” на современную тему, поставленная Театром им Ленсовета, опять-таки одобренная и разрешенная Управлением культуры к публичному исполнению… тем более, когда страна одерживает одну за другой победы, идя навстречу 25-му партийному съезду. Беспокоит прежде всего то, что в пьесе не учитываются достижения научно-технической революции в нашей стране, поверхностно изображается жизнь советского человека в условиях развитого социализма, поверхностно, а порой неверно раскрывается социалистический образ жизни, нравственный смысл тех преобразований, которые происходят в любом уголке нашей Родины, и прежде всего — коммунистического воспитания новой личности… Преклонение перед всем “как у них”, “что у них”, у капиталистов, завораживает автора и героев его пьесы. Он не видит больших жизненных проблем, которые успешно решал и решает советский народ. Автор пытается наши свершения свернуть с магистральных трасс на боковые тропинки, принизить содеянное советским народом…. Поступательное движение советского общества, пафос движения автору передать не удается… его установка — на изображение советских людей с пороками, с мещанской червоточиной. По нашему мнению, Главное управление культуры проявило недостаточную требовательность к идейно-художественному качеству пьесы, терпимость к ее серьезным просчетам, поспешило с одобрением пьесы, которая требовала тщательной проработки, не порекомендовало драматургу и театру глубоко всматриваться в жизнь, постигать реальность, дабы стать вровень с важнейшими духовными проблемами наших дней»[305].
Более или менее регулярно в обком партии поступала «информация о низком идейно-художественном уровне материалов для эстрады».
Управление культуры снова обвинялось в «излишнем либерализме», в том, что оно «проявляет терпимость к низкому идейно-художественному уровню» эстрадного репертуара: «В фельетонах, репризах и проч. наблюдается очернение действительности… Люди представлены кляузниками, имеются непозволительные обобщения, копание в мелочах. Встречаются непозволительные афоризмы: “Если ты ничего не умеешь делать, не отчаивайся, ты еще можешь стать ведущим” (“Защита диссертации”). Лишенное комментариев, это высказывание приобретает силу обобщения. Управление культуры не сделало должных выводов из решений ЦК КПСС по идеологическим вопросам, в которых ясно указано, что главное у нас — показ положительного, нового, прогрессивного, что критика должна идти с жизнеутверждающих позиций, укрепляющих социалистический строй. Интермедия “Репортаж из магазина” И. Высотского запрещена. Это произведение не дает правильного изображения советской действительности. Лишенное конкретизации, оно дает ничем не оправданное обобщение о серьезной нехватке у нас промтоваров, о спекуляции и действующих заодно со спекулянтами работниках советской торговли»[306]. В качестве иллюстрации, доказывающей отсутствие надлежащего контроля, приводился также случай с предоставлением в Облгорлит композиции под названием «Кто убил Джона Кеннеди?», которая, «по согласованию с Обкомом, не была разрешена к представлению, как неактуальная в настоящее время»[307].
Внимание цензурных и партийных инстанций привлекали не только ленинградские поэты, но и «гастролеры» — московские кумиры, часто приезжавшие в город, что вызывало «ажиотаж среди нездоровой части молодежи». Так, в январе 1960 г. в обком поступило донесение секретаря Октябрьского райкома КПСС о «различных выступлениях поэта Е. Евтушенко в институте им. Лестгафта и Дворце культуры им. 1-й пятилетки». По его словам, «большинство стихотворений Е. Евтушенко являются безыдейными, пошлыми, проповедуют чуждую советским людям мораль и нравы, содержат клеветнические утверждения», поэт читает еще не опубликованные стихи, не проверенные цензурой и «чуждые духу нашего времени». «Бюро Райкома КПСС, — сообщалось в заключение, — ограничилось обсуждением такого безответственного отношения парторганизаций и руководителей института и Дворца культуру к организации публичных выступлений…». Позднее приняты более серьезные меры: такие выступления вообще решено запретить.
Не только спектакли стационарных театров, но даже самодеятельные студенческие спектакли-обозрения, столь модные в Ленинграде 50—60-х годов («Весна в ЛЭТИ», «Лоцманская, 3» и др.) входили в сферу внимания контролеров. Начальник Ленгорлита, говоря на одном из закрытых партсобраний (см. о них в главе 2) 1957 г. о «притуплении бдительности», заметил: «Грешим этим и мы, иначе нельзя объяснить разрешение политически порочного литобозрения “Липовый сок”, наполненного клеветой на советскую действительность». Речь шла о сатирическом спектакле, поставленном студентами Политехнического института, а виновницей такого происшествия оказалась цензор Бон-дина, которая не только не «сумела дать ему политическую оценку», но «при объяснении со мной заявила, что там нет ничего особенного и мы вообще не должны вмешиваться в идейно-художественные вопросы». «Совершенно ясно, — резюмирует он, — что т. Бондина не может осуществлять политический контроль»[308].
Вполне понятно, что приведенные примеры вовсе не исчерпывают тему «драматической цензуры». Между прочим, именно так, неся в самом названии двойной смысл, официально именовалось ведомство, контролировавшее театральный репертуар до революции 1917 г. Повторим, что Ленгорлит проявлял себя в этой области преимущественно для самоутверждения: всё решалось на гораздо более высоком уровне.
Музыкальные жанры
Музыкальные представления, как и книги о музыке, также входили в компетенцию Ленгорлита. Резкое возражение вызывали попытки популяризации и, тем более, «реабилитации» имен и творчества виднейших деятелей музыкального искусства, эмигрировавших после 1917 г. Так обстояло дело с публикацией творческого наследия одного из крупнейших русских балетмейстеров Михаила Михайловича Фокина (1880–1942). Фундаментальный том — книга «Против течения. Воспоминания балетмейстера» (Редактор-составитель Юрий Слонимский. Л.: Искусство, 1962) — вызвал на предварительном этапе массу нареканий. Сообщив, что «мемуары публикуются в СССР впервые, до этого они были изданы в США», цензор посчитал, что «книга крупного эмигран-та-невозвращенца должна была быть хорошо подготовлена к изданию, чтобы весь большой фактический материал был правильно воспринят и понят читателями». Помимо того, автор вступительной статьи «противоречиво и неубедительно объясняет как причины отъезда Фокина за границу, так и причины его невозвращения на родину, приводит политически неверные и противоречащие фактам утверждения, что после отъезда Фокина с семьей за границу для него “двери в Советскую Россию надолго закрылись”».
Самому Фокину поставлены в вину факты упоминания им «десятков лиц из числа русских эмигрантов», а комментатору то, что он «совершенно необоснованно обходит вопрос об их отношении в настоящее время к нашей стране». И главное: «при чтении мемуаров появляется мысль о том, что довольно значительная часть русского балета эмигрировала и, следовательно, можем ли мы говорить о преемственности советским балетом традиций русской балетной школы?»[309]. Книга опять-таки была возвращена издательству на доработку, которая, видимо, состояла в том, что «смягчены» некоторые места вступительной статьи. В частности, эмиграция Фокина объяснена с помощью, в об-щем-то, трафаретного и часто применяемого в подобных случаях приема: Фокин уехал в Швецию, чтобы поставить в стокгольмском театре «Петрушку» Стравинского, но «на родину не вернулся», поскольку «интервенция капиталистических держав, блокада и Гражданская война лишили его фактической возможности скорого возвращения домой» (с. 43).
Массу «серьезных возражений» вызвали подготовленные Музгизом в 1963 г. «Избранные статьи и письма» выдающегося композитора и пианиста Кароля Шимановского (1882–1936). Прежде всего, они коснулись вступительной статьи польского музыковеда Зофьи Лиссы, в которой Шимановский «превозносится как великий человек и мыслитель», «восхваляется Польша первых лет после Первой империалистической войны, Польша буржуазная». Кроме того, в статье Зофьи Лиссы обнаружены «оправдание формализма в музыке», «немарксистская позиция в оценке роли государства в музыкальной культуре… об этой роли говорится вообще…». «А какое это государство, — допытывается цензор, — социалистическое или буржуазное?». Как обычно, книга «возвращена на доработку», издательству кое-чем пришлось пожертвовать, но, впрочем, не очень многим, потому, быть может, что обращение к польской исследовательнице с требованием исправить идеологические огрехи могло вызвать излишнюю огласку[310].
Неоднократно вторгались цензоры в тексты либретто оперных и даже балетных спектаклей. Приведем сейчас лишь один документ — фрагменты докладной записки старшего цензора В. Ф. Липатова по поводу балета «Далекая планета», поставленного в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова в 1963 г. Сейчас этот текст читается как пародия: «Либретто балета, написанное народным артистом СССР К. М. Сергеевым, не было предварительно представлено в Горлит, поэтому у нас не было возможности указать на его слабости и идейные просчеты. Считаю, что либретто нуждается в исправлении». Оно «…слабо в идейном отношении, путано и малограмотно. Непонятна роль Земли. Как следует понимать этот образ? Земля это не символ косной силы, инертной планеты, которая силой притяжения препятствует человеку покинуть ее пределы. Нет, это символ человеческой цивилизации, она как мать тревожится за судьбу своего сына, которого в полете ждут опасности. Но почему земля старается его удержать, не пустить его в полет? Непонятно. Мы знаем, что полет в космос это не стремление одиночек, а сознательный целенаправленный акт, подготовленный обществом. Общество посылает своих сынов в космос… Человек на Далекой планете борется, побеждает, завоевывает красавицу. Покорная, она склоняется перед ним. Ни о каком “луче-символе новых знаний”, “ключе к тайнам Вселенной”, как о том говорится в либретто, в спектакле ничего нет. Возникает мысль, что Человеку надоела красавица иного мира, и он возвращается на Землю. Казалось бы, гостью, которая отдала “луч-символ новых знаний” должны были бы радостно встретить, отблагодарить, но ее встречают враждебно. Человек встревожен, испуган, недоволен, он старается избавиться от ненужной гостьи и буквально выгоняет ее, выбрасывает. Откуда, почему у Человека такое потребительское, негуманное, никак не вяжущееся с нормами коммунистической морали отношение к женщине с другой планеты?»[311]. В тексты либретто вторгались и органы КГБ, увидевшие в них поклеп на себя, о чем уже говорилось выше, — в связи с либретто оперетты Кима Рыжова и Александра Колкера «Журавль в небе».
Обеспокоен был Ленгорлит необычайной популярностью песен знаменитых бардов — Окуджавы, Высоцкого, Галича и других. Тот же Липатов резко осудил знаменитый в конце 60-х годов концерт-спектакль «Зримая песня», дипломную выпускную работу студентов Театрального института, пользовавшуюся небывалым успехом. В «Докладной записке “О постановке в Ленинградском театральном институте спектакля «Зримая песня»”, поставленного студентами кафедры и класса Г. А. Товстоногова и под его руководством» он обнаружил среди восемнадцати исполняемых песен две неопубликованных — «Сапоги» и «Песню о дураках» Булата Окуджавы. Спектакль, продолжает он, «…вынесен на широкую публику и билеты на него свободно продаются, все тексты — и опубликованные, и не имеющие разрешения цензуры, — могут исполняться только с разрешения Леноблгорлита». Последняя песня вызвала негодование цензора: видимо, он узнал в ней себя: «Категорические возражения вызывает “Песенка о дураках” Булата Окуджавы, исполнение ее необходимо запретить. В этой песне говорится о том, что в мире всё распределено равномерно: есть приливы и отливы, дураки и умные, причем на каждого умного приходится один дурак, и дальше под музыку и слова показывается следующая сценка: идут 3 умных и отдельно 3 дурака, дураки чувствуют себя плохо, так как существуют умные. И вот дураки находят выход. Они навешивают на умных ярлыки — на одного “формалист”, на другого “пессимист” и на третьего — “абстракционист”, и это сразу всё меняет — умные люди под тяжестью этих ярлыков теряются, сникают, а самодовольные дураки теперь чувствуют себя умными и главными. Эта песня вызывает бурную реакцию зала — продолжительные аплодисменты, выкрики “браво!”. Получается какая-то демонстрация…»[312] Автор этих строк, видевший тогда спектакль, может это полностью подтвердить. «Зримая песня» затем ставилась Театром им. Ленинского комсомола, куда перешел в основном класс Товстоногова выпуска 1965 года. Затем, под давлением властей, спектакль был снят с репертуара.
Не менее курьезно выглядит один из фрагментов «Справки о продукции издательства “Художественная литература”», посвященный составу однотомника Сергея Воронина «Единственная ночь» (1982 г.): «Книжной правке, за исключением замены имени Владимира Высоцкого на имя Аллы Пугачевой (курсив наш. — А. Б.) и исправления стилистических неточностей в повести “Последний заход”, произведения С. Воронина не подвергались»[313]. В повести этот фрагмент выглядит так: сосед героя, парень за стеной, «пьет и крутит магнитофон… И оттуда доносится голос Аллы Пугачевой: “Арлекино… Арлекино…”. Бывает, я не выдерживаю и стучу в стену» (с. 461). Имя Владимира Высоцкого, умершего за два года до этого (1980 г.), подлежало табу: во всяком случае, «популяризировать» его не рекомендовалось, хотя его творчество было известно каждому, попав в «магнитиздат», достигший фантастических размеров.
Цензурные органы требовали от руководителей издательств гарантий, что в их продукцию «не пробрались» случайно имена эмигрантов новой волны. Директор издательства «Советский композитор», запрашивая цензурную визу, прислал, например, такую справку в Леноблгорлит в ноябре 1981 г.: «В тексте и фотографиях брошюры “Симфонический оркестр Ленинградской гос. филармонии им. Д. Д. Шостаковича” нет нежелательных для упоминания в печати лиц»[314]. Такая справка была затребована потому, что, как известно, из этого оркестра эмигрировало много музыкантов — «лиц еврейской национальности». Интересно было бы узнать, каким образом на практике издательству удалось провести такую операцию. Может быть, с помощью ретуши?
Изобразительные искусства
Изобразительное искусство — в силу присущего ему непосредственного эмоционального воздействия — таило, с точки зрения приставленных к нему многочисленных наблюдателей, еще большую опасность, чем словесные тексты. Во время предварительного просмотра произведений искусства бдительность цензоров возрастала многократно. Ни одна, даже второстепенная, не бросающаяся, на первый взгляд, в глаза деталь рисованной обложки, иллюстрации и других произведений книжной графики не должна пройти мимо его внимания, поскольку возникает опасность протаскивания «не нашей» идеологии» и, что очень важно, «не нашей» эстетики.
Не случайно пик репрессий в отношении художественной продукции приходится на 1962–1964 гг. Вызваны они, несомненно, «встречами Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией», в том числе — неожиданным посещением выставки работ молодых московских художников в Манеже, состоявшейся в декабре 1962 г. Разъяренный Хрущев, как известно, обрушился на художников, в самых грубых выражениях обвиняя, их в отрыве от народа и прочих грехах. Поиски новых форм подверглись поруганию и совершенно заушательской критике. По команде свыше в печати тотчас же развязана разнузданная кампания: многие художники и скульпторы обвинялись в «преклонении перед западным искусством» и отступлении от метода социалистического реализма. На местах шли поиски своих домашних «абстракционистов».
Свои, специфические методы борьбы с этим «нездоровым явлением» применили цензурные инстанции, в том числе и ленинградские. Во множестве документов упоминается о формализме и абстракционизме в оформлении книг, хотя с ними стилистика книжной графики чаще всего не имела ничего общего. Любое отступление от натурализма воспринималось как «тлетворное влияние западного искусства». Первым откликнулся на события в Манеже цензор Липатов, в докладной записке которого, датируемой тем же декабрем 1962 г., сказано: «Считаю необходимым доложить, что в издательстве “Советский писатель”, с моей точки зрения, неблагополучно обстоят дела с оформлением книжных обложек, суперобложек и форзацев. Наблюдается засилье абстракционистской, формалистической, футуристической манеры исполнения. Обложки, созданные в модернистском, абстракционистском стиле не только портят вид, но и наносят большой вред эстетическому воспитанию трудящихся… и за всю эту мазню государство платит художникам большие деньги. По-моему, надо обратить внимание партийных органов и редколлегии “Советского писателя” на работу художников этого издательства. Творчество их необходимо повернуть в сторону утверждения принципов социалистического реализма»[315].
Оформление книг, выпускавшихся «Советским писателем», и в дальнейшем вызывало постоянные упреки: «В творчестве некоторых ленинградских художников-оформителей иногда сказывается влияние чуждых формалистических тенденций в искусстве… дан полный простор для абстракционистов и формалистов. В Ленинградском отделении издательства “Советский писатель” выходят книги с уродливыми обложками, как “Всё ещё в апреле” Л. Мочалова, “Звезда над рекой” А. Гитовича, “Большой шар” А. Битова и др. С оформлением обложек и иллюстраций в Гослитиздате обстоит благополучно. Иллюстрации и оформление некоторых книг заслуживает похвалы. Но отдельные формалистические выверты и здесь имеют место. Так, заслуживает осуждения формалистическая суперобложка юмористических рассказов Стивена Ликока и абстрактный форзац в этой книге»[316].
Неоднократно вторгались надсмотрщики и в самое содержание монографий по теории и истории изобразительного искусства. Книга крупнейшего специалиста по эстетике профессора М. С. Кагана «О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории» (Л.: Художник РСФСР, 1961) вызвала резкое осуждение уже на стадии предварительного контроля: «Книга недостаточно политически остра, не противопоставляет советское и буржуазное искусство. На стр. 78–79 автор разбирает, как воздействует храм и царский дворец. Этот разбор носит такой объективистский, аполитичный характер, что несет отрицательное воздействие на советского читателя. Это — настоящий хвалебный гимн божьему храму, способный вызвать искушение сходить в этот храм и испытать описанные чувства. А ведь эти примеры можно использовать так, чтобы придать им нужную нам политическую окраску, показать, как господствующий класс использовал искусство вообще и религиозное в частности, чтобы через храмы и дворцы вызвать у народа нужные ему, то есть эксплуататорскому классу, чувства и идеи. И тут же сказать, что советское прикладное искусство, реализуемое в клубах, дворцах культуры, станциях метро и т. д., воспитывает у советских людей другие, нужные нам идеи, чувства». Цензор потребовал «…ввести в книгу исправления, которые придали бы ей политическую заостренность, или оговорить классовый характер разбираемых примеров»[317].
Здесь мы сталкиваемся с весьма характерным примером вмешательства в текст. В отличие от дореволюционной цензуры, имевшей чисто запретительный характер, советская выходила за эти рамки, предписывая автору, что именно ему нужно писать. Таким образом, она приобрела указующий, предписывающий характер. Автор, припертый к стене, вынужден был пойти на уступки, существенно переделав пассаж о назначении храмов и дворцов в различные эпохи и вставив на с. 79 спасительную дежурную фразу: «Совершенно иные задачи стоят перед советскими художниками и архитекторами, работающими для народа, свободного от эксплуатации и бесправия».
Первоначально, несмотря на свое воинственно-заостренное название, не была пропущена книга Дм. Молдавского «Искусство обреченного мира», готовившаяся тем же издательством в 1963 г. (вышла в следующем): «Не считаем возможным подписать книгу к печати по следующим мотивам. Связь книги с последними указаниями партии по вопросам развития литературы и искусства очень поверхностна, декларирована… не показано тлетворное влияние абстракционизма на некоторых художников. Из книги в целом напрашивается вывод, что сюрреализм и абстракционизм — это якобы ушедшее искусство, искусство прошлого, для которого сейчас нет почвы и о котором-де и говорить всерьез не стоит (с. 71). Но это совершенно неправильно и не соответствует действительности, основополагающими указаниями тов. Н. С. Хрущева на встречах с творческой интеллигенцией, решениями июньского пленума ЦК КПСС следовало руководствоваться автору при разработке темы. На наш взгляд, книга, несколько переработанная после 1-го варианта, нуждается в коренной переработке»[318].
Автору пришлось опять-таки пойти на уступки, усилив и без того ярко выраженный классовый подход к явлениям западного искусства, акцентируя, по требованию цензора, внимание на актуальных проблемах борьбы с ним в современных условиях. Впрочем, «для иллюстрирования» своих положений, он все-таки добился помещения в книге репродукций абстракционистских и сюрреалистических картин, в частности Василия Кандинского и Сальватора Дали («Возвышенное мгновение»), что было уже достижением по тем временам.
Серьезные ошибки, по мнению Горлита, были допущены в библиографическом указателе «Искусство всем. В помощь эстетическому воспитанию», выпущенном Гос. Публичной библиотекой им М. Е. Салтыкова-Щедрина под редакцией Э. Э. Найдича в 1961 г.: «Издание носит объективистский характер. В числе рекомендуемых книг и статей отсутствуют работы классиков марксизма-ленинизма, постановления ЦК КПСС, выступления руководителей Партии и Правительства». Ленгорлит в этом случае опоздал: еще ранее появилось Постановление Бюро Обкома КПСС от 7 марта 1961 г. «О серьезных недостатках в выпуске библиографических указателей “В помощь эстетическому воспитанию”», в которых «…слабо показана ведущая роль советского искусства в мировой культуре. Не указываются ценные искусствоведческие работы, доступные широкому кругу читателей, в то же время рекомендуются поверхностные, путаные книги ряда авторов»[319].
На протяжении десятилетий скрывались факты продажи за границу в 20—30-х годах — часто буквально за гроши! — шедевров мирового искусства из крупнейших музеев страны. Недавно вышел большой том под выразительным названием «Эрмитаж, который мы потеряли» (СПб, 2001), в котором опубликованы сотни документов, подтверждающих эту варварскую акцию. На заседании Бюро Дзержинского райкома КПСС в 1964 г. обращалось внимание цензурных органов на выпуск Эрмитажем (он располагался на территории Дзержинского района) двух книг: «Голландская и фламандская живопись. Альбом» (Л, 1962) и «Живопись XVII–XVIII вв. Альбом репродукций» (Л., 1964). Мало того, что «…обе книги поступили в продажу без выпуска в свет советскими органами цензуры», «…представляется политически нецелесообразным писать о том, что в годы советской власти государство продавало сокровища Эрмитажа (Рафаэль и др.)»[320].
Еще ранее, в 1959 г., разразился скандал вокруг вышедшего в Ленинграде альбома замечательных автолитографий старого художника А. Л. Каплана к «Заколдованному портному» Шолом-Алейхема. Им заинтересовался сам начальник Главлита, запросивший ленинградскую цензуру об обстоятельствах его издания, на что послан такой ответ: «В связи с Вашим запросом по альбому автолитографий “Заколдованный портной” сообщаем следующее: 27 ноября 1957 г. Живописно-скульптурным комбинатом Ленинградского отдела Художественного фонда ССХ был представлен в Ленобллит (на 28 листах, в обложке, с вводной статьей Гуткиной Е.) альбом автолитографий, иллюстрирующих произведение Шолом-Алейхема “Заколдованный портной”.
На выпуск издательством была получена санкция Отдела культуры и науки Ленобкома КПСС (тов. Шубникова Т. А.). До представления в Ленобллит альбом просмотрен и одобрен к изданию Художественным советом. В процессе контроля нами было обращено внимание издательства на то, что не весь иллюстративный материал альбома полностью соответствует правильному определению творчества Шолом-Алей-хема, данному во вступительной статье. В ней Шолом-Алейхем вполне закономерно характеризуется как “писатель-гуманист”, который “…никогда не был сугубо еврейским писателем”, чье творчество “глубоко интернационально”. Чрезмерное же внимание к узконациональным деталям снижало ценность альбома. Кроме того, издательству было предложено учесть замечания, высказанные Вами при просмотре альбома во время Вашего пребывания в Ленинграде в декабре 1957 (снабдить тексты русским переводом, снять автопортрет художника Каплана). Издательство внесло все необходимые исправления, и 20 января 1958 г. альбом литографий был подписан к печати; 28 февраля — к выпуску в свет. В настоящее время Художественный фонд ходатайствует перед директивными органами о разрешении дополнительно издать 1000 экз. альбома по заказу “Международной книги”»[321].
Как удалось выяснить в беседе со старейшим художником Исааком Залмановичем Копеляном (братом известного артиста БДТ), работавшим в то время редактором в издательстве «Художник РСФСР», дозволено было выпустить альбом литографий Каплана тиражом всего в 125 экземпляров. Листы из альбома автолитографий пользовались огромным успехом на выставках и аукционах в Англии и США. Тем не менее, в отношении виновных в издании альбома были приняты санкции по партийной и административной линиям: объявлены выговоры и проч.
Наиболее одиозным выглядело в глазах Ленгорлита издательство «Художник РСФСР», в работе которого отмечены «крупные недостатки»: «В ряде изданий, посвященных художественной жизни нашей станы, неправомерно много места отводилось второстепенным деятелям русской культуры конца XIX — начала XX веков, тенденциозно преувеличивалась роль таких поэтов, как Н. Гумилев, таких художников, как Татлин, Малевич, таких представителей русского балета, как Кше-синская, Легат»[322].
Выбор имен понятен: названы имена расстрелянного поэта, худож-ников-«формалистов» и деятелей балета, эмигрировавших из СССР. Последнее обстоятельство вызвало упрек «Художнику РСФСР» в том, что «…издательство подготовило к печати и представило на контроль книгу о художнике Н. И. Фешине, который в 1923 г. эмигрировал в США и умер там в 1955 г. В книге Н. И. Фешин представлен как великий мастер кисти в США… не дана принципиальная оценка не только творчества художника, ушедшего после переезда в США в мир салонной портретной живописи, но и самого поступка художника, покинувшего родину, который писал в 1936 г. в одном из писем: “Как американец, я могу свободно путешествовать по всему свету, кроме своей родины…” В книге много измышлений в адрес нашей страны и прославления “свободы” капиталистического мира»[323].
Издательству пришлось спешно переделывать книгу, вышедшую в 1975 г. под названием «Николай Иванович Фешин. Документы, воспоминания, письма». Об эмиграции во вступительной статье говорится иносказательно и очень скупо: «В 1923 г. Фешин уезжает в Америку. Трагически переживает художник отрыв от родины» (с. 18). Убраны также инкриминируемые места в письмах Фешина на родину, замененные знаком усечений <…>.
Не раз возвращались «на переработку» верстки монографий, посвященных другим крупнейшим русским художникам. В монографии «Юдовин» Бродского и Земцовой, готовившейся к изданию в 1962 г. замечена «тенденция возвеличить художника: оказалось, что это осуждено партийными органами» (!). Книга, изрядно пощипанная, вышла только в 1964 г. Такова же участь книги Баршевой и Сазоновой «Самохвалов». В ней нашли тот же недостаток: «художник слишком возвеличен», но, кроме того, «много внимания уделяется формалистическим в своей основе педагогической системе Петрова-Водкина и ее влиянии на творчество художника»[324].
Еще большие мытарства пришлось испытать искусствоведу Г. И. Чу-гунову, крупнейшему специалисту по творчеству М. В. Добужинского. Дело с изданием его книги о художнике растянулось на семь лет, начавшись в 1977 г. с такого доклада начальнику Ленгорлита: «В январе с. г. издательство “Художник РСФСР” представило на контроль верстку книги “М. В. Добужинский” автора Г. Чугунова. Тов. Андреева Л. А. обратила внимание на низкий идейно-художественный уровень книги, в которой с субъективистских позиций автор рассматривал творчество М. В. Добужинского, идеализировал его работы после эмиграции за рубеж, подчеркивал, что он жил и творил вне политики. По согласованию с отделом культуры ОК КПСС верстка книги возвращена на переработку»[325].
Верстка фундаментальной монографии, содержащей десятки прекрасно воспроизведенных картин, декораций, эскизов костюмов и других произведений Добужинского, прошла затем множество инстанций: с большим трудом книга удалось издать только в 1984 г. Автору, в общем, удалось отстоять текст книги, вставив лишь — «для проходимости» — опять-таки дежурные фразы, объясняющие причины отъезда Добужинского в Литву в 1924 г.: «Он был уверен в своем скором возвращении в Россию и не порывал связей со страной, жизнью которой он жил так долго» (с. 128).
* * *
На предварительный контроль поступали не только книги и альбомы, но и так называемая «мелкопечатная» художественная продукция: пригласительные билеты, конверты, открытки, даже типовые «похвальные грамоты». Массу треволнений доставляли изображения «сакральных» личностей, — классиков марксизма-ленинизма и функционирующих вождей. Еще с 20-х годов установлено неукоснительное правило — публиковать и выставлять публично только утвержденные на самом верху, в Агитпропе ЦК, портретные эталоны. Оно распространялось как на фотографические, так и рисованные изображения вождей. Главлит в 1957 г. посчитал покушением на свою прерогативу попытку Министерства культуры «односторонне утверждать новый порядок утверждения эталонов и изготовления портретов руководителей Коммунистической партии и Советского правительства». Он обратился, как всегда, в ЦК, апеллируя к «Инструкции о порядке цензорского контроля произведений искусства», изданной еще в 1952 г, по которой такие образцы должны были иметь обязательную визу цензурных органов; «установленный в настоящее время Министерством культуры СССР новый порядок утверждения политических эталонов не дает, по нашему мнению, гарантии от искажения»[326].
Понятно, что столь важный вопрос был решен «положительно», и, разумеется, в пользу Главлита.
Малейшее отклонение от утвержденного на самом верху образца — «фото-эталона» — могло привести к большим неприятностям. Время от времени на места рассылались циркуляры Главлита в таком роде: «Сообщаем, что срок действия портретных эталонов классиков марксизма-ленинизма и членов Политбюро (Л. И. Брежнев, А. Н Косыгин, М. А. Суслов и других) продляется до 15 мая 1966 г.»[327].
Внимательно следили контролеры за «идеологически правильным контекстом»: помещаемые рядом изображения не должны вызывать нежелательных аналогий. Например, ими отмечалось, что «рядом с обложкой книги Н. С. Хрущева “За мир, за разоружение, за свободу народов!” в “Каталоге Пятой ленинградской выставки книжной графики” воспроизведены обложки книг “Сюзан и мотылек”, “Три апельсина”, “Приключения гвоздика” и других». Нравственное чувство цензоров особенно было оскорблено тем, что в книге «Художники Ленинграда» (1962 г.) «…на с. 49 воспроизведена фотография съезда художников, где скульптурный портрет В. И. Ленина помещен рядом с обнаженной женской фигурой»[328].
В «Справке о выпуске политической изопродукции ленинградскими организациями Художественного Фонда СССР», посланной на имя начальника Главлита СССР в 1959 г., сообщалось, что мастерские ЛОХФ работают по фото-эталонам, утвержденным Министерством культуры СССР и Главлитом СССР (Маркс, Энгельс, Ленин, члены Президиума ЦК КПСС, маршалы Советского Союза и т. д.). «За 2-е полугодие 1958 г. ЛОХФ выпущено 6518 политических произведений. Из них отклонялись на доработку 720 произведений. Причинами отклонений являлись неидентичность произведений утвержденным эталонам, нарушение портретного сходства, неточной образной характеристики. Отмечаем недостаточно последовательный и принципиальный подход работников Управления культуры Ленгорисполкома к оценке качества художественных произведений. В связи с этим отклонено 4 % готовой продукции». Ленгорлит предлагает свои меры для ликвидации таких «прорывов»: во-первых, «всю издаваемую политическую изопродукцию представлять для согласования в Ленинградский Обком КПСС еще до представления ее в органы цензуры» во-вторых, отклонить ходатайства двух художественных организаций Ленинграда — портретного цеха артели «Хромолит» и графического цеха Ленинградского отделения Художественного фонда — претендовавших на право выпуска политической изопродукции: «После рассмотрения вопроса в Ленинградском Обкоме КПСС и целесообразности удовлетворения упомянутых ходатайств им было отказано в выпуске»[329].
Еще больший пиетет испытывали охранительные органы к образу основателя советского государства. «Нева» в 5-м номере за 1963 г. пыталась опубликовать карандашный набросок, сделанный с натуры художником Натаном Альтманом, переданный им в 1936 г. в Музей Ленина в Москве. Резолюция цензора: «Н. Альтман. Снят рисунок “В. И. Ленин”, искажающий образ В. И. Ленина»[330]. Этот портрет не издавался еще 35 лет — вплоть до 1998 г.
В августе 1964 г. издательство «Художник РСФСР» попросило разрешения напечатать официозный портрет Н. С. Хрущева тиражом в 25 ООО экземпляров. Разрешение было получено, но издательство вряд ли успело им воспользоваться, поскольку через два месяца Хрущев был свергнут. Если даже он и был напечатан, то весь тираж пошел под нож.
«Политические просчеты» обнаруживались в грамотах, выпускаемых различными организациями. Некоторые из них были задержаны и отправлены в обком партии грамоты на предмет «разбирательства» по причине «низкого художественного качества». На одной грамоте обнаружено в гербе 16 витков ленты — вместо положенных 15-ти, по числу союзных республик. В другой нашли «искажение памятника В. И. Ленина», в третьей — полиграфический брак: «смазанные» лица вождей и т. д., отсутствие портретного сходства и т. п.[331].
Дошло дело и до открыток. В 1958 г. цензура потребовала прекратить «разукрупнение» комплектов открыток, выпускаемых в Ленинграде «Изогизом», «Ленинградским художником» и другими издательствами. Как оказалось, «Союзпечать» и другие торгующие организации в «целях быстрейшей реализации» пошли на «разукомплектование» подборок, объединенных общим тематическим замыслом и не вызывающих в таком виде возражений. Но по отдельности, «вне связи с общей темой подборки», они «вызывают у покупателей недоумение и справедливые нарекания на издателей». В качестве примера приводятся открытки, «демонстрировавшиеся на партийной конференции Куйбышевского района, приобретенные в киосках Союзпечати». Наибольшее возмущение участников вызвали открытки из комплекта «По следам “Крокодила” (Изогиз, тир. 500 тыс. экз.)» — «Изнурительный труд», «Папа, мама, поллитра и я». Вне общего контекста такие открытки, по их мнению, выглядят «издевательством». По своей линии Ленгорлит принял следующие меры: во-первых, запретить издательствам выпускать такие комплекты без нумерации открыток, во-вторых, цена должны быть проставляема на всем комплекте. На каждой такой открытке не должно быть ни цены, ни «почтового оборота» (видимо, имеется в виду типовой набор почтовых сведений, который печатается на письмах и обратной стороне открыток).
Цензор с характерной фамилией Тупицын пошел еще дальше. В перлюстрированных бандеролях, посылаемых школьниками своим «заграничным друзьям», он обнаружил такой «криминал»: «Дети посылают за границу, как правило, открытки, книги, почтовые марки и т. п. Среди предметов, посылаемых школьниками из СССР, встречаются антихудожественные, кустарным способом изготовленные открытки. Такое стихийное развитие международных связей школьников может повредить правильному представлению о Советском Союзе». Приложив образцы конфискованных самодельных открыток, он предлагает «найти для международного общения детей какие-либо организованные формы», с тем, чтобы такая переписка находилась «под контролем взрослых»[332].
Повышенные требования предъявлялись также к другим видам массовых иллюстрированных изданий — календарям, сборникам карикатур и т. п. Представленный на предварительный контроль издательством «Художник РСФСР» календарь на 1964 г. «Времена в старых русских пословицах» вообще не был разрешен к печати. Доводы цензора выглядят довольно комично: «Темы приводимых пословиц не вызывают ассоциации с современной жизнью, а календарь на 1964 год! Ряд приводимых пословиц содержит чуждые нашему миропониманию понятия:
“Отложи шашни да примись за пашни” — стр. 14.
“Не моли лета долгого, а моли теплого” — стр. 18.
“В июне есть нечего, да весело: цветы цветут, соловьи поют” — стр. 20.
“Не от росы урожай, а от поту” — стр. 20.
Представленная в настоящей подборке тематика — это напоминание о давно минувших невзгодах и заботах трудового человека, его зависимости от сил природы, что особенно усилено иллюстрациями к пословицам, представляющими картины быта прошлого. Замысел авторов определен на обложке пословицей — “Пословица — всем делам помощница”, однако указанная подборка поставленной цели не выполняет»[333].
Первоначально не был допущен к печатному станку сборник карикатур и юмористических рисунков известного художника-карикатуриста В. А. Гальбы (1908–1984) «Сто улыбок», также подготовленный «Художником РСФСР» в 1963 г. Ему дана такая оценка: «Слабые в идейно-художественном отношении листы, лишенные подлинно здорового юмора, сюжеты надуманны, нарочито абсурдны, и “шутки” обывательски примитивны. В двух случаях сюжеты трактуются двусмысленно, со злым намеком на нехватку продуктов питания. — стр. 46, 53». Не помогла даже рекомендация старейшины сатирического цеха художников-карикатуристов: «Сборнику “веселых рисунков” предпосла-ю предисловие Б. Е. Ефимова. Это предисловие необъективно в отношении собранных в сборнике рисунков по мотивам, изложенным выше. Гем более что Б. Е. Ефимов считает возможным провести аналогии к рисункам Гальбы “Сто улыбок” в работах Ж. Эффеля, Бидструпа, Лады»[334]. В 1964 г. книга Гальбы вышла в свет, сохранив в предисловии фразу Бориса Ефимова: «Мы знаем замечательных мастеров этого симпатичного жанра, завоевавших широчайшую любовь миллионов читателей, таких, как француз Жан Эффель, датчанин Херлуф Бидструп, чех Иозеф Лада». Какую крамолу нашел в ней цензор — не очень понятно: книги этих художников часто и свободно печатались в СССР. Однако «злые намеки», как показал просмотр окончательного варианта книги, были устранены.
Крупные недостатки найдены также в альбоме рисунков, шаржей и карикатур старейшего питерского художника Бориса Ивановича Антоновского, начавшего сотрудничать в сатирических журналах еще в предреволюционное время. Книга «Смеется Антоновский. Текст Г. Н. Павлова и Л. Н. Радищева» (вышла в том же издательстве в 1963 г.). «возвращена на доработку, как монография, пестревшая упоминанием закрытых в свое время советской властью реакционных и аполитичных журналов. Особенно много места без конкретного анализа и критики было введено журналу “Новый Сатирикон”». Этот журнал, выходивший под редакцией Арк. Аверченко и Арк. Бухова, сменивший в 1913 г. знаменитый «Сатирикон», действительно был закрыт в 1918 г., и все его номера за 1917–1918 гг. оказались в спецхранах. Пооктябрьские номера журнала, резко враждебно встретившего революцию, наполнен карикатурами, шаржами, эпиграммами на вождей большевизма — главным образом на Ленина и Троцкого. В тексте самой книги Антоновского сведения о журнале все же сохранились; авторы сопроводительного текста отделались лишь тем, что вставили фразу о том, что «Новый Сатирикон» «опирался на идеологию либеральной буржуазии». Несправедливой посчитали цензоры утверждение авторов, что «в творчестве художника Антоновского, как мастера, “запечатлена большая правда эпохи”, тем более что оно не было раскрыто ни текстом монографии, ни приведенными иллюстрациями. Субъективизм в оценке творчества мастеров изобразительного искусства приводит подчас к политически неверным выводам о месте и значении того или иного художника». В творчестве самого художника также обнаружены идеологические прочеты, в частности — «приведены шаржированные портреты М. И. Салинина и А. В. Луначарского». На эту жертву составителям пришлось пойти, изъяв их из книги[335].
Не только печатные издания привлекали внимание контролирующих идеологию инстанций, но и выставки работ художников. Как известно, в Ленинграде, как и в других городах, в 60—70-е годы необычайное развитие получил художественный андеграунд. Вначале выставки художников-нонконформистов организуются в мастерских и на квартирах художников, что, понятно, привлекает внимание «компетентных» органов. Любая попытка выхода за эти пределы подвергается разгрому, как, например, знаменитая выставка в Эрмитаже в марте 1964 г. картин «подсобных рабочих» музея, среди которых заметное место занимали работы Михаила Шемякина. Напуганные реакцией на разгром «бульдозерной выставки» в Москве, власти разрешили в Ленинграде организовать выставки во дворцах культуры — им. Газа и Невском: позднее это движение получило название «газаневской художественной культуры» (в ноябре 2004 г. в Манеже она была представлена огромным числом произведений искусства). Выставки вызвали в то время колоссальный ажиотаж[336].
В дальнейшем такая практика была практически свернута. Хотя предварительный отсев работ, представляемых на публичных выставках, производился «художественными советами», на долю собственно цензуры тоже кое-что оставалось. Как уже говорилось ранее, она наблюдала за «Книгами отзывов», изымая «ненужные» и «вредные». Но и самое содержание выставленных работ не раз привлекало ее внимание. Особое беспокойство доставляли студенческие выставки. Не только беспредметное искусство, но даже ставший уже классическим импрессионизм вызывал резкое осуждение. Из многих документов Ленгорлита приведем сейчас лишь один, наиболее характерный:
«Докладная записка цензора Кузнецовой М. о выставке работ летней практики студентов Института им. Репина при Академии художеств СССР.
Вызывает возражение помещение в экспозиции работ студентов (перечислены имена. — А. Б.). Это работы, по которым можно судить об увлечении авторами импрессионизмом и о стремлении их освоить искусство импрессионистического плана. Популяризация, такого вида работ на городской выставке студенческих работ мне кажется нецелесообразной». Резолюция начальника Леноблгорлита: «Выставку просмотрела тов. Петрова Т. А., инструктор Обкома КПСС, и предложила Институту ее переделать, после чего открыть для обозрения»[337].
Глава 9. Способы обмана цензуры
Благодарю за щелчок цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака».
(Из письма Пушкина Вяземскому. Кишинев, 6 февраля 1823 г.)Некоторые рецепты из эпохи «оттепели» и «застоя»
Герой романа Набокова «Дар», alter ego автора, поэт Федор Годунов-Чердынцев, задумав написать роман о Чернышевском и «раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или иной орды <…> увлекся диковинными сопоставлениями». «В России, — размышляет он, — цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щелкнуть». Комментаторами «Дара» пока не замечена явная перекличка с приведенной в качестве эпиграфа фразой Пушкина, немало пострадавшего от цензуры, которую он иначе как с дурой не рифмовал. «Деятельность Чернышевского в “Современнике”, — по мнению набоковского героя, — превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющее собой и впрямь одно из замечательнейших учреждений наших. И вот, в то время, когда власти опасались, например, что “под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения”, а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале, под прикрытием кропотливого шутовства, делал бешеную рекламу Фейербаху». Замечен поэтом и другой прием Чернышевского: в его статьях как будто бы говорилось об Италии, — «развращенный читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе»[338].
Такая уловка была не нова: еще в конце XVIII — начале XIX вв. русские писатели любили критиковать отечественные нравы и порядки под видом сатиры на деятельность «китайских богдыханов». Позднее Китай сменился Италией и другими европейскими странами, что запечатлено Некрасовым в стихотворной сатире «Газетная», написанной в 1865 г. В читальне он видит отставного цензора, — тощего старичка «с озабоченным, бледным лицом», листающего газеты. Оказывается, он «писателей бедных берег»:
Если скажешь: «в дворянских именьях Нищета ежегодно растет», — «Речь идет о сардинских владеньях» — Поясню — и статейка пройдет! Точно так: если страстную Лизу Соблазнит русокудрый Иван, Переносится действие в Пизу — И спасен многотомный роман![339]Такой же прием активно использовался в советское время, чаще всего в научно-фантастических романах, действие которых переносилось на другие планеты или в иное историческое время — далекое прошлое или будущее; наиболее отчетливо — в романах братьев Стругацких и Ивана Ефремова. Поднаторевший советский читатель, встречая в них описания вымышленных тоталитарных обществ, легко проецировал их на окружавшую его действительность. В 60-е годы XX в. восторжествовал знаменитый эзопов язык, имевший в России давнюю и славную традицию: чего стоят только сатиры Салтыкова-Щедрина! Поэт и литературовед Лев Лосев определяет его как литературный прием, который «…делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензуры непозволительное содержание <…> Внутренним содержанием эзоповского произведения является катарсис, переживаемый читателем как победа над репрессивной властью»[340].
Между писателем («Смотрите, какой я умный и смелый!») и читателем («А я тоже не дурак!») заключалась своего рода негласная конвенция, предполагающая возможность их творческого соучастия. Разгадка тайнописи, поиск подтекста, аллюзий, аналогий, — одно из самых любимых развлечений советского интеллигента, льстящее его самолюбию. Иосиф Бродский, надо сказать, весьма иронически относился к умению советских писателей «ботать на эзоповой фене». В лексике советских цензоров всё это получило название «неконтролируемых ассоциаций»…
* * *
В практической своей работе цензоры руководствовались списками запрещенных имен, постоянно пополняемых и время от времени присылаемых в Главлит родственной организацией, — 5-м (идеологическим) управлением КГБ СССР. Однако «маленькие недостатки большого механизма», столь свойственные громоздкой машине подавления мысли, приводили нередко к сбоям, информация поступала с большим опозданием и неполно. Да и сам такой список достиг к 80-м годам таких катастрофических размеров, что цензоры стали все хуже и хуже справляться со своей работой[341]. Колоритный пример — публикация в журнале «Техника — молодежи» в 1984-м, «оруэлловском», году романа известного английского фантаста Артура Кларка «2010: Одиссея-2» (продолжение его романа «2001: Космическая одиссея», экранизированного Стэнли Кубриком). Роман не только был посвящен космонавту Леонову (это можно!), но и академику Сахарову, отбывавшему в это время ссылку в Горьком: его имя редакции пришлось убрать. Хуже всего (для редакции, конечно) было то, что писатель всем членам экипажа советского космического корабля присвоил имена известных правозащитников, находившихся тогда в политических лагерях, — Юрия Орлова, Ивана Ковалева, Леонида Терновского, Миколы Руденко, Анатолия Марченко и священника Глеба Якунина (они названы только по фамилиям), хорошо известных западной общественности, требовавшей их освобождения. Самое примечательное, что роман спокойно прошел главлитовскую цензуру, не увидевшей в нем никакого подвоха. Лишь после выхода 2-й его части разразился скандал, тираж второго номера конфискован, публикация романа прекращена. Василий Захарченко, известный историк и популяризатор науки, отдавший несколько десятков лет жизни журналу, уволен с должности главного редактора, многим объявлены строгие выговоры, Не был принят во внимание тот факт, что запрещенные имена не были известны не только членам редколлегии, но и самим цензорам. ЦК ВЛКСМ, которому подчинялся журнал, выпустил специальное постановление «Об ошибочной публикации в журнале “Техника-молодежи”», в котором потребовал «усилить бдительность» и т. п. Это постановление отменено было в 1991 г., как «необоснованное, принятое в условиях административного давления на печать». Журнал вернулся к публикации этого романа Артура Кларка только в 1995 г.[342]. Заметим попутно, что и первая книга романа, изданная в СССР издательством «Мир» в 1970 г. («Космическая Одиссея 2001 года. Сборник научно-фантастических произведений») не избежала «цензуры через перевод» — операции, в нарушение всех международных норм, часто производимой над текстом. Видимо, идея превращения главного героя — астронавта Дэвида Боумена — в космическое человекобожество, не соответствовала материалистической идеологии. По поручению издательства Иван Ефремов, автор послесловия к роману, вынужден был как-то объясниться с читателем, весьма оригинально сообщив от отсечении финальных глав в русском переводе, как «не согласующихся с собственным, вполне научным мировоззрением Кларка» (!). Точно по Ильфу: «У меня есть мнение, но я с ним не согласен…»
* * *
Исторически так сложилось, что в России цензор тем хуже, чем более образован, и наоборот, Екатерина II издала в 1783 г. «Указ о вольных типографиях», в котором, впервые в России, повелела «типографии для печатания книг не различать от прочих фабрик и рукоделий», другими словами, разрешила заводить частные типографии. Одновременно, и неосмотрительно, надо сказать, она возложила предварительный цензурный надзор за издаваемыми книгами на «управы благочиния», как назывались тогда полицейские учреждения. Полуграмотные «несмысленные урядники благочиния», как иронически называл их Радищев в своем знаменитом «Путешествии…», должны были следить, чтобы в книгах «…ничего противного законам Божиим и гражданским, или к явным соблазнам клонящегося» не было. Это все равно, как если бы в советское время предварительная цензура была бы возложена на, допустим, участковых милиционеров… Видимо, полицейские чины относились к свалившейся на них новой обязанности совершенно равнодушно, да и разобраться в представляемых рукописях вряд ли могли. Поэтому, как заметил историк русской цензуры А. М. Скабичевский, «…за все время действия указа 1783 г. (по 1796 г. — А. Б.) мы не видим ни одного запрещения книги непосредственно полицейскими цензорами»[343]. Даже книга Радищева, изданная в 1790 г., наполненная гневными инвективами против тирании, крепостничества и самой цензуры (глава «Торжок»), вышла вполне легально, с разрешения местной цензуры. Интересно, что Екатерина, назвав Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева», приказав сжечь книгу, а самого автора сослать в Илимский острог Тобольской губернии, против виновного в пропуске книги дело повелела оставить — «по его глупости и лености».
Позднее, правда, такая практика была пересмотрена: в эпоху Александра I предварительная цензура возложена не более не менее, как на университетских профессоров, отчего авторам и издателям стало только хуже. Хотя параграф 21-й цензурного устава 1804 г. и предписывал цензорам «руководствоваться благоразумным снисхождением, удаляясь от пристрастного толкования» и даже, в том случае, если «место в сочинении подвержено двоякому смыслу… истолковывать оное выгоднейшим для сочинителя образом»[344], на практике все обстояло иначе. Благодаря своей учености цензоры как раз и доискивались «второго смысла», то есть подтекста. Еще позже цензорами становились крупные ученые и писатели: назовем имена И. А. Гончарова, А. Н. Майкова, а Ф. И. Тютчев даже возглавлял в течение долгого времени «Комитет цензуры иностранной».
В советские же времена к цензурной работе допускались преимущественно сотрудники, проверенные в политическом и идеологическом отношениях; их интеллектуальный уровень интересовал партийное начальство в последнюю очередь. Еще Илья Ильф заметил, что «классовое происхождение заменяет знание иностранных языков».
Неосведомленностью цензоров нередко и пользовались некоторые «злонамеренные» авторы. Чрезвычайно остроумна, например, уловка, примененная видным специалистом по математической логике Юрием Гастевым, сыном расстрелянного в 1938 г. поэта А. К. Гастева. Сам ученый в студенческие свои годы, в конце 40-х, подвергся аресту, и только смерть Сталина освободила его из лагеря. Вот этот факт он и решил обыграть в своей сугубо специальной книге «Гомоморфизмы и модели. Логико-алгебраические аспекты моделирования» (М.: Наука, 1975), изданной под солидным грифом Академии наук СССР. В предисловии, как водится, он сердечно благодарит тех, кому обязан «гипотетическими достоинствами книги», в том числе — абсолютно запрещенного в СССР видного матлогика, поэта и правозащитника А. С. Есенина-Вольпина, к тому времени уже вытолкнутого из СССР и жившего в Америке. Если труды Есенина-Вольпина все-таки имели отношение к предмету научных занятий Гастева, то совершенно абсурдистски выглядит помещение в ряду имен видных специалистов по «проблемам математического моделирования» У. Стокса и Дж. Чейна. Этого Гастеву показалось мало: в обширной библиографии, помещенной в конце книги, не только снова упомянуты работы Есенина-Вольпина, но и указана под № 55 такая, явно мистифицированная, запись, «J. Cheyne and W. Stokes. The breath of the death marks the rebith of spirit. — «Mind», March 1953. (Дыхание смерти знаменует возрождение духа). На самом же деле под названными Гастевым именами скрывались врачи, жившие и работавшие в конце XVIII — первой половине XIX вв.: Джон Чейн, шотландский врач, открывший специфический тип прерывистого дыхания при агонии, и Уильям Стокс, ирландский врач, продолживший изучение этого явления. Гастев обыгрывает «чейн-стоксово дыхание», которое сопровождало агонию Сталина и о чем постоянно сообщалось в бюллетенях о его болезни, регулярно печатавшихся в газетах в начале марта 1953 г. По Гастеву получалось, что врачи опубликовали статью об этом феномене в марте 1953 г., в лондонском журнале «Mind» («Разум» или «Дух»), посвященном вопросам психологии и философии. Поэтому ученый и благодарен «чейн-стоксову дыханию»: если бы не оно, ему пришлось бы еще долгое время гнить в лагере. Этот, говоря набоковскими и пушкинскими словами, «щелчок по цензуре» доставил, вероятно, немало веселых минут друзьям и единомышленникам автора.
Весь расчет здесь состоял в надежде на низкий интеллектуальный уровень цензоров и недостаточную их информированность. Ничего, должно быть, не говорило московским цензорам, например, имя эмигрантского поэта Владислава Ходасевича, иначе бы они не пропустили в его переводе исторический роман Казимежа Тетмайера «Легенда Татр» (М.: Гослитиздат, 1960. Серия «Зарубежный роман XX века»), тем паче, что он указан как переводчик с польского на титульном листе книги.
Другой «рецепт» состоял в том, чтобы суметь напечатать нечто опасное — так называемый «непроходняк» — «далеко от Москвы», и чем дальше, тем лучше! Провинциальных цензоров удавалось провести с еще большей легкостью. Знаменитый альманах «Тарусские страницы» под редакцией К. Г. Паустовского, включивший публикации стихов и прозы Марины Цветаевой, стихи Н. Коржавина, Б. Слуцкого, Н. Заболоцкого, повесть в стихах Вл. Корнилова «Шофер», повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» и другие произведения, выходившие за дозволенные рамки, вряд ли был бы разрешен в Москве, а в Калуге в 1961 г. это прошло. Затем посыпались репрессии, уволены с работы директор Калужского областного издательства и другие сотрудники, виновные в издании альманаха, но было уже поздно… Сомнительно, опять-таки, что мог бы появиться в «центре» роман Федора Сологуба «Мелкий бес», впервые вышедший 1907 г. и в советское время не издававшийся. В специальной записке агитпропа ЦК, подготовленной в 1957 г., он указан в числе книг, исключенных из тематического плана Гослитиздата, поскольку, как говорилось в ней, издание подобного рода книг «…наносит ущерб делу воспитания трудящихся и тормозит развитие книгоиздательского дела в стране»[345]. А вот Кемеровское книжное издательство в 1962 г. пошло на такой шаг, что сразу же вызвало окрик из Москвы и последовавший затем переполох в местных партийных кругах. Руководители издательства получили опять-таки строгие взыскания. Помнится, мы засыпали калужский и кемеровский книготорги просьбами прислать наложенным платежом эти книги: поначалу они выполнялись, затем, по-видимому, был получен приказ прекратить рассылку.
Именно в журнале «Байкал» (1968, № 1–2), выходившем в Улан-Удэ, смогли быть напечатаны первые главы книги Аркадия Белинкова об Олеше, сопровождаемые лестной рекомендацией К. И. Чуковского. Публикация была оборвана. Лишь в эмиграции Белинкову удалось полностью напечатать ее под заглавием «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (1-е изд. — Мадрид, 1976). Только в иркутском альманахе «Ангара» (1968, № 4) смогла увидеть свет наделавшая много шуму сатирическая «Сказка о тройке» братьев Стругацких, тотчас же попавшая в самиздат. Впрочем, их рассказ «Гадкие лебеди», также вызывавший массу аллюзий, так и не мог увидеть света, став исключительным достоянием самиздата. Возникали, конечно, скандалы по этому поводу с далеко идущими «оргвыводами»: разгонялись редакции издательств, журналов и альманахов, их руководители получали взыскания по партийной линии, а нередко — и вообще увольнялись от должности. Но происходило это, как правило, постфактум, когда тексты произведений уже пошли гулять по свету.
Иное дело, что местным авторам, по каким-либо причинам, идеологическим преимущественно, попавшим на заметку областного партийного начальства (а еще хуже — местного управления КГБ), приходилось как раз худо. Не имея шансов публиковаться в местной печати, они, напротив, предпочитали обращаться к центральной: в Москве и Ленинграде, как правило, ничего не зная о «компромате» на них, редакторы и цензоры зачастую спокойно пропускали их произведения, в тех случаях, разумеется, если в представленных текстах не обнаруживалось ничего «предосудительного».
Большой популярностью пользовались в то время некоторые литературные журналы, выходившие в столицах союзных республик, особенно в Грузии и Прибалтике. Им позволялось гораздо больше, чем столичным. «Литературная Грузия», например, под флагом «дружбы народов» и крепких литературных связей с Россией публиковала стихи поэтов-авангардистов, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина, Бориса Пастернака и других полузапретных (или запрещенных полностью) русских писателей, о которых «в центре» предпочитали помалкивать.
Еще проще обстояло дело в газетах «низового звена» — областных и, тем более, районных. В них удавалось порой протиснуть «нежелательные имена» диссидентов и писателей-эмигрантов. Вообще, надо сказать, тема опасных (и увлекательных!) игр с провинциальной цензурой представляет особый интерес. Частично она рассмотрена в насыщенной фактами статье Сергея Баймухаметова «Кукиш в кармане» (Знамя. 2000. № 2. С. 156–163). Ему удалось летом 1974 г. опубликовать в североказахстанской областной партийной газете «Ленинское знамя» (анонимно, конечно) одно из стихотворений Иосифа Бродского, уже два года как находившегося в эмиграции. И это — несмотря на специальный главлитовский «Список лиц, все произведения которых подлежат изъятию», включавший его имя.
В данном случае автор применил для маскировки типичный прием: туристы встретили какого-то бомжа, бродягу, накормили его, и он «…в благодарность спел под гитару песню “Пилигримы”, что соответствовало его образу жизни, как он полагал (“Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров… синим солнцем палимы идут по земле пилигримы…”). Песня так понравилась режиссеру создаваемого тогда в Казахстане студенческого театра “Пилигрим”, что она попросила журналиста отдать ей эту песню и напеть мелодию, чтобы она стала гимном театра. Что из этой затеи вышло — не ясно…». Добавлю от себя, что, по всей видимости, речь шла о стихотворении Бродского, положенном на музыку и исполнявшемся известным бардом Евгением Клячкиным, благодаря чему она и попала в упоминавшуюся уже ранее разновидность самиздата — так называемый «магнитиздат».
Тот же журналист после нескольких лет скитаний оказался в Тарусе, сотрудником местной газете «Октябрь», в которой напечатал очерк о тяжкой работе свинарок-колхозниц. Подумав, он вставил в него отрывок из стихотворения также находившегося в эмиграции Наума Кор-жавина (опять-таки без упоминания его имени) «Над книгой Некрасова», широко распространявшегося в самиздате: «Столетье промчалось и снова, / Как в тот незапамятный год, / Коня на скаку остановит, / В горящую избу войдет… / Ей жить бы хотелось иначе. / Носить драгоценный наряд. / Но кони все скачут и скачут, / А избы горят и горят…».
Автору этих строк (прошу прощения за нескромность) также удалось однажды протащить «табуированное» имя, а именно — Джорджа Оруэлла. В 1972 г. в свердловском журнале «Уральский следопыт» (№ 3) появилась моя статья о цензурных преследованиях в России конца XIX — начала XX вв. ряда американских и английских антиутопий, в частности, запрещении издания в переводах на русский романа Эдварда Беллами «Через 100 лет», «Машины времени» Герберта Уэллса и, как ни странным это покажется, рассказа Джерома К. Джерома «Новая утопия» (1891 г., русский перевод — 1898 г.). В нем респектабельный джентльмен, наслушавшись в «Ночном социалистическом клубе» разговоров о будущем Англии, засыпает у камина и «просыпается» в XXIX веке, когда уже осуществились все мечты социалистов. Он застает общество, в котором все счастливы, но всё уныло, однообразно, стандартно: людей не отличить друг от друга, даже мужчин от женщин. Лишь присмотревшись, можно понять, что их отличает номер (соответственно четный или нечетный), который они носят на груди. Имен нет, так как они «создают неравенство»; людей, отличающихся по своему умственному уровню от общего стандарта, приводят «к норме» посредством особой операции… В эпилоге герой рассказа просыпается и с огромным чувством облегчения застает себя в доброй старой Англии, где, слава Богу, ничего не изменилось.
Комментируя этот рассказ, я писал (и это было напечатано!), что, с точки зрения «сохранения существующего порядка вещей», нужно было тогда не запрещать, «а наоборот — всячески способствовать распространению этого рассказа, призванного уберечь читателя от социалистических иллюзий». Более того, мною было высказано осторожное предположение, что «…именно этот незатейливый рассказик 1891 г. положил начало антиутопиям, в которых будущее рисовалось как царство полной нивелировки и стандарта». Среди них «самыми значительными, написанными на высоком художественном уровне», я назвал, конечно же, «Мы» Евг. Замятина (в нем ведь люди тоже ходят под номерами и им грозит операция в тех случаях, о которых писал Джером), «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Самое удивительное — на это я тогда и не надеялся! — что из этого пассажа тамошним наивно-провинциальным цензором было вычеркнуто только имя Замятина, которое ему что-то говорило; о Хаксли и Оруэлле он, видимо, и не слыхивал… Думаю, что такой «номер» в московской или ленинградской печати тогда бы не прошел.
Мой добрый приятель, покойный, увы, Александр Михайлович Панченко, ставший в 90-е годы академиком, широко пользовался в свое время «святой простотой» провинциальной цензуры. В 60-е годы он вместе с Владимиром Ивановичем Малышевым, легендарным основателем знаменитого «Древлехранилища» Пушкинского дома (сейчас оно носит его имя), посылал в районные газеты Карелии заметки, посвященные протопопу Аввакуму, сожженному в тех местах, в Пус-тозерске, и другим деятелям старообрядчества. Еще больший успех имело «сотрудничество» с печатью Северного Кавказа. Один из сокурсников Панченко по филологическому факультету Ленинградского университета, по окончании его послан был, как «молодой специалист» по существовавшему тогда обязательному «распределению», на свою родину — в Грозненскую область (теперь это Чеченская республика). Тотчас же, как «ценный национальный кадр», он был назначен на должность редактора одной из районных газет. Ему-то и посылались из Ленинграда небольшие заметки к юбилеям писателей Русского зарубежья — Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, В. Ф. Ходасевича, Георгия Иванова и других. Писалось о них в самых возвышенных тонах, а главное — к месту и не к месту обильно цитировались их стихи. Все это беспрепятственно появлялось в газете: их имена ничего не говорили местному цензору. Такое занятие доставляло двойное удовольствие: во-первых, благодарный редактор присылал почтовым переводом гонорар, причем его сумма, независимо от объема статьи, неизменно равнялась двум рублям восьмидесяти семи копейкам, — столько стоила тогда бутылка «Московской» (такие «сакральные» цифры впечатываются на всю жизнь!), который, конечно же, немедленно пропивался нами за здоровье «господина редактора уважаемой газеты» (любимый тост А. М. Панченко). Одновременно присылался и сам номер газеты, который ходил по рукам, вызывая общий восторг. Во-вторых же, — и это было важнее всего! — лишний раз «вставить перо» Софье Власьевне, как называли мы всегда в своем кругу Советскую Власть, всегда было не вредно. Все-таки какая была хорошая вещь — «дружба народов»… Такую же трибуну предоставлял (и сам ею пользовался весьма активно) другой наш знакомец — Анатолий Хийр, силою обстоятельств заброшенный в Маревский район Новгородской области на должность редактора газеты «Сельская новь».
Конечно же, мы нисколько не претендовали на «потрясение основ», готов подписаться под словами упоминавшегося выше Сергея Баймухаметова, который проделывал нечто подобное в те же самые годы: «На самом деле никакого осознанного стремления вызова власти, осознанного показать кукиш в кармане, у меня и в мыслях не было. А так само собой выходило — по стечению случайностей, по молодости и бездумному фрондерству…»
* * *
Другой занимательный сюжет — неоднократные попытки протиснуть в подцензурную печать стихи Н. С. Гумилева, как успешные, так и не очень. Многие помнят, какой оглушительный эффект произвело появление его стихов в «перестроечном», так называемом «ленинском» апрельском номере «Огонька» за 1986 г. В нем читатель с удивлением обнаружил подборку «Стихи разных лет» Гумилева, приуроченную к 100-летию со дня его рождения. Об уровне «гласности» в этот второй перестроечный год можно судить по такому факту — автор небольшой вступительной заметки, первый секретарь ССП В. В. Карпов ни словом не упомянул о расстреле поэта, прибегнув к такому эвфемизму: «Жизнь Н. С. Гумилева трагически оборвалась в августе 1921 г.». Этот номер «Огонька» стал бестселлером: к удивлению продавцов газетных киосков, он, украшенный на обложке портретом Ленина, шел нарасхват, его скупали в десятках экземпляров. Между прочим, на обложке помещена репродукция известной картины Бродского, изобразившего Ленина с телефонной трубкой в руках. Тогда шутили: это Ленин разговаривает с Горьким о судьбе поэта (существует предположение, что якобы Горький просил Ленина дать распоряжение Петроградской ЧК об освобождении Гумилева в августе 1921 г.)[346].
В течение шести десятилетий не только все поэтическое наследие Гумилева находилось под запретом, но и самое имя поэта подлежало «распылению», если вспомнить оруэлловский термин. Тем временем, в годы оттепели и застоя, все его книги пошли в машинописный самиздат и достигли невероятных тиражей: Гумилев был, на мой взгляд, истинным «чемпионом» в этой области, соперничать с ним могла бы, пожалуй, лишь Цветаева. В редком интеллигентном доме Москвы, Ленинграда и других крупных городов не находилась хотя бы одна тетрадка его стихов, а у некоторых «продвинутых», как модно нынче говорить, собирателей и любителей его творчества, — и весьма полные собрания его стихотворений, любовно перепечатанные и переплетенные. Таким, в частности, было собрание ленинградского хирурга Л. Л. Либова, с которым я был знаком. В этом играли большую роль не только первоклассное качество стихов Гумилева, но и тот романтичес-ки-трагический ореол, которым окружено было имя первого большого поэта, расстрелянного большевиками в 1921 г. (спустя 15–16 лет, в годы Большого террора, за ним, как известно, последовали и другие крупные поэтические имена). Между прочим, слова Ахматовой, сказавшей о своем погибшем муже — «самый непрочитанный поэт» — нередко интерпретируются, как мне кажется, неверно, чересчур буквалистски: Гумилева-то, вопреки запрету, как раз читали! В слове «непрочитанный» таится и другая семантика: скорее всего, Ахматова имела в виду другое — «непонятый», «неосмысленный».
Имя Гумилева и даже небольшие отрывки из его стихов все же изредка удавалось протиснуть на страницы подсоветской печати. Каждый раз это повергало советского интеллигента в состояние эйфории, каждый такой случай воспринимался как «знак», как снятие табу с имени поэта. Читатели «Известий», открыв газету 13 января 1961 г., должно быть, глазам своим не поверили, прочитав начало статьи виднейшего астрофизика И. С. Шкловского: «Много лет тому назад замечательный русский поэт Гумилев писал:
На далекой звезде Венере Солнце пламенней и золотистей, На Венере, ах, на Венере У деревьев синие листья…»Это последнее, как полагают, стихотворение поэта, начинавшееся процитированной строфой, опубликовано уже посмертно в конце 1921 г., во 2-й книжке альманаха «Цех поэтов» в разделе «Последние стихи Н. Гумилева», обведенном черной траурной рамкой. Сам ученый рассказал об этой удивительной истории в книге воспоминаний «Эшелон. Невыдуманные рассказы» (М., 1991. С. 179–183). Оказывается, в январе 1961 г. запущена была советская ракета на Венеру. Решив опередить «Правду», к нему прибежала его знакомая, редактор научного отдела «Известий», с просьбой срочно написать в следующий номер газеты статью об этом событии. Шкловский согласился с одним условием — не выкидывать из статьи ни одной строчки. Заметка тотчас же ушла в типографию, минуя, очевидно, цензурный контроль, и появилась в печати. Но, как мне кажется, дело здесь заключалось, скорее, в том, что главным редактором «Известий» в это время был Алексей Аджубей, зять Хрущева, которому многое было в связи с этим позволено. Как говорили древние римляне, «что позволено Юпитеру, то не позволено быку…»
Впрочем, далеко не всегда такие попытки увенчивались успехом. Выше (в параграфе «Аврора») уже говорилось о том, что цензор журнала «Аврора» в 1972 г. обратил внимание на «тенденциозную» и «подозрительную» подборку в нем имен знаменитых русских поэтов. Но самое большое неудовольствие цензора вызвала попытка «скрытого цитирования» стихов Гумилева» в 3-м номере журнала. «Вот очерк Г. Балуева “Следы на Устюрте”, — замечает цензор, — рассказывающий о промышленной нови Узбекистана, в котором раньше “были только хлопок”, сейчас — “золото, газ, нефть…” И московский геолог Ольга, вдруг не к месту цитирующая Гумилева:
Мы рубили лес, мы копали рвы, Вечерами к нам выходили львы, И в стране озер пять больших племен Слушались меня, чтили мой закон (Аврора», № 3, стр. 59)»[347].Хотя имя Гумилева в очерке и не было названо, цензор, однако, распознал хитроумную уловку автора, процитировавшего 6 и 9 строфы из стихотворения «У камина», помещенного впервые в сборнике 1912 г. «Чужое небо» (2-я часть его посвящена Анне Ахматовой). В очерке Германа Балуева геолог Ольга, летевшая вместе с автором на самолете, рассказывает ему о своей судьбе, о том, что когда-то она училась музыке, очень любила и сама сочиняла стихи: видимо, в этом месте она и продекламировала приведенные цензором строчки, отсутствующие в опубликованном тексте. Другой бы не обратил внимания на эти вполне невинные с идеологической точки зрения строки, но наш цензор, получивший университетское образование и почитывавший, как мне известно, и самиздатского Гумилева, не только распознал подлинное авторство, но и увидел в них попытку «скрытого цитирования» и нежелательной пропаганды творчества гонимого поэта. Цитируемые строки были изъяты из очерка. Редакция уже успела к тому времени «проштрафиться». Главный редактор был снят с работы. Пикантная деталь: постоянно курировавший «Аврору» цензор Ленгорлита, тот самый, который опознал Гумилева, был назначен заместителем главного редактора (!).
Но не все цензоры были так образованны и проницательны, благодаря чему и удавалось иногда успешно процитировать стихи Гумилева, не называя при этом имя автора. Таким был, должно быть, цензор «Молодого Ленинграда», альманаха на 1964 год. К счастью, он не обратил внимания на такой пассаж в очерке И. А. Муравьевой «Чтобы вулканы не погасли», посвященном жизни и трудам вулканологов Камчатки. Возвратившись из экспедиции на базу, они, смеясь, рассказывают о всевозможных своих приключениях, в том числе о молодом вулканологе Виталии, решившем съехать вниз по «снежнику», громко декламируя при этом «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели…», — и с этими словами он проваливается под снег (с. 101). Эти строки из стихотворения 1918 г. «Я и Вы», вошедшего в книгу Гумилева «Костер», не были распознаны цензором и благополучно проскочили в альманахе.
Остроумна уловка известной певицы Елены Камбуровой, выступавшей с песнями на стихи поэтов Серебряного века. Порою ей приходилось скрывать подлинные имена авторов текста, в частности — поэтов-эмигрантов. Гумилева удалось спеть на концертах (главным образом, в провинции) лишь благодаря тому, что автором текста неизменно объявлялся «Анатолий Грант». Под этим псевдонимом поэт действительно выступал, но один-единственный раз, да и то подписав им не стихи, а прозу, — неоконченную повесть «Гибели обреченные», опубликованную в русском журнале «Sirius» (Париж, 1907, № 1). Певица рассказывает (интервью по радио), что просвещенные читатели, любители Гумилева, иногда «поправляли» ее, указывая на «ошибку», не догадываясь, что сделано это умышленно, — для того, чтобы провести цензоров и чиновников министерства культуры, утверждавших программу ее концертов.
И верно: в российской действительности малообразованный цензор — благо для автора…
* * *
«Неконтролируемые ассоциации», впрочем, возникали и в тех случаях, когда это вовсе не входило в намерения автора: порою он о них и не подозревал. Умение читать между строк, которым так гордился советский читатель (тогда кто-то переиначил знаменитую формулу, назвав СССР «самой читающей между строк страной в мире»), порождало иногда комические ситуации. Помнится, все были поражены смелостью поэта Е. Маркина, опубликовавшего в «Новом мире» в 1971 г. (№ 10) стихотворение «Белый бакен» и давшего своему герою имя «Исаич». В этом тотчас же увидели намек на гонимого Александра Исаевича Солженицына, имя которого уже было запрещено к упоминанию, хотя других сближений с его жизнью и судьбой в стихотворении и не просматривалось.
Точно такой же эффект вызвала публикация на страницах декабрьского номера ленинградской «Авроры» за 1981 г. забавного рассказа Виктора Голявкина «Юбилейная речь». Так получилось, что именно в декабре с помпой отмечалось 75-летие генсека Л. И. Брежнева. «Авроре», как и другим журналам, велено было откликнуться на такой важный юбилей, что и было срочно сделано — на внутренней стороне обложки появилась цветная репродукция картины Д. Налбандяна «Выступление Л. И. Брежнева в Хельсинки». В результате переверстки одностраничный рассказ появился точно на 75-й странице. Начинается он такими фразами: «Трудно представить, что этот чудесный писатель жив. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно лежал бы в могиле. Но этот — поистине нечеловек! Он живет и не думает умирать, к всеобщему удивлению. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете. Его место рядом с ними. Он заслужил эту честь… Позавчера я услышал, что он скончался. Наконец-то, воскликнул я, он займет свое место в литературе! Радость была преждевременной. Но, я думаю, долго нам ждать не придется…» И заканчивается так: «Мы пожелаем ему закончить труды, которые он не закончил, и поскорее обрадовать нас. {Аплодисменты)». Проницательный читатель тотчас же воспринял «Юбилейную речь» как сатиру на Брежнева, который в 70-е годы «ударился в литературу», выпустив свои книги воспоминаний, — «Малую землю», «Возрождение» и «Целину». Каждая из книг этой «трилогии» выходила множество раз, достигнув фантастических тиражей. Они даже вошли в школьные программы по литературе. Очень больного вождя вполне серьезно объявили «классиком советской литературы»; мною подсчитано, что в 70-х — начале 80-х годов вышло в свет более 20 монографий и сборников литературно-критических статей, посвященных творчеству Брежнева. Ленинградские либералы при встрече многозначительно пожимали сотрудникам «Авроры» руки, приговаривая: «Ну, вы даете…» Напрасно редакторы уверяли их в том, что произошло чисто «мистическое» совпадение, что рассказ попал на 75 страницу «юбилейного номера» в результате переверстки, что рассказ Голявкина написан несколько лет назад и метил в одного престарелого писателя, заполонявшего своими бездарными опусами портфели всех издательств, и т. д. Переубедить их было невозможно. Магда Алексеева, одна из главных «виновниц» этого инцидента, в то время ответственный секретарь редакции, вспоминает: «Один знакомый художник рассказывал, как в белорусском городе Бобруйске его спросили: “А редактора расстреляли?..” На самом же деле, — поясняет она, — никакого заговора не было, разве что всю нашу тогдашнюю (и только ли тогдашнюю?) действительность счесть неким дьявольским замыслом безумного режиссера из театра абсурда»[348].
Сотрудникам редакции, надо заметить, было вовсе не смешно: точно такие же аналогии возникли в головах чиновников из «компетентных органов». В редакции появился «куратор» из КГБ, потребовавший оригинал рукописи, гранки и верстку. «Виновные» были вызваны в отдел пропаганды обкома партии, состоялось многочасовое судилище. Обвиняя журнал в «антисоветской вылазке», партийные функционеры, тем не менее, не рисковали произнести всуе «высочайшее имя», отделываясь эвфемизмами и намеками, что создавало чисто кафкиан-скую ситуацию (в то время ходила такая переделка одной строки из известной советской песни: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», иногда — «пылью»). Но вывод был сделан самый решительный: и главный редактор, и ответственный секретарь были изгнаны из журнала, во главе его поставлен один из ленинградских агитпроповцев, работавший прежде в том же обкоме партии.
* * *
В «рецептуре» литературоведов существовал еще один прием, который порой успешно срабатывал. Б. Ф. Егоров в своих интереснейших «Воспоминаниях», рассказывая о своей многолетней дружбе с Ю. М. Лотманом, сожалеет о том, что они «…не написали полусерьезную, полуюмористическую, но для тех застойных лет очень бы полезную, книгу-пособие для научных смельчаков “Как реабилитировать реакционеров и идеалистов” (первый прием там был под названием “навешать собак”: надо было найти еще более матерого реакционера, чем свой собственный объект, очернить его как только можно, и тогда свой выглядел бы чуть ли не прогрессистом)»[349].
Перечень уловок, как состоявшихся, так и уловленных цензурой на стадии предварительного контроля, а потому «вовремя» пресеченных, можно было бы продолжить… Упомяну в заключение одну из них, также вызвавшую оживление в интеллигентной либеральной среде. Статья о литературном критике, бывшем активном рапповце Я. Е. Эльс-берге (1901–1976), помещенная в 8-м томе «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1975. С. 883), подписана псевдонимом — Г. П. Уткин. В нем содержался прозрачный намек на ГПУ: так назывались, как известно, в 20-е годы органы тайной политической полиции, сменившие ЧК. Дело в том, что Эльсберг слыл стукачом: в 30-е годы он активно занимался политическими доносами на писателей. Те, кому удалось вернуться из лагерей, потребовали привлечь его к ответственности. В 1962 г. Эльсберг был исключен из партии и Союза писателей (редчайший, а, может быть, и единственный случай!)[350].
Конечно, во всех таких проделках был элемент игры, желание показать режиму «фигу в кармане», но не только… Во-первых, такие игры с властью могли оказаться весьма опасными, во-вторых, — и это самое главное! — они свидетельствовали о неизбывном стремлении познакомить читателя с текстами произведений или хотя бы с именами писателей, обреченных на забвение, в конечном счете — о попытках противостояния всепроницающей тоталитарной машине.
Глава 10. Как было разрушено «Министерство правды: (годы перестройки)
Прошло 20 лет с той поры, как началась эпоха гласности и перестройки. В дальнейшем, по аналогии с НЭПом, будем называть ее ГИПом. Крайне характерно, что началась она, в отличие от НЭПа, не с перемен в экономике, а именно с некоторого милостиво дарованного свыше и сугубо дозированного послабления в единственной области — словесной, что, надо сказать, вполне соответствовало исторически сложившейся российской ментальности, в которой слово всегда предшествовало делу, а чаще всего заменяло его. Борис Слуцкий сказал как-то: «Слово — половина дела. Лучшая». Я бы добавил — и единственная, если, конечно, половина может быть таковой. Жажда перемен, накопившаяся в обществе, вылилась в пятилетку ГИПа, когда исподволь, постепенно, сквозь заслоны и преграды, выстроенные на его пути, стало пробивать себе дорогу свободное слово. Привыкший к самиздату, «преодолевавший Гутенберга», говоря словами Цветаевой, в течение многих десятилетий, лучший в мире советский читатель, испытывая амбивалентные чувства, с возгласом «ГИП, ГИП, ура!», с надеждой и одновременно опасением, открывал оглавления «толстых» литературных журналов. Они читались как знаки грядущих перемен, как захватывающие и перехватывающие дух сводки с театра военных действий, и это не метафора: в течение семи десятилетий шла необъявленная война власти со своим подневольным народом. Многое неравнодушному российскому читателю было, конечно знакомо по «сам-» и «тамиздату», по слепым машинописным, ксеро- и фотокопиям. Но каждая публикация произведения табуированного ранее писателя, философа и публициста (эмигранта или подъяремного автора, писавшего в стол) в «гутенберговом исполнении» (!) и с разрешения цензуры (!!!), расценивалась как завоеванный плацдарм в этой войне. И напротив, отсутствие таких текстов в очередной книжке журнала повергало бедного интеллигента в уныние, граничившее с легкой паникой: неужели они снова побеждают? От эйфории до паники без пересадки…
Распад происходил на наших глазах, и факты публикации запретных ранее текстов говорили сами за себя, выступая в роли знаков наступающих перемен. Очень точная и выразительная картина того времени нарисована Андреем Битовым в послесловии к собранию сочинений Юза Алешковского: «Как нерешительно и стремительно ширилась наша гласность — еще в восемьдесят седьмом нельзя было упомянуть имя Бродского, а в восемьдесят восьмом доносили на Солженицына. Рассуждались уже не книги (цензуры уже как бы не было), а судьбы (идеология оставалась). Сначала стало можно публиковать тех, кто умер, но тоже в последовательности: предпочтительнее тех, кто давно умер (Мандельштам, Булгаков), затем тех, кто за границей не печатался (Платонов, Гроссман), а потом уже, кто при жизни там напечатался, от чего и умер (Пастернак, Домбровский), затем уже тех, кто еще жив. Но и тут последовательное предпочтение: жив, но там не печатался (Рыбаков, Дудинцев), затем хоть там и печатался, зато жив здесь (Искандер, Венедикт Ерофеев), затем даже так: хоть и уехал, зато на родине и не печатался (Саша Соколов, Лимонов), и лишь затем тех, кто и здесь печатался, и уехал, и там печатался (чтобы распечатать последний ряд, следовало для начала там и умереть (как Виктор Некрасов). Все это была уже застарелая политика, а не цензура — запретны были не тексты, а авторы. Тут тоже оказалась бездна нюансов, кто за кем»[351].
Для будущего историка эти 5–6 лет ГИПа покажутся, должно быть, мгновением, но для нас, современников тех событий, они уплотнены до невероятной степени, ибо не только каждый год, но и месяц, неделя, а то и день кардинально меняли политическую и культурную ситуацию[352]. Как же в этих условиях действовали цензурные инстанции? Хотя прошло совсем немного времени со дня их кончины (ноябрь 1991 г.), восстановить обстоятельства их гибели непросто. Главные затруднения возникают в связи с акциями конца 80-х — начала 90-х годов, направленными на стирание следов опустошающей деятельности Главлита и его местных управлений путем уничтожения документов той поры, о чем говорилось в предисловии. Тем не менее, сокрыть тайну до конца никогда не удается. Сохранившиеся (далеко не все) документы позволяют более или менее полно реконструировать процесс постепенного распада Ленгорлита. Картина разрушения и заката цензурных инстанций была, впрочем, единой для всей страны, если не считать оттенков местной специфики.
Год 1985
Руководителям местных инстанций Главлита стало «трудно работать» в новых условиях. На свои недоуменные вопросы, адресованные, естественно, «директивным органам»гт. е. идеологическим структурам КПСС, они перестали получать «однозначные» ответы; им советовали действовать «по обстановке». Растерянность царила еще и потому, что впервые руководители партии стали говорить как-то не в унисон. С одной стороны, нужно слушаться генсека, призывающего к гласности, открытости, к «приоритету общечеловеческих ценностей перед классовыми», говорящего о каком-то не совсем понятном «человеческом факторе»… Появился призыв к «гласности» не впервые в российской истории: он звучал еще в конце 50-х годов XIX в., в пору подготовки «великих реформ». А с другой стороны, второй человек в партийной иерархии, заведующий идеологией Егор Лигачев, периодически собирая руководителей средств массовой информации, предостерегает их от «чрезмерного критиканства», призывает следовать принципу партийности и ни в коем случае не посягать на ценности, завоеванные социализмом. Главный источник последних веяний в высших сферах — передовые «Правды» — также звучали как-то двусмысленно. И вообще, непонятно было: откуда же все-таки ветер дует… А ветер дул «одновременно в разные стороны» (эту особенность петербургской погоды заметил еще Гоголь в «Шинели»).
Ситуация, однако, оставалась прежней. Правда, тональность прессы слегка изменилась, в воздухе повеяло чем-то необычным, но новых «знаковых» текстов, сколько-нибудь существенно прорывающих и размывающих информационную плотину и расширяющих дозволенные прежде рамки, практически не появилось. В том же апреле 1985 г., когда состоялся «исторический» пленум ЦК КПСС, начальник Ленгорлита издал приказ «Об итогах работы семинаров в 1984–1985 гг. и об организации цензорской учебы в 1985–1986 гг.», мало чем отличающийся по тональности от прежних: «Наступает ответственный период в жизни страны. В преддверии 27 съезда КПСС, который откроет перед советским народом новые исторические горизонты в подъеме социалистического народного хозяйства, науки и культуры, дальнейшего повышения благосостояния трудящихся от цензора требуется повышение политической бдительности, высокое чувство ответственности за порученное дело, глубокие знания нормативных документов, умение правильно ориентироваться в современной обстановке. С этой целью необходимо еще настойчивее продолжить профессиональную учебу сотрудников управления…»[353].
В сентябре 1985 г. появился еще более красноречивый приказ «О повышении требовательности при приеме материалов на контроль», в котором отмечалось, что «именно благодаря ответственности и требовательности к работе только за 8 месяцев 1985 г. было отклонено 62 работы общим объемом 116 учетно-издательских листов… Приказ Главлита СССР требует от местных органов усилить внимание к издательской деятельности, не допускать выпуска литературы, предпринятого в нарушение установленного порядка, а каждый случай отступления цензоров от требования нормативных документов о порядке выпуска литературы рассматривать как серьезное нарушение служебной дисциплины». В конце приказа названы цензоры, хорошо выполняющие свои служебные обязанности, за что они вознаграждаются суммой в тридцать рублей[354]. Конечно, здесь случайное совпадение, но эта цифра, известная еще по Евангелию, всегда фигурирует в приказах о награждении цензоров за «добросовестную работу». Может быть, в этом был оттенок мрачного юмора, который, кстати, был свойствен начальнику штаба корпуса жандармов Леонтию Васильевичу Дубельту, человеку неглупому, который всегда выписывал негласным осведомителям III Отделения именно эту сакраментальную сумму, испытующе при этом глядя им в глаза и загадочно усмехаясь.
Рвение ленинградской цензуры вызвало одобрение руководства самого Главлита. В декабрьском приказе за этот же год оно отметило, что «при осуществлении предварительного контроля художественной и общественно-политической литературы делалось большое количество замечаний политико-идеологического характера по содержанию проконтролированных материалов. Обо всех замечаниях своевременно докладывалось Главлиту СССР и информировались партийные органы». Об отсутствии перемен в цензурном ведомстве наглядно свидетельствует история прохождения верстки «Круга» — единственного, дозволенного свыше, коллективного сборника произведений авторов ленинградского самиздата[355].
Появление этого сборника связано с играми, которые органы КГБ вели с молодым писательским андеграундом, представленным частично в «Клубе-81». Наибольшее раздражение вызвали «религиозные мотивы» в творчестве молодых поэтов и прозаиков. «Дополнительно к устно высказанным 25.10.85 г. замечаниям по верстке “Круг”, считаем нужным обратить Ваше внимание на следующие моменты, — сообщал начальник Ленгорлита директору издательства «Советский писатель». — Многие поэты испытывают определенную “слабость” к религиозным мотивам, всячески эксплуатируя их: это образ “танцующего Иисуса с голубем сизого оперенья на росистом плече” (А. Драгомощенко, стр. 76)… К пересказу излюбленной церковниками религиозной легенды сводится “патриотическое” стихотворение О. Охапкина “В ночь на Невскую сечу” (стр. 160–161): “явление” русскому войску “святых” Бориса и Глеба, возглашающих — “С нами сила Господня”, сравнивается по своей значимости с национальным подъемом русского народа…». Нашлись в сборнике и другие недостатки: «Увлечение “алкогольной” темой, озабоченность вопросами секса сквозит в ассоциативно-формалистической прозе Е. Звягина “Корабль дураков”. До непристойности вольны “каламбуры” в стихах В. Ширали, переходит грани приличия Э. Шнейдерман в стихотворении “Галантерейщица”. Ассоциативны, допускают многочисленные толкования, а иногда прямо двусмысленны стихи Б. Куприянова “Ночь”, В. Кучерявкина “Осеннее возникновение матери”, А. Миронова “Путешествие”, О. Охапкина “В глухозимье”, С. Стратановского “Метафизик”»[356]. Верстка сборника, пройдя несколько инстанций, все же была подписана к печати: «Круг» вышел в том же 1985 году. В тексты произведений внесен ряд изменений. Характерна купюра в повести Беллы Улановской «Альбиносы», в которой она, по словам цензора, «с удовольствием упоминает Ремизова (стр. 241)». Несмотря на то что его «Избранное» и было издано однажды в СССР в самый «разгар застоя» (за 7 лет до этого эпизода), но «с удовольствием» упоминать имя писателя-эмигранта не рекомендовалось, хотя фраза звучала совершенно невинно: «Начало октября, а пруд замерз (холодина зверющий — как любил говорить Ремизов)».
Год 1986
В феврале состоялся XXVII съезд КПСС, призвавший усилить гласность в средствах массовой информации. Но дальше провозглашения лозунга дело практически не сдвинулось: основы и принципы коммунистического строя не должны подвергаться никакому сомнению. Об уровне «гласности» в 1986 г. можно судить по тому оглушительному впечатлению, который произвел на интеллигенцию апрельский, так называемый «ленинский» номер «Огонька», поместивший подборку стихов Гумилева, приуроченную к 100-летию со дня рождения поэта (см. подробнее об этом в предыдущей главе). Однако случившееся буквально спустя четыре дня трагическое событие — чернобыльская катастрофа — замалчивалось властью, информация о ней дозволена была с большим опозданием, велено было всячески преуменьшать ее размеры, что привело к непоправимым трагическим последствиям.
Председатель КГБ В. Чебриков в июне информировал М. С. Горбачева и других членов Политбюро «О подрывных устремлениях противника в среду советской творческой интеллигенции». По его словам, «вновь реанимируются и выдвигаются на арену идеологической борьбы идеологические перерожденцы типа Солженицына, Копелева, Максимова, Аксенова, Владимова и им подобные, вставшие на путь активной враждебной деятельности. Многие из них стали участниками и исполнителями антисоветских провокаций и широкомасштабных акций. По заданиям спецслужб они ведут поиск единомышленников, пытаются устанавливать нелегальные связи с негативно настроенными лицами из числа творческой интеллигенции нашей страны». Благодаря доносам и проведенным «агентурным мероприятиям сотрудникам КГБ стали известны рукописи произведений, представляющие наибольший интерес для центров идеологической диверсии». В донесении перечислены рукописи романа А. Рыбакова «Дети Арбата», повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…», романа В. Дудинцева «Белые одежды» и других произведений, которые удалось опубликовать только спустя 2–3 года.
Цензурные инстанции (ленинградские, в частности) продолжали охранять «честь мундира» органов КГБ, которым они подчинялись беспрекословно. В «Перечне сведений, запрещенных к открытому опубликованию» по-прежнему неизменно фигурировал пункт, согласно которому «любые сведения, в том числе в художественных произведениях, о деятельности органов госбезопасности» могли появиться в свет только с разрешения последних. Вот именно под этот пункт подпал роман «Белые одежды» В. Дудинцева, предполагавшийся к публикации в первых номерах журнала «Нева» за 1987 г. Главный цензор Ленинграда был готов подписать верстку лишь в том случае, если редакция направит роман «куда следует» и представит разрешение КГБ, или вообще снимет этот роман из номера. Но как раз именно КГБ предъявил такие требования к роману, отданный первоначально Дудинцевым в «Новый мир», что они потребовали бы многих существенных переделок и сокращений. На них писатель не пошел, решив попытать счастья в «Неве». Однако даже в конце 1986 г. на «белоснежные ризы» неприкосновенных органов, если переиначить и переадресовать название романа, не могла быть брошена тень.
Тяжба с редакцией тянулась около двух месяцев (ноябрь — декабрь 1986 г.), хотя, по цензурным правилам, верстку очередного номера следовало просмотреть и подписать в печать в течение 10 дней. Глава ленинградского управления Л. Н. Царев также обнаружил в ней «серьезное нарушение требований — на роман В. Дудинцева не представлено разрешение органов КГБ». Вот как он излагает перипетии этой истории и содержание романа в донесении, датируемом 23 января 1987 г., когда первый номер уже давно должен был выйти из печати: «18 ноября 1986 г. на контроль в Леноблгорлит была сдана верстка журнала “Нева” № 1 за 1987 год с началом романа В. Дудинцева “Белые одежды”, который предполагается опубликовать в первых двух номерах. Действие романа происходит в конце сороковых годов, когда под руководством Лысенко Т. Д. в научных кругах была развернута кампания по борьбе с генетикой как “буржуазной лженаукой”, а ученые-генетики подвергались различным административным гонениям, увольнялись с работы, отстранялись от научной деятельности. Сюжет романа строится вокруг того, как некий академик Рядно с целью устранения более молодых и способных конкурентов на ниве селекции новых сортов картофеля “переводит вопрос в плоскость идеологии” — развязывает ожесточенную травлю против ученых-генетиков и студентов, активно включая в это дело местное Управление госбезопасности во главе с генералом Ассикритовым. Группа генетиков-преподавателей и их учеников арестована органами госбезопасности по обвинению в антисоветской деятельности, некоторые из них впоследствии погибают в заключении. Герой романа Стригалев — ведущий генетик, который вывел новый сорт картофеля и тем самым вызвал зависть академика Рядно — некоторое время скрывается от ареста. Генерал Ассик-ритов устанавливает наблюдение за Стригалевым и его товарищем Деж-киным, остающимися на свободе, использует для этого “своих помощников” из числа студентов и преподавателей. Герой романа Дежкин, предчувствуя неизбежность ареста, скрывается, проживая несколько лет под чужой фамилией и по чужим документам. Помощь преследуемым генетикам оказывает полковник госбезопасности Свешников, информируя их о мерах, предпринимаемых против него оперативными службами. Позже полковника также арестовывают, он погибает». Далее он жалуется московскому начальству на то, что главный редактор категорически отказался представлять роман в КГБ на предмет получения его разрешения на публикацию: «Свою позицию он обосновывал тем, что поскольку в период, изображенный в романе, органы госбезопасности допускали нарушения законности, осужденные впоследствии партией, то требования 215 Перечня, по мнению редакции, на этот период не распространяется»[357].
Противостояние продолжалось, пока, наконец, благодаря телеграмме, посланной самому Горбачеву, спущено было в партийные и цензурные инстанции указание не чинить препятствий «Неве», и верстка была подписана. Начальник Леноблгорлита получив, видимо, выволочку, обещал даже «со своей стороны принять меры к ускорению изготовления тиража номера, находящегося в производстве в типографии “Печатный двор”. Тираж будет отпечатан в конце января». Первый номер вышел все же с опозданием; публикация роман Дудинцева произвела впечатление серьезного прорыва информационной блокады: впервые в негативном виде в подсоветской печати была выставлена деятельность органов тайной политической полиции[358]. История эта получила отражение в ряде воспоминаний — так сказать, с двух сторон — главного редактора Б. Н. Никольского, опубликовавшего свою переписку с высшими партийными инстанциями по поводу запрета романа, и бывшего заместителя начальника Леноблгорлита Василия Соколова[359].
Жаль все-таки, что цензоры редко пишут мемуары (кажется, это единственный случай). Правда, Соколов пытается снять вину со своего начальника Л. Н. Царева, который поступал, по его словам, все-таки «в соответствии с требованиями нормативных документов Главлита» и даже пошел «на отчаянный шаг: сам направил рукопись в КГБ СССР официально, на предмет «возможности опубликования», тогда как этот должна была сделать сама редакция журнала. Вспомним, однако, что на дворе был уже 1987 год, и такое невинное нарушение субординации вряд ли можно расценивать как акт какого-то необыкновенного героизма и мужества.
Год 1987
Построенное, казалось бы, на века здание «Министерства правды» дало первые трещины, дрогнуло, но все же устояло. Однако с 1987 г. наблюдается необратимый процесс его разрушения. «Толстые» литературные журналы совершают ряд знаковых прорывов: опубликован, наконец, «Реквием» Ахматовой, «Собачье сердце» Булгакова, «Котлован» Андрея Платонова и другие тексты, обращавшиеся до того в самиздате. Под влиянием бурно развивающихся событий Главлит вынужден был, хотя и крайне неохотно и с большими оговорками, устранять постепенно самый страшный бич литературы и печати вообще — предварительную цензуру. В архивах Главлита сохранились сотни стереотипных ходатайств издательств, редакций журналов и газет с просьбами об освобождении от таковой. Большей частью они удовлетворялись, но неизбежно сопровождались таким характерным разъяснением, посланным в местные инстанции: «Вам следует сообщить о принятом решении редакторам указанных газет и установить за изданиями постоянный последующий контроль, а также вести разъяснительную работу с ответственными сотрудниками редакций по нормативным документам»[360].
Руководителям местных отделений предписывалось внимательно следить за «направлением» издания, избирательно подходить к «решению этого вопроса», учитывая характер того или иного органа печати. Процесс высвобождения от ига превентивной цензуры растянулся на несколько лет — вплоть до 1990 г., причем, согласно предписанию Главлита, местным цензурным органам предоставлялось право самим «решать вопросы об освобождения от предварительного контроля или возвращении на контроль освобожденных ранее местных периодических изданий, отдельных передач радио и телевидения, если это будет признано необходимым». Действовала испытанная веками политика «кнута и пряника»: в любую минуту, как только редакция шла на риск и переходила дозволенную планку гласности, превентивная цензура тотчас же могла быть возвращена. Действия цензуры в этом, как и во многих других случаях, с трудом поддаются логическому объяснению.
В 1987 г. ряд незначительных послаблений сделан в «Перечне сведений, запрещенных к опубликованию». В июне вышел особый глав-литовский циркуляр, не нуждающийся в комментариях, но звучащий вполне кафкиански: «Разрешается публиковать сведения об объеме выпускаемой в дни коммунистических субботников продукции гражданского назначения». Позволялось, наконец, слегка приоткрыть завесу тайны над событиями войны в Афганистане: «Разрешается публиковать сведения о действиях ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан: об отдельных случаях ранения и героической гибели советских военнослужащих при выполнении ими боевых заданий и о фактах награждений советских воинов за боевые подвиги, героизм и мужество, проявленные при проведении боевых действий, оказании интернациональной помощи ДРА, об увековечении памяти погибших (без указания их численности)»[361].
Ослабив несколько политико-идеологические вожжи, цензура судорожно цеплялась за последнее свое прибежище — охрану так называемых «государственных, военных и экономических тайн». Однако — и в этом тоже признак времени — Главлит иногда вынужден был одергивать чересчур ретивых и бдительных цензоров, не уловивших «требований момента». Так, например, в протоколе «Перечневой комиссии Главлита» зафиксированы такие анекдотические случаи «необоснованных цензорских вмешательств»: «Цензор т. Тюрин снял подчеркнутое в следующем тексте: “Лена чуть-чуть не изменила своему мужу — благополучному штабисту-военному” (а гражданскому лицу, значит, можно? — А. />.). Из стихотворения “Подводной лодке в Невском устье привычны истины морей”. “Сторожевой — город юности. Две трети его жителей — двадцатилетние”»[362].
В последнем варианте «Перечня сведений, запрещенных к опубликованию», тем не менее, и в 1987 г. остались по-прежнему такие, например, пункты: «Запрещено публиковать, в том числе в художественных произведениях: 1. О численности населения, начиная с 1947 г. — по городу с населением менее 50 тысяч человек. 2. О деятельности органов госбезопасности и советских разведывательных органах. 3. Сводные абсолютные данные о преступности, судимости по району, городу и выше. 4. О местах ссылки, дислокации тюрем и колоний. 5. О применении труда лиц, лишенных свободы, на предприятиях, стройках и других объектах. 6. О повлекших за собой человеческие жертвы катастрофах, крупных авариях и пожарах. 7. Маршруты поездок, остановки, места выступлений и пребываний членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС», и т. п.[363].
В августе 1987 г. уже упоминавшийся не раз начальник Леноблгор-лита Л. Н. Царев сигнализировал в Москву о том, что «органы цензуры строго руководствуются указаниями ЦК КПСС о невмешательстве в политико-идеологическое содержание публикуемых материалов и по Ленинградскому управлению таких вмешательств в 1987 г. нет». Одновременно он жалуется на то, что «некоторые авторы и работники информации, не всегда правильно понимая вопросы расширения демократии, гласности, пытаются иногда “пробить” публикацию материалов, подпадающие под ограничения “Перечня”», сетует на то, что редакторы и авторы стали своевольничать, игнорировать требования цензуры. В качестве примера он приводит историю публикации в «Неве» главы из книги Виктора Конецкого «Ледовые брызги» и отдельного издания ее в «Советском писателе». «К сожалению, — сообщает он, — есть редакторы, которые огрехи в собственной работе, любые задержки в производстве книги стараются списать на цензуру. Недовольство авторов, писательской общественности такие редакторы стараются перенести на отношения с сотрудниками цензуры. Мы ведь прекрасно понимаем, что в случае громкого конфликта “общественное мнение” заведомо будет настроено против цензуры, “как антидемократического института”. Уже 31 августа, выступая на встрече с читателями, Конецкий заявил, что история советского флота не может быть написана, пока существует цензура. И в качестве примера привел свою книгу “Ледовые брызги”, которая, как ему сообщил редактор, “арестована” цензурой в связи с тем, что в ней помещена карта Северного морского пути, известная каждому второкласснику». Руководитель управления демагогически пытается, с одной стороны, взвалить вину за пропуск «закрытых сведений» на редакторов, а с другой — доказать необходимость собственного существования: «Знание редакторами хотя бы основных положений Перечня помогло б избежать в 1986–1987 гг. более 100 цензорских вмешательств в Лениздате, 50 — в “Советском писателе”, 7 — в “Детской литературе”. 9 — в “Науке”. Одним словом, более 170 раз могли быть обнародованы сведения ограниченного распространения, составляющие предмет служебной или государственной тайны»[364]. Но парадокс заключался в том, что сам этот пресловутый «Перечень» составлял всегда тайное тайных, хранился под грифом «Совершенно секретно» и никогда не предоставлялся в распоряжение редакторов. Остается полнейшей загадкой: как они могли избежать «нарушений», не зная, что же именно объявлено в них тайной? А тайной могло быть объявлено всё что угодно: от вывоза на экспорт груздей (был и такой запрет) из Псковской области до «морально-политической подготовки олимпийцев»…
Год 1988
Начался небывалый журнальный бум: редакции соревновались между собой в смелости, объявляя публикацию в ближайших номерах все более и более заманчивых для изголодавшегося российского читателя текстов. Тиражи журналов увеличились в три-четыре, а то и в десять раз. Они публикуют роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Чевенгур» А. Платонова, «Дар» и «Другие берега» В. Набокова, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Слепящую тьму» А. Кестлера, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, «Жизнь и приключения Ивана Чонкина» В. Войновича. Ряд знаковых текстов появился и в ленинградских журналах «Звезда» и «Нева».
Под влиянием политических событий, которые становились неуправляемыми, Главлит издает в 1988 г. ряд распоряжений, написанных на партийном воляпюке (точнее, на знаменитом оруэлловском «новоязе»). Попробуйте понять, например, что означают такие фразы из Постановления Коллегии Главлита СССР «О новом подходе к содержанию контролируемых материалов»: «Цензурные органы правильно понимают свои задачи, но вместе с тем, при контроле материалов по содержанию имеются серьезные недостатки: в отдельных случаях без достаточных оснований ставились вопросы перед партийными органами, в некоторые материалы по рекомендации Главлита вносились исправления, имели случаи недостаточно острой, порой неоднозначной оценки материалов…»[365].
Пытаясь спасти себя, свою власть и привилегии, а также «сохранить кадры», руководство Главлита затеяло, в духе времени, «перестройку» цензурных органов. Им предлагалось перейти частично на хозрасчетную работу. Это было что-то новое: рекомендовалось сократить штаты, заключая особые контракты с издательствами и редакциями, которые обязаны были сами оплачивать сдельно труд цензоров, исходя из количества проверенных ими печатных листов. Установлена была даже такса за каждый лист. Однако на деле гигантская машина — в одном только Главлите СССР (главке) работало свыше 1000 чиновников, сотнями исчислялись штаты республиканских Главлитов, десятками — областных и краевых, не считая сотен и сотен «уполномоченных Главлита» при издательствах, редакциях крупных газет, на радио и телестудиях — практически не потерпела сколько-нибудь существенного урона. Так, в ноябре этого года Л. Н. Царев сообщает в Главлит, что им «пересмотрена структура Ленинградского Управления с учетом создания хозрасчетного подразделения по контролю научно-технических и художественных изданий с количеством 16 единиц. При этом 16 единиц предложено исключить из существующего штатного расписания (80 единиц). Объем платных изданий, по нашему предварительному подсчету, в год может составить около 30 тыс. учетноиздательских листов, что обеспечивает необходимую нагрузку на каждого цензора»[366].
Примерно такие же отчеты прислали в Главлит другие управления. В приказе его начальника 29 апреля 1989 г. с удовлетворением отмечалось, что «по имеющимся в Главлите данным, местными органами заключены договоры на спецредактирование (новый термин — слово «цензура» уже стеснялись произносить. — Л. Б.) более 240 тыс. учетноиздательских листов на сумму более 700 тыс. рублей. Это позволило к настоящему времени перевести на хозрасчет более 140 единиц, повысить зарплату значительной части работников управлений…» В приказе были перечислены «передовые» (в том числе и Ленинградское) управления и названы «отстающие».
Главлит и его органы подверглись лишь чисто косметической перестройке (что, кстати, наблюдается и в других репрессивных органах — КГБ и т. д.). Некоторые отделы Главлита были слиты воедино, создано, например, «Управление по контролю за поступающей в СССР иностранной литературой», которому поручалось наблюдение за «поступающими из-за рубежа изданиями в целях предотвращения распространения в стране антисоветских, антикоммунистических изданий».
Под самый занавес 1988 г., 31 декабря, началась, наконец, ликвидация «книжного ГУЛАГа» — спецфондов крупнейших библиотек. Еще ранее, в 1987 г., была создана особая Межведомственная комиссия по пересмотру «Сводного каталога книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети» и, частично, «Списка лиц, все произведения которых подлежат изъятию». О результатах ее деятельности сообщил в ЦК КПСС заведующий идеологическим отделом А. Капто. По его словам, «за период с марта 1987 по октябрь 1988 г. возвращено в общие фонды библиотек 7930 изданий, оставлено в спецфондах 462 издания явно антисоветского характера, содержащие клевету на В. И. Ленина, КПСС, Советское государство и советский народ, белогвардейские, сионистские, националистические издания». Комиссия предлагала вернуть в общие фонды библиотек около 600 авторов-эмигран-тов, поскольку «…в числе их — ряд известных писателей, таких как И. А. Бунин, В. Набоков, Н. Гумилев (как известно, он не эмигрировал. — А. Б.), Е. Замятин, философов и публицистов — Н. Бердяев, В. Ходасевич (еще одно свидетельство образованности одного из главных партийных идеологов, назвавшего поэта «философом и публицистом». — А. Б.), Б. Зайцев и другие. Зарубежные издания этих авторов, частично попавшие к нам, подлежали изъятию и направлялись в спецфонды как произведения аввторов-эмигрантов, хотя многие из них не носят антисоветского характера»[367].
В конце того же 1988 г. вышел последний «Сводный список книг, подлежащих исключению…». Из 462 книг, представляющих наибольшую опасность, 53 книги, по нашими подсчетам, составляют «сионистские националистические издания», то есть более 10 % — соотношение весьма впечатляющее. Вошла в него масса книг о вожде мирового пролетариата (святое не трожь!), издания анархистов и эсеров за 1917–1918 гг., книги П. Н. Милюкова, поэтический сборник Вл. Нарбута «В огненных столбах» (Одесса, 1920) и книга В. Машкина «В стране “длиннобородых”. Кубинский репортаж» (М.: Молодая гвардия, 1960). Выбор, как мы видим, совершенно случайный.
Одновременно Главлит СССР предлагает вернуть в общие фонды библиотек произведения авторов-эмигрантов третьей волны, изданные в Советском Союзе до их отъезда (И. Бродского, Г. Владимова, В. Войновича, Е. Эткинда и других), но очередь до их книг, выпущенных за рубежом, пока не дошла. Дольше всего не знали, что делать с А. И. Солженицыным. Вернее, знали — «не пущать». Как вспоминает упоминавшийся выше цензор В. Соколов, «последним, совершено уже комическим “оперативным указанием” стал запрет на упоминание Солженицына и публикацию его произведений». В журналах появлялись анонсы такого рода: «В будущем году журнал предполагает опубликовать произведения всемирно известного русского писателя, проживающего за рубежом». Всем было понятно, о ком идет речь, но самоё имя продолжало находиться под запретом. Лишь публикация в «Новом мире» в 1989 г. «Архипелага ГУЛАГ» сняла табу с имени писателя.
Год 1989
Снова обозначим основные «знаковые прорывы»: февраль — повесть Г. Владимова «Верный Руслан», февраль — март — роман Джорджа Оруэлла «1984», ноябрь — декабрь — книга Р. Конквеста «Большой Террор». Потоком хлынула литература русского зарубежья: книги И. А. Бунина (в частности, «Окаянные дни»), М. А. Алданова, Д. С. Мережковского, Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина и других.
Политико-идеологическая цензура, хотя и со скрипом, всё же сходит практически на нет. Последний «скрип» — «вскрытый факт незаконного размножения книги Саши Соколова “Палисандрия”, издательство “Ардис” (Анн Арбор, г. Мичиган, США, 1985 г. на рус. яз.)» в ленинградском объединении «Электроаппарат», о котором тогда в специальном донесении доложил московскому начальству всё тот же Л. Н. Царев. «Нельзя обойти вниманием и тот факт, — сообщает он, — что автор упоминает в грязном контексте имена В. И. Ленина, Н. К. Крупской, К. Цеткин, Д. Ибарури, Ф. Кастро и некоторых других. Огульное охаивание руководителей КПСС и советского правительства, государственных деятелей разных стран, революционеров, писателей, поэтов, артистов на страницах романа не знает границ. Автор не скупится на оскорбительные эпитеты в их адрес, на уничижительные оценки их деятельности. В произведении в один негативный ряд выстраиваются, помимо перечисленных выше, Хо Ши Мин, Кекконен, Суслов, Пельше, Маяковский, Зыкина, Пугачева и т. д. и т. д., всех не перечислишь… Роман “Палисандрия” ни в коей мере не отвечает требованиям советской морали, крайне циничен по своей сути, искажает реальное положение дел и не обладает достаточной степенью объективности в отношении конкретных личностей. Пропаганда и распространение его в СССР нецелесообразны» (роман Саши Соколова появился через год в журнале «Октябрь», № 7–8. — А. Б.). Генеральный директор объединения «Электроаппарат» отреагировал на «сигнал», лишив работницу множительного участка премии за текущий месяц. Он сообщил также, что «за ослабление контроля за работой операторов заведующей множительным участком объявлен выговор административной комиссией при Василеостровском Райисполкоме г. Ленинграда она оштрафована на 15 рублей»[368]. Как все-таки изменилось время: раньше за такое «незаконное размножение» (о, «наш великий и могучий»!) она получила бы, наверное, несколько лет тюрьмы.
Главным аргументом в пользу своего собственного сохранения Главлит выставлял необходимость охраны всё тех же «секретов». Им разработана «Генеральная схема управления системой охраны государственных тайн в печати», предусматривавшая использование принципов хозрасчета. В качестве примера для подражания названо Ленинградское управление, объем «спецредактрирования» которого составлял 25 тысяч печатных листов.
Год 1990
Через год, вспомнив, очевидно, о силе слова (в стране уже в годы «застоя» воцарилась не столько идеократия, сколько логократия — власть слов), руководство Главлита решило срочно переименовать свое скомпрометированное учреждение, вызывавшее неприятные ассоциации, придумав новое название — ГУОТ СССР, но с прежней расшифровкой: «Главное управление по охране государственных тайн в печати». Неудобочитаемое название вызвала такую реакцию последнего начальника Главлита В. А. Болдырева, выступившего в конце марта на Всесоюзном совещании руководителей местных отделений: «Вы сами чувствуете, вот этот ГУОТ не по сердцу ни мне, ни вам. Я почувствовал ваше отношение к этому. Название надо придумать. Очень хорошее название — Главлит, сроднились мы с ним, хорошо читается, музыкальное. Но это настолько сросшиеся понятия, что оставить Главлит — это все равно, что оставить цензуру». Болдырев, намечая дальнейшие перспективы, предлагает подумать о том, чтобы «переложить ружье на другое плечо», то есть, другими словами, найти способы самосохранения в изменившихся условиях[369].
Опять-таки, в духе объявленной «демократизации», для обсуждения на места был разослан проект нового «Положения о ГУОТ СССР», в котором говорилось, что его деятельность «осуществляется в условиях гласности, открытости и с учетом обеспечения права граждан СССР на получение через средства массовой информации сведений о сферах деятельности Советского государства и жизни советского общества, а также другой общественно значимой информации». В проекте снова подчеркивалась необходимость перейти на хозрасчетную работу и даже рекомендовалось ввести «полудобровольный» режим «спецредактирования»: редакция, заключив договор с цензурой, посылает ей свои материалы «в целях выявления в них сведений, составляющих государственную тайну», и в случае обнаружения таковых цензор информирует редакцию, которая затем и «принимает окончательное решение о возможности их публикации». Как говорится: мы вас предупреждали, а дальше пеняйте уж на себя… Кроме того, сотрудники ГУОТа должны «осуществлять выборочную проверку материалов средств массовой информации (после выхода их в свет) и в отдельных случаях о фактах разглашения сведений, составляющих государственную тайну, информировать правоохранительные органы». Проще говоря, доносить «куда надо»… Весьма интересно и ново звучал такой пункт «Положения…»: «В целях демократизации и гласности при нем образуется на общественных началах Совет по делам государственных тайн в средствах массовой информации. В состав Совета входят представители заинтересованных ведомств, министерств, средств массовой информации, общественных и творческих союзов»[370].
Проект был разослан на места и вызвал, надо сказать, любопытную реакцию начальников управлений. В Ленинграде, например, посчитали, что «в новых условиях… наши управления становятся вообще лишней административной единицей, тем более что с ликвидацией политической цензуры у нас утрачиваются управленческие функции по разрешению или запрещению материалов к печати, контролю деятельности полиграфических предприятий. Управления на местах становятся консультационными организациями, оказывающими методическую и другую помощь редакциям, средствам массовой информации, издательствам и издающим организациям». Еще интереснее ответил начальник мурманской цензуры, посчитавший, что предложенный ГУОТом проект «не отражает в должной мере перестроечных процессов, происходящих в стране, в обществе». «Встает закономерный вопрос: нужна ли государству такая система, в которой, по выражению В. Коротича (редактора самого прогрессивного журнала того времени — перестроечного «Огонька». — А. Б.) кормится огромное количество чиновников, иначе говоря — бездельников? С упразднением предварительного контроля мы не сможем что-либо охранять». Он с горечью добавляет, что «в последнее время ко всему негативу достоянием общественности стали еще и “цензорские трешки” за охрану государственных тайн в печати». Здесь он подразумевает презрительное наименование сумм, которые редакции выплачивали цензорам за просмотр материалов и выявление «нарушений гостайны». Дело в том, что ГУОТ СССР рекомендовал установить определенную таксу за просмотр одного печатного листа: в Москве и Ленинграде по 4 рубля, в провинции (там, видимо, меньше тайн?) — по 3. Мурманский цензор, тем не менее, полагал, что «хозрасчет» должен сохраниться, причем «оплата наших услуг должна быть не сдельно (за лист), а повременно (договорная сумма за месяц)». Такой вот «совместный бизнес»: мы вас охраняем, вы нам платите…[371].
К середине 1990 г. «Положение о ГУОТе и его органах» было утверждено. В «Памятке цензору» по-прежнему фигурировали такие «объекты деятельности», как «рукописи, предназначенные к депонированию, экспозиции выставок, аудиовизуальные материалы, предназначенные к вывозу за границу». Согласно новому «Положению о Ленинградском Управлении ГУОТ», оно призвано в новых условиях «осуществлять на договорной основе рассмотрение и консультирование материалов, распространяемых через печать и другие средства массовой информации в целях выявления в них сведений, запрещенных к опубликованию». Кроме того, «оно осуществляет выборочную проверку материалов печати региона после выхода их в свет, сообщает руководителям организаций об установлении фактов нарушений в области охраны государственных тайн в целях закрытия источников распространения таких сведений»[372].
Наконец, 9 июля 1990 г. вышел приказ начальника ГУОТа СССР № 100 «О ликвидации спецхрана»: все книги велено перевести в «открытые», «общие» фонды. Одновременно освобождались плененные книги на иностранных языках. Всем руководителям министерств, ведомств и библиотек разослано такое предписание: «Настоящим уведомляем, что Инструкция о порядке хранения и использования иностранной литературы 1981 г. издания считается утратившей силу. Имеющиеся экземпляры Инструкции следует уничтожить на месте в установленном порядке. Впредь режим хранения и использования иностранных изданий, ограниченных для общего пользования (отмеченных знаком “Шестигранник”), определяется самостоятельно руководителями ведомств, организаций, библиотек»[373].
Однако 1 августа появился приказ № 107, касавшийся так называемых «трофейных» книг, вывезенных в СССР после войны, и чуть ли не пол века сокрытых от «посторонних глаз». В нем говорилось: «Перевести в общие фонды библиотек и организаций все издания трофейных фондов, за исключением: 1. Произведений Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Геринга, Риббентропа. 2. Сугубо антисемитские издания:
1). Антисемитизм как частная форма национального патриотизма. 2) Мельский. У истоков великой ненависти. Очерки по еврейскому вопросу. 3) Протоколы сионских мудрецов. 3. Коллаборационистские периодические издания на русском языке и языках других народов СССР, выходившие на временно оккупированных территориях СССР, других европейских стран и Германии». В список вошли также две антисемитские, судя по названиям, книги на немецком языке, выбранные, как и другие, явно наудачу из сотен и тысяч изданий такого пошиба. Если еще можно понять мотивы включения произведений лидеров нацизма (почему только перечисленных? нет, например, трудов Розенберга и других идеологов фашизма), то выбор трех антисемитских книг на русском языке уже совершенно загадочен. Тем более, в это время уже вовсю начали выходить в СССР откровенно антисемитские погромные листки, фашистские газеты, журналы и другие издания, распространялись «Протоколы сионских мудрецов», вышла «Майн кампф» Гитлера. Помимо указанных в приказе № 107 книг, в бывших спецхранах остаются также до сих пор несколько тысяч книг, вышедших в свое время с грифом «ДСП», допуск к которым тоже требует специального разрешения.
Тем временем в Верховном Совете СССР продолжались бесконечные прения по поводу проекта «Закона о печати», разработанного, впервые в порядке «частной инициативы», тремя независимыми юристами — Юрием Батуриным, Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным. Чтобы обвести московскую цензуру, они первоначально напечатали его в газете «Молодежь Эстонии» (21 октября 1988 г.), и только потом сославшись «на прецедент», смогли выпустить отдельной брошюрой, розданной депутатам съезда. Этот альтернативный проект, противопоставленный официальному, вызвал настоящую бурю на съезде. Как только его не называли — и «отрыжкой демократии», и «болотным огоньком буржуазных свобод», и «происками западных спецслужб»…[374].
Тем не менее, после долгих дебатов, агрессивных выпадов партноменклатуры, почувствовавшей, что вместе со свободой печати земля окончательно уйдет из-под ее ног, Верховный Совет принял, наконец, «Закон о печати и других средствах информации» (опубликован в «Известиях» 20 июня, вступил в действие 1 августа), хотя и с некоторыми поправками. Суть закона сводилась к трем главным положениям: «1. Цензура в СССР запрещена, печать свободна. 2. Предусматривается полная экономическая свобода издательской деятельности. 3. Отныне каждый гражданин СССР может основать свое собственное средство информации». Кроме того, большие надежды внушала статья 6: «Не допускается монополия какого-либо средства массовой информации (печати, радио, телевидения и др.) в масштабе страны, республики и отдельного региона». Замечу, что это требование не выполняется до сих пор, особенно в провинции. Принципиально важным был первый пункт: 200-летнему владычеству цензуры положен конец.
Ряд журналов и газет вышел с «шапкой» на обложках и первых полосах: «Прощай, цензура?..» — со знаком вопроса и не очень уверенным многоточием в конце. Но органы ГУОТа, тем не менее, продолжали функционировать еще более года, хотя и стремились скорее лишь к самосохранению, не помышляя о политико-идеологическом вмешательстве. Да это уже стало практически невозможным, поскольку расплодившиеся в несметном количестве журналы и газеты явочным порядком стали обходить цензуру, выходя в свет без обязательного ее грифа.
Цензурное ведомство, пожалуй, одним из первых, решило пойти по пути «приватизации», разослав издательствам и редакциям «типовое письмо» такого содержания: «23 июня 1990 г. Главному редактору, директору. На основании статьи 1-й “Закона о печати и других средствах массовой информации” Ваше издание с 1 августа 1990 г. полностью освобождается от предварительного контроля в Ленинградском управлении по охране государственных тайн в печати. Вместе с тем, в соответствии со статьей 5-й Закона СССР “О печати и других средствах массовой информации” остаются в силе ограничения “Перечня сведений, запрещенных к опубликованию” (изд. 1990 г.). В связи с этим, ленинградское управление готово проконсультировать любой материал, представленный редакцией, и взять на себя ответственность за выполнение требований 5-й статьи Закона (имелась в виду статья, озаглавленная «Недопустимость злоупотреблений свободой слова». — А. Б.). Если Ваши обращения будут носить постоянный характер, то мы готовы заключить с Вашей организацией договор со взаимными обязательствами»[375].
Последний начальник переименованного Главлита В. Болдырев выступил в «Известиях» (26 августа) с разъяснением нового порядка, по которому его сотрудники «лишены запретительно-разрешительных функций. Решение — публиковать ли материал в первоначальном виде или внести в него изменения — принимает редактор… Равным образом на наши органы ложится ответственность за необоснованную, неправомерную оценку материалов и постановку вопроса о снятии сведений, не запрещенных к опубликованию». Противоестественная и фальшивая ситуация, в которую были поставлены редакции, вполне очевидна. Цензурным органам оставалось жить немногим более года…
Год 1991
Весь тревожный 1991 год шло непрерывное давление на независимые средства информации со стороны властных структур. Возникло явное стремление подмять под себя все каналы государственного телевидения (а иного еще не было), обвинения журналистов в «очернении», в попытках «дестабилизации» и прочих грехах. Начался он трагедией в Вильнюсе — захватом телецентра самозваным Комитетом национального спасения. В феврале группа демократически настроенных журналистов организовала Фонд защиты гласности.
Цензурное ведомство снова пыталось мимикрировать, скрывшись под новым названием. В июле 1991 г. оно еще раз переименовало себя, объявив «правопреемником Главлита», — в «Агентство по защите государственных секретов в средствах массовой информации при Министерстве информации и печати СССР, состоящее на самостоятельном балансе с правом юридического лица»[376].
Новое учреждение тщетно пыталось восстановить прежний статус Главлита, прикрываясь различными доводами и мотивами, главным образом необходимостью охраны военных и, вполне в духе времени, «коммерческих» тайн. Августовский путч поставил страну на грань катастрофы. Крайне показательно, что пресловутый ГКЧП одним их первых же указов 19 августа ввел жесточайшую предварительную цензуру, запретил все газеты, кроме откровенно рептильных официозов — для «собственного употребления», но в еще большей степени это коснулось телевидения. Некоторые западные корреспонденты и политологи были тогда поражены тем, что в такой огромной стране, на одной шестой части Земли, на всем ее необозримом пространстве, новоявленные «спасители отечества» буквально в течение трех-четырех часов заткнули рот печати и другим средствам массовой информации, если не считать отдельных попыток противостояния (преимущественно на радио — «Эхо Москвы», «Балтика» и др.). Ничего странного, впрочем, не было: в стране властвовала не подлинная свобода слова и печати, а милостиво разрешенная, дарованная сверху «гласность».
Однако прошедшие два-три года не прошли даром: уже на следующий день, 20 августа, когда исход дела не очень был ясен, многие газеты, игнорируя постановления ГКЧП, вышли в свет, резко протестуя против насильственного захвата власти. После разгрома путчистов и последовавших за ним событий — развала империи, отмены пресловутой 6 статьи Конституции, предусматривавшей власть КПСС, — окончательно скомпрометировавший себя Главлит, скрывшийся за различными переименованиями, должен был подлежать ликвидации. 25 октября 1991 г. создана для этой цели комиссия Мининформпечати, завершившая через месяц свою работу. Приведем документ, поставивший последнюю точку (если она, конечно, является таковой) в семидесятилетней истории Главлита:
«22 ноября 1991 г. Ликвидационное дело. Министерство печати и массовой информации РСФСР. Об упразднении органов ГУОТП СССР и образовании органов Государственной инспекции
Во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 25 октября 1991 г. “По вопросу Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой информации РСФСР” ПРИКАЗЫВАЮ: Упразднить территориальные управления Главного управления по охране государственных тайн в печати и других средств массовой информации при Совете Министров РСФСР <…> Образовать на базе упраздняемых территориальных управлений региональные органы Государственной инспекции по защите свободы печати в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Петропав-ловск-Камчатский. Министр М. Полторанин»[377].
27 декабря был принят Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», заменивший прежний союзный «Закон о печати», содержащий статью 3 «Недопустимость цензуры». Подтверждено это правило и Конституцией Российской Федерации 1993 г. На этом с цензурой в России — по крайней мере, административной, правительственной, насчитывающей свыше двух веков, — казалось бы, было покончено…
Что же дальше? (Вместо эпилога)
Вот так это и «делалось в Ленинграде»… Да не только в нем одном: модель отношений государства (точнее — партии) с подневольной печатью и другими средствами информации, если не считать оттенков «местного колорита», была универсальной и более или менее единой для всех регионов огромной страны. Однако Ленинград все же находился в особом и далеко не лучшем положении. Во-первых, нужно иметь в виду «старый спор столиц между собою», если слегка перефразировать Пушкина (у него, как известно, — «славян»). После переезда правительства в Москву в марте 1918 г. власть ревниво и с опаской стала относиться к «колыбели революции». Началось это с Кронштадтского мятежа 1921 г., рабочей оппозиции 20-х годов, массовой высылки «бывших» из Ленинграда после «Кировского дела» и закончилось, что имеет непосредственное отношение к сюжету нашей книги, ждановским погромом в августе 1946 г. и последовавшим вскоре непомерно раздутым «Ленинградским делом». Не только для Сталина, но и для его наследников Ленинград, снова ставший Петербургом, — город опасный, в котором всегда тлеет недовольство, подспудное стремление восстановить свой столичный статус. Отсюда — крайне настороженное и маниакально-подозрительное отношение охранительных инстанций, цензурных в том числе, к интеллектуальной и художественной жизни города. Зловещая тень постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 1946 г., несмотря на все «потепления», дамокловым мечом постоянно нависала над любым журналом. Даже в разгар оттепели, в декабре 1956 г., идеологи из ЦК одернули Константина Симонова, который, выступая на одном из совещаний, осмелился сказать, что «наряду с верными» в постановлении «содержатся неверные положения, ориентировавшие нашу литературу и критику на путь лакировки и сглаживания жизненных конфликтов». «Основное содержание постановлений ЦК о журналах “Звезда” и “Ленинград” и о репертуаре драматических театров, — утверждалось в записке Отдела культуры ЦК КПСС с примечательным названием «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей», — совершенно правильно и в важнейших своих положениях сохраняет свое значение. Борьба за высокую идейность литературы, против аполитичности, безыдейности, пессимизма <…> — всё это было и остается важнейшей задачей деятелей литературы и искусства» (ИСПЦ. С. 124).
Лишь в 1988 г., в разгар перестройки, Политбюро смилостивилось. Рассмотрев обращение в ЦК КПСС Союза писателей СССР и Ленинградского обкома КПСС, оно отменило постановление ЦК ВКП(б) о «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 г. «как ошибочное» (Правда. 22.10.1988). В статье отмечалось, что «в указанном постановлении ЦК ВКП(б) были искажены ленинские принципы работы с художественной интеллигенцией, необоснованной грубой проработке подверглись видные советские писатели. Проводимая партией в условиях революционной перестройки политика в области литературы и искусства практически дезавуировала и преодолела эти положения и выводы, доброе имя видных писателей восстановлено, а их произведения возвращены советскому читателю».
Постановление 1946 г., действовавшее в течение более 40 лет, оказало разрушительное воздействие на все стороны культурной жизни страны. На все доводы и аргументы авторов и редакторов, пытавшихся отстоять тот или иной «сомнительный», с официальной точки зрения, текст, следовал исчерпывающий и не оставлявший никаких надежд ответ: «Постановления ЦК пока еще никто не отменял…»
* * *
Итак, что же дальше? 29-я статья «Конституции Российской Федерации» 1993 г. гарантировала «каждому свободу мысли и слова», «право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Особое впечатление производит пункт 5 этой статьи: «Гарантируется свобода средств массовой информации. Цензура запрещается». События последних 15 лет, впрочем, выходят за рамки нашей книги. Замечу лишь, что распущенные главлитовские органы, как известно, тотчас же возобновили карательную практику в течение трех дней августовского путча 1991 г., возникли как бы из небытия и чиновники бывшего Главлита, вспомнившие свой прежний опыт. На следующий день после очередного сорвавшегося путча, 5 октября 1993 г., в некоторых газетах демонстративно появились белые пятна. Да это и неудивительно, если учесть, что некоторые чиновники расформированного Главлита были «трудоустроены» в Региональные инспекции по защите свободы печати и информации. Вчерашние гонители печати стали вдруг ее защитниками… Красноречивый пример: не раз уже упоминавшийся в нашей книге последний начальник Леноблгорлита Л. Н. Царев, пересевший в начале перестройки в цензурное кресло из кресла сотрудника Отдела пропаганды и агитации Обкома КПСС, был назначен сначала заместителем, а затем начальником Ленинградской региональной инспекции по защите свободы печати. Более того, на должность главных специалистов инспекции им были приглашены Н. Добрынский и Р. Поликарпова, его бывшие соратники по цензурному ведомству.
Как видно из приведенных выше документов, Л. Н. Царев и его подчиненные были верными и стойкими солдатами партии, причем даже в относительно либеральные времена перестройки, когда уже не требовалась безупречная чистота идеологии и на многое смотрели сквозь пальцы. Как именно они защищают «свободу печати», видно из многочисленных публикаций начала 90-х годов, в которых не раз указывалось, что Царев и другие бывшие цензоры, работавшие вместе с ним, не выполняли своих прямых обязанностей. В частности, они умывали руки, равнодушно взирая на разгул фашистской пропаганды, на призывы к насилию и жестокости в петербургской прессе.
* * *
Существует ли возможность реставрации цензуры в России? Поставленный вопрос относится к разряду тех, которые принято называть «вечными» и сугубо риторическими, на которые нет, как принято теперь говорить, «однозначного» ответа. Исчерпывающе ответил на один из подобных вопросов одному не в меру пытливому журналисту Марк Твен: «А вот на этот вопрос я могу ответить сразу: не знаю». В. В. Розанов в одной из статей 1916 г., когда до полной ликвидации даже тех зыбких гарантий свободы слова и печати, которые существовали в России с 1906 г., оставалось чуть более года, заметил: «Вопрос о цензуре никогда не был спокоен в России. Под фактом ее, под положением ее в составе государственного управления, под “направлением” ее и “веяниями в ней” всегда чувствовалась зыбкая почва, точно — “трясина”: она была в “переходном положении”. Это все чувствовали; но куда перейти — об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано»[378].
Итак, цензура — это «наше всё». Почти как Пушкин, а может еще больше. Во всяком случае — старше, как считал герой набоковского «Дара» поэт Федор Годунов-Чердынцев, уверявший, что «в России цензура появилась прежде литературы». Заглянув недавно в Интернет и поискав на слово «цензура», я обнаружил с некоторым удивлением, что эта лексема, то есть слово во всей совокупности его лексических значений, встретилась за последние два года более 500 тысяч раз, гораздо чаще, чем прежде, причем в самых неожиданных семантических коннотациях. Такая частотность говорит сама за себя. Правда, этот термин авторы толкуют вкривь и вкось, часто в метафорическом значении этого слова, понимая под ним любые способы регулирования высказываний и их публикации. Сама семантика слова «цензура» относится к числу самых нечетких и аморфных; под него можно подверстать всё что угодно, поскольку элементы регламентации в коммуникативной сфере существовали и существуют в латентной или брутальной форме в любом обществе: все дело в ее характере, а главное, в степени ее интенсивности. Под этим термином понимается практически любое вмешательство в процесс создания и распространения текста. Между прочим, этот же термин использован в классическом психоанализе для обозначения механизма, что стоит на пути превращения образов бессознательного в слова сознания. Когда Фрейд открыл этот психический механизм и назвал его цензурой, он взял это слово из русской жизни, объяснив в одном письме 1897 г., что так называется «несовершенный инструмент царского режима, препятствующий проникновению чуждых западных идей». Хотя почему только западных? Своих тоже хватало…
Можно насчитать не менее трех десятков значений этого слова, начиная с автоцензуры (синонимы — самоцензура, внутренняя цензура, внутренний редактор, внутренний цензор), когда автор не публикует текст, откладывая публикацию или из конъюнктурных соображений, или опасения, что она может повредить его репутации. Внутренняя цензура может рассматриваться в отдельных, сравнительно редких случаях как своего рода самозащитный механизм, оберегающий автора и предотвращающий от столкновения с цензурой внешней и другими, еще более опасными для него компетентными органами. В этих случаях автор пишет «в полный голос», не оглядываясь на цензурные условия, но заведомо «в стол», не питая никаких иллюзий и не надеясь при существующих обстоятельствах увидеть свои произведения в печати. Обычно же этот термин употребляется в другом значении — как самоограничение автора в процессе создания или распространения произведения, при котором он руководствуются некоторыми табу, налагаемыми государством, обществом, спецификой читательской аудитории или собственным эстетическим вкусом и моральными принципами. Эта разновидность самоцензуры, особенно в тоталитарных обществах, встречается гораздо чаще и означает чисто конформистское приспособление автора к современным условиям и «правилам игры». Применительно к советской эпохе самоцензура выражалась в стремлении автора угадать идеологические, политические, моральные, эстетические и иные претензии, которые может встретить его рукопись во время прохождения в официальных контролирующих инстанциях (партийных идеологических сферах, государственной цензуре, редакциях и т. д.). Иногда ему это удавалось, иногда нет, несмотря на все старания, поскольку он не решался до конца наступить «на горло собственной песне» или не всегда достаточно хорошо знал, «откуда ветер дует». Начиная с 30-х годов самоцензура постепенно входит в плоть и кровь подавляющего большинства авторов, что самым отрицательным образом сказалось на их творчестве. Продолжительная мимикрия невольно ведет к перерождению, утрате таланта. «Внутренний цензор» становится неотделим от цензора «внешнего», причем первый из них нередко еще более строг, чем второй.
Часто говорится о цензуре издательств, редакций периодических изданий и других каналов коммуникации, проводящих ту или иную политику, цензуре общественного мнения, осуждающего определенные тексты из моральных или так называемых «политкорректных» соображений, «библиотечной», «книготорговой» «педагогической» и т. д. Упоминается также «родительская» цензура — запрещение ребенку читать определенные книги или смотреть те или иные «опасные» передачи по телевидению. В качестве одной из самых экзотических можно назвать «семейную» цензуру, осуществляемую наследниками, запрещающими публикацию тех или иных текстов, преимущественно эпистолярного характера. Порою они апеллирует к властям, требуя защитить «доброе имя» писателя. Наиболее красноречивый пример — письмо сестры поэта, Л. В. Маяковской, к М. А. Суслову с требованием запретить том «Литературного наследства» «Новое о Маяковском», вышедший в 1958 г. и содержавший переписку поэта с Лилей Брик. По ее словам, составители тома, вместо «широкой пропаганды идей и творчества Маяковского, которое и сегодня служит народу и строительству коммунистической жизни, занимаются выискиванием фактов, порочащих и снижающих его». Отдел пропаганды ЦК КПСС согласился с ней: «Содержание тома вызвало возмущение советской общественности… чувство протеста у читателей, любящих Маяковского как великого поэта революции», а «…буржуазная пресса использует эту книгу в целях антисоветской пропаганды…»[379]. В результате начался разгром Музея Маяковского, выход 2-го тома «Литературного наследства», посвященного поэту, был запрещен.
Иногда наследники налагают вето на публикацию произведений, причем на весьма значительное время, хуже, когда сами, до сдачи в государственные архивы, уничтожают «неудобные» документы или даже исправляют их, вычеркивая в письмах и дневниках те или иные имена, события, факты и т. п. Бывали и случаи, когда жены запрещали своим мужьям публиковать стихи, посвященные другим дамам[380]. Таким образом, запрет может исходить не от начальства, а от той микросреды, в которой живет пишущий, — от участников дружеского круга или даже семьи.
Число способов давления на печатное и иное публикуемое слово можно увеличить во много раз. В силу многолетней традиции, в силу того, что цензура играла зловещую роль в истории человечества, это слово почти всегда вызывало отрицательный рефлекс. Оно, между прочим, зачастую оказывается удобным, когда требуется скомпрометировать своего политического противника в глазах публики. Тем не менее, как ни странным это покажется на первый взгляд, в нашей стране и в наше время оно неожиданно приобрело положительную семантическую окраску. Социологический опрос, проведенный в 2001 г., показал, что 57 % населения полагало целесообразным введение официальной цензуры. Через три года число сторонников возросло: уже свыше 70 % (!) опрошенных считало, что необходимо вернуться к прежней советской практике и ратовало за те или иные формы цензуры в средствах массовой информации[381]. Правда, эта удручающая цифра нуждается в очень существенной коррекции. В памяти и воображении рядового потребителя информации, отвечающего на вопрос «Необходимо ли введение цензуры?», тотчас же возникает телевизионная реклама, мешающая ему комфортно смотреть какой-нибудь телевизионный сериал, или слишком откровенные, на его вкус, сцены в западных кинофильмах. Понятно, что если бы вопрос поставлен более корректно, например, так: «Согласны ли Вы с тем, что необходимо ограничить доступ к информации?» (а цензура занимается именно этим), то результат был бы иным. Вряд ли бы он превысил несколько процентов, принадлежащих к голосам совсем уже опустившихся или, как теперь говорят, «отмороженных» субъектов. Тем не менее, меня, признаться, эти данные поначалу слегка шокировали, но, поразмыслив, я пришел к выводу, что ничего особенного в них нет. Наше общество постепенно возвращается в прежнее, если не худшее состояние. Все эти двенадцать лет свободы, что бы о ней ни говорили, для подавляющего большинства населения прошли почти бесследно. Вспоминается старый зек, знаменитый литературовед, дед главного героя романа Андрея Битова «Пушкинский Дом». Вернувшись из лагеря в конце 50-х годов, он, присмотревшись к жалкой, вымороченной «оттепели», говорит впавшим в эйфорию интеллигентам, что даже она ненадолго: «У вас же без ошейника шея мерзнет…»
Удивляться особенно нечему и по другой причине. Как сказал один известный поэт, «наша страна — подросток», я бы добавил, пожизненный, со всеми комплексами этого нежного возраста. Вспомним, что в Англии превентивная цензура, зафиксированная в «Акте о разрешениях», законе, принятом для предотвращения «злоупотреблений в печати», была отменена уже в конце XVII в., а именно в 1693 г. Вспомним еще более известного поэта: «Что можно Лондону, то рано для Москвы». В России это произошло ровно на 300лет позже — в 1993 г., когда появилась Конституция, запретившая цензуру в Российской Федерации. Если не считать 10–12 лет относительной свободы печати в период между двумя революциям 1905 и 1917 годов, тех самых, которых Ленин неизменно называл «позорным десятилетием», и примерно такого же срока, выпавшего на нашу долю (с 1991 по наши дни), Россия на протяжении многовековой своей истории никогда не пользовалась благами и преимуществами узаконенной свободы слова. Замечу, что эта цифра — 10–12 лет — полностью совпадает с той, которая отводится некоторыми историками на время либерализма, модернизации и реформ, проводимых в России, начиная с XVIII в., за которым непременно следует откат, сопровождаемый в лучшем случае застоем, а в худшем — тотальным террором.
Но не только массовый читатель или зритель ностальгирует по цензуре, да и по другим охранительным институтам советского времени, с которыми ассоциируется желанное слово «порядок». И в годы перестройки, и даже в наше время порою звучат ностальгические «плачи по цензуре», исходящие из круга самих писателей, правда, тех, в основном, кто был в свое время прикормлен властью, обеспечен большими тиражами и другими благами в качестве «инженеров человеческих душ», занятых «формовкой» советского читателя. По их словам, на оселке цензуры советского времени они, якобы, оттачивали и совершенствовали свое мастерство, прибегая к «эзопову языку» и другим ухищрениям. Цензура, по их словам, помогала им воспитывать в читательской среде искусство «метафорического чтения», вызывая определенные аллюзии, цепь опасных и нежелательных сближений, то, что в лексике самого Главлита звучало как «неконтролируемые ассоциации». Голоса в пользу реставрации цензуры раздаются с самой неожиданной стороны. Понятно, когда это слово вызывает ностальгию среди названных выше писателей, но вот, например, Александр Минкин, молодой еще сравнительно журналист, пользовавшийся все эти годы благами и преимуществами свободы слова, в газете «Московский комсомолец» опубликовал целую серию статей (возможно, в целях эпатажа) в защиту цензуры.
Эта, надо сказать, весьма популярная в последнее время, точка зрения вряд ли имеет под собой какие бы то ни было основания и восходит к народнической еще установке позапрошлого века: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Цензура — особенно в той форме, которую она приобрела в советское время, — одно из самых страшных изобретений человечества, есть, по моему мнению, абсолютное зло, и не содержит в себе никакого положительного опыта, как, по утверждению Варлама Шаламова в «Колымских рассказах», нет его для человека и в лагерной жизни. Настоящему художнику слова нет надобности создавать себе внешние препятствия для полноценного творческого самоосуществле-ния; говоря попросту, он придумает сам себе такую «зубную боль в сердце» (Генрих Гейне), которую ему не доставит ни один, даже самый жестокий и изощренный, цензор.
На все эти «плачи» следует ответить словами М. А. Булгакова, возвысившего свой голос против всевластия цензуры в знаменитом отчаянном письме в Коллегию ОГПУ с требованием отправить его «Правительству СССР» (март 1930 г.). Примечательно, что первый читатель этого письма, Генрих Ягода, особое внимание обратил на следующие две фразы, жирно подчеркнув их: «Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто из писателей вздумает доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода…»
Под цензурой в строгом смысле слова следует понимать, на мой взгляд, систематический, целенаправленный и всеобъемлющий контроль, устанавливаемый государством (в странах со светским режимом) или официальной церковью (в теократических государствах) над деятельностью средств информации посредством особых мер более или менее насильственного характера. Они проявляются главным образом:
1) в изъятии нежелательных фрагментов текста или произведения целиком; 2) запрете тиражирования, распространения (а порою и хранения) определенных произведений. Советской цензуре была присуща, кроме того, предписывающая (или императивная) функция, что, кажется, является изобретением коммунистического режима. Во всяком случае, именно он заставлял своих цензоров не только запрещать нечто, противоречащее целям и задачам политики и идеологии, но и «воспитывать» авторов, предписывая им, что и как писать. Очень точно сформулировал это В. В. Набоков в докладе «Писатели, цензура и читатели в России», прочитанном 10 апреля 1958 г. в Корнельском университете. Вовсе не питая романтических иллюзий насчет якобы благодетельных условий существования литературы и печати в дореволюционной России (их разделяли некоторые эмигранты, да и у нас сейчас есть поклонники этой точки зрения), Набоков, тем не менее, выявляет принципиальную разницу между прежней и большевистской цензурами. «…Книги могли запретить, — говорил Набоков, — писателей отправляли в ссылку, в цензоры шли негодяи и недоумки, Его Величество в бакенбардах мог сам сделаться цензором и запретителем (подразумевается Николай I. — А. Б.), но все же удивительного изобретения советского времени — метода принуждения целого литературного объединения писать под диктовку государства — не было в старой России, хотя многочисленные реакционные чиновники явно мечтали о нем <…> В России до советской власти существовали, конечно, ограничения, но художниками никто не командовал. Живописцы, писатели и композиторы были совершенно уверены, что живут в стране, где господствуют деспотизм и рабство, но они обладали огромным преимуществом, которое до конца можно оценить лишь сегодня, преимуществом перед своими внуками, живущими в современной России: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет»[382]. Другими словами, в прошлом цензура имела лишь запретительные функции, в советское время — помимо того, и предписывающие: по известной формуле — все запрещено, а то, что разрешено, обязательно… Причем это относилось не только к содержанию, но и к форме, и к самой стилистике литературного произведения.
Непременным условием существования цензуры является особая система административных учреждений (цензурных комитетов, управлений, и т. д.), необходимая для исполнения указанного выше предназначения. Другими словами, о цензуре в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда существует «контора», которая, по социологическим законам (так называемому «второму закону Питера»), сама рождает себе работу, оправдывая необходимость своего существования и все большего расширения. Административные структуры, созданные на определенное время и для конкретных целей, имеют мистическую способность к самосохранению. Остальные значения самого слова «цензура» носят условный, метафорический характер. За неимением особого термина, обозначающего все оттенки последовательного стеснения слова, можно говорить о более или менее жестком ограничении свободы высказываний, регулировании и давлении на СМИ со стороны различных структур, а главное — манипулировании ими.
Какие же тенденции и признаки заставляют крайне настороженно и с опаской следить за современным состоянием свободы слова? На рубеже веков появилась целая серия статей, бьющих тревогу по поводу ужесточения административных нападок на СМИ[383]. Алексей Симонов, руководитель «Фонда защиты гласности», учрежденного в 1991 г., еще в 1996 г. насчитал шесть видов «цензур»[384]. Сейчас их стало еще больше. Не случайно, давление на СМИ стало проявляться отчетливо в последние два-три года, совпавшие, на мой и не только на мой взгляд, с медленным, пока еще тягучим и мягким переходом на рельсы застоя и авторитаризма. Выделим самые существенные способы и методы контроля:
1). Использование так называемого «административного ресурса». Речь идет об использовании властными структурами различных методов и способов давления на неугодные средства информации. Например: регулярные обследования, по стилистике скорее напоминающие ордынские налеты, помещений редакций (вплоть до поиска нарушений правил пожарной безопасности — очень, надо сказать, частый сюжет); насильственное выселение из арендуемых или принадлежащих средству информации зданий; отказ в предоставлении полиграфических услуг — особенно эффективен этот метод в небольших городах, в которых единственная, порою, типография принадлежит государству. Заметим, что до сих пор государство распоряжается почти 80 % всех типографий в России и свыше 90 % предприятий массовой связи; создание рептильной прессы, субсидируемой администрацией; исключение из федеральных программ помощи в книгоиздании, особенно учебников по истории, не совпадающих с официальной установкой на воспитание «патриотизма» (нередко на самом деле — национализма); отказ в предоставлении министерствами печати и связи радиочастот или телевизионных каналов; отказ в аккредитации СМИ или отдельным журналистам, наиболее «одиозным», с точки зрения власти; отказ государственных чиновников в предоставлении информации, документов и т. д.
2). Методы экономического давления, которые также использует администрация. В частности: бесконечные проверки финансовой деятельности, малообоснованные иски в суд по поводу публикации статей, затрагивающих якобы «честь и достоинство» того или иного чиновника, что, в свою очередь, при сервилизме судов, приводит нередко к разорению газет и прочих средств массовой информации: давление на предпринимателей, размещающих рекламу в неугодных средствах информации. Им намекают, что при заключении крупных контрактов это обстоятельство будет «принято во внимание».
3). Подкуп — открытый или замаскированный — владельцев того или иного органа печати и создание корпуса журналистов, готовых, как говаривали в советское время, «выполнить любое задание партии и правительства».
И, наконец, четвертый, самый «эффективный»: применение криминальных методов борьбы с оппозиционными журналистами, проще говоря — физическое их уничтожение. Бернарду Шоу принадлежит афоризм, звучащий немного жутковато, но крайне актуально в наши дни: «Убийство — это крайняя форма (или степень) цензуры». К сожалению, эта «форма» становится все более и более распространенной, наша страна выходит в этом смысле на одно из первых мест в мире. Профессия журналиста становится в последние годы одной из самых опасных. По данным «Фонда защиты гласности», только в одном 2000 г. в России в связи со своей профессиональной деятельностью погибло 16 журналистов, пятеро пропали бесследно и 73 подверглись нападениям и были избиты. Заставляет задуматься тот факт, что практически ни одно из таких преступлений не было раскрыто, включая самые громкие, например, убийство Влада Листьева, Дмитрия Холодова и др.
Особый сюжет— охрана так называемых «гостайн». Современная Россия, объявившая себя «правопреемницей» ушедшего режима, взявшая на себя долги и прочие обязательства Советского Союза, вместе с этим унаследовала, к сожалению, одну из самых печальных традиций — традицию умалчивания, дозированной информации, сокрытие истинного положения вещей (один из наглядных примеров — освещение событий в Чечне). Наиболее отчетливо эта дурная традиция чувствуется при освещении экологической тематики.
С 1995 г. тенденция засекречивания проявляется всё более явно и последовательно. Ряд законов и «подзаконных» актов противоречит при этом и Конституции, и закону «О средствах массовой информации». К ним относятся в числе прочих закон «О государственной тайне» и президентский указ Ельцина «О перечне информации, относящейся к государственной тайне».. Новая «Доктрина информационной безопасности», после длительного обсуждения одобренная Советом Безопасности в 2000 г., также направлена на то, чтобы усилить государственный контроль и замедлить становление и формирование независимого гражданского общества в России[385].
Сохранилась негласная цензура ведомств, касающаяся, в частности, публикаций о захоронении ядерных отходов, местах уничтожения химических отравляющих веществ и их производстве. Достаточно вспомнить тянувшийся почти целый год судебный процесс московского химика Вила Мирзоянова, опубликовавшего в 1994 г. в «Московских новостях» статью о производстве нового химического оружия[386]. Несколько лет тянулся процесс капитана первого ранга Александра Никитина, обвиненного не более и не менее как в «измене родине» — за то лишь, что подготовил для норвежской экологической организации «Белуна» материалы о радиоактивной опасности на севере Кольского полуострова в связи с непрофессиональным захоронением ядер-ных отходов, о затонувших кораблях, оснащенных атомными реакторами; следует упомянуть аналогичный процесс владивостокского военного журналиста Григория Пасько и ряд других. Синдром секретности по-прежнему витает над нами: эксцессы такого рода будут возникать вновь и вновь Чего стоит закон о гостайне, по которому сами ведомства объявляют «секретными» то, что им удобно: такое право предоставлено десяткам министерств, вплоть до Министерства здравоохранения. Публикации, посвященные острым экологическим проблемам, правда, появляются в печати довольно часто, но, как правило, уже после свершившейся экологической катастрофы, когда «дело сделано». Все-таки прогресс…
Кроме того, существует ряд опасностей, хотя и не столь наглядных, которые подстерегают нас в последние годы. У власти есть способы создания кажущейся свободы слова и печати, ее имитации с помощью создания особых ниш, своего рода «резерваций» или интеллектуальных «заповедников». Она может милостиво разрешить некоторым бумажным средствам информации полную свободу самовыражения и даже острую критику в свой адрес — например газетам «Московские новости», «Новая газета» и некоторым другим, впрочем, в последнее время очень немногим. Можно вывести такую закономерность: чем ^же и немногочисленнее аудитория читателей, слушателей или зрителей, тем большая степень свободы гарантирована средствам информации. Это правило относится и к так называемым «толстым» литературным журналам. Однако, как мы знаем, они сейчас дышат на ладан: тиражи их снизились с нескольких сотен тысяч экземпляров, которого они достигали в годы всеобщей эйфории, до 4–5 тысяч. Власти они все же необходимы: во-первых, для утехи интеллектуалов, но, что еще более важно, — для демонстрирования своей толерантности перед западной общественностью, которая чрезвычайно болезненно реагирует на все случаи преследования печати.
Но эти прагматические (точнее циничные) игры тотчас же заканчиваются, когда речь заходит о таких средствах информации (телевидении преимущественно), которые действительно оказывают влияние если не на общественное мнение, то хотя бы на сиюминутные настроения толпы, которая теперь стала называться изящным словом «электорат». Власть прекрасно поняла, что тот, кто владеет телевидением, владеет всем, в том числе и человеческой глупостью. Поэтому к телевещанию она относится особенно ревниво, ликвидируя, как только представляется малейшая возможность, оппозиционные каналы. Как известно, уничтожено было старое НТВ, появившийся на его основе ТВС и другие каналы, позволившие себе «слишком многое». «Административная грация» если вспомнить Н. С. Лескова, проявляется в данном случае в том, что власть отмежевывается от таких акций, объясняя публике, что всё это не более чем «спор хозяйствующих субъектов», вызванных новыми «рыночными отношениями».
Справедливости ради следует все же заметить, что административные и иные структуры имеют порой косвенное отношение к существующему порядку вещей. Не менее важно (и опасно!) стремление пишущих немедленно оказаться «впереди прогресса», опережая порой интенции власти, обнаруживая стремление погибнуть от всеобщей готовности. Имеет смысл отметить еще одну особенность. Режим и отдельные его представители спокойно терпят острую критику в свой адрес, вплоть до прямых разоблачений; все это не производит на них ровным счетом никакого впечатления. Еще Герцен в середине XIX в. проницательно заметил: «Недостаточно свободы слова: нужна еще свобода слуха». Вот последнее-то почти полностью отсутствует. Тотальная глухота, как власти, так, увы, и подданных, сводит все критические выступления практически к нулю. Если контаминировать две известные русские поговорки в одну, то получим следующую: «Что написано пером, то горохом об стенку».
Свобода слова и печати слишком хрупкая вещь. События постком-мунистического десятилетия, особенно последних двух-трех лет, отчетливо демонстрируют стремление сузить пространство свободы. Характерно, что первыми уловили новые веяния некоторые наши архивисты. Как ни странно, в минувшее десятилетие даже органы тайной политической полиции, хотя не всегда, не всем и далеко не полностью, стали предоставлять архивы и раскрывать свои тайны, относящиеся к эпохе Большого террора (см. например, многотомный «Ленинградский мартиролог. Книга памяти жертв политических репрессий», основанный на документах бывшего КГБ, и ряд других публикаций). Как я убедился на собственном опыте, с особым тщанием оберегает секреты бывший партийный архив в Смольном, «закрывая» документы, относящиеся именно к истории советской цензуры [387]. Видимо, механизм убиения слова и мысли представляет еще большую государственную тайну, чем физическое истребление людей. Что ж, это может даже в какой-то мере льстить национальному самолюбию, лишний раз подтверждая ставшую уже трюизмом мысль о «литературоцентричнос-ти», «логоцентричности» российской ментальности: отсюда, как считается, и великая литература!
Что же дальше? А вот этого нам знать не дано… Любые пророчества и прогнозы в нашей стране, да и не только в нашей, я думаю, бессмысленны, хотя, надо сказать, опасность восстановления «Министерства правды», если снова вспомнить Оруэлла, сохраняется. Эти ампутированные органы способны к регенерации, как у некоторых видов рептилий, отбрасывающих в минуту опасности свой хвост. Разумеется, всё зависит от изменения социально-политической ситуации. При худшем варианте первое, что сделает, придя к власти, сторонник авторитарного или какого-либо другого жесткого режима, — восстановит в том или ином обличье цензурный контроль над средствами массовой информации. Нынешнее же положение в этой сфере, крайне неопределенное и неустойчивое, балансирует между двумя тенденциями, одна из которых направлена на максимальное осуществление права на ничем не ограниченное высказывание, а другая — на свертывание такого права. При этом обе эти тенденции находят и сторонников, и противников. В отличие от информационных ситуаций предшествующих эпох, современная, как полагают многие, резко и принципиально изменилась в результате появления нового феномена — «мировой паутины», повсеместного распространения Интернета, который исключает какой бы то ни было административный контроль. Но столкновение с ним тотчас же породило массу проблем, с которыми не знают что делать не только в нашей стране, но во всем мировом сообществе. Возможности Интернета, внушают, конечно, «осторожный оптимизм», но эта тема требует особого разговора.
Боюсь, однако, что будущий историк российской цензуры, заинтересовавшийся постсоветским периодом, найдет немало материала для исследования. Вспомним замечательного поэта Николая Глазкова, которому, как уже говорилось, приписывается создание слова «самиздат»:
Я на мир взираю из-под столика, Век двадцатый, век необычайный. Чем ты интересней для историка, Тем для современника печальней.XXI век, судя по его началу, к сожалению, тоже будет не менее «интересен для историка»… Один остроумный человек как-то заметил: «Я понимаю, конечно, что развитие идет по спирали, но кто сказал, что следующий виток будет обязательно сверху?» Этот парадокс имеет, увы, прямое отношение к нашему прошлому и, быть может, еще большее — настоящему и будущему.
Список сокращений
Архивы
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив ЦК КПСС).
ЦГА ИПД — Центральный государственный архив историко-политических документов в С.-Петербурге (бывший Ленинградский партийный архив).
ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив литературы и искусства в С.-Петербурге.
Опубликованные исследования и сборники документов
Горяева Т. М. — Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002.
Запрещенные книги русских писателей — Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет культуры и искусств, 2003.
Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия — Долинин В. Э., Иванов Б. И., Останин Б. В, Северюхин Д. Я. Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия / Под общ. ред. Д. Я. Северюхина. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
Идеологические комиссии ЦК КПСС — Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы. М.: РОССПЭН, 1998. (Культура и власть от Сталина до Горбачева).
ИСПЦ — История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Отв. составитель и руководитель творческого коллектива Т. М. Горяева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
«Министерство правды» — Блюм А. В. За кулисами «Министерства правды»: Тайная история советской цензуры. 1917–1929. СПб.: Академический проект, 1994.
Советская цензура в эпоху тотального террора — Блюм А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953. СПБ.: Академический проект, 2000.
Цензура в СССР — Цензура в СССР. Документы 1917–1991 / Сост. А. В. Блюм; Комментарии А. Блюма и В. Воловникова. Бохум (ФРГ): Proekt verlag,1999. 2-е изд. (стереотипное) под названием: Цензура в Советском Союзе, 1917–1991.: Документы. М, РОССПЭН, 2004.
Указатель имен и названий [388]
Указатель имен
Абакумов В. С. 267
Абрамов Ф. А. 47, 113, 114, 127, 263, 266, 268
Абрамова Л. В. см. Крутикова-Абрамова Л. В.
Абрашкин С. 276
Аввакум (Петров), протопоп 56, 190, 191, 193, 220
Августин Блаженный 92
Авербах Л. Л. 58, 178
Аверченко А. Т. 151, 211
Авторханов А. Г. 80, 102
Агейчик А. 133
Аграновский А. А. 225
Адамович А. М. 130, 167
Адамович Г. В. 189, 190
Аджубей А. И. 117, 118, 223, 267
Ажаев В. Н. 217
Азадовский К. М. 83, 101, 102, 265, 271, 272
Азадовский М. К. 171, 271, 272
Азаров В. Б. 166
Аймермахер К. 8, 261, 275
Айтматов Ч. Т. 119
Айхенвальд Юлий И. 265
Айхенвальд Юрий А. 96, 265
Акимов Н. П. 170
Аксенов В. П. 19, 70, 232
Алдан-Семенов А. И. 113
Алданов М. (Ландау М. А.) 72
Александр I 216
Александров Г. Ф. 106
Алексеев А. Н. 81, 96, 264
Алексеев Г., публицист 40
Алексеев М. Н. 109—111
Алексеев М. П., 187
Алексеева Магда И. 140, 226, 268, 275
Алешин В. А. 52
Алешин Н. В. 37
Алешковский Юз (И. Е.) 229, 275
Аллилуева С. И. 85
Аллой В. Е. 273
Алмазов Б. А. 28
Алтайский К. Н. 59
Альтман Н. И. 126, 209
Алянский С. М. 192
Амальрик А. А. 85, 97
Амфитеатров А. В. 99, 265
Андреев Б. С. 32, 66, 135, 137
Андреев Ю. А. 144, 231, 232
Андреева Л. А. 26, 27, 159, 207
Андроников И. Л. (Андроникашвили) 185
Андропов Ю. В. 81, 261, 263
Анна Леопольдовна, императрица 58
Анненков Ю. П. 188
Анненский И. Ф. 137
Аносов П. П. 115
Антоновский Б. И. 211
Апулей 71
Арагон Л. 190
Аржак Н., псевд. см. Даниэль Ю. М.
Аристофан 170
Арон Р. 102
Аронсон М. И. 181
Арро В. К. 36
Арсеньев Ю. М., начальник Ленгорлита 42, 77, 109, 112, 113, 143, 172, 186, 207
Архангельский А. Г. 147
Арьев А. Ю. 100
Ахматова А. А. 26, 55, 57, 80, 84, 92, 101, 106, 133, 136, 138, 141–143, 145–149, 156, 160, 222, 223, 234, 268-270
Бабель И. Э. 63
Баевский В. С. 116
Базанов В. Г. 187
Баймухаметов С. 219, 221
Баланев, милиционер 90
Балуев Г. В. 134, 223
Бальзак О. де 225
Бамбергер Б., историк иудаизма 98
Бандера С. А. 108
Банк Н. Б. 270
Баратынский Е. А. 137
Баршева И. Н. 207
Баскаков В. Н. 272
Батурин Ю. М. 243
Баумволь Р. Л. 68
Бахтин М. М. 169
Бедный Д. 63
Безыменский А. И. 63
Бейзер Михаэль (М. И., М. С.) 86
Бекбуди М.-Х. 72
Беленький С. И. 197
Белинков А. В. 64, 70, 218
Белкин Ф. П. 64
Беллами Э. 220
Белль Г. 97
Белов А. А. 139
Белоус В. Г. 263, 270, 272
Белый А. 56, 64, 130, 174, 175
Бельдюгов, инструктор Обкома 196
Беляев А. А. 156, 267
Бер И. А. 264
Берберова Н. Н. 102
Берггольц О. Ф. 64, 150, 163–166, 270
Бергер Иосиф (Ицхак Барзилай) 96
Бергер Я., переводчик 96
Бердяев Н. А. 71, 72, 90, 102, 239
Березина А., цензор 112, 113
Берия Л. П. 13, 112, 267
Бескин О. М. 184
Бесноватый М., редактор парижской газеты «Русские новости» 189
Бидструп X. 211
Биргер Б. Г. 97
Битов А. Г. 20, 120, 132, 133, 135, 203, 228, 252, 275
Благонравов А. А. 52
Блок А. А. 72, 137, 174, 175, 180, 186
Блок Л. Д., см. Менделеева-Блок Л. Д.
Бобров А. Г. 193
Богданов Г. А. 104
Богоявленская Л. И. 41
Боккачо Д. 71
Болдырев В. А. 241, 244
Бондина, цензор 199
Браун Н. Л. 192
Брежнев А. И. 40
Брежнев Л. И. 84, 137, 140, 168, 208, 225, 226, 261, 263
Брехт Б. 173
Брик Л. Ю. 175, 251
Бродский Б. Я. 207
Бродский И. А. 16, 19, 64, 67, 80, 91, 100, 102, 103, 157, 171, 172, 188, 190, 214, 219, 229, 239
Бродский И. И. 222
Брюллов Б. П. 170
Бубнов А. С. 182
Бударагин В. П. 273
Бузник С. С. 65
Булгаков М. А. 56, 80, 85, 86, 90, 93–95, 195, 196, 229, 234, 253, 265
Бунин И. А. 64, 100, 138, 190, 191, 239
Бурихин И. Н. 90—92
Бухарин Н. И. 58, 59, 178, 179, 182
Бухов А. С. 211
Бушмин А. С. 186
Бытовой С. М. 126
Бялик Хаим Нахман 87
Вайль П. 274
Ваксберг А. И. 120
Варгафтик Е., жена И. Н. Бурихина 90, 91
Варгшаст Б. 72
Вахтин Б. Б. 56
Вейдле В. В. 89, 264
Вентури Л. 74
Вергелис А. А. 87
Вересаев В. В. 62
Вертинский А. Н. 115, 116
Вигдорова Ф. А. 19
Виноградов В. В. 159
Виноградов И. И. 268
Владимиров С. В. 175, 176
Владимирова Е. Л. 144, 268
Владимов Г. Н. 70, 232, 239
Власов А. А. 126
Воеводин Е. В. 128
Войнович В. Н. 67, 70, 237, 239, 274, 275
Волков О. В. 56
Волков П. И. 65
Волконская М. Н. 184
Воловников В. 278
Володарский Э. Я. 45
Волошин М. А. (Кириенко-Волошин) 80, 94, 130
Вольф М. О. 71
Воронин С. А. 15, 16, 125, 126, 201, 202
Воронский А. К. 58, 178, 182, 272
Высотский И., эстрадный драматург 198
Высоцкий В. С. 84, 85, 139, 201, 202
Вяземский П. А. 213
Габриадзе Р. 133
Галич А. А. 70, 84, 85, 201
Гальба В. А. 210, 211
Ганди М. К. 197
Гастев А. К. 216
Гастев Ю. А. 216, 217, 275
Геббельс Й. 243
Гегель Г. В. Ф. 100
Гейне Г. 253
Гейро Л. С. 265
Геллер М. Я. 94, 265
Генин А. 87
Генис А. А. 274
Геринг Г. 243
Герман А. Ю. 107
Герман Д. А. см. Гранин Д. А.
Герман Ю. П. 42, 107, 111, 112, 114, 266
Гернек Ф. 87
Герцен А. И. 58, 79, 105, 258
Гершензон М. О. 193
Гете И. В. 97, 172
Гиллельсон М. И. 182, 183
Гиммлер Г. 243
Гинзбург Е. С. 237
Гинзбург Л. Я. 173
Гиппиус З. Н. 72, 102, 184, 185, 191, 221
Гитлер А. 152, 243
Гитович А. И. 127, 141, 142, 203
Гладилин А. Т. 68
Глазков Н. И. 79, 259
Гоголь Н. В. 64, 145, 230
Головенченко Ф. М. 147
Головской В. С. (Golovskoy) 260, 261
Голомшток И. Н. 68, 69
Гольдберг A. Л. 127
Гольдберг Б. Ц. 87
Гольденвейзер А. Б. 197
Голявкин В. В. 140, 275
Гончаров И. А. 216
Гончарова Н. Г. 269
Горбачев Г. Е. 58, 169, 181
Горбачев М. С. 156, 232, 234, 260, 278
Горбовицкий Г. С. 197
Горбовский Г. Я. 143
Гордин Я. А. 264
Горелов А. Е. 268
Горышин Г. А. 135, 136, 139, 140, 226
Горький М. 56, 87, 93, 100, 177, 178, 222
Горяева Т. М. 260, 261, 276, 278
Гофман Э. Т. А. 145
Гранин Д. А. (Герман) 14, 15, 30, 130, 135, 136, 141, 151, 167
Грант А., псевд. см. Гумилев Н. С.
Грачев С. И. 67
Гребенщиков Г. Д. 188
Гречишкин С. С. 273
Гржебин З. И. 101
Григорьев, майор милиции 89
Грин А. (Гриневский А. С.) 138
Грин Э. (Якимов А. В.) 119
Гринвальд Я. Б., театровед; с 1949 г. — историк русского спорта 87
Гроссман В. С. 229, 237
Губерман И. М. 275
Гуковский Г. А. 171, 271
Гулыга А. В. 155
Гумилев Н. С. (псевд. А. Грант) 60, 80, 92, 94, 101, 102, 116, 134, 158, 170, 172, 184, 189, 206, 221–224, 232, 239, 275
Гусин, уполномоченный Главреперткома 149
Гутенберг И. 90, 228
Гуткина Е., искусствовед 205
Гучинская Н. О. 271
Гюго В. 172
Давыдов Д. В. 143
Давыдов Сергей (Давидович Спартак Д.) 136
Дали С. 74, 205
Даль В. И. 13
Данилов Г. К. 116
Данилов Д. Г. 184
Даниэль Ю. М. (псевд. Н. Аржак) 16, 19, 82–84, 188, 266
Даунс И. 74
Дворкин И. Л. 36, 128
Демин М. (Трифонов Г. Е.) 69
Джером Д. К. 220 Джил ас М. 80
Джугашвили И. В. см. Сталин И. В.
Дзержинский Ф. Э. 112
Динерштейн Е. А. 272
Дичаров З. (Дич З. Л.) 268
Дмитренко М. В. 177
Добренко Е. А. 253
Добрынский Н. 249
Добужинский М. В. 207
Довлатов С. Д. (Мечик)100, 128
Долинин В. Э. 83, 264, 278
Домбровский Ю. О. 113, 229, 237
Донн Дж. 171
Доре Г. 72
Достоевский Ф. М. 20, 177, 225
Драгомощенко А. Т. 231
Дрейден С. Д. 171
Друзин В. П. 106
Друцэ И. 196
Дубельт Л. В. 231
Дубин Б. В. 276
Дудинцев В. Д. 14, 15, 18, 30, 42, 131, 229, 232, 233
Думбадзе Н. В. 119
Духан Я. С. 173
Дымшиц М. 98
Дьюхирст М. (Dewhirst) 8, 260
Дьяков Б. А. 113
Дюрренматт Ф. 85
Евгеньев-Максимов В. Е. (псевд. В. Евгеньев) 171
Евдокимов Р. Б. 83
Евтушенко Е. А. 55, 85, 143, 198
Егерев В. В. 91
Еголин А. М. 106
Егоров Б. Ф. 180, 226, 271, 272, 275
Екатерина II 215, 216
Еленин М. (Чехановец М. С.) 114
Елизавета Петровна, императрица 58
Ельцин Б. Н. 256
Емельяненко В., публицист 276
Емельянов Л. И. 56
Енишерлов В. П. 275
Ермилов В. В. 151
Ерофеев Венедикт Вас. 80, 229
Ерофеев Вик. Вл. 20
Есенин С. А. 17, 60, 62, 102, 138, 143, 176, 177
Есенин-Вольпин А. С. 83, 84, 217
Ефимов Бор. (Фридлянд Б. Е.) 211
Ефремов И. А. 214, 215
Жаботинский Зеев (В. Е.) 98
Жданов А. А. 14, 105, 106, 122, 145, 146, 156–158, 162, 247
Жестев Мих. (Левинсон Марк Ильич) 114
Жирков Г. В. 260
Жирмунский В. М. 157, 159, 171, 183, 187
Жуков Г. К. 76, 77
Жур П. В. 115
Заболоцкий Н. А. 14, 19, 137, 217, 218
Заборский, цензор 77
Зайцев Б. К. 191, 239
Замятин Е. И. 19, 72, 93, 102, 191, 220, 239
Зандер Л. А. 92
Захарченко В. Д. 215
Звягин Е. А. 231
Зезина М. Р. 275
Зеленое М. В. 260
Зелеранская, таможенница 89
Земцова А. М. 207
Зернова Р. А. 90
Зиначев А. Г. 166
Зиновьев Г. Е. 181
Золотоносов М. А. 275
Зощенко В. В. 269
Зощенко М. М. 57, 102, 106, 121, 138, 145–155, 158, 269
Ибаррури Д. 123
Иванов, зам. начальника Управления КГБ 43
Иванов Б. И. 278
Иванов Вс. В. 101
Иванов Вяч. В. 56
Иванов Г. В. 80, 104, 221
Иванов-Разумник (Иванов Р. В.) 64, 156, 177, 263, 270, 272
Иваск Ю. П. 101
Ивлев Л. С. 40
Игорь-Северянин (Лотарев И. В.) 102
Иезуитов А. Н. 119
Ильина Н. И. 115, 116
Ильичев Л. Ф. 127
Ильф И. А. 215, 216
Инбер В. М. 161, 163, 165
Иоффе В. В. 266, 269
Иоффе О. С. 67
Искандер Ф. А. 5, 119, 132, 229
К. Р. (Великий князь Константин Константинович) 50, 184
Каган М. С. 203, 204
Казакевич Э. Г. 179
Казанова Дж. 71
Калинин М. И. 56, 211
Камбурова Е. (Антонова Е. А.) 224
Каменев Л. Б. (Градский; наст. фам. Розенфельд) 58–60, 64, 180, 182
Каменев С. С. 37
Камкин В. (Kamkin) 94, 99
Кандинский В. В. 205
Кант В. Н. (С. В.) 191
Каплан A. Л. 205, 206
Капто А., зав. идеологическим отделом 238
Карпов А. Е. 52, 54
Карпов В. В. 222
Карпович М. М. 101
Кассиль Л. А. 62
Катерли Е. (Кондакова Е. И.) 15
Кафка Ф. 47, 226, 235
Кеннеди Дж. 198
Керлер И. Б. 67
Кестлер А. 237
Кетлинская В. К. 165
Ким Ю. Ч. 85
Киплинг Р. 116
Кириенко-Волошин М. А. см. Волошин М. А.
Киров С. М. 56, 247
Киселев В. Г. 51
Киселев Я. П. 129
Кларк А. 214, 215
Климова М. М. 83
Клычков С. А. (Лешенков) 60
Клюев Н. А. 60, 92, 102
Клячкин Е. И. 219
Ковалев И., правозащитник 215
Козаков М. Э. 192
Колкер А. Н. 42, 201
Коллинс К. 191
Колобов В. М. 40
Кольцов Мих. (Фридлянд М. Е.) 123
Кондратович А. И. 261
Конецкий В. В. 121, 122, 236
Конквест Р. 239
Копелев Л. З. 70, 90, 97, 104, 232
Копелян Ефим Захарович, актер БДТ 206
Копелян Илья Залманович, художник 206
Копецкий Вацлав 67
Коржавин Н. (Мандель Н. М.) 19, 217, 219
Корнеев Л., публицист 129
Корнилов Б. П. 137, 144, 166
Корнилов В. Н. 218
Коробченко Ю. В. 85, 139, 224
Коровин А., хирург 164
Королева Н. В. 138
Коротич В. А., поэт 242
Корчной В. Л. 54
Косыгин А. Н. 35, 84, 168, 208
Коханович, таможенник 89
Кравченко Ф., публицист 277
Кратт И. Ф. 163
Кречмер Д. 261, 263
Круглова Г. С. 196
Крупин Д. В. 156
Крупская Н. К. 56
Крутикова-Абрамова Л. В. 266
Крылов И. А. 145
Крымова Н. А. 139
Крюков А. С. 270
Кубрик С. 215
Кузмин М. А. 137, 219
Кузнецов А. А. 106, 160–162, 164
Кузнецов А. В. 57, 67, 69, 70
Кузнецов Ф. Ф. 261
Кузнецов Э. 98
Кузнецова М. Н. 76, 77, 212
Куйбышев В. В. 56
Куклин Л. В. 115
Кукрыниксы, колл, псевд. 147
Кулемин В. Л. 125, 126
Кулиев К. Ш. 120
Куницын, посредник 78
Куприн А. И. 72, 104, 138
Куприянов Б. Л. 231
Куртынин М. С. 52
Кутов Н. Н. 126, 127
Кутырина Ю. А. 188, 189
Кучерявкин В. И. 231
Кушнер А. С. 136, 137, 143
Кшесинская М. Ф. 206, 274
Кюхельбекер В. К. 138
Лавренев Б. А. 192
Лавров А. В. 185, 186, 192, 273
Лада Й. 211
Лакшин В. Я. 261
Лассила Майю (Тиетявяйнен А. У.) финский прозаик 149
Лебедев-Полянский П. И. (псевд. В. Полянский) 26, 95
Левин М. И. 266
Левин Ю. Д. 183
Легат Н. Г. 206, 274
Лелевич Г. (Калмансон Л. Г.) 58, 178, 187
Ленин Н. Н. (Ульянов В. И.) 16, 22, 27, 29, 48, 51, 53, 67, 75, 76, 93, 98, 100, 109, 111, 115, 126, 151, 178, 193, 208, 209, 211, 221, 222, 232, 239, 248, 252
Леонгард В. 266, 267
Леонов А. А. 215
Лермонтов М. Ю. 53, 157
Лесков Н. С. 258
Лесючевский Н. В. 172
Либов Л. Л. 222
Либс-Эткинд Э. 271
Ливанова Т. Ю. 55, 263
Лигачев Е. К. 230
Ликок С. 203
Лимонов Э. (Эдичка; Савенко Э. В.) 229
Липатов В. Ф., цензор 109, 110, 165, 179, 200, 201, 203
Лисса З. 200
Листьев Влад (В. Н.) 256
Лихачев Д. С. 56, 174, 187, 191
Ломагин Н. А. 270
Лосев Л. В. (Лифшиц) 214
Лотман Ю. М. 8, 226, 261
Луначарский А. В. 211
Луппол И. К. 189
Лурье С. А. 271
Лысенко Т. Д. 233
Львова Т. 266
Любимов Ю. П. 136
Любищев А. А. 135
Лютова К. В. 263, 271, 273
Мазаччо (Мазуччо; Гуардати Т.) 71
Майзель Б. Я. 74 Майков А. Н. 216
Макогоненко Г. П. 174
Максадов М., конструктор 129
Максимов А. А. 177, 178
Максимов Вл. Е. 69, 97, 232
Максимов Влад. Е. см. Евгеньев-Максимов В. Е.
Малевич К. С. 206, 274
Маликов В. А. 91
Малкевич Я. Б. 29, 176
Малышев В. И. 187–191, 193, 220, 273
Мамченко В. А., поэт 188
Мандельштам Н. Я. (Хазина) 11, 102, 157, 270
Мандельштам О. Э. 47, 55, 56, 60, 80, 92, 93, 101, 130, 137, 145, 219, 229
Мао Цзедун 62, 115, 267
Марамзин В. Р. 83, 85, 86, 91, 97
Мариенгоф А. Б. 143
Маркин Е. Ф. 225
Маркиш П. Д. 87
Марков Б. А. 9, 10, 28, 40, 49, 52, 68, 70, 76, 82–85, 91–98, 115, 127, 131, 132, 137, 139
Марков Г. М. 155, 156
Маркс К. 115, 176, 208
Марти А. 122, 123
Марченко А. Т. 215
Маршак С. Я. 146
Мацкевич В. В. 39
Мачерет А. А. 28
Машкин В. К. 239
Маяковская Л. В. 175, 176, 251
Маяковский В. В. 56, 100, 121, 154, 174–176, 250–252
Медведев П. Н. 169, 170, 271
Медведев Ю. П. 271
Межиров Ю. А. 136
Мейерхольд В. Э. 64
Мельгунов Б. В. 183
Мельский А., автор книги «У истоков великой ненависти» 243
Менделеева-Блок Л. Д. 174
Меньшутин А. Н. 69, 183
Мережковский Д. С. 72, 175, 184, 185, 221
Микоян А. И. 123
Милюков П. Н. 239
Мин Е. (Минчиковский Е. М.) 126
Минкин А., журналист 253
Мирзоянов В., химик 256, 277
Миронов А. Н. 231
Михалков С. В. 62
Михоэлс С. М. (Вовси) 87, 107
Мицкевич А. 181
Мишкевич Г. И. 162
Молдавский Д. М. 114, 155, 175, 176
Моссиев Э., читатель 66
Мочалов Л. В. 203
Муравьева И. А. 55, 224, 263
Муратов А. И. 45
Мушина И. Б. 183
Набоков В. В. (псевд. В. Сирин) 49, 80, 100, 102, 104, 108, 213, 217, 237, 239, 249, 254, 265, 266, 274, 276
Набутов К. В. 54
Нагибин Ю. М. 14
Надсон С. Я. 253
Наживин И. Ф. 72
Назарова Л. Н. 191, 273
Найдич Э. Э. 205
Налбандян Д. А. 225
Нарбут В. И. 239
Наргалиева Г. А. 195
Наумов Е. И. 176, 177
Незнанский Ф. Е. 276
Некрасов В. П. 67, 117, 267
Некрасов Н. А. 177, 213, 219, 229, 274
Неру Д. 119
Нетьева А. С. 66
Никитин, редактор Лен ТВ 56
Никитин А., капитан 1 ранга 257
Никитин Н. Н. 146, 150
Николаев, цензор 89
Николаев Г. Ф. 121, 267
Николаев К., журналист 276
Николай I 58, 254
Николай II 50, 138
Никольский Б. Н. 234, 267, 275
Никулин А. В. 29
Нинов А. А. 131
Ницше Ф. 53, 184.
Новосадюк Г., искусствовед 136
Новоселов, прозаик 127
Оветисян С. П. 117
Овечкин В. В. 109
Одар-Боярская К. Н. 68
Одоевцева И. В. (Гейнике И. Г.) 188, 189
Оксман Ю. Г. 181–183, 271, 272
Окуджава Б. Ш. 19, 55, 83, 84, 143, 201, 218
Окутюрье М. (Aucouturier) 189
Олейников Н. М. 144
Олеша Ю. К. 64, 218
Омельченко К. К. 16
Орбелиани С.-С. 172
Орешин П. А. 60
Орлов В. Н. 143, 165, 174, 175
Орлов Ю., правозащитник 215
Оруэлл Дж. 45, 61, 80, 81, 96, 148, 188, 214, 219, 220, 222, 239, 258, 265
Осипов, цензор 78
Останин Б. В. 278
Островский А. Л. 134, 139
Охапкин О. А. 231
П. С. 189
Павленков Ф. Ф. 275
Павлов Г. Н. 211
Павлов И. П. 192
Павловский А. И. 130, 270
Пайпер Р. 94
Палей Л. С. (Хейфец) 36
Пампурс А. 72
Панкреев Т. И. 110, 177
Панова В. Ф. 121
Панфилов Г. А. 177
Панченко А. М. 220, 221, 273
Парамонова Н. Б. 273
Пастернак Б. Л. 19, 29, 53, 55, 56, 80, 89, 90, 93, 114, 133, 137, 150, 157, 177, 188–192, 219, 229, 237
Пастернак Е. Б. 192
Пастернак Е. В. 192
Пасько Г., журналист 257
Паустовский К. Г. 30, 125, 136, 217
Пахмусс В. 191
Пахомова Г. С. 116
Перхин В. В. 262
Перцов П. П. 185, 186
Петефи Ш. 15
Петлюра С. В. 108
Петр Первый 78
Петров А. Н. 130, 267
Петров В. 97, 133
Петров Н. В. 170
Петров-Водкин К. С. 136, 207
Петрова Т. А. 212
Петроний 170
Пешкин И. С. 115
Пикассо П. 68, 141, 142
Пильняк Б. А. (Вогау) 19, 93
Пименов Р. И. 84, 86
Пинчук В. И. 50
Пионтковский А. А. 276
Пиотровский А. И. 170, 171
Пичугина И. П. 27
Платонов А. П. (Климентов) 65, 93, 94, 229, 234, 237
Платонов С. Ф. 180, 272
Плоткин Л. А. 178
Подгорный Н. В. 84
Подъяпольский Г. С. 90
Покровский Б. А. 52
Полевой Б. Н. 121
Поликарпов Д. А. 124
Поликарпов Р. 249
Полонская Е. Г. 141, 163
Полторанин М. Н. 246
Полькен К. 115
Поляков В. Ф. 45
Полянский В., псевд. см. Лебедев-Полянский П. И.
Померанц Г. С. 84
Померанцев В. М. 13
Понырко Н. В. 193
Попков П. С. 106, 146, 160-163
Попов А. Ф. 127
Попов Е. А. 20
Потемкин Л. И. 77, 78
Потягин В. М. 183
Пресняков А. Е. 182
Прийма Ф. Я. 183, 185, 186
Приставкин А. И. 232
Прокофьев А. А. 108, 150
Прокофьев Е. М. 176
Проффер К. Р. 102
Пугачев Е. И. 216
Пугачева А. Б. 202
Пушкин А. С. 9, 37, 63, 79, 119, 136, 181–183, 213, 217, 247, 249, 252, 254
Радек К. Б. 60
Радищев А. Н. 216
Радищев Л. Н. 211
Разумов А. Я. 9, 258
Рэйс Э. 188
Рак В. Д. 272
Раков Л. Л. 162
Ранкович А. 62
Раскольников Ф. Ф. (Ильин) 57, 85
Рассадин С. Б. 261
Рафаэль 205
Рахманов Л. Н. 159
Рейн Е. Б. 100
Рембрандт 97
Ремизов А. М. 145, 188, 231, 232, 273
Ренан Э. 74, 98
Решетов А. Е. 127
Рихтер А., публицист 277
Робеспьер М. 68
Рождественский В. А. 148, 157, 161
Рождественский Р. И. 55
Розанов В. В. 249, 276
Розенберг А. 243
Розин Н. П. (псевд. Г. П. Уткин) 227
Романков Л. П. 81
Романов Г. В. 121, 192
Романов К. К. см. К. Р.
Романов П. К. 16, 21, 117, 132, 139
Романов П. С. 61
Романовы, династия 71
Рощин И. В. 77
Рубашкин А. И. 267, 268, 270
Руденко Микола 215
Руденко Р. А. 82
Рыбаков А. Н. (Аронов) 229, 232
Рыжов К. И. 42, 201
Рыленков Н. И. 116, 138
Сазонова К. К. 207
Салтыков-Щедрин М. Е. (псевд. Н. Щедрин) 61, 214
Самохвалов А. Н. 207
Сафонов, Герой Советского Союза 36
Сахаров А. Д. 83, 84, 135, 215
Саянов В. М. (Махнин) 150, 161, 164
Светлов П. С. 27
Свинин В., публицист 276
Свирский Г. Ц. 261
Святополк-Мирский Д. П. 272
Северюхин Д. Я. 264, 274, 278
Северянин см. Игорь-Северянин
Семин Л. П. 125
Семичастный В. Е. 82
Сергеев К. М. 200
Серебровская Е. П. 124, 267
Серман И. З. 271
Серов В. А. 76
Сидоровский Л. И. 107, 266
Сименон Ж. 131
Симонов А. К. 255, 276
Симонов Кирилл (Константин) Михайлович 148, 247
Синявский А. Д. (псевд. А. Терц) 16, 19, 69, 82, 84, 91, 103, 114, 183, 188, 266
Сирин В., псевд. см. Набоков В. В.
Сирота Р. А., режиссер 55
Скабичевский А. М. 216, 275
Слонимский А. Л. 165
Слонимский Ю. И. 199
Слуцкий Б. А. 19, 159, 217, 228
Смеляков Я. В. 136
Смирнов В. А. 87
Смоленский Я. М. 136
Соколов В., начальник Ленгорлита 89, 104, 234, 239, 275
Соколов Саша 229
Соколова Е. Н. 65
Солженицын А. И. 18, 19, 56, 57, 67, 69, 70, 80, 84, 86, 90, 91, 96, 103, 117, 127, 143, 144, 150, 172, 190, 225, 229, 232, 239, 263
Соловьев Вл. Б. 138, 153, 154, 269
Соловьев Вл. С. 72, 175
Сологуб Ф. (Тетерников Ф. К.) 218
Солодин В. А. 35, 99
Солоухин В. А. 56, 126
Сорокин Г. Э. 192
Соснора В. А. 55, 143
Сосюра В. Н. 108
Спасский Ф. Г. 65
Ставский В. П. (Кирпичников) 114, 266
Сталин И. В. 7, 13, 14, 16, 25, 59, 60, 62, 76, 77, 81, 85, 96, 113, 115, 119, 120, 123, 125, 126, 145, 159, 166, 172, 216, 217, 247, 253, 260, 267, 278
Степанов В. П. 184, 273
Степанова М. М. 69
Стокс У. 217
Стравинский И. Ф. 200
Стратановский С. Г. 231
Стронг А. Л. 115, 267
Струве Г. П. 89, 90, 92, 94, 101, 102, 182, 265
Струве Н. А. 101
Струве П. Б. 193, 265
Стругацкие А. Н. и Б. Н., братья 214, 218
Стукалин Б. И. 70, 154
Суворов А. В. 76, 77
Суслов М. А. 16, 17, 124, 176, 208, 251
Сцепоник X. 115
Табидзе Т. Ю. 64, 83
Тарасенков А. К. 179
Тарковский Арс. А. 149
Татлин В. Е. 206, 274
Тахтай А. К. 165, 270, 271
Твардовский А. Т. 18, 19, 26, 116–119, 122, 144, 261, 267, 268
Твен М. 50, 249
Твердохлебов А. Н. 84, 90
Телесин З. Л. 67
Тендряков В. Ф. 55
Терновский Л., правозащитник 215
Терц А., псевд. см. Синявский А. Д.
Тетмайер К. 217
Тито И. Б. 62, 166
Тихонов Н. С. 62, 116, 117, 119, 161, 164, 166, 181
Товстоногов Г. А. 196, 201
Толстой А. Н. 100
Толстой Л. Н. 97, 108, 190, 196, 197, 225
Томашевский Ю. В. 269
Торез М. 123
Торопыгин В. В. 139, 224
Третьяков, начальник следственного отдела КГБ 85
Троицкий А. А. 148
Троцкий Л. Д. (Бронштейн) 59, 61, 63, 169–171, 178, 181, 211
Тупицын, цензор 173, 210
Тургенев И. С. 191
Турчин В. Ф. 83
Тынянов Ю. Н. 64
Тюрин, цензор 236
Тютчев Ф. И. 18, 216
Улановская Белла (И. Ю.) 231
Уншлихт И. С. 37
Успенский Л. В. 56
Уткин Г. П., псевд. см. Розин Н. П.
Ушаков Н. Н. 108, 126, 127
Уэллс Г. 191, 220
Файман Г. С. 269
Федин К. А. 26
Федоров Л., публицист 277
Федоровский И. А. 125
Федотов М. А. 243
Фейербах Л. 213
Феоктистов Е. М. 182
Фешин Н. И. 206, 207
Филатова В. И. 65
Филиппов Б. А. 94
Финченко А. Е. 193
Фирсов Б. М., рабочий 53
Фиш Г. С. 161
Фишер Р. 52
Флоренский П. А. 72, 92, 96
Фокин М. М. 199, 200
Фомин, начальник отдела КГБ 82
Фомичев С. А. 37, 186, 273
Фонвизин Д. И. 174
Форман М. 53, 263
Франк С. Л. 193
Франц-Иосиф, император 77, 78
Фрейд З. 92, 250
Фридберг М., славист 8
Фридлянд Б. Е. см. Е
Фимов Бор.
Фридлянд М. Е. см. Кольцов Мих.
Фрунзе М. В. 93
Фурцева Е. А. 124
Хазина Н. Я. см. Мандельштам Н. Я.
Хаксли О. 220
Харитон Л. Б. 263
Хейфец М. Р. 83
Хемингуэй Э. 122–125, 267
Хийр А., журналист 221
Хинич Н. И. 43
Хлебников В. В. 56
Ходасевич В. Ф. 90, 101, 102, 104,
172, 217, 221, 239 Ходжа Э. 62
Холден М. Т. (Cholden) 8, 260
Холодов Д. Ю., журналист 256
Холопов Г. К. 106, 111–114, 121, 122
Хомяков А. С. 72
Хохоренко, сотрудник Обкома 146
Хренков Д. Т. 116, 117, 131, 137, 138, 164, 270
Хрущев Н. С. 12–16, 18, 20, 39, 60, 77, 109, 113, 117, 118, 125, 140, 142–144, 202–204, 208, 209, 223
Царев Л. Н. 233, 234, 236, 238, 248, 249
Цветаева М. И. 15, 18, 19, 47, 55, 80, 90, 93, 100, 101, 104, 136, 137, 217, 222, 228
Чайковский П. И. 50
Чаковский А. Б. 163
Чалидзе В. Н. 83, 84, 91
Чарская Л. (Чурилова Л. А.) 71
Чахирев Г., начальник Ленгорлита 147
Чебриков В. М. 232
Чейн Дж. 217
Чепуров С. Н. 184
Черепкова Л. Б. 41
Черненко К. У. 261, 263
Черный А. М. (Саша Черный) 104
Чернышев, таможенник 89
Чернышевский Н. Г. 213
Черчилль Р. 98
Черчилль У. 34, 98
Чехов А. П. 56
Чижевский Д. И. 101
Чигунов Г. И. 207
Чудакова М. О. 155
Чуковская Л. К. 18, 84, 142, 157, 268, 270
Чуковский К. И. 26, 104, 184, 218
Чуковский Н. К. 130
Чупринин С. И. 276
Шагал М. З. 74
Шаламов В. Т. 84, 253
Шапиро К. А. 197
Шапиро Леонард 91
Шарымов А. М. 139
Шауро В. Ф. 154
Шафаревич И. Р. 86
Шахматов, сотрудник Ленгорлита до 1982 г., зав. отделом поэзии в редакции журнала «Аврора» 29
Шевелев А. А. 139
Шевелев Э. А. 140, 226
Шевченко В. И. 270
Шекспир В. 172
Шемякин М. Ф. 212
Шендерович В. А. 276
Шестинский О. Н. 144
Шестов Л. И. 93
Шефнер В. С. 36, 126
Шибаев А., прозаик 32
Шикман А. П. 260
Шимановски К. 200
Ширали В. Г. (Ширали-заде) 231
Шкловский В. Б. 170
Шкловский И. С. 222, 223
Шмелев И. С. 188, 189
Шнейдерман Э. М. 231, 275
Шолом-Алейхем, псевд. 205, 206
Шолохов М. А. 56, 111, 123
Шопенгауэр А. 53
Шоу Дж. Б. 256
Штейн Б., прозаик 134, 135
Шуб Д. Н. 98
Шубников(а) Т. А. 205
Шумилов В. Т. 111, 112, 114
Щедрин см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Эвентов И. С. 121, 154, 176
Эзоп 214, 253
Эйве М. 51, 52
Эйнштейн А. 87
Эйхенбаум Б. М. 169–171
Эльзон М. Д. 272, 273, 279
Эльсберг Я. Е. (Шапирштейн-Лерс) 226, 227
Энгельс Ф. 115, 208
Энтин В. Л. 243
Эренбург И. Г. 13, 15, 18, 62, 87
Эсхил 170
Эткинд Е. Г. 20, 25, 69, 70, 171–173, 183, 239, 261, 271
Эффель Ж. 211
Юдина Н. Г. 27
Юдовин С. Б. 207
Ягода Г. Г. 253
Яковенко И. Г. 276
Яковлев А. Н. 55, 263
Якунин Г. П. 215
Яшвили П. Д. 64
Яшин А. Я. (Попов) 14, 15, 18, 31, 125
Aucouturier М. см. Окутюрье М.
Choldin М. Т. см. Холден М. Т.
Dewhirst М. см. Дьюхирст М.
Golovskoy V. S. см. Головской В. С.
Swayze Н. 260
Указатель периодических изданий, альманахов и сборников
«Аврора» 36, 131–140, 153, 223, 225, 226, 268, 269
«Академическое дело», сборник 272
«Ангара» 218
Антология русской поэзии эпохи акмеизма 101
Аполлон-77, сборник 97
«Байкал» 218
Белые ночи, сборник («самиздат») 82
«Большевик» 155, 156
Бюллетень Рукописного отдела ИРЛИ 185
Великий город Ленина, сборник 161
«Вечерний Ленинград» 127
«Вечерняя Москва» 276
Вопросы идеологической работы, сборник 272
«Вопросы литературы» 267
Вспомогательные исторические дисциплины 27
«Горожане» 82
«Грани» 80, 97, 144
Девятьсот дней, сборник 162, 163
День поэзии, альманах 140–144, 152, 158,268—270
Древнерусская книжность, сборник 273
Досье на цензуру (Москва) 8
«Дружба народов» 269
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома 185, 186, 192, 193, 273
«Журналист» 277
«За культуру торговли» 53
«Звезда» 14, 36, 40–42, 57, 105–122, 128, 146, 148, 151, 154–156, 158, 161, 162, 164, 169, 237, 247, 248, 264–269, 271, 275, 277
«Знамя» 93, 179, 219, 267, 276
«Известия» 52, 117, 118, 222, 223, 244
«“Иллюстрации” Петроградской правды» 95
Индекс цензуры, сборник (Лондон) 8
«Иностранная литература» 123, 263
«Интернациональная литература» 122
«Искорка» 32
«Карта», правозащитный журнал 264
«Коммерсант-Daily» 276, 277
«Коммунист» 22
«Комсомольская правда» 275
«Континент» 80, 96, 97
Космическая Одиссея 2001 года, сборник 215
«Костер» 146
«Красная новь» 178
«Красный треугольник», газета 53
«Крокодил» 17, 147, 148
Круг, сборник 144, 231, 232
«Ленинград» 14, 15, 57, 105, 146, 151, 156, 158, 247, 248
«Ленинградская правда» 52, 151
Ленинградский альманах (с 1955 г. «Нева») 122, 151, 164
Ленинградский еврейский альманах («самиздат») 86
Ленинградский мартиролог 9, 258
«Ленинградский рабочий» 27
«Ленинские искры» 52
«Ленинское знамя» 219
«Лепта» 82
«Литература и жизнь» 190
«Литературная газета» 84, 261
«Литературная Грузия» 219
Литературная Москва, альманах 14, 15, 18, 19, 30, 125
Литературное наследство 180, 272
Мастера русского стихотворного перевода 25, 172
Метрополь 19, 20, 119, 261
«Митин журнал» 82
«Молодежь Эстонии» 243
Молодой Ленинград, альманах 140, 141, 224, 268—270
«Москва» 95, 112, 113, 158
«Московские новости» 256, 257, 276, 277
«Московский литератор» 261
«На рубеже» 149
«Наследие» (США) 188, 189
Наследие Древней Руси, сборник 273
«Наше наследие» 275
«Нева» 15, 16, 27, 36, 42, 116, 122–131, 143, 209, 233, 234, 236, 237, 263, 266–268, 273, 275
«Невская заря» (Всеволожск) 51, 52
«Невское время» 265
«Неделя» 190
«Независимая газета» 276
Некрасовский сборник 184
«Новая газета» 257
«Новая жизнь» 93, 178
«Новая Россия» 85
«Новое время», журнал 267
«Новое литературное обозрение» (НЛО) 271, 275
«Новое слово» (Берлин) 272
«Новый журнал» 98, 188
«Новый журнал» (СПб) 270
«Новый мир» 13, 14, 18, 19, 69, 112, 113, 117, 118, 122, 123, 144, 148, 167, 225, 233, 239, 268
«Новый путь» 185 «Обводный канал» 82
«Общественные проблемы» 84
«Огонек» 17, 148, 221, 222, 232, 242
«Октябрь» 112, 113, 155, 156, 159, 267, 268
«Октябрь» (Таруса) 219
Оттепель, сборник 261
Писатели и цензоры, сборник 270
«Полярная кочегарка» (о. Шпицберген) 44
«Посев» 80, 97, 276
«Правда» 22, 61, 108, 151, 223, 230, 248, 267
«Правда Севера» 127
«Пролетарий» 181
Распятые, сборник 268, 270, 271
«Российская газета» 275
«Россия» 145
«Русская литература» 183, 272, 273
«Русская мысль», газета 189, 263, 276
«Русские новости» 189
Русский литературный архив, сборник 101
Сборник избранных текстов Самиздата 84
«Сельская новь» (Новгородская обл.) 221
«Синтаксис» 271
«Сириус» 224
Слово пробивает себе дорогу, сборник 263
«Советиш Геймланд» 87
«Советская Россия» 123
«Советская Эстония» 128
«Современник» 213
«Сталинская гвардия» 76
Стихи и поэмы: 1917–1947, сборник 166
Тарусские страницы, сборник 19, 125, 217, 218
«Техника — молодежи» 214, 215, 275
«37» 22, 91
«Уральский следопыт» 220
Филологические записки 270
«Хроника защиты прав в СССР» 97
Хроника текущих событий 80, 84, 85, 90
Цензура в СССР, сборник 8 «Часы» 82, 91
«Юманите» 190
Примечания
1
Главным образом использован фонд Ленгорлита под № 359, хранящийся в Санкт-Петербургском гос. архиве литературы и искусства. Кроме того, ряд документальных материалов почерпнут в Центральном гос. архиве историкополитических документов (бывший Партархив Ленинграда).
(обратно)2
Докторская диссертация защищена Т. М. Горяевой по монографии: Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002. В Нижнем Новгороде в 2000 г. вышла фундаментальная монография М. В. Зеленова «Аппарат ЦК РКП(б) — ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы», в 2001 году — солидное учебное пособие для студентов высших учебных заведений Г. В. Жиркова «История цензуры в России XIX–XX вв.» (М.: «Аспект-Пресс»). Весьма полная библиография вопроса опубликована в 1997 г. в английском журнале «Solanus. New series» (Vol. 11. P. 90–98): Zelenov М. V., Dewhirst M. A Selected Bibliography of Recent Works on Russian and Soviet Censorship. В разделе «Работы российских авторов по истории советской цензуры» зарегистрировано около 80 публикаций на эту тему. См. также перечень основных работ в примечаниях ко второй нашей книге (с. 284–285).
(обратно)3
История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Отв. составитель и руководитель творческого коллектива Т. М. Горяева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. Вышел также относящийся во многом к нашей теме сборник: Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы. М.: РОССПЭН, 1998. (Культура и власть от Сталина до Горбачева).
(обратно)4
См., например: Dewhirst М. The Soviet censorship. Metuchen, N. Y, Scarecrow Press, 1973; Choldin М. T. Censorship via translation: Soviet treatment of Western political writing. The Red pencil: Artists, Scholars and Censors in the USSR. Boston, Unwin-Human, 1989; Choldin М. T. Access to Foreign Publication in Soviet Libraires 11 Reading and Libraries: Proceeding of Librari Hisstori Seminar VIII (Austin, University of Texas, 1991). P. 135–150; Choldin М. T. The Red Pensil. Boston, 1989; Swayze H. Political control of Literature in the USSR. 1946–1959. Cambridge University Press, 1962; Golovs/coy V. S. Is There censorship in the Soviet Union? Washington, 1985.
(обратно)5
См. об этом нашу статью: «Благонамеренный и грустный анекдот…», или Путешествие в архивный застенок // Звезда. 2001. № 2. С. 210–214.
(обратно)6
Шигсман А. Я. Презумпция разрешенности // Сов. библиография. 1990. № 1. С. 27.
(обратно)7
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 3. Д. 255. Л. 46.
(обратно)8
Там же. Д. 153. Л. 43.
(обратно)9
Там же. Лл. 44, 56.
(обратно)10
Там же. Л. 56.
(обратно)11
Этой проблемой интересуются, в частности, сотрудники Института истории естествознания и техники Академии наук (Петербургское отделение), которым выпущен ряд сборников «Репрессированная наука».
(обратно)12
Рассадин Ст. Самоубийцы: Повесть о том, как мы жили и что читали. М., 2002. С. 445.
(обратно)13
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 237. Л. 12
(обратно)14
ЦГА ИПД. Ф. 24. оп. 106. Д. 55.
(обратно)15
Великолепная панорама литературной жизни того времени и противостояния диктату в литературе и искусстве представлена в книге писателя-диссидента Григория Свирского «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946–1976. Предисловие Ефима Эткинда» (Лондон (Канада), 1979).
(обратно)16
Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002. С. 312.
(обратно)17
Материалы комиссий опубликованы в сборнике: Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы. М.: РОССПЭН, 1998. Сборник выпущен совместно с Институтом русской культуры им. Ю. Лотмана (Рурский университет. Бохум. ФРГ) и Федеральной архивной службой России. Большой интерес представляет, помимо самих документов, вступительная статья Карла Аймермахера «Партийное управление культурой и формы ее самоорганизации (1953–1964/1967)».
(обратно)18
Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002. С. 326. См. также «Справку Главлита об итогах работы за 1963–1965 гг.» (ИСПЦ. С. 371–379), в которой приводятся сводные данные о количестве нарушений, замеченных и предотвращенных цензорами.
(обратно)19
Кречмер Дирк. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985. М., 1997. С. 23. См. также об этом: Головской В. Существует ли цензура в Советском Союзе // Континент. 1984. № 42. С. 147–173.
(обратно)20
Оттепель. 1957–1959. Страницы советской литературы. М., 1990. С. 339. Здесь же (с. 368–378) подробно говорится о полемике по поводу этого издания. Три сборника под названием «Оттепель», имевшие такой же подзаголовок и годы: 1953–1956, 1957–1959 и 1960–1962, изданные тогда же и содержавшие «Хронику важнейших событий», использованы нами и далее. Ценная сводка под названием «Хроника событий. 1953–1991» помещена в книге: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. С. 481–594. Большую ценность представляет также книга Григория Свирского «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления (1946–1976)» (Предисл. Е. Г. Эткинда. Лондон (Канада), 1979).
(обратно)21
Об этом существует большая литература. См., в частности, дневники А. Т. Твардовского, вышедшие отдельными изданиями воспоминания соратников Твардовского по «Новому миру» В. Я. Лакшина, А. И. Кондратовича и других.
(обратно)22
См., например, статьи Ф. Кузнецова «Конфуз с “Метрополем”» в газете «Московский литератор» за 9 февраля 1979 г. и «О чем шум?…» в «Литературной газете» за 19 сентября 1979 г.
(обратно)23
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 106. Л. 55.
(обратно)24
Там же. Д. 106. Л. 56.
(обратно)25
Там же. Д. 67. Л. 1.
(обратно)26
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. ИЗ. Лл. 66–70.
(обратно)27
Там же. Д. 86. Л. 46.
(обратно)28
Там же. Д. 34. Л. 1. Д. 45. Л. 2.
(обратно)29
Один из экземпляров хранится в архивном фонде Леноблгорлита: Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 88. Экз. № 25.
(обратно)30
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 103. Л. 70–71.
(обратно)31
Цит. по: Перхин В. В. Русские литераторы в письмах. (1905–1985). СПб., 2004. С. 127.
(обратно)32
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 149. Л. 22.
(обратно)33
Там же. Д. 184. Л. 113.
(обратно)34
Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 197. Л. 2.
(обратно)35
Там же. Оп. 3. Д. 184. Лл. 13–14.
(обратно)36
ГАРФ. Ф. 9425. ОП. 1. Д. 1492. Л. 22.
(обратно)37
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 3. Д. 203. Л. 26.
(обратно)38
ЦГА ИПД. Ф. 1669. Оп. 6. Д. 2. Л. 52.
(обратно)39
Там же. Ф. 1669. Оп. 6. Д. 4. Л. 3, 8, 26.
(обратно)40
ЦГАЛИ СПб Ф. 359. Оп. 2. Д. 106 Л. 59.
(обратно)41
Там же. Д. 30. Лл. 28–48.
(обратно)42
Там же.
(обратно)43
См. последнюю главу. Подробнее об истории создания таких перечней см.: Советская цензура в эпоху тотального террора. С. 132–149.
(обратно)44
ГАРФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 1392. Л. 137. См. также: Цензура в Советском Союзе. С. 416.
(обратно)45
Исключить всякие упоминания… Очерки истории советской цензуры. Минск; М., 1995. С. 315.
(обратно)46
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 97. Л. 87.
(обратно)47
Там же. Д. 189. Л. 181.
(обратно)48
Там же. Д. 108. Лл. 27, 38.
(обратно)49
Там же. Оп. 3. Д. 213. Л. 133.
(обратно)50
ИСПЦ. С. 584, 589
(обратно)51
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 113. Л. 14.
(обратно)52
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 218. Л. 7. Указание на направление и силу ветра могло означать, видимо, сигнал для использования ветра потенциальным противником в условиях газовой атаки или распространения боевых радиоактивных веществ.
(обратно)53
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359 Оп. 2. Д. 146. Лл. 113–114.
(обратно)54
Там же. Д. 101. Л. 35.
(обратно)55
Подробнее об этом см.: Блюм Л. В. За кулисами «Министерства правды». СПБ., 1994. С. 108–109.
(обратно)56
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 97. Л. 125.
(обратно)57
Там же. Д. 114. Л. 50.
(обратно)58
ИСПЦ. С. 589.
(обратно)59
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 203 Л. 75–76.
(обратно)60
Цит. по: Кречмер Дирк. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985. М., 1997. С. 23. Автор цитируемой книги своими словами пересказывает этот фрагмент выступления Абрамова на пленуме СП.
(обратно)61
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 102. Л. 57; Д. 107. Л. 10.
(обратно)62
Там же. Д. 241. Л. 20.
(обратно)63
Там же. Д. 150. Л. 6.
(обратно)64
ИСПЦ. С. 580–581.
(обратно)65
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Там же. Д. 147. Л. 30.
(обратно)66
Там же. Д. 147. Л. 18.
(обратно)67
Русские писатели: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 124.
(обратно)68
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 130. Л. 60.
(обратно)69
Процитированные выше документы помещены в одном архивном деле: Там же. Оп. 2. Д. 63. Лл. 3, 8, 17.
(обратно)70
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 89. Лл. 66–68; Д. 113 Л. 28.
(обратно)71
Форман М. Круговорот // Иностранная литература. 1995. Nq 4. С. 108.
(обратно)72
Об этом см.: Харитон Л. Затянувшаяся месть семидесятых // Русская мысль (Париж). 1999. № 4277. 8—14 июля.
(обратно)73
См. неопубликованные воспоминания Татьяны Ливановой «Телевидение — любовь моя (1963–1973)».
(обратно)74
Нева. 1991. № 5. С. 158–171.
(обратно)75
Ливанова Т. Указ соч.
(обратно)76
Муравьева И. А. Указ. соч. С. 169–170.
(обратно)77
История советской политической цензуры: Документы и материалы. М., 1997. С. 153–155. Справедливости ради стоит заметить, что А. Н. Яковлев (единственный, кажется, из крупных партийных функционеров) смог искренне покаяться.
(обратно)78
ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 9. Л. 7
(обратно)79
Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы //Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Сост., вступит, ст. В. Г. Белоуса. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 57.
(обратно)80
См. об этом специальную работу: Лютова К. В. Спецхран Библиотеки Академии наук: Из истории секретных фондов. СПб., 1999. Подробнее о практике изъятий см. вступительную статью в кн.: Запрещенные книги русских писателей…
(обратно)81
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 132. Лл. 119–120.
(обратно)82
Эти акты хранятся в Архиве PH Б (документы расформированного Отдела специальных фондов).
(обратно)83
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 113. Л. 42.
(обратно)84
Там же. Ф. 35. Оп. 2. Д. 113. Л. 42. Д. 108. Л. 13.
(обратно)85
Там же. Д. 147. Л. 222.
(обратно)86
Там же. Д. 147. Лл. 2–3; Д. 111. Лл. 21–22.
(обратно)87
Там же. Д. 130. Лл. 60–62.
(обратно)88
Распоряжение Главлита (по согласованию с ЦК КПСС). 28.01.1974. См.: ИСПЦ. С. 223–225; Цензура в СССР. С. 542–543. О своих цензурных мытарствах Солженицын сам рассказал в ряде автобиографических книг — «Бодался теленок с дубом» и других. См. также: Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов о А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998.
(обратно)89
ИСПЦ. С. 218–219, 224–225. Подробнее о цензурных преследованиях Солженицына и других писателей см.: Запрещенные книги русских писателей (по указателю имен).
(обратно)90
ИСПЦ. С. 573.
(обратно)91
ГАРФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 1603. Л. 24.
(обратно)92
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. д. 235. Л. 69.
(обратно)93
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 108. Л. 102.
(обратно)94
Там же. Д. 150. Лл. 26–27.
(обратно)95
Там же. Д. 149. Л. 14.
(обратно)96
Там же. Д. 186. Лл. 11–19.
(обратно)97
Там же. Д. 75. Л. 5.
(обратно)98
Там же. Оп. 2. Д. 87. Л. 6.
(обратно)99
ИСПЦ. С. 547–548.
(обратно)100
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 107. Лл. 54–55.
(обратно)101
Там же. Д. 241. Л. 25.
(обратно)102
Подробнее о технике тиражирования самиздата см.: Долинин В. Э., Северю-хин Д. Я. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат независимого культурного движения. 1953–1991. СПб., 2003. С. 44–45. Сокращенный вариант этой работы опубликован в кн.: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия… С. 7—51.
(обратно)103
Так названа глава 9 в двухтомнике А. Н. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия». (Т. 2. СПб, 2003. С. 188–287).
(обратно)104
ИСПЦ. С. 191–193.
(обратно)105
Карта. Российский независимый правозащитный журнал. 1994. № 4. С. 38.
(обратно)106
Подробнее об этом см. в упоминавшейся ранее уникальной литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда». Здесь же на с. 54–66 в разделе «Литература» указано более 200 источников и статей, посвященных этой теме.
(обратно)107
Преступление и наказание. Публикация И. А. Бер. Послесл. Я. А. Гордина // Звезда. 2000. №. 4. С. 13–18.
(обратно)108
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 113. Далее цит. лл. 21–30. См. также: Цензура в СССР. С. 451–453.
(обратно)109
ГАРФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 5493. Лл. 19–20.
(обратно)110
Подробнее о нем см.: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. С. 265–266.
(обратно)111
Процитированы документы из указ. выше (сноска 7) дела. Лл. 11–19.
(обратно)112
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 133. Лл. 43–56, 100. Лл. 52–57. Подробнее об этом см.: Блюм А. В. Еврейский вопрос под советской цензурой. СПб., 1996. С. 143–150.
(обратно)113
ЦГА ИПД. Ф. 1669. Оп. 6. Д. 7. Л. 58.
(обратно)114
Там же. Л. 54.
(обратно)115
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 100. Лл. 11–12.
(обратно)116
Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — литературовед, поэт, эссеист, историк искусства. С 1924 г. жил в Париже, профессор Русского Богословского университета.
(обратно)117
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 150. Лл. 4, 10, 17.
(обратно)118
Там же. Д. 13. Лл. 7, 118.
(обратно)119
Источник: /
(обратно)120
Подробнее о нем см.: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. С. 122.
(обратно)121
ЦГАЛИ СПб. Оп. 2. Д. 150. Л. 2–6 (далее ссылки на это дело опускаются).
(обратно)122
Струве Глеб Петрович (1898–1985) — один из крупнейших литературоведов и публицистов Русского зарубежья, автор множества работ по истории советской и эмигрантской литературы, часто сопровождавший своими вступительными статьями книги русских поэтов, изданных за рубежом. Среди его важнейших работ — книга «Русская литература в изгнании», впервые изданная нью-йоркским издательством им. Чехова; в России переиздана в 1996 г.
(обратно)123
ЦГАЛИ СПб. Оп. 2. Д. 150. Лл. 7—10. Как и в предыдущем случае, ссылки на это дело в дальнейшем опускаются.
(обратно)124
Михаил Геллер (1922–1997) — историк, с 1969 г. жил Париже и преподавал в Сорбонне.
(обратно)125
Архив РАН. Ф. 597. Оп. 3. Д. 10. Л. 23. Подробнее о цензурной судьбе произведений Булгакова см.: Запрещенные книги русских писателей… С. 57.
(обратно)126
Айхенвальд Юрий Александрович (1928–1993) — внук известного критика Юлия Исаевича Айхенвальда, в 1949–1951 гг. подвергался ссылке и насильственному заключению в психбольнице, активный участник правозащитной деятельности.
(обратно)127
См. подробнее: Блюм А. В. Английский писатель в стране большевиков. К 100-летию Джорджа Оруэлла // Звезда. 2003. № 6. С. 186–176.
(обратно)128
Подробнее об этом см. указ. выше исследование А. Н. Алексеева.
(обратно)129
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 150. Лл. 11–19. Как и предыдущих случаях, в дальнейшем ссылки на листы дела опускаются.
(обратно)130
Там же. Д. 100. Лл. 52–57. Подробнее об этом см.: Блюм А. В. Еврейский вопрос под советской цензурой. СПб, 1996. С. 143–150.
(обратно)131
Подробнее об этом см.: «Министерство правды». С. 192–222; Советская цензура в эпоху тотального террора. С. 180–195.
(обратно)132
Амфитеатров А. В. Сенсация и гласность // Горестные заметы. Очерки красного Петрограда. Берлин, 1922. С. 10.
(обратно)133
Цензура в царской России и Советском Союзе. Материалы конференции 24–27 мая 1993 г. М., 1995. С. 16.
(обратно)134
О цензурной судьбе Набокова в СССР см. нашу статью: «Поэтик белый, Сирин…» (Набоков о цензуре и цензура о Набокове) // Звезда. 1999. № 4. С. 198–203.
(обратно)135
Предисловие к английскому изданию романа «Дар» // В. В. Набоков: Pro et contra. СПб, 1997. С. 49.
(обратно)136
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 150. Л. 10.
(обратно)137
Там же. Лл. 8, 17, 19.
(обратно)138
Азадовский К. М. Как сжигали Серебряный век. Из доклада «КГБ и русский Серебряный век», произнесенного 29 мая 1993 г. на 2-й Международной конференции «КГБ: Вчера, сегодня, завтра» // Невское время. 1993. 2 июля. Далее цитируется эта публикация.
(обратно)139
ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 9. Л. 7
(обратно)140
Там же. Д. 150. Лл. 2–6. 11–19.
(обратно)141
Там же. Д. 55. Л. 13. Сотрудники «Библиотеки поэта», как я знаю, могут рассказать немало интересного по поводу прохождения не столько в цензуре, сколько в процессе издательской подготовки других сборников этой знаменитой серии. Насколько мне известно, над этой темой работает Л. С. Гейро, долгое время редактировавшая эти сборники и знающая «изнутри» всю сложную издательскую механику.
(обратно)142
См., например, специальный, посвященный 50-летию со дня выхода постановления, номер «Звезды» (1996, № 8). Для него, в частности, подготовлены и опубликованы покойным председателем петербургского «Мемориала» В. В. Иоффе хроника августовских событий и «Стенограмма общего собрания писателей, работников литературы и издательств», проведенного в Смольном 16 августа.
(обратно)143
ЦГА ИПД. Ф. 25. оп. 2. Д. 688. Л12..
(обратно)144
См. нашу публикацию: «Звезда» в годы Большого террора: хроника цензурных репрессий // Звезда. 1993. № 11. С. 170–181.
(обратно)145
См. подробнее: Ленинградское дело. Л.: Лениздат, 1990.
(обратно)146
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 49. Д. 451. Л. 59.
(обратно)147
Сидоровский Л. Когда я был журналистом. СПб, 2001. С. 108. См. также об этом инциденте: Татьяна Львова. К истории одного письма Ю. П. Германа // Нева. 2002. № И. С. 227–231; Левин М. И. Дни нашей жизни. Книга о Юрии Германе и его друзьях. М., 1984. С. 324.
(обратно)148
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М, 2001. С. 290.
(обратно)149
Здесь и далее цитируется по сборнику: Цензура в СССР. Документы С. 416–419.
(обратно)150
Цитируемые документы хранятся: ЦГАЛИ СПб… Ф. 359. Оп. 2. Д. 135. Лл. 135, 143-14.
(обратно)151
Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 89. Л. 7.
(обратно)152
Там же. Лл. 5—11.
(обратно)153
Имеются в виду сведения военного или экономического характера, попавшие в особый «Перечень сведений, не подлежащих оглашению в открытой печати».
(обратно)154
Идеологические комиссии ЦК КПСС. С. 512.
(обратно)155
О цензурных мытарствах Абрамова см. также параграф, посвященный «Неве», а также книгу: Крутикова Л. В. Дом в Верколе. Документальная повесть. Л., 1988.
(обратно)156
Ставcкий (Кирпичников) Владимир Петрович (1900–1943) — писатель и журналист, генеральный секретарь СП СССР в 1937–1941 гг. Был военным корреспондентом, погиб на фронте.
(обратно)157
Статья опубликована в Nq 10 за 1965 г. Критик не мог обойти имени А. Д. Синявского (1925–1997), автора вступительной статьи к вышедшему в 1965 г. в Большой серии «Библиотеки поэта» однотомнику Пастернака «Стихотворения и поэмы». Как известно, в 1965 г. А. Д. Синявский вместе с Ю. М. Даниэлем был арестован, а в феврале 1966-го осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в антисоветской деятельности. С 1973 г. жил во Франции, профессор Сорбонны. Упоминать его имя в печати запрещалось на протяжении четверти века.
(обратно)158
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 3. Д. 86. Л. 8.
(обратно)159
Там же. Д. 213. Л. 73.
(обратно)160
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 139. Лл. 195–197.
(обратно)161
См. о ней: Вольфганг Леонгард. Революция отвергает своих детей. Лондон, 1980. С. 278. Она была допущена к Сталину и вела с ним разговоры во время войны в 1943 г., которые в дальнейшем использовала для своих книг. Леонгард называет ее «коммунистической публицисткой», но дает такое любопытное примечание: «Анна Луиза Стронг была в феврале 1949 г. арестована, якобы за “шпионаж”, и выслана из СССР. 5 марта 1955 г. “Правда” сообщала, что ее арест был несправедлив и что обвинения против нее сняты. Ответственность за несправедливый арест был возложен на “бывшее министерство государственной безопасности с Берия и Абакумовым во главе”. Однако в 60-е годы снова отлучена, как “маоистка”».
(обратно)162
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 158. Л. 49.
(обратно)163
См. подробнее о перипетиях этой истории в чрезвычайно интересных и насыщенных воспоминаниях Г. Ф. Николаева «Освобождение “Звезды”. Штрих-пунктирные заметки» (Звезда. 2001. № 1. С. 112–154).
(обратно)164
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. 359. Оп. 2. Д… 177. Лл… 1–3. Далее ссылки на эти листы опускаются.
(обратно)165
Аджубей А. Те десять лет // Знамя. 1988. № 7. С. 99.
(обратно)166
Некрасов Виктор Платонович (1911–1986) — писатель, подвергавшийся гонениям в 1960-е годы. Эмигрировал во Францию в 1976 г.
(обратно)167
Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов // Октябрь. 2000. № 9. С. 153
(обратно)168
Там же. С. 156.
(обратно)169
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 89. Л. 7.
(обратно)170
Далее цитируются: ЦПАЛИ СПб. Ф. 177. Оп. 2 Д. 271. Л. 12; Д. 282. Л. 43.
(обратно)171
Подробнее об этом см. в нашей статье: Как за чеченскими книгами охотились // Новое время. 2005. № 6. С. 36–38.
(обратно)172
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 203. Л. 80.
(обратно)173
Николаев Г. Ф. Освобождение «Звезды». Штрихпунктирные заметки // Звезда. 2001. Nq 1. С. 112–154. Далее ссылки опускаются.
(обратно)174
См.: Петров А. Н. Не постыдимся вовеки // Нева. 1995. № 4. С. 209–212; История в трех письмах и четырех телеграммах / Публикация и комментарии Б. Н. Никольского // Там же. С. 212–216.
(обратно)175
РГАСПИ (бывший Центр, партийный архив). Ф. 17. Оп. 125. Д. 62. Л. 5. Об этом существует большая литература. См., в частности: Документы свидетельствуют… Из фондов Центра хранения современной документации. О писателе Эрнесте Хемингуэе // Вопросы литературы. 1993. Вып. 2. С. 234–253; Беляев А. На Старой площади // Вопросы литературы. 2002, № 3; Рубашкин А. Эрнест Хемингуэй и ЦК ВКП(б) // Нева. 1999. С. 203–206 (в этой статье частично процитирована справка Управления пропаганды и агитации по поводу романа) и др.
(обратно)176
Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы. М.: РОССПЭН, 1998. С. 36–37.
(обратно)177
Документы свидетельствуют… Из фондов Центра хранения современной документации. О писателе Эрнесте Хемингуэе // Вопросы литературы. 1993. Вып. 2. С. 243.
(обратно)178
Подробнее об этой истории см: Серебровская Е. О нем, о гордости нашей // Нева. 1998. № 2. С. 216–221; Серебровская Е. Между прошлым и будущим. Ч. 2. СПБ., 1995. С. 88–95.
(обратно)179
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 84. Лл. 70–71.
(обратно)180
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 54. Лл. 52–53. Далее ссылки на эти листы опускаются.
(обратно)181
Идеологические комиссии ЦК КПСС. С. 512. Из последних публикаций, посвященных цензурными мытарствам писателя, укажем статью: Рубашкин А. И. Двадцать лет спустя. Уроки Федора Абрамова // Звезда. 2003. № 6. С. 193–195. Имя писателя не раз мелькает в «Рабочих тетрадях» А. Т. Твардовского. Решив поддержать и защитить очерки, напечатанные в «Неве», «Новый мир» натолкнулся на решительное сопротивление цензурных и идеологических инстанций. Например: «Об очерке Абрамова “Вокруг да около” о бедствиях колхозников. Секретариат ЦК на обсуждении 9 апреля <1963 г. > квалифицировал очерк как “клеветнический”. Травля в печати. Статья И. Виноградова, поддержавшая Абрамова. Снята в верстке из № 4 “Нового мира”» (Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов // Октябрь. 2000. № 9. С. 139–189).
(обратно)182
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 114. Лл. 45–46.
(обратно)183
ЦГА ИПД (бывший Партийный архив). Ф. 24. Оп. 179. Д. 164. Лл. 10, 122–125.
(обратно)184
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 190. Лл. 120–123.
(обратно)185
Там же. Д. 203. Л. 45.
(обратно)186
Подробнее см.: Блюм А. В. Блокадная тема в цензурной блокаде // Нева. 2004. № 1. С. 238–244.
(обратно)187
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 203. Л. 45.
(обратно)188
Там же. Д. 213. Л. 60.
(обратно)189
Там же Д. 235. Лл… 1–3.
(обратно)190
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 106. Лл. 80–89. В дальнейшем ссылки на листы этого дела опускаются.
(обратно)191
Там же. Д. 130. Лл. 2—11. Как и прежде, ссылки на это дело в дальнейшем опущены.
(обратно)192
Там же. Д. 130. Лл. 55–57.
(обратно)193
Там же. Д. 138. Лл. 7, 118.
(обратно)194
Там же. Д. 179. Л. 4
(обратно)195
О жизни журнала в эти годы см.: Алексеева М. И. Как жаль, что так поздно, Париж! Рассказы, повести, стихи. СПб.: Пушкинский фонд, 1999.
(обратно)196
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Л. 25.
(обратно)197
Там же. Д. 73. Л. 7.
(обратно)198
Там же. Д. 79. Лл. 24–29. Далее ссылки на это дело опускаются.
(обратно)199
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. 1963–1966. М.: Согласие, 1997. С. 41
(обратно)200
Там же. Т. 2. С. 571
(обратно)201
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 83. Л. 144.
(обратно)202
Там же, Д. 78. Лл. 60–61; Д. 84. Лл. 89–90. Как и прежде, ссылки опускаются.
(обратно)203
См. подробнее: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. С. 134; Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий / Автор-сост. 3. Дичаров. СПб., 1993. Вып. 1. С. 109–119 (статья А. Горелова). Ее творчество представлено в единственной книге: Владимирова Е. Л. «Мы живы — товарищ…» М.: Возвращение, 1992. (Серия «Поэты — узники ГУЛАГа»).
(обратно)204
ЦГАЛИ СПБ. Ф. 31. Оп. 2. Д. 97. Л. 97.
(обратно)205
См. письмо Зощенко жене от 1 июля 1921 г. с подписью: «Супруг Михаил, он же кавалер ордена Обезьяньего Знака» (Лицо и маска Михаила Зощенко, М., 1994. С. 38).
(обратно)206
Блюм А. В. Художник и власть: 12 цензурных историй (К 100-летию М. М. Зощенко) // Звезда. 1994. Nq 8. С. 81–91. См. также: Советская цензура в эпоху тотального террора. С. 203–210.
(обратно)207
См., в частности, материалы, вошедшие в специальный «зощенковский» номер «Звезды», посвященный его 100-летию (1994. № 8). См. также: Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994; Томашевский Ю. Судьба Михаила Зощенко // Зощенко М. М. Собр. соч. в 5 т. Т. 5. М., 1994. С. 340–417. Файман Г. С. Уголовная история советской литературы, М., 2003. С. 137–297, и др.
(обратно)208
ГАРФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 404. Л. 5.
(обратно)209
Опубликована и прокомментирована покойным сопредседателем петербургского «Мемориала» В. В. Иоффе (Звезда. 1996. № 8. С. 3—25).
(обратно)210
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 7482. Лл. 68–69.
(обратно)211
ГАРФ. Ф. 9422. Оп. 2. Д. 84. Л. 177.
(обратно)212
РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 564. Лл. 6–7.
(обратно)213
Там же. Д. 537. Лл. 10–12.
(обратно)214
Вначале он существовал при Главлите, созданном 6 июня 1922 г. В 1936. он перешел в ведение Комитета по делам искусств при СНК СССР.
(обратно)215
РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 6. Д. 32. Лл. 98–99. В архивном фонде Главрепертко-ма хранятся десятки документов, касающихся запрета исполнения произведений Зощенко и Ахматовой. Автор собирается вернуться к этой теме и написать отдельную статью, основанную на этих документах. Проблема частично рассмотрена в работах В. П. Муромского, специально занимающегося этим вопросом. См., в частности: Судьба драматургического наследия М. М. Зощенко // Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 1. СПб, 1997. С. 152–171; «Непостижимо трудно сейчас в литературе…» // Там же. Кн. 3. СПб., 2002. С. 232–238.
(обратно)216
ЦГАЛИ СПб. Ф. 344. On. 1. Д. 114. Лл. 11–17.
(обратно)217
Талантливая книжка // Правда. 1921. 23 ноября. См.: Ленин В. И. Поли, собр. соч. Изд. 5. М., 1964. Т. 44. С. 249.
(обратно)218
ЦГАЛИ СПб. Ф. 344. Оп. 2. Д. 337. Лл. 54–55.
(обратно)219
Там же. Д. 79. Лл. 24–29.
(обратно)220
Там же. Д. 130. Лл… 55–57. Подробнее об этом см. нашу публикацию: Как «Авроре» не удалось отметить один юбилей (К 100-летию М. М. Зощенко) // Аврора. 1994. № 8. С. 99—101. Автором предполагавшейся к опубликованию статьи о М. М. Зощенко являлся критик Владимир Борисович Соловьев (в конце 70-х годов эмигрировал в США).
(обратно)221
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 203. Л. 4.
(обратно)222
Файман Г. Указ. соч. С. 289.
(обратно)223
Там же. С. 292–293.
(обратно)224
«…Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». М. М. Зощенко: письма, выступления, документы 1943–1958 годов / Публикация и комментарии Ю. Томашевского // Дружба народов. 1988. № 3. С. 168–189.
(обратно)225
Подробнее о цензурной судьбе книг Ахматовой см., в частности: Гончарова Нина. «Фаты либелей»… СПб.: РГБ, Летний сад, 2000; Крюков А. С. Уничтожение книг Анны Ахматовой // Филологические записки (Воронеж). 1994. Вып. 3. С. 210–221; Волков В. Ю. Цензура дает добро // Новый журнал. 1991. Nq3. С. 91–93; Цензура в эпоху тотального террора (указатель имен). ИСПЦ (указатель имен). В комментариях к более или менее полным собраниям сочинений Ахматовой читатель также найдет немало сведений по этому вопросу.
(обратно)226
Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы // Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Сост., вступит, ст. В. Г. Белоуса. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 57.
(обратно)227
Писатели и цензоры / Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1994. С. 46.
(обратно)228
Мандельштам Н. Я. Книга вторая. М., 1990. С. 308.
(обратно)229
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. 1963–1966. М.: Согласие, 1997. С. 298.
(обратно)230
Там же. Т. 2. С. 354.
(обратно)231
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Л. 26.
(обратно)232
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 319. Л. 20.
(обратно)233
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 149. Л. 22.
(обратно)234
Чуковская Л. Указ соч. Т. 2. С. 565.
(обратно)235
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 550. Л. 13. Списки хранятся в указанном и некоторых других делах этого фонда.
(обратно)236
«Ленинградское дело». Л.: Лениздат, 1990. С. 320. Недавно появилось историческое исследование Никиты Ломагина «Неизвестная блокада. Книга 1» (СПб.; М.: Нева, Олмапресс, 2002), в которой автор рассматривает некоторые малоизвестные аспекты, в частности, взаимоотношения Кремля и Смольного в годы войны, настроения ленинградцев в эти годы и т. д.
(обратно)237
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 320. Л. 8.
(обратно)238
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 320. Л. 88.
(обратно)239
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 320. Л. 2.
(обратно)240
ЦГА ИПД. Ф. 24. оп. 49. Д. 451. Л. 59
(обратно)241
«Ленинградское дело». С. 359.
(обратно)242
См. подробнее: Там же. С. 114, 352–353, 359, 361–362.
(обратно)243
ЦГА ИПД. Ф. 24. оп. 49. Д. 451. Л. 54.
(обратно)244
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 177. Л. 1. Воспоминания Т. Д. Хренкова вышли через три года г. под названием «Встречи с друзьями» (Л.: Сов. писатель, 1986). Текст в нем был восстановлен.
(обратно)245
См. например: Берггольц О. Ф. Об этой книге // Берггольц О. Ф. Собр. соч. в 3 тт. Т. 2. Л., 1989; Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 1. СПб., 1993. С. 59–64; Банк Н. Б. Ольга Берггольц. Критико-биогр. очерк. М.; Л., 1962: Павловский А. Стих и сердце. Л., 1962; Рубашкин А. И. Голос Ленинграда. Ленинградское радио в дни блокады. Изд. 2-е. Л., 1980.
(обратно)246
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 125. л. 38.
(обратно)247
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 49. Д. 451. Л. 63.
(обратно)248
Ему принадлежит ряд работ, в том числе «Краткий путеводитель по Феодальному периоду Херсонесского музея» (Симферополь: Крымгиз, 1939). Имя археолога стало причиной конфискации и книги В. Шевченко «Сокровища исчезнувших городов. Записки музейного работника» (Л.: Лениздат, 1948), поскольку он не раз упоминается в ней: «На с. 17, 18, 29, 79 и 64 положительно упоминается старший научный сотрудник Херсонесского Гос. историко-архивного музея А. К. Тахтай. На с. 83 помещен его портрет. По данным соответствующих организаций, упоминаемый работник во время Отечественной войны сотрудничал и работал у немцев» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 320. Л. 29).
(обратно)249
ЦГАЛИ СПб. Ф. 344. Оп. 2. Д. 337. Лл. 54–55.
(обратно)250
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 4394. Л. 38.
(обратно)251
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 68. Л. 68.
(обратно)252
ЦГА ИПД. Ф. 24. оп. 49. Д. 451 Л. 54.
(обратно)253
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359 Оп. 2. Д. 150. Лл. 23–25. См. также: Лютова К. В. Спецхран Библиотеки Академии наук: Из истории секретных фондов. СПб., 1999. С. 94.
(обратно)254
Подробнее см.: Запрещенные книги русских писателей. В индексе зарегистрировано свыше десятка имен ленинградских литературоведов.
(обратно)255
См.: Медведев Ю. П. Павел Николаевич Медведев // Распятые: Писатели-жертвы политических репрессий. Вып. 3. СПб, 1998. С. 43–48.
(обратно)256
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 35. Л. 238
(обратно)257
См. подробнее: Марк Азадовский. Юлиан Оксман. Переписка. 1944–1954 / Изд. подготовил Константин Азадовский. М.: Новое литературное обозрение, 1998; Азадовский К. М., Егоров Б. Ф. О низкопоклонстве и космополитизме // Звезда. 1989. № 6. С. 157–186); Азадовский К. М. «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 83—135.
(обратно)258
См. о нем: Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 1. СПб., 1993. С. 181–189; Серман И. 3. Пути и судьбы Григория Гуковского // Новое литературное обозрение. 2002. Кн. 55 (3). С. 54–65. Он же. Григорий Гуковский И Синтаксис. 1982. N910. С. 189–196; Азадовский К. М. «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 83—135.
(обратно)259
Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 4. От имени живых… СПб., 1998. С. 114–115.
(обратно)260
Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. Барселонская проза / Предисл. Н. О. Гучинской, Э. Либс-Эткинд; Послеслов. С. А. Лурье. СПб.: Академический проект, 2001. С. 118. Помимо указанной книги, см. также об этой истории: Эткинд Е. Г. Здесь и там. СПб.: Академический проект, 2004 (в книгу вошли работы Е. Г. Эткинда и воспоминания о нем); Егоров Б. Ф. Воспоминания. СПб., 2004. (Глава «Люди, нелюди и полулюди», с. 359–364).
(обратно)261
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 95. Л. 71.
(обратно)262
ИСПЦ. С. 218–219, 224–225. Подробнее о цензурных преследованиях Эткинда см.: Запрещенные книги русских писателей (по указателю имен).
(обратно)263
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 130. Лл. 28–48.
(обратно)264
Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 147. Л. 3; Д. 111. Л. 21–22; Д. 130. Л. 60.
(обратно)265
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Л. 27.
(обратно)266
Там же. Д. 73. Л. 1.
(обратно)267
Там же. Д. 79. Л. 28.
(обратно)268
Там же. Д. 68. Л. 4.
(обратно)269
Вопросы идеологической работы. М., 1961. С. 270. См. также: Идеологические комиссии ЦК КПСС. С. 142–143. Подробные комментарии по этому поводу см.: Цензура в СССР. С. 394–395.
(обратно)270
Идеологические комиссии ЦК КПСС. С. 143.
(обратно)271
Там же. С. 62.
(обратно)272
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 63. Лл. 5–6.
(обратно)273
Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов, 1878–1946) — историк русской общественной мысли, критик, литературовед. Принадлежал к партии левых эсеров. В 30-е годы не раз подвергался арестам и ссылкам. Летом 1941 г. не успел эвакуироваться из Пушкина под Ленинградом и оказался в зоне немецкой оккупации, позднее находился в лагере для перемещенных лиц. В 1943 г. печатался в берлинской газете «Новое слово», что и послужило причиной его обвинений в «пособничестве фашизму». См.: Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Сост., вступ. ст. В. Г. Белоуса. М.: Новое лит. обозрение, 2000. С. 257.
(обратно)274
10] ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д… 84. Лл. 74–76.
(обратно)275
Подробнее о нем. см: Динерштейн Е. А. А. К. Воронский: В поисках живой воды. М., 2001. С. 286–288.
(обратно)276
ЦГАЛИ СПб. Д. 59. Л. 5
(обратно)277
ИСПЦ. С. 95.
(обратно)278
ЦГАЛИ СПб. Ф.-359. Оп. 2. Д. 90. Лл. 37–38.
(обратно)279
Егоров Б. Ф. Из истории советской цензуры (издательские работники как «цензоры») // Литературоведение и журналистика. Саратов: Саратовский университет, 2000. С. 324. См. также: Егоров Б. Ф. Воспоминания. С. 365–370.
(обратно)280
Подробнее о его истории см.: Баскаков В. Н. Пушкинский Дом. Л., 1988.
(обратно)281
Снова напомню, что после 1965 г. научные и некоторые другие издания (например, литературные журналы) разрешалось представлять на предмет разрешения в виде версток.
(обратно)282
См. об этом: Академическое дело. 1929–1931. Сб. документов. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.
(обратно)283
Подробнее об этом см.: Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет культуры и искусств, 2003. С. 308. В спецхраны попал и т. 19–21 «Литературного наследства» — в связи с публикацией в нем статей Д. Святополка-Мирского и других репрессированных литературоведов. Горбачев Григорий Ефимович (1897–1938) — литературный критик, главный редактор журнала «Звезда» в 1925–1926 гг., автор ряда крупных работ по истории и теории литературы. Арестован в 1938 г., погиб в ГУЛАГе.
(обратно)284
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 2295. Л. 67.
(обратно)285
Подробнее об этом см.: Блюм А. В. Указ. соч. С. 348.
(обратно)286
См. подробнее: Распятые. Палачей судит время. Вып. 3. СПб., 1998. С. 90–97; Марк Азадовский. Юлиан Оксман. Переписка. 1944–1954 / Изд. подготовил Константин Азадовский. М.: Нов. лит. обозрение, 1998; «Искренне Ваш Юл. Оксман» (письма 1944—1970-х годов) / Публикация М. Д. Эльзона; Предисловие В. Д. Рака; Примечания В. Д. Рака и М. Д. Эльзона / Русская литература. 2003. № 3; 2004. № 1, № 2; 2005. № 4.
(обратно)287
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. О. 2. Д. 141. Лл. 46–47.
(обратно)288
Журнал «Русская литература»: 1958–1973 / Сост. В. П. Степанов. Л.: Наука, 1975. В. П. Степанов вклеивал в даримые им экземпляры машинописную справку, в которой указывал на все случаи цензурных вмешательств. С одним из таких экземпляров автору и удалось познакомиться. В настоящее время М. Д. Эльзоном составлен и находится в печати указатель содержания «Русской литературы» за 1958–2003 гг.
(обратно)289
Сообщено М. Д. Эльзоном.
(обратно)290
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2 Д. 203. Л. 77.
(обратно)291
В публикациях А. В. Лаврова и С. А. Фомичева «Дело о “Ежегодниках Рукописного отдела Пушкинского Дома”», вошедших в сборник «In memoriam. В память Владимира Аллоя» (СПб., 2005. С. 418–456), приведены документы и подробно рассказано о «внутренней кухне», сопровождавшей подготовку ежегодников к изданию.
(обратно)292
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 131. Лл. 57–58.
(обратно)293
Там же. Д. 168. Л. 80.
(обратно)294
Справка, составленная Н. Б. Парамоновой, хранится в делах бывшего спецхрана Б АН. Частично опубликована в сб.: На подступах к спецхрану. СПб., 1995. С. 82–83. См. также специальную работу: Лютова К. В. Спецхран Библиотеки Академии наук: Из истории секретных фондов. СПб., 1999.
(обратно)295
Лютова К. В. Указ. соч. С. 121.
(обратно)296
Подробнее об этой истории см. нашу статью «Арестованные книги B. И. Малышева» (Нева. 1998. Nq 10. С. 219–223).
(обратно)297
См. об этом публикацию писем А. М. Ремизова к В. И. Малышеву, подготовленную С. С. Гречишкиным и А. М. Панченко (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома за 1977 г. Л., 1979. С. 203–214).
(обратно)298
См.: Список печатных изданий В. И. Малышева // Наследие Древней Руси. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1992. С. 406–421; Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 340–345.
(обратно)299
См.: Назарова Л. Н. Воспоминания о Пушкинском Доме. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
(обратно)300
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Лл. 24–29.
(обратно)301
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 179. Д. 164. Лл. 10, 122.
(обратно)302
Сведения о разгроме «Ежегодников» почерпнуты из бесед с сотрудниками Пушкинского Дома В. П. Степановым и А. В. Лавровым, непосредственными свидетелями этой акции. Подробнее об этом см. в публикациях А. В. Лаврова и C. А. Фомичева в сборнике «In memoriam. В память Владимира Аллоя» (СПб., 2005).
(обратно)303
Благодарю главного хранителя «Древлехранилища имени В. И. Малышева» Владимира Павловича Бударагина, познакомившего меня с указанными экземплярами программ.
(обратно)304
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 186. Л. 30.
(обратно)305
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 170. Д. 31. Л. 69; ЦГАЛИ СПБ. Ф. 359. Оп. 2. Д. 130. Лл. 83–88.
(обратно)306
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 50. Л. 6. Д. 104. Л. 1. Д. 148. Л. 71.
(обратно)307
ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 113. Д. 127. Л. 3.
(обратно)308
ЦГА ИПД. Ф. 1169. Оп. 6. Д. 5. Л. 4.
(обратно)309
ЦГАЛИ СПб., Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Л. 33.
(обратно)310
Там же. Д. 81. Л. 61.
(обратно)311
Там же. Д. 84. Лл. 3–5.
(обратно)312
Там же. Д. 89. Лл. 46–47.
(обратно)313
Там же. Оп. 3. Д. 193. Л. 107.
(обратно)314
Там же. Д. 179. Л. 7.
(обратно)315
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 75. Л. 31.
(обратно)316
Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 79. Л. 24.
(обратно)317
Там же. Ф. 359. Оп. 2. Д. 68. Л. 39.
(обратно)318
Ф. 359. Оп. 2. Д. 81. Л. 20, 33, 53, 63.
(обратно)319
Там же. Д. 68. Л. 27.
(обратно)320
Там же. Д. 83. Л. 133.
(обратно)321
Там же. Д. 54. Лл. 1–2.
(обратно)322
Упомянуты: Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), Малевич Казимир Северинович (1878–1935) — крупнейшие представители русского художественного авангарда; Кшесинская Матильда Феликсовна (1872–1971) — балерина Мариинского театра, жившая с 1920 г. в Париже; Легат Николай Густавович (1869–1937, Лондон) — солист того же театра.
(обратно)323
Там же. Д. 130. Л. 37.
(обратно)324
Там же. Д. 79. Лл. 30–32.
(обратно)325
Там же. Д. 149. Лл. 21–22.
(обратно)326
Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. М.: РОССПЭН, 2001. С. 671.
(обратно)327
ГАРФ. Ф. 9425. ОП. 2. Д. 435. Л. 12.
(обратно)328
Там же. Д. 79. Л. 32.
(обратно)329
Там же. Д. 54. Л. 3.
(обратно)330
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 54. Л. 53.
(обратно)331
Там же. Д. 49. Л. 3.
(обратно)332
Там же. Д. 68. Л. 52.
(обратно)333
Там же. Д. 84. Лл. 65-67
(обратно)334
Там же. Д. 84. Лл. 65—67
(обратно)335
Там же. Д. 79. Л. 30.
(обратно)336
Подробнее об этом см.: Северюхин Д. «Выставочная проза» Петербурга: Из истории художественного рынка. СПб., 2003.
(обратно)337
ЦГАЛИ СПб. Д. 8i. Л. 63.
(обратно)338
Набоков В. В. Дар // Набоков В. В. Избранное. М.: Радуга, 1990. С. 219, 267.
(обратно)339
Некрасов Н. А. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1953. С. 34.
(обратно)340
Цит. по: Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. Ardis. Ann Arbor, 1988. С. 147–148. В книге дана объемная и впечатляющая картина интеллектуальной жизни человека того времени.
(обратно)341
Об этом и других анекдотических случаях обмана цензуры рассказывает Владимир Войнович в очерке «Главный цензор», вошедшем в его книгу «Антисоветский Советский Союз». См.: Войновин В. Н. Малое собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М.; Фабула, 1994. С. 159–165. Об истории с Гастевым говорится также и в «Пожилых записках» Игоря Губермана (Екатеринбург, 2002. С. 145–149).
(обратно)342
См. подробнее об этой истории подборку материалов в журнале «Техника — молодежи» (1995. № 5. С. 58–62), а также статью «Одиссея после “Одиссеи”» (Комсомольская правда. 1990, 7 февраля).
(обратно)343
Скабичевский А. М. Очерки по истории русской цензуры. 1703–1863. СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1892. С. 37–38.
(обратно)344
Там же. С. 96.
(обратно)345
Идеологические комиссии ЦК КПСС. С. 40.
(обратно)346
Подробнее см.: Енишерлов В. Возвращение Николая Гумилева // Наше наследие. 2003. № 67–68.
(обратно)347
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 106. Л. 87.
(обратно)348
Алексеева М. И. Как жаль, что так поздно, Париж! Рассказы, повести, стихи. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. С. 117, 119. В главе, названной «Семьдесят пятая страница» (с. 117–121), автор сообщает ряд других любопытных деталей, сопровождавших публикацию рассказа Голявкина.
(обратно)349
Егоров Б. Ф. Воспоминания. СПб., 2004. С. 263.
(обратно)350
См.: Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950—1960-е годы. М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 174.
(обратно)351
Битов А. Повторение непройденного // Алешковский Юз. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1996. С. 547.
(обратно)352
Впечатляющая панорама нарисована в обстоятельной статье Карла Ай-мермахера «Шесть лет перестройки в области культуры — предыстория и ход событий» (Slavia Orientalis. 1992. Т. XLI. № 1. С. 79–93).
(обратно)353
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 219. Л. 12.
(обратно)354
Там же. Д. 219. Л. 18.
(обратно)355
Этому изданию посвящена большая литература. Наиболее значительная работа: Круг и вокруг, или к истории одной круговой поруки. Ламентации цензора с комментариями / Автор проекта М. А. Золотоносов // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 234–251. Полную библиографию см.: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. С. 416. См. также: Шнейдерман Э. Клуб-81 и КГБ // Звезда. 2004. № 8. С. 209–217.
(обратно)356
ЦГАЛИ СПб. Д. 133. Лл. 74–77.
(обратно)357
Полный текст донесения см. в публикации: Как писателей в диверсанты зачисляли. Рассекреченные документы ЦК КПСС // Российская газета. 1994. 14 янв.
(обратно)358
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 235. Лл. 1–3. Многостраничные документы об этом деле вошли в кн.: Цензура в Советском Союзе. С. 530–536.
(обратно)359
История в трех письмах и четырех телеграммах / Публикация и комментарии Б. Н. Никольского // Нева. 1995. № 4. С. 212–216. Соколов В. Мы курировали идеологию. Заметки бывшего цензора // Print publishing. Российский журнал печатной коммуникации. СПб., 1993. № 1. С. 38–42.
(обратно)360
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 1012. Л. 83.
(обратно)361
ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 1006. Лл. 226–236.
(обратно)362
Там же. Д. 1014. Л. 17.
(обратно)363
Там же. Д. 1002. Л. 226.
(обратно)364
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 235. Л. 16.
(обратно)365
Там же. Д. 240. Л. 1.
(обратно)366
Там же. Л. 31.
(обратно)367
Цит. по: Цензура иностранных книг в Российской империи и Советском Союзе. Каталог выставки. Приложение. С. 3.
(обратно)368
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 2. Д. 248. Лл. 1–4.
(обратно)369
Подробнее об этом см.: Горяева Т. М. С. 375–377.
(обратно)370
Там же. Ф. 359. Оп. 3. Д. 255. Лл. 5—14.
(обратно)371
Там же. Лл. 21–27.
(обратно)372
Там же. Д. 253. Л. 52.
(обратно)373
Там же. Д. 252. Л. 10.
(обратно)374
По истории разработки и выхода в свет проекта «Закона» существует большая литература. См., например: Фр. Незнанский. Родилась ли в стране «четвертая власть» // Посев. 1990. № 5. С. 24–32.
(обратно)375
ЦГАЛИ СПб. Ф. 359. Оп. 3. Д. 253. Л. 752.
(обратно)376
Там же. Д. 252. Л. 37.
(обратно)377
Там же. Д. 265. Л. 71.
(обратно)378
Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С 497–500. Впервые — в сб. «Вешние воды». 1916. Т. 12–14. С. 193–200.
(обратно)379
Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1962. Документы. М., 1998. С. 141–142.
(обратно)380
Любопытные факты такого рода приведены в статье: Чупринин С. Жизнь по понятиям // Знамя. 2004. № 12. С. 151–153.
(обратно)381
См., например, интервью с генеральным секретарем Российского союза журналистов Игорем Яковенко (Независимая газета. 2001, 19 апреля).
(обратно)382
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 15–16.
(обратно)383
Этой проблемой очень интересуется известный английский исследователь Мартин Дьюхирст. См. его статью «Цензура в России в 1991–2001 годах»: Dewhirst Martin. Censorship in Russia // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2002. March. Vol. 18. № 1. P. 21–34. См. также: Свинин В. Скрип механизмов свободы слова // Независимая газета. 2001, 1 июня. Емель-яненко В. Виза на свободу слова // Московские новости. 2000. № 17 (2–8 мая).
(обратно)384
Симонов А. Шесть видов цензуры // Вечерняя Москва. 1996, 6 апреля. Фонд внимательно следит за состоянием свободы слова и печати в России. Информация по этому вопросу часто появляется на страницах парижской газеты «Русская мысль», журнала «Досье на цензуру» и в других изданиях. См. материалы «круглого стола», опубликованные в «Досье на цензуру» (1997. № 1. С. 23–25). В 2004 г. вышел тематический номер журнала «Досье на цензуру» (№ 20) со статьями Бориса Дубина «Дары свободы», Алексея Симонова «Заметки о цензуре и около», Виктора Шендеровича «Цензура сегодня — дело добровольное», Андрея Пионтковского «Самая эффективная форма цензуры — самоцензура» и других писателей и публицистов. В них затрагиваются самые различные аспекты этой актуальной проблемы.
(обратно)385
См.: Абрашкин С., Николаев К. Все явное становится тайным. Реализация указа о гостайне может нанести ущерб безопасности России // Коммерсант-Daily. 1998, 28 янв.; Рихтер А., Кравченко Ф. Никто, кроме цензуры, не знает, что является гостайной. Но за ее разглашение газету могут закрыть // Журналист. 1998. № 1. С. 50–51.
(обратно)386
Мирзоянов В., Федоров Л. Отравленная политика // Московские новости. 1992. № 38 (20 сент.).
(обратно)387
См. об этом нашу статью: «Благонамеренный и грустный анекдот…», или Путешествие в архивный застенок // Звезда. 2001. № 2. С. 210–214.
(обратно)388
Составил М. Д. Эльзон.
(обратно)


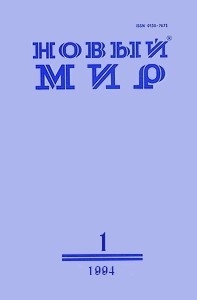
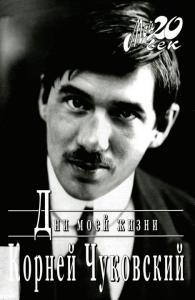

Комментарии к книге «Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки», Арлен Викторович Блюм
Всего 0 комментариев