Игорь Ефимов СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ И СПИСОК ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 1997-2017
Новый Нострадамус Закат Америки в XXI веке
ИСТОРИЯ НЕРАВЕНСТВА
Что бы ответил на экзамене студент исторического факультета, если бы ему попался в билете такой вопрос:
"О каком государстве и в какой исторический момент идeт речь в нижеследующем отрывке:
"Форма политического правления республика; каждый полноправный гражданин участвует в выборах местных и центральных властей.
Международное положение доминирующее; в мире нет военной силы, которая могла бы тягаться с данной страной.
Главные черты исторического развития за предшествующие 200 лет безостановочное расширение границ и возрастание численности населения.
Этнический состав конгломерат многих национальностей при господстве одного официального языка.
Состояние экономики уверенный рост общенационального богатства на основе развитых рыночных отношений".
Конечно, студент только усмехнeтся лeгкости вопроса и уверенно напишет ответ: "Соединeнные Штаты Америки, конец XX века".
Но если бы этот студент хорошо знал историю Древнего мира и написал бы: "Римская республика в конце II века до Р. Х.", его профессора должны были бы поставить ему за ответ тоже пятeрку.
Ибо сходство историко-политических ситуаций здесь поразительное.
Нет, мы не поддадимся соблазну игры в прямые исторические параллели и аналогии.
Мы не станем уподоблять победы Рима над Карфагеном и Коринфом в середине II века до Р. Х. победам Америки над Германией и Японией в середине века XX.
А затяжные войны Рима в Северной Африке 20 лет спустявойне во Вьетнаме.
А убийство братьев Гракхов (133 и 121 гг. до Р. Х.)убийству братьев Кеннеди (1963 и 1968).
А ослабление угрозы со стороны галльских и германских племeн, ознаменованное разгромом кимвров и тевтонов в 102 году до Р. Х., развалу коммунистического блока в 1990-е годы.
Мы попытаемся остаться в рамках социального анализа, включив в него, однако, вечную борьбу состязательного и уравнительного принципов мышления, вечную борьбу между высоковольтными и низковольтными. И тогда похожесть историко-политической ситуации высветится ещe нагляднее.
Главное сходство: и там, и там республика, изначально созданная высоковольтными на сугубо состязательном принципе, за два века существования достигает такой экономической и военной мощи, что в еe телов результате завоеваний, иммиграции, торгово-промышленного обменасо всех сторон вливаются миллионы и миллионы низковольтных. И это перерождение этнического и генетического состава населения начинает оказывать мощное давление на политическую ситуацию в стране, открывает двери проникновению уравнительного принципа во все стороны жизни.
"Как можно сравнивать рабовладельческий Рим с Америкой, где равенство граждан возведено в культ?" возразят нам.
Но дело в том, что в индустриальную эпоху нет нужды ввозить в страну дешeвую рабочую силу. Китайский, бразильский, доминиканский, индийский рабочий, который трудится за несколько центов в час, изготавливая для американцев рубашки, башмаки, зонтики, простыни, коврики, создаeт такую же конкуренцию американскому труженику, какую в Древнем Риме создавали римским крестьянамсвободным гражданамввозимые рабы. Да и миллионные армии сезонных рабочих, пересекающих каждое лето легально и нелегально мексикано-американскую границу, добавляют свою долю.
Рабский труд стал активно применяться в Риме лишь в начале II века до Р. Х. и очень скоро города стали заполняться разорившейся беднотой, для которой пришлось учредить бесплатные раздачи муки, масла, бекона. Точно так же и в Америке массовый ввоз дешевых товаров из Азии и Южной Америки начинается только с середины века, и именно это приводит к необходимости создания системы велфера и пособий по безработице.
В управлении экономикой страны свободный рынок за последние 80 лет должен был сильно потесниться, давая место силовым командным структурам. Мафия сумела взять под свой контроль не только незаконный бизнеснаркотики, проституцию, подпольные игорные дома, но и вполне законные профсоюзы шофeров, мусорщиков, текстильных рабочих, портовых грузчиков и др. Точно так же и в Риме конца II века до Р. Х. огромные участки земли были захвачены могучими семейными кланами в нарушение традиционного права. Братья Гракхи пытались вернуть эту землю римским гражданами заплатили за это жизнью. Точно так же и братья Кеннеди попытались начать наступление на силовые мафиозные кланы (вспомним только атаки Роберта Кеннеди на Карлоса Марселло и Джимми Хоффа) и были в результате убиты.
Вытеснение состязательного принципа из американской экономической жизни идeт незаметно на многих фронтах. Например, все фирмы и корпорации, выполняющие государственные заказы, имеют дело не с собственником, который должен считать каждый доллар, а с чиновником, которому казeнных денег не очень жалко. В этой сфере реальное противоборство между производителями подменяется закулисной борьбой по оттеснению конкурентов. В результате и возникают скандальные парадоксы, когда поставщик бомбардировщиков может вставлять в смету 600-долларовую стоимость пластмассового сиденья для самолeтного туалета при стоимости огнетушителя800.
Казалось бы, монополии в Америке запрещены и существует обширное законодательство против образования трестов. Однако на деле чуть не каждый месяц мы слышим сообщения о новых и новых слияниях индустриальных и финансовых супергигантов. И разрешения на эти слияния выдаются всe легче.
В сфере предложения труда состязательный принцип оттеснeн ещe дальше. Автомобильные концерны Крайслер, Форд и Дженерал Моторс вынуждены конкурировать между собой и с иностранными производителями. Но профсоюз рабочих автомобильной промышленноститолько один. И он может диктовать нанимателям условия, какие не снились рабочим других отраслей. Профсоюз пилотов угрозами забастовок добился от авиакомпаний зарплат, приближающихся (вместе с дополнительными льготами) к 200 тысячам долларов в год.
Получить работу, иметь работу всегда было для американца предметом гордости, служило основой его самоуважения. Но в конце XX века многолетние усилия уравнителей увенчались успехом, и им сегодня дана возможность разрушить "неравенство" между имеющим работу и безработным. Называется это "реформа велфера". Хочешь получать пособиеиди, мол, работай, а то лишим средств к существованию. По сути дела создаeтся система принудительного труда. Реальной конкуренции бывший получатель пособия американскому рабочему не составитслишком низка его квалификация. Но моральный ущерб будет огромен. Будут искусственно созданы миллионы рабочих мест, на которых "новые работники" станут отбывать рабочие часы точно так же, как это происходило в странах Советского блока. ("Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем".) В экономическую жизнь страны вольются миллионы людей, которые смотрят на труд как на проклятье, и они заразят своим мироощущением миллионы других.
Всe же автомобильная промышленность, авиационные линии, торговый и пассажирский флот вынуждены конкурировать с иностранными фирмамии это накладывает узду на аппетиты профсоюзов. Однако в американской экономике есть отрасли, огражденные законом от иностранной конкуренции. Таковы, в первую очередь, медицина, фармакология, юридические услуги, в значительной степенибанковское дело. И именно в этих отраслях происходит астрономический рост цен.
Госпиталь может предъявить пациенту счeт на 15 тысяч долларов за три дня в палате на двоихи сюда не входят счета хирурга и анестезиолога за операцию, эти потребуют ещe около пяти тысяч.
Стоимость многих лекарств доведена до уровня, недоступного среднему человеку без медицинской страховки. И почти все они могут быть получены только по рецепту врача, то есть при условии обязательного дорогостоящего визита к специалисту.
Счета адвокатов могут довести до грани разорения даже американского президентавспомним супругов Клинтонов, которые объявили сбор средств на оплату своих многочисленных судебных тяжб.
Банки настолько уверенно держат в своих руках работающего американца (он ведь вынужден сначала выплатить почти весь процент по займам на покупку дома и автомобиля, а уж только потом может начать выплачивать основной долг), что даже не утруждают себя открывать ему двери в те часы, когда он кончает работу, все закрываются в 3 часа дня.
И всe же грабительские успехи этих четырeх монополий меркнут рядом с тем, чего удалось добиться СТРАХОВОМУ БИЗНЕСУ.
Свободный рынок, по определению, есть место, где свободный продавец встречается со свободным покупателем. Каждый из них волен купить или не купить, продать или не продать товар или услугу за оговариваемую цену. Состязательный ум строго следит за сохранением этой свободы и громко протестует, когда еe ущемляют. Если человеку или предприятию мешают свободно торговать продуктом своего труда, это вызывает в Америке единодушное осуждение.
Ну, а что получится, если мы запретим человеку не покупать?
— Как это?спросит американец с недоумением. Как можно "запретить мне не покупать"? Такого не бывает. Покупая, я всегда остаюсь свободен.
И, используя эту наивность, прикрываясь словом "покупать", уравнительный принцип сумел просочиться в американскую экономику с тыла. Зная, что слово "социализм" в США крайне непопулярно, уравнители-демократы всюду проводили свои реформы под "рыночной" личиной. И они нашли для этого великолепный инструмент, танк, таран: страховой бизнес. За последние три десятилетия страховой бизнес превратился в гигантского Троянского коня, внутри которого уравнительный социализм проник на свободный рынок и теперь пожирает американскую экономику изнутри.
Всe это началось примерно 30 лет назад, в правление президента Линдона Джонсона, обещавшего построить так называемое "Великое общество" ("Great Sосiеtу"). В 1965 году была наконец осуществлена давнишняя мечта демократовподписан закон об учреждении Программ медицинской помощи престарелым, увечным и обездоленным (Меdiсаrе и Меdiсаid). Казалось бы, что можно было возразить против этого гуманного и благородного акта? Обращаясь к бывшему президенту, Гарри Трумэну, который пытался провести в жизнь этот закон ещe в 1948 году, Джонсон сказал: "Может быть, только вы, президент Трумэн, можете понять, как счастлив и благодарен я за сегодняшний день". [1]
Когда государство принимает на себя какую-то важную общественную функцию, изымая еe из действия рыночной структуры, эта мера считается шагом в сторону социализма. Американские законодатели знают, что социализм опасен, неэффективен и непопулярен в Америке. Чтобы сгладить неприятный социалистический оттенок нового закона, решено было соединить его с эффективным рынком. Нет, мы не будем создавать государственную сеть больниц и клиник для бедных и престарелых. Мы создадим гигантское страховое общество, которое будет получать деньги за счeт налогообложения и оплачивать медицинские счета больниц и врачей, берущих на себя лечение неимущих.
Вводимые законы не казались поначалу опасными даже стороннику состязательного принципа. Ведь на рынке останется множество страховых компани%0й, они будут конкурировать между собой, и это удержит цены на нормальном уровне. В 1960-е годы стоимость медицинской страховки была относительно невелика, поэтому общенациональный налог на покупку этого вида услуг не выглядел пугающим.
Но, как и следовало ожидать, этот рыночно-социалистический гибрид начал превращаться в ненасытного дракона уже с первых дней своего существования. За пять лет (1966–1971) цены на медицинское обслуживание возросли на 40 %, а на пребывание в госпиталена 70 %. [2]До 1965 года Федеральное правительство тратило на медицинское обслуживание 4, 8 % бюджета, или 5, 2 миллиарда долларов, а в 1969-муже вдвое больше. [3]Всего за четверть века (с 1950 по 1977-й) государственные расходы на медицинское обслуживание возросли с 12 миллиардов до 160. [4]
Однако учреждение государственных Программ медицинской помощи было только началом. Всe же оно потребовало введения дополнительного налога, что вызывает естественное сопротивление и недовольство. Лисий социалистический ум продолжал искать новых возможностей в богатом рыночном курятнике. Вот например: как лечить людей, не достигших ещe 65 лет, продолжающих работать, но не имеющих денег на дорогое лечение? Опять вводить дополнительный налог? Но избиратель может взбунтоваться. А почему бы не обязать предпринимателей покупать медицинскую страховку для своих работников на свободном рынке? Предпринимателей никто жалеть не будет. А то, что они вынуждены будут из-за этого поднять цены на свои товары, мало кто заметит.
Дальшебольше. Тысячи людей попадают каждый год в автомобильные аварии, их привозят в больницы с различными травмами и ранениями. И среди этих пациентов непременно будут такие, у которых нет медицинской страховки. Кто оплатит их лечение? Государство? Штат? Опять новое налогообложение? Но зачем? Мы выпустим закон, обязывающий каждого автомобилиста покупать страховку на лечение тех несчастных, которых он когда-нибудь может сбить своим автомобилем.
И самих врачей мы заставим покупать страховку против иска за неправильное лечение.
И владельцев маленьких бизнесов обяжем иметь страховки от несчастных случаев, которые могут случиться с их клиентами. Поскользнeтся старушка в супермаркете, сломает бедроплати страховкy! Другая облила себя горячим кофе в ресторанчике, и добрые присяжные присудили рестораннoй корпорации выплатy сколькиx-то миллионовот этого тоже нужна теперь страховка.
За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены были закрыться, ибо не имели возможности платить неудержимо растущие страховые премии. А там, где закрываются мелкие бизнесы, конкуренция ослабевает и крупные могут гораздо быстрее повышать свои цены.
Знаменитый защитник американского потребителя, Ральф Надер, в своей книге "Как победить в страховой игре" приводит следующие цифры: в 1990 году американцы заплатили страховым компаниям 406 миллиардов долларов. (Это вдвое больше, чем 1981 году.)[5]Средняя американская семья платит ежегодно около 3000 долларов страховки непосредственно и около 4500 долларов в скрытом видепереплачивая за товары и услуги тех фирм, которые вынуждены покупать различные виды страховок. Это составляет около 12 % всех семейных расходов, то есть для многих семей превышает подоходный налог. [6]
К сожалению, название книги Надера таит в себе самообман, в плену которого оказались многие американцы. Победить в страховой игре невозможно. Мы выданы страховым гигантам с руками и ногами, с головой и потрохами. Ибо страховой бизнесединственный сектор американского рынка, который утратил право называться "свободным". Если "добросердечные" законодатели заставляют нас покупать какой-то товар, наша свобода уничтожена. И цены неизбежно и неудержимо будут лететь только вверх.
Конкуренция действует повсюду, но только не в сфере страхового бизнеса. От иностранной конкуренции он защищен законами, запрещающими иностранным страховым компаниям оперировать в Америке. От внутренней конкуренции страховые компании защищены законом, запрещающим другим финансовым организациям (например, банкам) продавать какие бы то ни было виды страховки. [7]И самое главное: страховой бизнес изъят из-под действия антитрестовского законодательства. [8]По идее, расценки должны регулироваться государственным учреждением, которое называется Insurаnсе Services Оffiсе, и штатными комиссиями. Но как можно вкручивать мозги государственному чиновнику, помнит любой советский экономист, выбивавший в своeм министерстве нужные цифры плана, "расценки" и прочие "показатели".
Эндрю Тобиас в своей книге "Невидимые банкиры" приводит много интересных данных о манипулировании финансовой отчeтностью, намного превзошедшем советские трюки. Например, страховая компания Сэйнт-Поль доложила, что в 1975 году она потеряла деньги на страховке от исков за неправильное лечение, но когда исследователи проверили цифры, выяснилось, что компания за этот период собрала с застрахованных врачей 52 миллиона, а выплатила компенсаций только 6 миллионов долларов. Та же компания за 1975–1978 годы собрала с застрахованных клиентов 415 миллионов долларов, а выплатила компенсаций 78 миллионов. [9]Ещe 87невероятно раздутыхмиллионов пошло на административные расходы. Но оставшиеся 250 миллионов не будут фигурировать как доход компании. Они могут быть названы "расходы на расширение фонда надeжности". О том, сколько было получено денег от вклада этих миллионов в различные ценные бумаги, вообще никто не упоминает.
Директор Страховой комиссии штата Флорида заявил в своей речи, что "регулирование страховых компаний во Флоридеэто миф, иллюзия. У нас нет возможности выяснить размеры доходов страхового бизнеса". [10]
Директора страховых компаний"…отвечают только самим себе. Они стремятся наращивать бизнес, не уменьшать его. Можно было бы ожидать сдерживающего воздействия со стороны рынка… Но стоимость страховки оценивать крайне трудно и потребитель не может отличить одну компанию от другой". [11]
Опасность раковых заболеваний состоит в том, что организм человека "не опознаeт" клетки рака как чужеродные, не вступает с ними в борьбу, ибо они научились притворяться "своими".
Опасность сегодняшнего страхового бизнеса в том, что американская рыночная структура не опознаeт его антирыночной сути, не имеет аппарата ограничения его болезненного роста и пребывает в иллюзии, что это нормальная ветвь экономической деятельности государства.
Там, где у потребителя нет выбора "купить или не купить", рынок кончается. Страховой бизнес превратился в удобную скрытую форму налогообложения. Но если обычное налогообложение избиратель может как-то регулировать, оказывая давление на законодателей, скрытое страховое налогообложение он регулировать не может. И оно будет расти неудержимо каждый год.
Угроза усугубляется тем, что такое положение оказывается выгодным и политическим, и экономическим лидерам страны. Страховые компании в большинстве своeм принадлежат различным финансовым гигантам, являясь наиболее доходными звеньями в их структурах. Штатные комиссии, которым надлежит регулировать страховой бизнес, сплошь и рядом состоят из людей, которые владеют акциями страховых компаний или занимали в них высокие посты и часто возвращаются обратно на свои доходные должности. [12]Захотят ли они портить отношения со своими будущими работодателями?
Политики получают возможность уворачиваться от реального решения тех или иных социально-экономических проблем, подсовывая страховой бизнес как якобы рыночный выход из положения.
Например, сенатор Кеннеди, в союзе с Американской ассоциацией врачей, уже много лет пытался провести закон, по которому ВСЕХ предпринимателей обязали бы покупать медицинскую страховку для своих работников. А президент Клинтон наложил вето на законопроект, устанавливающий потолок для размера исков против врачей за неправильное лечение, что, естественно, подняло ещe выше размеры соответствующей страховки для врачей.
Страховой бизнес в Америке давно приобрeл главное свойство социалистического предприятия: полную свободу от требований рынка. Однако при этом он не утратил главное свойство предприятия рыночного: стремления получать максимальный доход. Поэтому он и превратился в опасную опухоль, высасывающую здоровые соки из рыночного организма страны.
Америкаединственная страна индустриального мира (не считая Южной Африки), где не существует Общенациональной системы здравоохранения. Когда снова и снова вспыхивают жаркие дебаты по этому вопросу, противники кардинальных реформ извлекают жупел социализма. Но они при этом не замечают, что aмериканская медицина давно уже сумела выстроить для себя крепкую социалистическую раковину. Одна створка этой раковиныстраховой бизнес, вырвавшийся из трудной рыночной борьбы в спокойную гавань социалистической монополии, что позволяет ему благодушно смотреть на неудержимый рост цен на медицинское обслуживание (ему ведь, за исключением некоторых частных случаев, чем вышетем лучше: будет повод обратиться в надзирающие комитеты за разрешением на очередное поднятие расценок). Другая створкасистема Медикера и Медикейда, которая без споров оплачивает счета врачей и больниц социалистическимито есть взятыми у насденьгами, которых чиновникам, выписывающим чеки, совсем не жалко.
В страховом бизнесе занято около двух миллионов человек. То есть вдобавок к дорогому медицинскому обслуживанию мы должны содержать на высоких окладах два миллиона человек, не производящих никакой полезной работы.
Чем грозит стране этот неудержимый рост цен на страховку? И можно ли что-нибудь сделать, чтобы остановить его? И знаем ли мы в истории другие примеры подобного искажения рыночной деятельности?
Последний вопрос парадоксальным образом возвращает нас к сравнению сегодняшней Америки с Древним Римом. Ибо и там политико-экономическая ситуация привела к возникновению диковинной, дотоле невиданной фигуры: откупщик.
Сбор налогов в Древнем Риме был тоже делом нелегким. Нечестные чиновники присваивали себе солидную часть собираемого, народ уклонялся от уплаты как только мог, а если становилось невмоготу, начинал бунтовать. Передача сбора налогов в руки частного лица, с одной стороны, обещала большую эффективность, с другойпереносила гнев населения с правителя на откупщика. Он уплачивал в государственную казну требуемую сумму, а государство отдавало ему монопольное право собирать с подданных тот или иной налог. И уж он собирал на совесть! Ибо собирал теперь в собственный карман. Защиты от него не было, и жаловаться на него никто не мог.
Примерно такую же роль выполняет страховой бизнес в сегодняшней Америке. Ибо все формы обязательного страхованияэто скрытое налогообложение, которое политики не смогли бы провести обычным законодательным путeмизбиратель взбунтовался бы. Когда же налогообложение оформлено в виде покупки страхового полиса, мы остаeмся при иллюзии, что происходит обычная купля-продажа на свободном рынке.
Нас обмануть нетрудно. Но не наш кошелeк. Он делается тоньше и тоньше с каждым годом. Замечено, что по уровню сбережений на человека Америка скатывается всe дальше и дальше вниз. Тридцать лет назад американец, имевший работу, мог содержать семью в приличном достатке. Сегодня и двое работающих должны трудиться очень напряженно, чтобы сводить концы с концами.
Под гнeтом неконтролируемых налогов, вводимых по каналам принудительного страхования, первыми будут гибнуть самые трудолюбивые и самые законопослушные граждане. Ибо именно они будут стараться из последних сил честно оплачивать страшные медицинские счета и страховые полисы. То есть самые здоровые клетки общества окажутся первыми жертвами этой финансовой саркомы. Но в конечном итоге, рано или поздно, болезнь станет ощутимой и для всего общества в целом. И последствия этого процесса предсказать невозможно.
Нет, мы не будем отыскивать в грядущих десятилетиях американской истории нового Суллу, проскрипции, восстание Спартака, Катилину, Юлия Цезаря, Калигулу, Нерона. Но если наблюдаемые сегодня процессы будут продолжаться, политический кризис неизбежен. Уменьшение процентного числа высоковольтных ослабляет способность нации предвидеть приближение опасности, а победы уравнительных идей ослабляют влияние высоковольтных на жизнь обществаи тогда близорукость низковольтного окрашивает всю политическую и общественную деятельность.
Большинство исторических катастроф приходит внезапно. Весной 1914 года европейцы не предчувствовали, что этот год принесeт начало войны, которая разрушит весь старый порядок и унесeт миллионы жизней.
И подданные Российской империи, встречая Новый 1917 год, и подумать не могли, что следующий Новый год они будут встречать под властью большевиков.
И американские биржевики летом 1929 года не поверили бы, если бы им сказали, что в ноябре-декабре многие из них пустят себе пулю в лоб или выбросятся из окна.
Скорее всего, и в этот раз надвигающийся кризис начнется с биржевой катастрофы. И правительство, и население Соединeнных Штатов так перегружены долгами, что рано или поздно (думается, около 2020 года) тяжесть этих долгов прорвет плотину Федерального резерва и других предохранительных финансовых сооружений, выстроенных высоковольтными хозяевами вещей после катастрофы 1929 года.
Следующим неизбежным этапом будет вручение диктаторских полномочий правящему президенту или какому-нибудь популярному генералу. Ибо только военное положение сможет усмирить хаос, который начнется в стране. С какой мерой жестокости будет восстанавливаться порядок, какими индивидуальными свободами придется пожертвовать, дойдeт ли дело до отпадения отдельных штатов, до гражданской войны, или ограничится серией разрозненных бунтоввсe это в огромной мере будет зависеть от исторических случайностей, от личности диктатора, от международной обстановки. Но при всeм этом угроза перерождения Американской республики в Американскую империю близка, реальна, психологически убедительна, исторически логична.
Мировая история не знает примеров, когда бы демократическое правление удержалось дольше трeх веков. Единственное исключениеШвейцария. Но она потому и является исключением, что с самого начала отказалась от внешнего расширения и строго ограничила иммиграцию чужеродных элементов. Все остальные знаменитые республикиАфины, Рим, Флоренция, Генуя, Венеция, Псков, Новгородпросуществовали не более 250 лет, после чего они либо перерождались, либо утрачивали силу и подчинялись иноземным завоевателям.
Неизбежность этого процесса связана с тем, о чeм уже было сказано выше: демократия дорог$Eroman а back 35 up 8 prime и нужна в первую очередь высоковольтным. Когда же состав населения в стране меняется, когда притекающие извне массы изменяют процентное соотношение высоковольтных и низковольтных, последние начинают использовать своe право голоса, для того чтобы любыми способами ограничивать, подавлять, унижать, даже уничтожать высоковольтных. И те оказываются перед простым выбором: спасать демократию или спасать себя, то есть искать защиты у сильной авторитарной власти.
Какой выбор сделают американские высоковольтные, остаeтся пока неясным. Но то, что они окажутся перед необходимостью этого выбора не позже 2020 года, очевидно уже сейчас. И тот факт, что на сегодняшний день так много высоковольтных в Америке страстно привязаны к уравнительным идеям, говорит лишь об одном: доводись им выбирать сегодня, они скорее выберут собственную гибель, чем расстанутся с верой в универсальную благотворность демократиивсегда, везде, навеки.
Опубликовано в журнале: «Звезда» 1999, № 7
Новый Заратустра
Высоковольтные всех стран, образумьтесь!
Дочитав до конца мрачные пророчества в "Звезде" № 7, читатель-оптимист может воскликнуть:
— Ну и что же мы должны сделать, чтобы все эти предсказания не сбылись?!
И будет, по сути, прав. Ибо внутреннее чувство говорит ему, что в каждом человеке живет искра свободы. А коли так — значит, всегда есть надежда на разрушение любой исторической предопределенности, на опровержение самых обоснованных прогнозов.
Оставим однозначные пророчества естествоиспытателям. "Гелий обязательно поднимет дирижабль в воздух. Призма разложит белый свет на семь цветов радуги. Ракета вырвется из атмосферы, если достигнет нужной скорости". Так пророчествует ученый, и мы уважаем его за то, что его пророчества сбываются.
Исторический мыслитель должен видеть свою задачу в другом. Он — дозорный на корабле, стоящий на носу и предупреждающий об опасности впереди. "Рифы! Воронка! Мель! Пороги! Шторм!" — сигналит он. А дальше уже все будет зависеть от рулевых, от гребцов, от тех, кто натягивает паруса, выкачивает воду из трюма, сбрасывает балласт: расшифруют ли они его сигналы, захотят ли отбросить свои повседневные хлопоты и раздоры и дружно схватиться за весла, за штурвал, за канаты.
Какие же главные пороги видятся сегодня в выплывающем из тумана 21-м веке?
В обозримой истории человечества самыми опасными были моменты перехода народов из одной технологической эры в другую. Правда, мы не знаем, как проходил переход от охотничьего периода к скотоводческо-кочевому. (Разве что в Библии отражен раздор между двумя братьями — охотником Исавом и пастухом Иаковом.) Но уже переход из кочевого состояния в оседло-земледельческое изучен достаточно хорошо. И здесь мы видим, что повсюду первые великие империи — Египет, Китай, Рим — были окружены враждебными кочевниками. И эти кочевники не только нападают на оседлые народы, но и страдают от внутренних раздоров, и процесс оседания для всех них — галлов, германцев, визиготов, гуннов, арабов, монголов — сопровождался мучительными социальными и военными конфликтами.
То же самое происходило и при переходе от оседло-земледельческой к индустриальной эре. Каждый народ преодолевал этот опасный порог с теми или иными потерями. Все революции, сотрясавшие европейские нации в период с 1789 по 1935 год, были связаны с вступлением в индустриально-энергетическую эру. Паровая машина и электрический генератор настолько меняли все привычное устройство жизни, что социальные катаклизмы оказывались неизбежны. То же самое происходит сегодня с народами Азии, Африки, Латинской Америки: индустриализация, революции, гражданские войны.
Страны, одолевшие раньше других опасный порог на входе в индустриальную эру, достигли известной стабильности. Однако стабильность эта недолговечна. Ибо на наших глазах, начиная с конца Второй мировой войны, человечество делает следующий шаг, входит в новую хозяйственно-технологическую эру — электронную. Бурное развитие электронной технологии проникает во все отрасли производства, в систему образования, в вооружение, в коммуникации, расшатывает привычные формы существования, неравномерно изменяет скорость всех общественных процессов, разрушает иерархию ценностей.
Наступление электронной эры — это и будет опаснейший порог для индустриально развитых стран в веке 21-м. А параллельно и рядом десятки отставших народов будут переходить от оседло-земледельческого состояния к индустриальному. И некоторые, видимо, попытаются с разгона сразу ворваться и в эру электронную. Кровавые смуты, ждущие нас в веке 21-м, не уступят веку 20-му.
Так что историк-дозорный имеет достаточно оснований, чтобы издать сегодня громкий крик:
— Все наверх! Впереди — мощный шторм! Я слышу рев воды на камнях! Оставьте все мелкие дела и споры — сейчас не до них!
Но кто может услышать его? Конечно, только тот, кто открыт предощущению угрозы. Кто способен заглядывать так далеко вперед. Кто готов пожертвовать сегодняшним покоем и благополучием и кинуться к лебедкам, канатам, парусам общественного корабля. То есть мы должны ясно отдавать себе отчет, что предостерегающий голос могут расслышать только высоковольтные.
И что же им делать после этого? Попытаться объединиться? Но как? Как могут объединиться те, кто насквозь пронизан духом состязания? И состязания именно друг с другом. (Не с низковольтными же им состязаться!) Даже дар предвиденья распределен между ними неравномерно. Один предвидит на год вперед, другой — на десять лет, третий — на длину собственной жизни, четвертый — на жизнь поколений. Легко ли им будет сговориться между собой, расслышать друг друга?
В этой рубрике высоковольтный представал, как правило, в виде жертвы несправедливых преследований и должен бы вызывать сочувствие читателя. В таком контексте легко забыть, каким невыносимым, каким отталкивающим может быть высоковольтный в повседневной жизни. Как легко его энергия может устремиться целиком на утоление жажды стяжательства. Как много мы знаем примеров, когда гордое сознание своего превосходства оборачивалось властолюбием и тиранством, когда все силы незаурядного ума использовались для плетения интриг, когда художественный дар тратился на пошлое фиглярство в угоду толпе. Вечное нетерпение, вечная жажда нового печет высоковольтного гораздо сильнее, чем среднего человека, поэтому он нередко бывает ненадежен в дружбе и любви, непредсказуем, неискренен, мечется от одного к другому, изменяет, злословит, предает.
Как часто низковольтный кажется нам человечнее, добрее, честнее в отношениях с собой и миром, серьезнее относящимся к дару жизни. Недаром так часто поэты, писатели, пророки возлагают все надежды на "простого человека", на "нищих духом" и обрушивают изощренные проклятья на знатных и богатых, на интеллигентов и образованцев, на фарисеев и саддукеев.
В истории уже наблюдались некоторые попытки сплочения высоковольтных поверх границ: монашеские и рыцарские ордены, масонские общества, студенческие братства. Но все эти формы объединения оказывались возможны лишь до тех пор, пока они оставались сугубо аполитичными. Как только политика вторгалась в жизнь этих сообществ, наступал скрытый, а потом и явный раскол. И на многих примерах можно видеть, что линия раскола проходила все по той же грани — грани, отделяющей уравнителей от состязателей.
Если мы все же верим, что только соединенные усилия высоковольтных, преодолевающие границы между странами, эпохами, языками, могут спасти нас от надвигающихся катастроф, то представляется судьбоносно важным ослабить главную причину их внутреннего раскола — разницу между уравнительным и состязательным видением мира и человека. Снова и снова должен исторический мыслитель обнажать суть их разногласий, показывать, что они коренятся не в глупости, жадности и злобе оппонента, а в антиномической разнице умственного склада. Снова и снова следует призывать к поискам мостов, переправ, бродов через поток, разделяющий уравнителей и состязателей, хозяев знаний и хозяев вещей. И делать это нужно не только в чисто политических вопросах, но в самых разных аспектах общественной жизни, на конкретных, преходящих задачах и на вечных проблемах науки, искусства, морали, религии.
Вот, наугад, несколько "спорных территорий", где уже сегодня можно было бы "остановить боевые действия и сесть за стол переговоров".
О сострадании и чувстве вины
Нет никакого сомнения в том, что уравнитель гораздо более чуток к укорам совести, чем состязатель. Веря в безграничные возможности разумного устройства жизни на Земле, он склонен преувеличивать значение своего участия в общественной и политической жизни. Он в большей мере открыт чувству сострадания, и оно порой причиняет ему такую боль, что он начинает хвататься за любые способы защиты от этой боли.
А что может быть лучше, чем найти виновников творящихся на свете злодеяний?
И он подсознательно тянется к твердой системе представлений, которая объясняла бы ему, что в страданиях человечества виноват кто-то другой — не он. В зависимости от эпохи и обстоятельств это окажутся еретики или, наоборот, иезуиты, крепостники или франкмасоны, империалисты или коммунисты, шовинисты-мужчины или распоясавшиеся феминистки, даже жиды или христиане.
Об этом резко говорил Бердяев:
"Нравственный пафос социализма есть смесь ложной чувствительности и аффектированной сострадательности с жестокостью и злобной мстительностью. Сентиментальность часто ведет к жестокости. Это — закон душевной жизни". [13]
И уж совсем уничтожительно изображает тот же феномен Ницше:
"Ах, где в мире творились большие глупости, как не у сострадательных? И что в мире причиняло большие страдания, как не глупости сострадательных?"[14]
Однако на все это уравнитель может возразить своему вечному оппоненту:
— Ты занимаешься по сути тем же самым — глушишь боль сострадания. Но ты пытаешься заливать этот огонь чувством правоты. Страдания других людей так же задевают тебя, как и меня. Но ты начинаешь взвешивать страдания других, калькулируешь (как будто это возможно взвесить и подсчитать!) и предпринимаешь правильные, по твоим понятиям, действия, которые должны, как тебе кажется, причинив страдания одним, уменьшить суммарный груз страданий в мире. Беда лишь в том, что это наполняет тебя чувством правоты. Ты забываешь, что правильность не равна правоте. Правильность не отменяет греха — страданий, причиненных другому существу. Твое самодовольство и уверенность — вот что непростительно и отвратительно мне в твоем подходе.
И честный состязатель должен будет признать, что это обвинение куда как часто оказывается справедливым.
О справедливости
Справедливо ли, что один вырастает двух метров ростом, а другой едва дотягивает до полутора? Справедливо ли, что у одного есть музыкальный слух, а у другого — нет? Справедливо ли, что один может гнуть пятаки, а у другого едва хватает сил поднять портфель с книгами?
Мы не требуем у природы справедливости в раздаче даров. Справедливость — это наше занятие. И мы не всегда в нем преуспеваем. Например, в каких-то видах спорта мы догадались развести атлетов по разным весовым категориям, и теперь у нас боксеры, штангисты и борцы могут состязаться с соперниками, которые им по силам. И автомобильные гонки устраиваются между гонщиками, сидящими в машинах примерно одинаковой мощности. И в шахматах, в бридже, да и во многих видах легкой атлетики существуют разряды, уровни, ступени, так что участники могут испытывать свои силы, состязаясь с теми, кого у них есть шанс победить и, может быть, перейти в более высокий разряд. А вот в волейболе и баскетболе справедливости до сих пор нет, ибо высота сетки и баскетбольного кольца всюду одинакова, и таким образом низкорослые практически выброшены из этих видов спорта.
То же самое и с разницей между высоковольтным и низковольтным. Не мечтайте, уравнители, что вам удастся покончить с этой "несправедливостью". Говорить низковольтному, что он способен в умственном состязании сравняться с высоковольтным, это и есть самая большая несправедливость. Это все равно что сказать боксеру весом в 60 кг, что он может выйти на ринг против тяжеловеса и победить. И отбросьте чувство вины за свои врожденные преимущества. Вы платите за него каждый день очень высокую цену. Ваш взгляд проникает далеко вперед — а потому ужас смерти всегда в десять раз ближе к вам, чем к низковольтному. Если бы исследовать статистику психических расстройств и самоубийств, уверен, высоковольтные и здесь сильно обошли бы низковольтных.
После этого посредник должен повернуться к состязателям и обратиться к ним с такой примерно речью:
— А вы, в своем азарте, не поддавайтесь тому соблазну, которому вы уже так много раз поддавались на протяжении мировой истории: соблазну введения сословных барьеров. У нас нет и никогда не будет иного инструмента для определения числа талантов, врученных человеку при рождении, кроме испытания их в жизненной борьбе. Как тысячи бегунов, собранных на старте марафонского забега, неотличимы до хлопка стартового пистолета, так и младенцы в кроватках должны быть неотличимы для социального планировщика.
Конечно, ваш вечный оппонент — уравнитель, — призывая к усиленным занятиям с отстающими школьниками, по сути пытается не уравнять условия старта, а подвезти на автомобиле отставших бегунов — ибо забег уже давно идет. Но и вы, ссылаясь на потенциальные возможности детей, рожденных от высоковольтных, и призывая создавать им особые условия для достижения командных постов в обществе, по сути наносите ущерб и обществу, и им. Всюду, где вводилась наследственная принадлежность к той или иной касте, сословию, классу, правящий слой очень скоро приходил в упадок, переполнялся избалованными лежебоками и самонадеянными остолопами, которые не могли управлять достойно не только другими людьми, но и собственной жизнью.
О международных отношениях
Живя под устойчивой властью закона и правопорядка, легко забыть, какое это трудное дело — удерживать зверя в человеке. Хотя не проходит года, чтобы история не поднесла нам с полдюжины напоминаний. Сегодня кровавое безумие захватит Ливан, Боснию, Руанду, Сомали, Цейлон, Абхазию, Чечню, Таджикистан, Косово. Завтра это будет Албания, Алжир, Индонезия, Южная Африка. И можно ли что-то сделать, чтобы заранее предвидеть и предотвратить эти катастрофы?
Организация Объединенных Наций с самого начала ставила своей целью не только регулировать отношения между государствами, но и выработать общие принципы устройства внутриполитической жизни, учитывающие защиту человеческой личности от покушений со стороны государственной власти. Всеобщая декларация прав человека (1948) — замечательный документ, и вся последующая международная деятельность, с нею связанная, включая Хельсинкские соглашения 1973 года, заслуживает всяческой поддержки и одобрения.
Однако движение правозащитников во всех странах так сосредоточилось на защите человека от плохих правителей, что практически начинает игнорировать задачу защиты человека от другого человека. Во многих умах укрепилась иллюзия, что если бы правительство в данной стране вело себя хорошо, то не было бы там ни поджогов, ни убийств, ни грабежей, ни погромов. И, конечно, особенно сильна эта иллюзия в умах уравнителей, ибо они верят, что сам по себе человек так добр, что ничего плохого он ближнему своему не станет делать, если его к этому не вынудят плохие властители.
Власть, которая решит игнорировать Права человека, начнет обязательно с того, что запретит иностранным корреспондентам соваться на территорию своей страны. После этого она станет делать со своими подданными все, что ей заблагорассудится, — и международная общественность будет лишена возможности как-то влиять на ее внутреннюю политику.
Отсюда неизбежно возникнет двойной стандарт в оценке деятельности правительства. О том, что происходит в сегодняшней Сирии под властью президента Асада, мы практически ничего не знаем. Доходят слухи, что однажды он вторгся в собственный город с танками и перебил там до 20 тысяч человек. Но кто это может документально подтвердить? Ведь почти все корреспонденты по Ближнему Востоку вынуждены базироваться в единственной стране этого региона, уважающей права человека, — в Израиле. И вот уж израильскому правительству достаются шишки в каждой иностранной газете. Сфотографировать израильского солдата с автоматом в руке, который тащит за шиворот участника интифады, — это всегда безотказно выигрышный кадр. А докопаться до того, как Организация освобождения Палестины втихую расправляется с теми палестинцами, которые хотели бы мирно жить и работать на этой земле, — ну, это уж слишком трудно. Да и пулю можно схлопотать.
Поэтому хотелось бы призвать и уравнителей, и состязателей: в своих взглядах на международную политику, которые очень сильно влияют на то, с кем свободный мир будет дружить, а с кем враждовать, не дайте высоким идеалам защиты прав человека ослепить себя. Нелепо требовать от защитника правопорядка одинаковых норм поведения, независимо от силы и свирепости нарушителей, с которыми ему приходится иметь дело. Английский "бобби" может охранять порядок на улицах английских городов, разгуливая без оружия. Но ему не придет в голову потребовать, чтобы его американский или израильский коллега последовал его примеру.
К сожалению, в американской внешней политике последние тридцать лет влияние уравнительного мышления было очень сильным. От Южного Вьетнама и Южной Кореи требовали соблюдения "прав человека" посреди кровавой и беспощадной войны. От Чили, Ирана, Анголы, Эфиопии, Сомали требовали проведения свободных выборов — и отдали эти страны низковольтным фанатикам с красными или зелеными знаменами. А после этого о правах человека уже говорить не приходится.
Об образовании
На первый взгляд может показаться, что дети состязаются только между собой: бегают наперегонки, борются, спорят, дерутся. Мир взрослых мало привлекает их, ибо там у них нет надежды на победу — взрослый, как правило, во всем сильнее ребенка. И надо видеть это счастливое и гордое выражение на лице какого-нибудь малыша, который вдруг решил математическую задачу, над которой тщетно бился отец, взял правильную ноту на рояле, выиграл партию в шахматы.
Умственная и художественная деятельность — это именно тот просвет, где подрастающий человек впервые может обнаружить у себя необычный избыток сил и талантов. И если в нем есть тот таинственный заряд, который мы договорились обозначать термином "высоковольтный", он начнет уже в очень раннем возрасте усиленно развивать этот талант, накапливать знания, тренировать и совершенствовать логический аппарат своего мозга.
Конечно, это отнюдь не значит, что любой школьный отличник должен быть автоматически отнесен к разряду высоковольтных. Волевой потенциал, жадность к жизни могут переполнять ребенка таким нетерпением, что у него, при всех его дарованиях, просто не хватит самодисциплины, чтобы подчинить себя школьной рутине. Можно привести в пример тысячи знаменитых людей, которые в свое время не смогли закончить университет или даже школу. И все же, на сегодняшний день, будет справедливо сказать, что в цивилизованных странах учебный процесс стал главным поприщем, на котором происходит первое размежевание между высоковольтными и низковольтными. (Недаром же высшее образование стало таким престижным фактором, что на него цены можно взвинчивать от года к году.)
В 1990-е годы Институт Гэллапа проводил большое обследование системы школьного образования в развитых странах. Выпускникам были предложены в виде тестов 16 вопросов по географии. Исследователи пытались понять, как влияют на успехи учеников финансирование, подбор учителей, школьные программы, выбор учебников. Страны-победительницы гордились своими успехами и видели в них доказательство правильности применявшихся методов.
Но русский исследователь М. А. Балабан обратил внимание на любопытный феномен: среднее число правильных ответов, которое и шло в зачет, сильно отличалось от страны к стране, однако процент выпускников, давших правильные ответы на все 16 вопросов, был одинаковым для всех стран — 10 % от числа опрошенных.
Балабан делает из этого наблюдения такой вывод: только 10 % людей способны учиться с книгой в руках, подчиняя себя тексту и тесту. Будучи типичным уравнителем, он отметает с порога допущение о разнице способностей. "Не может быть, чтобы 90 % были глупее! — считает он. — Необходимо разрабатывать новые, экспериментальные, не книжные системы преподавания, которые позволили бы этим, по-своему умным и талантливым, ребятам сравняться с обогнавшими их одноклассниками!"
На самом же деле результаты этого обследования свидетельствуют совсем о другом. 10 % — это высоковольтное меньшинство, которое шутя справилось с тестом, рассчитанным на средний уровень. В теории они как бы прошли "отборочные состязания" и теперь могли бы начать состязаться друг с другом всерьез — на более сложных тестах.
На практике, в цивилизованных странах так и произойдет: эти 10 % победят на отборочных экзаменах, попадут в институты, университеты, колледжи и начнут свое восхождение к постам хозяев знаний и хозяев вещей. Они будут жадно впитывать новую информацию, сортировать ее, пробовать свои силы то в одном, то в другом, искать и находить талантливых учителей, разочаровываться в них, переходить к новым. На выпускном торжестве они будут сидеть бок о бок, будущие уравнители и состязатели, часто еще не зная, как эта стена разделит их в ближайшие годы. И что мог бы сказать им наш воображаемый посредник, если бы ему пpедложили пpоизнести торжественную речь?
Он мог бы (если бы правила общественного этикета уже позволяли приподнимать покров над стыдной тайной врожденного неравенства) сказать этим выпускникам:
— Вы — то избранное меньшинство, которому по непостижимой милости Творца досталось от рождения пять талантов. Вам предстоит играть ту роль в жизни своей страны, которую в человеческом теле играют нервные волокна, клетки головного мозга, органы зрения и слуха. Но какого бы успеха вы ни достигли на избранном вами поприще, не поддавайтесь соблазну вообразить себя лучше любого соотечественника, принадлежащего к менее одаренному большинству.
Да, мы восхищаемся талантом, мы мечтаем открыть его в себе, мы напрягаем все силы в погоне за признанием и славой. Но, по высокому счету, талант не делает нас лучше. Одаренный и талантливый высоковольтный может направить свою энергию исключительно на утоление злых и корыстных страстей — история дает нам миллионы примеров тому. И наоборот, человек весьма скромных дарований может поразить нас глубиной своих чувств, ясностью взгляда на смысл бытия, благородством поведения, добротой, честностью. Никогда не забывайте о том, что само ваше состязание друг с другом остается возможным лишь постольку, поскольку рядовой человек соглашается подавлять свою зависть и уступать место более талантливому. История 20-го века дала нам слишком много примеров того, как рушится состязательный принцип там, где большинство теряет понятие о том, что достойно и что нет.
Берегитесь греха гордыни — но не впадайте и в грех воспаленной скромности. Примите груз ответственности за дарованные вам таланты. Культ равенства среди высоковольтных слишком часто вырастает из трусости, из желания укрыться от ответственности в гуще "как все". Нет, вы не как все. Глаза не могут выполнить работу руки, сжимающей молоток, но человек без глаз обречен жить на ощупь и, скорее всего, попадет молотком не по гвоздю, а по собственным пальцам. Разумный человек, попавший в зону пожара, подставит ладони, чтобы защитить глаза, а безумный пойдет навстречу огню напролом. Так и общественный организм: разумный станет прилагать все усилия, чтобы сохранять своих высоковольтных, а впавший в безумие попытается сравнять их со всеми. Конечно, есть моменты, когда нам не по силам остановить безумие. Но не впадать в него самим заранее, то есть не декларировать врожденное равенство людей — это всегда в нашей власти.
Представим себе корабль, плывущий в ночи через океан. Он сверкает огнями. Вглядевшись, мы различаем, что эти огни неодинаковы по силе. Есть мощные прожекторы, освещающие путь корабля. Есть сигнальные огни на бортах и надстройках. Есть фонари, льющие свет на палубу, на турбины, на шлюпки. Есть лампочки, горящие в каютах.
Точно так же должны были бы распределяться роли между высоковольтными и низковольтными в человеческом обществе. Те, кому достался мощный прожектор сознания, должны заниматься миропостижением. Те, у кого послабее, должны выполнять роль администраторов, торговцев, преподавателей, то есть хозяев вещей и хозяев знаний. Те, чей светильник освещает лишь круг повседневных — но столь необходимых! — дел и забот, должны были бы пользоваться им для этой цели и не пытаться вести за собой других.
Но вряд ли когда-нибудь в истории какой-либо страны был надолго достигнут подобный разумный баланс. Высоковольтные, гордясь мощью своих прожекторов, начинают воображать, что с их помощью можно регулировать жизнь людей до мельчайших подробностей. И не замечают при этом, что сплошь да рядом их дальновиденье будет только ослеплять, когда дело дойдет до простых повседневных вещей. Низковольтный же начинает тяготиться привилегиями высоковольтных, начинает воображать, что все эти дальние лучи вообще никому не нужны — ведь его взор все равно не проникает так далеко во времени и пространстве.
Преодолеть вечное взаимонепонимание между высоковольтным и низковольтным можно только на религиозном уровне. Только вера во Всемогущего Творца приоткрывает человеку простую и возвышающую истину: наши состязания и наше неравенство — ничто рядом с величием нашего Создателя. Вернувшись к нему, мы сможем вернуться друг к другу. А без Него, без мысли о Нем, мы обречены на вечную и безысходную вражду.
В религиозном истолковании главный грех высоковольтного — гордыня.
Главный грех низковольтного — зависть.
По библейской легенде вся история человечества начинается с неравенства между Авелем и Каином. И все неравенство состояло в том, что Господь — необъяснимо — принял жертвоприношение от Авеля, а от Каина не принял. Но при этом вовсе не отверг Каина. "Почему ты огорчился? — спрашивает Он. — И отчего поникло лицо твое?. У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним" (Бытие, 4:6–7). Грех этот — зависть, доводящая до убийства. И даже близнецы Иаков и Исав рождаются неравными, и высоковольтный Иаков вынужден бежать от гнева Исава.
Почему мы нужны Творцу от рождения неравными — великая и непостижимая тайна. Но именно так Он нас создал — свободными и неравными.
Получившему один талант тяжело смотреть на получившего пять — и он свободен одолеть это тягостное чувство или поддаться греху зависти.
Получившему пять талантов тяжело смотреть на обделенного брата своего — и он свободен зарыть дар в землю или принять его и пустить в умножение Славы Господней.
Неверующему высоковольтному стыдно смотреть в глаза своему низковольтному брату. Именно поэтому он с такой страстью, а порой и с яростью провозглашает, что врожденного неравенства не существует. Именно поэтому натягивает стыдливый покров умолчания на все проявления неравенства. Именно поэтому в последние два века упадок веры идет бок о бок с торжествующим уравнительством.
О, высоковольтный! Наберись мужества — прими свой дар. Ведь без твоего мощного прожектора корабль врежется в айсберг, в скалу, заплывет в Мальстрим. Спаси себя и низковольтного брата своего от нового многомиллионного братоубийства. Ибо при наличии термоядерного оружия оно может стать последним.
Опубликовано в журнале: «Звезда» 1999, № 9
Солженицын читает Бродского
Ровно сто лет назад два величайших русских мыслителя не сговариваясь обрушились на двух поэтов, занимавших огромное место в умах и сердцах российского читателя. Лев Толстой выступил с длинным — на семьдесят страниц — очерком “О Шекспире и о драме” (1900); Владимир Соловьев написал статью “Лермонтов” (1899).
“Содержание пьес Шекспира… — пишет Толстой, — есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презирающее толпу, то есть рабочий класс, отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя.
…У Шекспира нет естественности положений, нет языка действующих лиц, главное, нет чувства меры, без которого произведение не может быть художественным.
…Искренность совершенно отсутствует во всех сочинениях Шекспира. Во всех их видна умышленная искусственность, видно, что он не in earnest (не всерьез), что он балуется словами”.
Соловьев же просто объявил Лермонтова падшим человеком, целиком поддавшимся дьявольским соблазнам гордыни и бессердечности.
“Мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов (злобы и нечистоты. — И. Е. ) и когда хотел — снова и снова отворял им дверь…
Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга — развить тот задаток великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, — но этого мы от него не получили… Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных…”
И вот сегодня, словно отмечая столетний юбилей тех словесных баталий, что отгремели в России в начале XX века, Александр Исаевич Солженицын пишет о поэзии Иосифа Бродского (“Новый мир”, 1999, № 12). Даже читатель, не являющийся профессиональным филологом, может заметить, какой огромный труд был вложен в эту статью. Каждая мысль в ней, каждый тезис подкреплены и проиллюстрированы множеством строчек-цитат из стихов Бродского. Поистине эта статья — подвиг скрупулезности и усидчивости. Подвиг, оставшийся без вознаграждения, ибо автор здесь трудился, явно не получая эстетического наслаждения от рассматриваемого материала. Разбор, анализ, сопоставление, одобрительные и отрицательные оценки — всему нашлось место в этом исследовании, кроме простого читательского восхищения стихами.
Нет, в отличие от Толстого и Соловьева, Солженицын не становится в позу обвинителя и тщательно избегает прокурорских интонаций. Он находит много достоинств в поэзии Бродского, выделяет превосходные стихи, строчки, образы. Вот о стихах ссыльного периода: “Ярко выражено, с искренним чувством, без позы”. “Отменно удачная “Большая элегия Джону Донну””. “В рифмах Бродский неистощим и высоко изобретателен”. “Образы, тропы, сравнения бывают хороши”. “Во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна”.
И все же основной тон статьи — раздражение и разочарование. “Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой стиль на резких диссонансах и насмешке, на вызывающих стыках разностильностей, даже и без оправданной цели”.
“И грубую разговорность он вводит в превышенных, неоправданных дозах”.
У него “иронией — все просочено и переполнено”. Например, весь цикл сонетов к Марии Стюарт “написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью”.
“Беззащитен оказался Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить”.
“Чувства Бродского… почти всегда — в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жесткого анализа”.
“Музыкальности — во множестве его стихов никак не найти, не услышать именно звучания, богатого и значительного, скорей — звуковое однообразие”.
“Не находя не то что цели, но даже смысла в повседневном течении жизни — Бродский не струится вместе с жизнью, и не идет с ней об руку — но бредет потерянно, бредет — никуда”.
“Нельзя не пожалеть его”.
Все эти характеристики и оценки обильно подкреплены цитатами, по необходимости (а порой и намеренно) — укороченными, оборванными. Но память привычно откликается, узнает — продолжает и раздвигает оборванные строчки и строфы. И хочется сказать: “Да помилуйте, Александр Исаевич, — разве же злостью пронизана “Речь о пролитом молоке”? Разве не есть вся она — завернутый в трагикомическую форму, но искренне гневный вопль поэта против тех, кто завел страну и мир в моральный и экономический тупик? Разве не перекликается “Я люблю родные поля, лощины…” с лермонтовским “Люблю отчизну я…”? И не здесь ли сказано прямым текстом: “Зло существует, чтоб с ним бороться, / а не взвешивать в коромысле”? И как же можно приписывать озлобленность автору, который кончает свое стихотворение чуть ли не песенной строфой: “Зелень лета, эх, зелень лета! / Что мне шепчет куст бересклета?. / Ходит девочка, эх, в платочке, / Ходит по полю, рвет цветочки. / Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки…””
Или о сонетах к Марии Стюарт. Ну да, с королевами не принято говорить таким тоном и таким языком. Но как еще иначе можно было изобразить то, что случилось с нашим поколением в послевоенном, послеблокадном Ленинграде? “Вчерась”, “атас”, “накнокал” и проч. — да, это был наш язык, язык городской шпаны, для которой главными героями были уголовники с золотой фиксой на переднем зубе, а главным аргументом в споре — кулак или финка. И вдруг в этот мир голодного убожества и повседневного насилия (“В конце большой войны не на живот, / когда что было жарили без сала”) — через моря и века, тоненьким лучом кинопроектора, на экран, натянутый в бывшей церкви, — выносится образ шотландской королевы и пронзает сердце на всю жизнь, — да есть ли на свете такие языковые “сдёрги” и “диссонансы”, которыми можно было бы адекватно воссоздать подобное чудо?
Или об иронии Бродского. Нет, не от западных интеллектуалов затекала она к нам, а прямиком из самых главных русских книжек — из томиков Пушкина. Каждый глоток пушкинской иронии был в юности как глоток кислорода. Ибо полное отсутствие иронии было главным свойством тех, кто распоряжался нашей жизнью, а потому любой проблеск ее ощущался как знак душевного освобождения. Пушкинский Моцарт может сказать о себе: “Но божество мое проголодалось”, а Сальери не может — и за эту-то легкость, а вернее, летучесть души и сердится на него. В доказательство “безысходной замкнутости” Бродского в себе Солженицын приводит строчки: “Кого ж мы любим, / как не себя?” Но ведь это чуть ли не прямой парафраз грустно-ироничного пушкинского: “Кого ж любить? Кому же верить? / Кто не изменит нам один?. ”, кончающегося: “Любите самого себя, / Достопочтенный мой читатель. / Предмет достойный: ничего / Любезней, верно, нет его”.
Ирония Бродского сродни иронии Пушкина, Гёте, Шекспира. Томас Манн называл такую иронию эпической и писал, что ей вовсе не сопутствует “холодность и равнодушие, насмешка и издевка. Эпическая ирония — это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому”.
“Порой поэт демонстрирует высоты эквилибристики, однако не принося нам музыкальной, сердечной или мыслительной радости”, — пишет Солженицын.
В этой фразе особого внимания заслуживает местоимение “нам”. Как велико это “мы”, от имени которого выступает здесь Солженицын-читатель? Из кого оно состоит? И где проходит граница между ним и другим “мы” — тем, которое уже в начале 60-x перепечатывало по ночам строчки еще никому не ведомого поэта, заучивало их наизусть, сбегалось на его редкие выступления? Тем “мы”, которому вызываемые в памяти строчки Бродского служили защитой и убежищем от бессмыслицы обязательных политзанятий, от стыда комсомольских собраний, от стужи долгих проездов в набитом трамвае? Что двигало нами тогда — еще до громкого суда, международного шума, признания и славы? Думается, только это: “музыкальная, сердечная и мыслительная радость”, доставляемая его стихами.
Описать свое неприятие того или иного поэта — нетрудно. Но как описать радость? Она так текуча, так неподвластна словам. Хотя по серьезному счету в разговоре о поэзии только это и достойно внимания. Ибо поэтическое чудо происходит не в тот момент, когда “новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово”, а в тот момент, когда это слово — по законам бахтинского диалога — достигает слушающего и слышащего и остается у него в сердце.
И вот если позволить себе попытку этого труднейшего дела, если вслушаться снова в ту радость, которая текла к нам от стихов Бродского и течет вот уже сорок лет, если попытаться определить, на что так откликалась душа в этих строчках, — то приходит на ум в первую очередь одно старомодное и полузабытое слово: отвага. В своем порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству — и тем зажигает в нас радостный огонек надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт стоит лицом к лицу со своим противником — то есть что он не отводит свой взор от ужаса Небытия, что ему знакомы настоящее отчаяние, настоящая тоска, настоящий страх смерти.
В статье Солженицына многократно говорится о душевном холоде Бродского, о сухости его эмоционального мира. Но каким же образом этот холод мог рождать в его читателях такой душевный жар? Думается, жар этот сродни тому волнению, с которым весь мир следил за полетом Линдберга, за походом Амундсена. Человек брел к Южному полюсу во мраке, в диком холоде, и мы точно знали, что ничего полезного он там не найдет. Никто не собирался последовать за ним во мрак и холод. Мужественный вызов ледяной пустыне — вот что восхищало людей в Амундсене.
Точно так же и великий поэт, посмевший стать лицом к лицу с ужасом и хладом Небытия и сохранивший при этом сердечный жар, не зовет нас в Небытие, но дает пример отваги. Да, герой стихотворения “Письмо в бутылке” гибнет в одиночестве, его “не станет никто провожать”. Но его прощание с миром превращается в настоящий гимн миру и любви, пронизанный надеждой на то, “что сохранит милосердный Бог / то, что я лицезреть не смог: / Америку, Альпы, Кавказ и Крым, / долину Евфрата и Вечный Рим, / Торжок, где почистить сапог — обряд, / и добродетелей некий ряд…”. И мы чувствуем — он имеет право сказать про себя: “Я честно поплыл и держал Норд-Норд” — и срифмовать это со словом “горд”.
Поэту, как и всякому художнику, приходится вступать в противоборство с тремя вечными противниками: инерцией и косностью своего материала (камня, звука, цвета, слова), ограниченностью своего земного “я” и безграничностью космического и метафизического “не-я”. Мера смелости поэта в этом противоборстве — вот что подспудно ощущается нами, вот что вызывает восторг.
“Бывают фразы с непроизносимым порядком слов, — жалуется Солженицын. — Существительное от своего глагола или атрибута порой отодвигается на неосмысляемое, уже не улавливаемое расстояние”.
Да, бывает у Бродского и такое. Существительное летит в кажущейся пустоте, как атлет под куполом цирка, — вот-вот упадет, разобьется. Но в последний момент невесть откуда вылетает атлет-сказуемое, они сцепляются рифмами, и в ту же секунду, именно в точку их соединения, подлетает спасительная трапеция метафоры, и тут же всех троих захватывает ослепительным кругом прожектор таившейся до поры стержневой мысли — какое облегчение, какой восторг!
Многие стихи Бродского представляются Солженицыну неоправданно длинными, засушенными, неясными. Ему кажется, например, что “Прощайте, мадмуазель Вероника” — “стих по замыслу любовный” и здесь хватило бы “теплого восьмистишия”. Но сто шестьдесят строк этого стихотворения имеют любовное объяснение лишь обрамляющим поводом для разговора о чем-то большем — о реке времени, о тайне взаимоотношений прошлого и грядущего, о судьбе России. “Речь о кресле” здесь — “только повод проникнуть в другие сферы”.
Конечно, были у Бродского стихи, которые казались неоправданно затянутыми даже горячим его поклонникам (“Холмы”, “Памяти Т. Б. ”, “Горбунов и Горчаков”). Но даже и они сохраняли для нас странное очарование. Это можно было сравнить с очарованием архитектурных развалин — Форума, Парфенона, — гравюр Пиранези. Собор Святого Петра в Риме являет нам торжество камня над пространством и тяжестью. Но неподалеку оставлен как есть полуразрушенный Колизей — казалось бы, зрелище поражения камня в противоборстве со временем. Однако само поражение являет нам серьезность и мощь противоборства более явно и ярко, чем иная победа. То же самое и у Бродского: громоздкое, недостроенное стихотворение порой яснее показывает нам величие замысла, неподъемную серьезность тайны, над которой бился здесь поэт.
“Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения”, — утверждает Солженицын. В статье всячески подчеркивается космополитизм поэта, его удаленность от России. “Запад! Запад Бродскому люб…”
В политических дебатах Бродский действительно не участвовал — но лишь до тех пор, пока “плохая политика не начинала портить нравы”. “Это уже, — считал он, — по нашей [поэтов] части”. И старинные российские споры между западниками и славянофилами оставляли его равнодушным. Если эта тема и всплывала, то скорее в ироничных строчках вроде: “…В порт Глазго караван за караваном / пошли бы лапти, пряники, атлас…” Не чувствовали мы в его стихах этого противопоставления — Россия или Запад. А что чувствовали остро и радостно — возврат России в царство мировой культуры, мировой истории. Ибо Троя и Древний Рим, холмы Иудеи и меловые утесы Англии, Веймар и Краков возрождались в строчках русских стихов, сливались вновь с Псковом и Петербургом, Охтой и Торжком, от которых они были оторваны на семьдесят лет насильственно и кроваво.
Не надо забывать и то, что марксистская идеология узурпировала почти все высокие слова, какие только есть в русском языке: долг, совесть, честь, верность, справедливость, доблесть. И конечно, слово “родина”, “отчизна”. Люди, чуткие к чистоте речи, старались не употреблять этих слов вообще, чтобы не участвовать во лжи и лицемерии режима. Но Бродский не поддался этому поветрию. Ибо для него отказаться от принадлежности к судьбе своего народа означало бы страшное самооскопление. Слова “отчизна”, “отечество” рассыпаны в его стихах очень густо: “…к равнодушной отчизне / прижимаясь щекой” (“Стансы”); “…я на земле без отчизны остался” (“От окраины к центру”); “…по отечеству без памятника Вам” (“Ахматовой”); “…Родину спасшему, вслух говоря” (“На смерть Жукова”).
Наконец, и о христианских исканиях Бродского Солженицын отзывается скептически, считает его религиозное чувство зачаточным и непрочным. Он отдает должное стихам, писавшимся ежегодно к празднику Рождества, но считает, что “Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещенный квадрат”.
Ну а куда же тогда отнести такие произведения, как “Исаак и Авраам”, “Большая элегия Джону Донну”, “Разговор с небожителем”, “Остановка в пустыне”? Куда отнести сотни строк в других стихах, в которых драма отношений человека с Богом пережита глубоко, страстно, отважно? Куда деть прямую перекличку с пушкинским “Дар напрасный, дар случайный…”, с лермонтовским “За все, за все Тебя благодарю я…”? Как истолковать прямо высказанное кредо в стихотворении “Два часа в резервуаре”: “Есть истина. Есть вера. Есть Господь. / Есть разница меж них. И есть единство. / Одним вредит, других спасает плоть. / Неверье — слепота. А чаще — свинство”.
И наконец, можно ли назвать во всем двадцатом веке другого русского поэта, который отдал бы столько души, сердца, строк теме Бога, веры, христианства?
“Поэт — это прежде всего состояние души”, — говорит Цветаева. И состояние души поэта Бродского полнее всего описывается его любимой фразой, присказкой, девизом: “Взять нотой выше”. Мы готовы восхищаться порывом человеческой души вверх, но часто забываем, какое это опасное дело. Ведь “взять нотой выше” означает прежде всего — не дать себе застыть на довольстве собой и окружающим ни на одну секунду. Да, это единственный способ подняться очень высоко. Но там, в вышине, ты вдруг обнаруживаешь, что хода назад, вниз уже нет. Что и описано подробно в стихотворении “Осенний крик ястреба”, про которое Солженицын справедливо замечает, что это “самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни”.
“Брать нотой выше” означает еще и другое: это означает всегда искать новых царств для расширения своей свободы. Это означает сражаться с любой застылостью в себе, с любой остановкой — даже если это остановка на чем-то высоком и достойном. Поэтому-то любое высокое чувство у Бродского подвергается испытанию, искушается сомнением. Поэтому любовь может идти рука об руку с грубостью и ёрничеством (выживет или нет?), вера и благодарность Творцу — с сомнением в возможности услышать Его, гордое сознание полученного дара — с безжалостной самоиронией.
Как часто в жизни мы испытываем это разочарование: пытаешься поделиться с близким тебе человеком радостью, доставляемой тем или иным поэтом, — и натыкаешься на равнодушие, глухоту, непонимание. Мы со вздохом отступаем и ищем какое-нибудь простое объяснение: неразвитый вкус, иной душевный настрой. Ведь душа у человека болит по-разному и разные нужны ей утоления. Но когда ты видишь, что человек огромного и бесспорного таланта отсекает от себя целую поэтическую вселенную, впадаешь в растерянность. А когда в истории нашей словесности эти коллизии начинают множиться и повторяться (Толстой — против Шекспира, Владимир Соловьев — против Лермонтова, Гоголь — против Гоголя, Солженицын — против Бродского), тогда растерянность переходит в чувство протеста, в догадку, что это не случайность судьбы или причуды индивидуальных вкусов, а таинственная западня, подстерегающая даже великие души на определенном изгибе духовных блужданий.
Из внутреннего сходства этих коллизий, из почти буквального совпадения некоторых обвинений (у Соловьева — Лермонтов не развил “тот задаток великолепный и божественный…”; у Солженицына — Бродский не пошел “естественным и благодарным путем развития”), из дружного отрицания независимых прав и законов искусства вырисовывается и имя этой западни: идолизация идеи Добра, вознесение ее над всеми другими духовными ценностями.
Четырьмя дорогами уводит человеческую душу жажда свободы, четыре порыва вечно тянут ее вверх: к Разумному, к Прекрасному, к Доброму, к Высокому. В привычном раскладе сил врагами этих устремлений представляются глупость, уродство, злоба, низменность. И нам утешительно думать, будто никогда эти высокие порывы не могут вступить в противоборство друг с другом. Увы, история духовной жизни человека показывает нам, что это не так. Что Прекрасное сплошь да рядом отказывается подчиняться требованиям разумного, доброго, полезного.
Что Высокое может потребовать от нас недоброго (“Оставь отца и мать своих…”). Что культ Разумного приводил к Робеспьеру и Ленину.
Поборник Добра чувствует опасную искусительную силу искусства, отмеченную еще Платоном, — и ополчается на нее порой с искренней страстью. Он объявляет греховными и ненужными произведения, противоречащие Доброму и Разумному. Он идет войной на то, что еще недавно казалось дорогим и важным ему самому. Как Боттичелли, увлеченный проповедью Савонаролы, он готов проклясть и бросить в огонь даже лучшие собственные творения. Он отказывается вслушиваться в поэтический голос сердцем, но начинает проверять его критериями правильного и неправильного, доброго и злого, канонами стихосложения и догматами веры.
Нельзя не пожалеть его.
Тинефлай, Нью-Джерси (США).
Опубликовано в журнале: «Новый Мир» 2000, № 5
Шаг вправо, шаг влево
Я вернулся в мой город, знакомый до слез…
О. МандельштамВоротишься на родину. Ну что ж. Гляди вокруг, кому еще ты нужен…
И. БродскийВ полицейском государстве люди не ведут дневников, не доверяют ничего важного бумаге писем. (“Потом не вспомнить платьев, слов, погоды… / Так проходили годы шито-крыто…”) И сегодня мне нелегко восстанавливать детали того теплого ленинградского дня, проведенного с Бродским — как потом оказалось — под неусыпным всевидящим оком.
Первый вопрос: когда?
Год ясен — 1965-й. Видимо, конец лета. Потому что мы с женой только что вернулись с юга. Кажется, ездили в Гагры. Кажется — с Поповыми, Валерой и Нонной. Город за прошедший месяц то ли помыли, то ли покрасили. Или это просто — оттенок новизны. После отпуска он ложится даже на череду привычных хлопот, на круг бытовой беготни: гастроном, аптека, сберкасса, прачечная, рынок, почта. Даже если в полученных конвертах — только возвращенные рукописи. Новые отказы — значит, можно посылать в новые редакции. Авось где-нибудь да прорвется.
А тут вдруг из телефона выпрыгивает и настоящая новость — чудесная: Бродский в городе!
— Как? Неужели выпустили?
— Нет еще, — отвечает Рейн. — Разрешили повидать родителей. На десять дней. Приходите вечером с Мариной, он будет у нас.
Вообще, надежды на его освобождение из ссылки пузырились и булькали с весны. Все-таки они должны когда-нибудь прислушаться к голосам знаменитых заступников: Маршака, Чуковского, Ахматовой. И зарубежные писатели не умолкают. После свержения Хрущева (октябрь 1964) явно что-то сдвинулось, подули какие-то новые ветры. Даже у нас, в Ленинграде. Вот уже и нам что-то перепало: трех молодых приняли в Союз писателей. Битов, Ефимов, Кушнер. Правда, этим молодым примерно столько же, сколько было Лермонтову в год его смерти. Но ведь до них-то самому молодому члену союза в Ленинграде было сорок три. Нет, гордиться членством в союзе никто не собирается. Но, по крайней мере, нас теперь не смогут арестовать и судить за тунеядство.
Бродский пришел озабоченный, загорелый, возбужденный. Читал новые стихи. Если заглянуть в собрание сочинений, то можно увидеть, что летом 1965 года были написаны “Одной поэтессе”, “В деревне Бог живет не по углам…”, “Колокольчик звенит”, “Два часа в резервуаре”. Его картавинка едва слышна в бытовой речи, но при чтении стихов она перестает прятаться, звучит почти самозабвенно.
Есть истина. Есть вега. Есть Господь.
Есть газница меж них. И есть единство.
Одним вгедит, дгугих спасает плоть.
Невегье — слепота. А чаще — свинство.
В какой-то момент он отвел меня в сторону и спросил, свободен ли я завтра.
— Для тебя — всегда.
Он сказал, что ему нужно срочно лететь в Москву. Не соглашусь ли я поехать с ним в аэропорт? Он не уверен, что ему — с его меченым паспортом — продадут билет.
— Тебе нельзя лететь в Москву, — сказал я. — У тебя разрешение только на поездку в Ленинград.
— “Можно-нельзя” сейчас не имеют значения. Некоторые так называемые друзья сообщили, что моя так называемая подруга в Москве. И сообщили, с кем. Так что придется лететь.
(Позже про это в стихах: “…моя невеста / третий год за меня — ни с места. / Правды сам черт из нее не выбьет, / но сама она — там, где выпьет”.)
Я вижу, что уговаривать его бесполезно. И соглашаюсь. Почем знать — может быть, и проскочит. Мы уже знаем, что полицейская машина не так уж всевидяща. Да и зачем мы ей нужны? Горстка молодых людей. Надежно отгороженная от читателя цензорами, редакторами, парторгами. Пусть себе декламируют друг другу на своих коммунальных кухнях, на лестничных площадках, в электричках.
И вот утро следующего дня.
Бродский позвонил около восьми.
— Выезжаю…
— Хорошо. Я буду около парадной.
Мы не называем имен, не называем улиц. Мастера конспирации, ученики Джеймса Бонда. Но при этом есть и ирония к себе, и опаска — не впасть бы в многозначительную важность. Тоже мне, государственные преступники. Смешно.
Новенькое солнце блестит на диабазе Разъезжей, новенькие цветочки бобов алеют на прутьях нашего балкона.
Я с каждым днем все чаще замечаю, Что все, что я обратно возвращаю — То в августе, то летом, то весною, — Какой-то странной блещет новизною.За последние три года это стало спасительной привычкой. Оказывается, всякую пустую паузу жизни можно заполнить стихами. Долгий проезд в трамвае, стояние в очереди, лекцию о политическом положении. “Шествие” я перепечатывал для друзей раз пять (“Эрика” берет четыре копии) и помню его наизусть большими кусками. Чем эти строчки так завораживали нас? Откуда текло в горло почти физическое наслаждение — произносить их вслух, бормотать себе под нос? Тайна, загадка — и до сих пор, после всех умных книг и статей о лауреате Нобелевской премии 1987 года.
Все потому, что, чувствуя поспешность,
С которой смерть приходит временами,
Фальшивая и искренняя нежность
Кричит, как жизнь, бегущая за нами.
Дом Бродского — угол Литейного и Пестеля. Мой — угол Разъезжей и Правды. Такси появляется минут через десять. Он открывает мне дверцу изнутри. Сажусь. Едем. Выезжаем на Лиговский проспект.
Нет дневника — и я не могу вспомнить, пытался ли я отговаривать его во время поездки. Скорее всего — нет. Едем — и едем. Там видно будет. Тихо переговариваемся. О чем? Наверное, как всегда: колеблем старые литературные троны, водружаем новые. Бродский в разговоре — как путник в лесу. Который откуда-то знает, что все старые тропинки — обман. И нужно ломиться через чащу напролом. И напряженно вглядываться в сумрак впереди. Искать неясный просвет.
Дневника не было, но записная книжка была всегда. И какие-то задевавшие меня разговоры там застревали. (Ведь необязательно указывать имя собеседника.) Русские разговоры, как известно, лучше всего цветут в тюрьме и ссылке. Когда мы с Гординым навестили Бродского в ссылке в деревне Норенская, у нас на разговоры было три дня и две ночи. И он изголодался по ним. Но как раз в эти дни у него разболелся зуб. А ближайший врач — за тридцать километров. То есть недоступен. Когда боль накатывала очень сильно, он вскакивал, выбегал из избы, кружил некоторое время в осеннем мраке, потом возвращался и подхватывал с оборванной фразы.
В поезде на обратном пути, по памяти, я кое-что записал:
“Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живем, — это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, вовне. Все, в чем не содержится такого устремления — хоть немного, — чуждо ему и неинтересно.
Еще он говорил, какая это жуткая штука — взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, повторяющихся, пытающихся оседлать успех, и отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе. Единственное, что может спасти здесь, — это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыды и страхи — с последующим подчищением, с возвратами назад, — но в процессе писания плевать на все, идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться — может быть, в пустоту, может быть, в гибельную, — но только так”.
— Упорная, зараза, — говорит вдруг Бродский.
— Что? — не понял я.
— Синяя “волга”. Прицепилась еще на Литейном и не отстает.
Я оглядываюсь, всматриваюсь в стада машин сзади, ничего не вижу.
— Она там, за самосвалом.
И действительно — скоро выныривает. И перед въездом на Московский проспект останавливается на красный свет рядом с нами. Человек, сидящий рядом с водителем, опускает стекло. И говорит нашему таксёру:
— За светофором — остановитесь.
Помню, меня больше всего удивило: почему таксёр подчинился? Почему не спросил: “Да кто ты такой?” На синей “волге” не было никаких опознавательных знаков. Говоривший был в штатском. Каким образом шофер немедленно узнал в нем “начальника”?
Синяя “волга” проезжает вперед, объезжает Московские ворота, останавливается у тротуара. Мы — метрах в пяти за ней. “Начальник” выходит, идет к нам. Лет тридцати пяти, невысокий. Волосы — волной назад, точь-в-точь как на витринах всех городских парикмахерских. Заглядывает к нам на заднее сиденье, долго вглядывается в лица. Наконец говорит:
— Извините. — И таксёру: — Пройдемте со мной.
Иронизировать больше не получается. Два доморощенных Джеймса Бонда начинают быстро сочинять “объясниловку”. “Все нормально, гражданин начальник, все по закону. Да, едем в аэропорт Пулково. Но летит в Москву вот этот — Ефимов, а этот — Бродский — только его провожает”.
Для пущего правдоподобия я кладу себе на колени его рюкзак.
— Быстро говори: что у тебя там?
— Кеды, две рубашки, механическая бритва, томик Джона Донна по-английски, зубная щетка, польско-русский словарь…
Я старательно повторяю, пытаюсь заучить список наизусть. К тому моменту, когда дверь синей “волги” открывается, мне это почти удается. И лишь тут я замечаю, что на рюкзаке, сбоку, химическим карандашом крупно выведено: “И. Бродский”.
Но шофер возвращается один.
— В чем дело? — спрашивает Бродский.
— Говорят, будто я на Лиговском на красный свет проехал…
Видно, что врет. Не о нарушении правил уличного движения шла у них речь. Конечно, ГАИ иногда разъезжает в замаскированных машинах. Но, как правило, — в форме. И не станет гаишник приглашать остановленного водителя в свой автомобиль. Сомнений нет: теперь в синей “волге” знают, куда мы едем.
Тем не менее мы продолжаем путь. Но на самом выезде из города, у площади Победы, Бродский просит остановить машину. Расплачивается. Мы выходим. Такси уезжает. Синей “волги” нигде не видно.
Мы садимся в подъехавший автобус. Только вперед! О том, чтобы отказаться от задуманного, не может быть и речи.
Автобус приезжает в аэропорт. Это конечная остановка. Пассажиры выходят в обе двери. Мы всматриваемся в толпу снаружи. “Студентики, курсантики, крупа… / Однообразна русская толпа”. И вдруг из этой толпы, прямо на нас, выбегает “начальник” из синей “волги”. Он явно недоволен, растерян. Знаками посылает своих подручных: туда, сюда… Потом поворачивается, видит нас за стеклом, застывает.
Минуту мы смотрим друг другу в глаза. Похоже, ни мы, ни он не знаем, что полагается по сценарию дальше.
Опустевший автобус закрывает двери, проезжает несколько метров вперед, к длинной очереди пассажиров, едущих в Ленинград.
Мы опускаемся на сиденье.
— Ничего, ничего, — бормочет Бродский. — В крайнем случае, можно и на поезде.
Автобус снова заполняется людьми. Ладно, поедем обратно в город. Но удастся ли таким простым ходом оторваться от слежки? Успел парикмахерский начальник подмешать к толпе пассажиров своих подручных? Может быть, вот эта тетка с противной рожей? Или морячок с нашивками на рукаве? Или неприметный юнец в пламенеющих прыщах? Да разве их распознаешь по виду!
Автобус въезжает в город.
Бродский тихо объясняет мне свой план. На Московском проспекте мы встаем и идем к передним дверям. Юнец вылезает в проход и как-то нехотя тащится к задним. Там к нему присоединяется коренастый дядька с пропеченным лицом.
Остановка. Двери открываются. Бродский выходит, я — за ним. Те тоже выходят. Автобус пытается закрыть двери. Задняя закрылась, передняя — нет. Потому что я “уронил” на нижнюю ступеньку рюкзак. Мы быстро протискиваемся обратно.
Автобус отъезжает.
Те двое растерянно смотрят ему вслед.
Водитель громко делится с пассажирами горестными мыслями о современной молодежи. “В институтах, небось, учатся, а где им выходить — и того запомнить не могут”.
Две остановки спустя мы выходим по-настоящему. Быстро погружаемся в лабиринт новостроек (“парадиз мастерских и аркадия фабрик”). Озираемся на ходу. Ни синей “волги”, ни автобусной парочки не видно. Но все равно не исчезает чувство близкой погони. Увернулись от сети — но ведь это просто маленькая удача. Когда им будет очень нужно — достанут.
Мы звоним в какую-то квартиру. Открывает молодая женщина с ребенком на руках. Это старинная приятельница Бродского. Я стараюсь тут же забыть, как ее зовут. “Нет, гражданин начальник, я понятия не имею, кто давал приют беглому ссыльному”.
Она не очень рада нашему визиту. У нее какие-то свои семейные огорчения, трудные отношения со свекровью. Слушает наш рассказ о “хвостах” скептически, почти насмешливо.
А Бродский? Его вдруг прорывает. Куда девался хладнокровный зэк, умеющий ловко уходить от слежки?
Он начинает бродить по комнате взад-вперед. Сжимает виски. Мычит, как от боли. Словно цепь натянулась и капкан захлопнулся. А как он, наверное, ждал этих подаренных ему судьбой нескольких дней в Ленинграде! Как мечтал провести их со своей “Новой Августой”. Она навещала его несколько раз в деревне. И вообще — то любила, то уходила. Сама непредсказуемость. Но другие, надежные, ему не нужны. Надежная его не насытит. Наскучит через неделю.
Он все ходит по комнате и бормочет что-то невнятное. Можно разобрать лишь обрывки фраз. И много раз повторенное:
— За что? Что я им сделал? Что я им сделал?
Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то, неужто я против законной власти? Время спасет, коль они не правы. Мне хватает скандальной славы…Такое бывало с ним не раз. Пока лицом к лицу с противником, с “загонщиками”, он — сама выдержка, твердость, спокойствие. Как он держался все шесть (или даже восемь?) часов на суде! Напряжение в зале становилось таким ощутимым, что трудно было дышать. Кому-то уже сделалось плохо. Какой-то немолодой человек на реплику судьи “Бродского защищают только такие же тунеядцы, как он сам” — не выдержал и закричал: “Это Маршак и Чуковский — тунеядцы?!” Дружинники вытащили этого человека из зала.
— Я вижу, в зале кто-то ведет записи, — сказала судья с угрозой.
— Она! Она все время записывает! — закричали какие-то тетки, указывая на журналистку Вигдорову.
Дружинники двинулись к “нарушительнице”, но люди, сидевшие в ряду, молча сомкнулись и не пропустили их. И посреди этого невероятного нервного напряжения Бродский сохранял самообладание и чувство собственного достоинства — будто речь шла не о его судьбе.
Но, оставшись наедине с собой или с близкими, он снимал запоры. И чувства захлестывали его, как прорвавшаяся река. Он не пытался бороться с ними. Каким-то инстинктом он понял очень рано, что если подавлять свои чувства с утра до вечера (а силы у него на это были), они умрут. И ты незаметно станешь таким же бесчувственным чурбаном, как судья Савельева, как дружинник Лернер.
За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день, за ваши чувства сильные, за горький кавардак цепляйтесь крепче, милые…Прошел час — а Бродский все не мог успокоиться. Несколько раз он пытался звонить по разным телефонам в Москву — безрезультатно.
…Тому, кто не умеет заменить собой весь мир, обычно остается крутить щербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе, покуда призрак не ответит эхом протяжным воплям зуммера в ночи.Время от времени он порывался снова ехать в аэропорт — и будь что будет!
— Плевать я на них хотел! Чем они меня испугают? Тюрьмой? Психушкой? Это я все уже хавал! И ничего — выжил…
Я не пытался его отговаривать. Я только сказал, что, если его арестуют на трапе самолета, в Москву он точно не попадет.
— Давай сделаем так: ты оставайся пока здесь, а я съезжу в аэропорт еще раз и погляжу, что там происходит. Если замечу наших новых знакомых, мы меняем диспозицию и вечером едем на Московский вокзал. Если их нет — звоню сюда и ты приезжаешь.
Постепенно мне удалось уговорить его на этот план.
По дороге в аэропорт я пытался вспомнить какой-нибудь полицейский роман, который помог бы мне проникнуть в психологию пинкертонов. Личного опыта отношений с КГБ у меня тогда не было — только рассказы друзей, какие-то кусочки из передач западного радио. Но даже сегодня, оглядываясь назад, я не уверен, что могу убедительно объяснить весь этот эпизод.
Ясно, что в Ленинграде, как и во всей стране, проходила постепенная смена аппарата, как это всегда бывает при смене партийной верхушки в коммунистическом государстве. Ясно, что Бродского арестовали и судили “хрущёвцы”, а в 1965 году их вытесняли с руководящих постов “брежневцы”. Но “волюнтаризм” был объявлен порочным — поэтому для виду каждый раз нужно было указать на “промахи” снимаемого руководителя. Если борьба за реабилитацию (или хотя бы помилование) Бродского, которую вели в Москве влиятельные заступники, увенчается успехом, тогда все его дело можно объявить “промахом”, вызвавшим ненужный международный скандал. И полетят в Ленинграде, посыпятся со своих мест важные партийные и полицейские шишки, которые приложили свою руку к этому делу.
Конечно, этим местным шишкам очень хотелось бы оставить приговор над Бродским в силе. А что могло быть лучше для этого, чем поймать его на нарушении режима ссылки? И быстренько добавить за это новый срок. Вот, мол, какой закоренелый преступник — этот ваш “окололитературный трутень”.
Хорошо — но тогда зачем начальник из синей “волги” так явно показал нам себя? Не лучше ли было незаметно доехать за нами до аэропорта и взять Бродского на трапе самолета? Или они боялись упустить “объект”? Или не были уверены, что едут за правильным подозреваемым, и таким грубым приемом пытались проверить? Проверили, убедились, что тот самый, но сами при этом “засветились” — разве такого у них не бывает? Да сколько угодно!
Для полноты картины можно сегодня даже выдвинуть такую версию: слежка направлялась “брежневцами”, чтобы отвлечь, отпугнуть Бродского от опасного шага. Но этот вариант уж слишком отдает сусальным кино про добрых шпиков. Не водилось за ними таких тонкостей.
Я бродил по лестницам и залам аэропорта. Вглядывался в лица. Ни парикмахерского начальника, ни прыщавого юнца, ни пропеченного дядьки нигде не было видно. Но, с другой стороны, если бы они решили устроить засаду, неужели торчали бы на виду? Вполне возможно, что меня-то они сейчас прекрасно видят через какое-нибудь свое двустороннее зеркало и с нетерпением ждут, когда появится второй — главный объект.
Я пошел к телефону-автомату. Нащупал в кармане двухкопеечную монету и “запустил ее в проволочный космос”.
— Они здесь, — сказал я.
До сих пор надеюсь, что они там были, и значит, я не соврал Бродскому. Но если соврал — это было первый и последний раз. Лучше уж соврать, чем дать им снова упрятать его за решетку. Казнил бы себя потом всю жизнь.
— Я поеду домой и вечером буду ждать твоего звонка. Обсудим трудовые победы железнодорожников и расписание поездов.
— Хорошо, — сказал он.
В голосе — уныние, обида, боль. И бесконечная усталость.
Двадцать лет спустя он давал интервью для журнала “Antioch Review”. Журналистка спросила его:
— Вы ненавидели людей, которые проделывали с вами такое?
— Не то чтобы. Я знал, что они — хозяева, а я — это просто я. Люди, которые делают скверные вещи, заслуживают жалости. Понимаете, я был молодым и довольно легкомысленным. В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьезный треугольник. Menage а trois — обычное дело, двое мужчин и женщина, — и потому голова моя была занята главным образом этим. То, что происходит в голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с телом. (Цитируется по изданию: “Большая книга интервью”. М., 2000, с. 212.)
Вообще, живя в Америке, Бродский часто реагировал с раздражением на попытки журналистов ворошить его тюремное прошлое, травлю, преследования. Ему виделась в этом попытка увильнуть от трудной темы “судьба поэта” и оседлать легкую — “судьба жертвы советского режима”. Но в стихах говорил об этом не раз — и с горечью.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски, ученья строить Закону глазки, изображать немого.Самым болезненным для него был опыт пребывания в психушке. Об этом — большая поэма “Горбунов и Горчаков”. Он был сильным человеком и не дал себя сломить ни тюрьме, ни ссылке, ни “передовой советской психиатрии”. Но в нашем литературном поколении — ленинградские 1960-е — не все обладали такой стойкостью. Я знаю по крайней мере трех талантливых писателей — Рид Грачев, Генрих Шеф, Федор Чирсков, — у которых развилась настоящая мания преследования.
(Генрих Шеф приходил к нам иногда, делился своими переживаниями.
— Я ездил на днях в Псков. Моя поездка обошлась государству в тысячи рублей. По дороге туда и обратно КГБ подстроило три автомобильные катастрофы. Одна — с человеческими жертвами. И все для того, чтобы сыграть на моих нервах.
— Гера, — спрашивал я его, — ты ведь веришь, что все люди, которые вступают с тобой в контакт, делают это по заданию КГБ. Значит, и я действую по их заданию?
Он немного смущался и объяснял:
— Некоторые делают это по приказу. Но есть другие, хорошие, которыми КГБ манипулирует скрыто.
— По-твоему, они знают, что я помогаю тебе перепечатывать твои рассказы? Переправляю их за границу? И если они тебя спросят, ты и не подумаешь скрывать это?
Он снисходительно пожимал плечами, будто сочувствовал моей наивности. О чем тут говорить? Конечно, они все знают.
КГБ в его глазах стало Верховной силой, правящей мирозданием. Благодаря КГБ картина мира в его сознании обретала стройность, последовательность, логичность. Когда коммунизм рухнул и КГБ развалился, Генрих Шеф выбросился из окна.)
Телефон в нашей коммуналке зазвонил только в девять вечера. Я заранее предупредил Марину, что мне надо будет уехать, помочь Иосифу. Но звонил не Бродский, а Найман.
— За плохие новости рубят головы, — сказал он. — А за хорошие?
— У тебя какие?
— Звонили из Москвы. Вынесено постановление освободить одного окололитературного тунеядца из ссылки.
— Ты шутишь?!
Он не шутил. Сообщение подтвердилось.
Но означало ли это, что мы весь день напрасно прятались и убегали от слежки? Что трутень уже был свободен и мог лететь куда ему захочется?
Не думаю. Постановление должно было спуститься по всем инстанциям, вплоть до милиции Коношского района Архангельской области, и там быть вручено осужденному. И если бы за эти дни и недели ссыльный ухитрился совершить новое нарушение советских законов, это и был бы вожделенный для конвоя “шаг вправо, шаг влево”, после которого можно “открывать огонь без предупреждения”. Или хотя бы увеличить срок ссылки. Во всяком случае, Бродскому пришлось вернуться в Норенскую в ту осень. Стихотворение “Не тишина — немота…” рисует поэта, ожидающего в избе прихода новой зимы. Оно датировано “октябрь — ноябрь 1965”. Но нет дневника, чтобы вспомнить точную дату его окончательного возвращения в Ленинград.
Конечно, точная дата описанного дня не так уж важна. В этот день не произошло крупного сражения, не оборвалась жизнь тирана, не полетел в космос новый спутник. И все же в нас живет смутное желание сберегать, сохранять цепочку мелочей, из которых плетется наша жизнь. Почему-то нам кажется это важным. И каждый раз, когда ниточка памяти обрывается, у нас возникает чувство утраты. Будто мы опять проиграли маленький бой наступающему со всех сторон, навязанному нам беспамятству.
Один американский советолог — специалист по истории России — рассказал мне любопытный эпизод. Он был подписчиком Большой Советской Энциклопедии. И в 1954 году получил толстый конверт из Москвы. Издатели энциклопедии просили его вырезать один лист из второго тома и вклеить на его место новый, прилагавшийся тут же. Была предусмотрена и клейкая полоска, которая позволяла сделать замену без лишних хлопот. На листе, подлежащем удалению, была большая статья о выдающемся руководителе Коммунистической партии Советского Союза, верном ленинце-сталинце Лаврентии Павловиче Берии. На присланном листе эта статья была заменена другой — о Беринговом проливе. Арестованный и казненный в 1953 году, Берия должен был исчезнуть не только с лица земли, но и из отечественной истории. А по возможности — и из мировой.
У меня на полке стоит Краткий энциклопедический словарь 1980 года издания. Там тоже нет статьи о Берии. Отсутствуют также Бухарин, Зиновьев, Каменев, Троцкий (есть Троцкий Ной Абрамович — советский архитектор), Ягода и другие “уклонисты от генеральной линии партии”. Переписать историю, захватить тотальный контроль и над памятью людей — это не фантазия Джорджа Оруэлла, а нормальная повседневная практика всякой тирании.
На этом фоне ведение любым человеком дневниковых записей переставало быть невинным частным занятием. Оно должно было выглядеть нарушением государственной монополии на память. Человек, решившийся вести дневник, часто чувствовал себя нарушителем неписаных советских запретов. И мы сегодня должны быть благодарны тем, кто одолевал собственный страх и день за днем сохранял “крупицы бытия”, незаметно сливающиеся потом в понятие “История народа”.
Анне Андреевне Ахматовой довелось испить ужас сталинской эпохи сполна. Расстрел первого мужа — отца ее ребенка, голод, нищета, аресты друзей и близких, полная неизвестность о судьбе сына, брошенного в лагерь, повседневная готовность к обыску и аресту, публичные поношения, унизительное бесправие… Говорят, что она в разговорах старалась не называть имена людей. “Один человек сказал мне”, “я слышала от одной женщины”… Но при всем этом дневник она продолжала вести, постоянно пряча его в разные места. И именно в ее дневнике мы можем найти запись, помогающую точно датировать описанный выше день. Под датой 11 сентября 1965 года читаем:
“Освобожден Иосиф по решению Верховного суда. Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен — казался на краю самоубийства…”
Значит, после моего звонка из аэропорта Бродский поехал к Ахматовой. Возможно, рассказал ей о своей попытке улететь в Москву. Возможно, ей удалось то, что не удалось мне: успокоить его, отговорить от рискованных шагов. Возможно, посвященное ей стихотворение “Под занавес” (дата:
20 сентября, 1965), в котором поэт прощается с деревней, — жест благодарности именно за этот день.
Отыскав свою чашу, он, не чувствуя ног, устремляется в чащу, словно в шумный шинок, и потом, с разговенья, там горланит в глуши, обретая забвенье и спасенье души.Опубликовано в журнале: «Звезда» 2003, № 9
Лед — неуловимый террорист Загадочные падения самолетов зимой
Как хорошо, как бережно наша родная советская власть охраняла нас от ужаса новостей! Мы ничего не знали о наводнениях, лесных пожарах, смерчах, землетрясениях, затонувших подводных лодках, взрывах на шахтах в нашей родной стране. А здесь?! Любое крупное несчастье сразу попадает в заголовки газет, на экраны телевизоров, в новости Интернета. Так и стоят до сих пор перед глазами кадры тридцатилетней давности: прихваченная льдом поверхность реки Потомак в Вашингтоне, отломившийся хвост гигантского авиалайнера, рухнувшего на взлете, фигурки нескольких чудом выживших пассажиров, барахтающихся в ледяной воде, и случайный прохожий, бегущий на помощь, срывающий с себя на ходу пальто, кидающийся вплавь.
Потом к этому привыкаешь. Да, жизнь полна непредвиденных катастроф. Сострадание притупляется, страх за себя и близких слабеет. Но как-то откладывалось в подсознании, что большинство авиационных катастроф, которым не было найдено удовлетворительного объяснения, происходили на взлете или посадке и непременно — в заморозки с дождем и туманом. Однако всегда думалось: умные люди, знающие специалисты, конечно, занимаются этим, рано или поздно они разберутся, уяснят, что происходит, и примут необходимые меры.
Вскоре в новостях начало мелькать имя главного подозреваемого. ЛЕД. Если самолет простоит на земле холодную ночь, а утром начнется потепление при большой влажности воздуха, лед начинал осаждаться на крыльях и корпусе промерзшего за ночь самолета. Он увеличивал вес лайнера, поэтому мощности моторов иногда не хватало для того, чтобы оторваться от земли. Было приказано производить обязательную очистку ото льда перед вылетом с помощью горячего воздуха и специальных химикалиев.
Моему скептическому уму эти меры всегда казались недостаточными. Хорошо, на земле вы можете очистить поверхность самолета ото льда. А что если самолет идет на посадку из верхних слоев атмосферы, где его корпус остыл до минус 40 по Цельсию, и попадает во влажный воздух с температурой, близкой к нулю? Вся влага осядет на крыльях и корпусе в виде льда. И вы не сможете послать пилота соскребать этот лед совком и лопатой.
Кроме того, так уж случилось, что в молодости я был инженером. И специальностью моей были как раз газовые турбины — главный элемент современных турбо-реактивных двигателей. Эти двигатели состоят из двух основных частей: вращающийся ротор, усаженный компрессорными, а потом турбинными лопатками, и неподвижный корпус, на котором тоже закреплены лопатки, а между компрессорной и турбинной частями — камеры сгорания, в которых топливо впрыскивается в сжатый компрессором воздух. Наружный воздух сначала попадает в первую секцию мотора, компрессор, в нем он проходит через ряды вращающихся и неподвижных, специальным образом спрофилированных, стальных лопаток и сжимается до нужного давления. Потом во второй секции, в камерах сгорания, в сжатый воздух впрыскивается топливо (обычно — керосин). Потом раскаленные газы устремляются в третью секцию, на лопатки турбины, обеспечивающей вращение всего ротора, и после этого вылетают из заднего сопла, создавая необходимую тягу.
Мне с самого начала было ясно, что если лед появился на крыльях, он не мог не появиться на первых ступенях внутри компрессора. (Ступенью называется комплекс из двух рядов лопаток: один ряд — вращающиеся, закрепленные на роторе, другой — статичные, закрепленные на корпусе; в компрессоре обычно бывает от 6 до 8 ступеней.) Входная часть компрессора всегда имеет ту же температуру, что и корпус и крылья (или даже более низкую), раскаленные газы вылетают назад, и слабый поток тепла по тонкому корпусу компрессора никогда не сможет одолеть ураган холодного воздуха, влетающего во входное сопло. Если хотя бы тонкий слой льда появится на лопатках и внутри корпуса, он изменит всю аэродинамику компрессора, ослабит мощность мотора. Если слой льда достигнет 5–6 миллиметров, он заполнит весь зазор между лопатками и корпусом, между вращающимися частями и неподвижными, лопатки начнут задевать за него и в конце концов остановят вращение, как тормоз останавливает вращение колеса автомобиля. Но то, что было столь очевидно мне, не могло не быть очевидно инженерам, работающим в современной авиации. Я был уверен, что они занимаются проблемой, ищут оптимальные решения и вот-вот найдут их.
Событие, случившееся 15 января 2009 года, пошатнуло мою уверенность. Напомню читателю: у самолета кампании Ю — ЭС Эйрвэйс, марки А320–214 (изготовлен американо-французской компанией во Франции в 1999 году), через шесть минут после взлета из аэропорта Ла-Гвардия в Нью-Йорке внезапно отказали оба мотора, и герой-капитан Салленбергер сумел посадить огромный авиалайнер на поверхность реки Гудзон. Пока самолет медленно погружался, пассажиры и команда выбрались на крылья, и все 150 человек были спасены.
Причиной аварии было объявлено столкновение со стаей канадских гусей на высоте примерно 980 метров. Неделю спустя обломки самолета удалось поднять со дна реки, и в правом моторе действительно нашли одно птичье перо. В левом моторе никаких следов птиц обнаружено не было, но разрушения были серьезнее, чем в правом (см. Интернет, Flight 1549, U. S. Airways Investigation, Википедия).
Быть записным скептиком вообще очень соблазнительно. Скепсис так похож на мудрость, а усилий требует так мало, что нужно постоянно одергивать себя и уклоняться от этого соблазна. Я готов допустить, что столкновение с птицами имело место. (Один из пилотов доложил, что он видел птиц, слышал удар, после которого на ветровом стекле самолета появилось что-то бурое.) Вполне возможно, что никакие птичьи останки не могли сохраниться в моторах, погрузившихся в воды Гудзона. (Но так же возможно и то, что единственное найденное перо — это просто часть грязи, плавающей в этой не самой чистой реке.) Во что я не могу поверить: что два гуся-террориста договорились одновременно залететь в два мотора. А черный ящик, извлеченный со дна реки после аварии, бесстрастно доложил, что оба мотора остановились именно одновременно.
Да, столкновения самолетов с пернатыми случаются. Но даже если удар приходится на мотор, его принимает защитная решетка, установленная на входе. Представить себе, что разлетевшиеся кусочки птичьей плоти могут повредить стальные лопатки, рассчитанные выдерживать мощные центробежные силы, очень нелегко. Допустить, что эти повреждения могут привести к остановке мотора, — для этого понадобится фантазия сказочника Андерсена; мне такие случаи не известны. Вероятность того, что это неправдоподобное событие произошло одновременно в двух моторах, должна быть равна одной десятимиллиардной.
Посреди всеобщего ликования по поводу чудесного спасения ста пятидесяти человек, посреди торжественных вручений наград герою-пилоту и всей команде, на фоне простого, как в сказке, объяснения катастрофы (гуси-лебеди нагадили! Злые Ивиковы журавли!) почти никто не заметил самую важную деталь расследования: представители компании признались, что ровно за два дня до “чуда на Гудзоне” в таком же А320, вылетавшем тем же рейсом в тот же город Шарлот, что в Северной Каролине, точно так же заглох один из моторов. Пассажирам было приказано приготовиться к аварийной посадке. Но — о чудо! — мотор удалось снова запустить. Полет закончился благополучно. Причиной остановки была объявлена неисправность температурного датчика. Датчик заменили, и самолет вернулся к полетам. 150 человек в течение нескольких минут прощались с жизнью, но в новости это не попало.
Я склонен думать, что и 13, и 15 января причина остановки была одна и та же: образование льда в компрессоре. Просто 13-го слой его был тоньше, или он быстро растаял, и мотор удалось перезапустить. Удары в моторах, которые слышали пассажиры и пилоты 15 января, были, скорее всего, скрежетом лопаток о лед. Отключение камер сгорания (оно происходит автоматически при остановке ротора) тоже должно было сопровождаться звуком удара или серии ударов.
Жизнь вернулась в свое русло и время от времени продолжала подбрасывать в заголовки новостей новые сообщения о таинственных катастрофах, случавшихся в морозно-мокрую погоду. В январе Боинг–777 Британских авиалиний “не долетел” 300 метров до посадочной полосы в Лондоне. В марте без всяких видимых причин рухнул турецкий авиалайнер, подлетавший к Амстердаму. 12 февраля упал самолет, подлетавший к городу Баффало в штате Нью-Йорк, погибли все 50 человек, находившихся на борту. Последнее сообщение пилотов: “Мы видим лед на крыльях”. Проведенное расследование пришло к выводу, что причиной аварии явилась усталость второго пилота, Ребекки Шоу, которая якобы совершила ошибку при посадке. Семья Ребекки с возмущением отвергала это заключение, газеты публиковали их протесты.
Встревоженный тем, что ни в каких новостях ни разу не упоминалась гипотеза “образование льда внутри компрессора”, я полез в отчеты Американского национального бюро по безопасности транспорта (National Transportation Safety Board), созданного после трагедии 11 сентября. Обнаружилось, что это учреждение считает лед врагом — опасностью — номер один. Но только лед, образующийся на крыльях и корпусе самолетов. Принимаются все новые и новые меры по снятию его перед вылетом, изобретены пневматические полосы на крыльях, которые, раздувшись, могут взломать лед, образовавшийся во время полета; ведутся специальные исследования атмосферы, нацеленные на уяснение процесса образования льда при различных температурах, влажности, давлении. Однако никакого упоминания о возможности образования льда внутри компрессора я не нашел.
Когда я делился своими тревогами со знакомыми русскими учеными, они смотрели на меня с недоумением. Как всякому человеку, незнакомому детально с внутренним устройством турбореактивного двигателя, им казалось нелепостью допустить, что внутри пышащего пламенем мотора (мы все видели огненные языки, вырывающиеся из заднего сопла на взлете) может в какой-то момент образоваться лед. И конечно, при расследовании катастроф никаких следов этого опаснейшего “террориста” мы не найдем.
“Все это дает мне право хотя бы забить тревогу”, — решил я и послал соответствующие письма в Федеральное управление авиацией (Federal Aviation Administration), в Бюро по безопасности транспорта и в Международную ассоциацию по безопасности полетов (International Aviation Safety Association, IASA). К моему удивлению, из последней организации вскоре пришел ответ. Директор австралийского отделения, бывший пилот, выражал полное несогласие с моей теорией, но, по крайней мере, удостоил меня подробными объяснениями, почему образование льда в компрессоре кажется ему невозможным. Главный его аргумент: температура по пути следования воздуха в компрессоре только поднимается и на последних ступенях превышает уже 100 градусов по Цельсию. Я должен был согласиться с этим, но указал ему на то, что на входе в компрессор образуется вакуум, давление падает, а вместе с ним — и температура. Поэтому возможна ситуацтия, когда температура в атмосфере, допустим, плюс 5 градусов Цельсия, а температура лопаток первых ступеней компрессора будет минус 5 — как раз достаточные условия для оседания льда. Для самолета же, спускающегося из верхних слоев атмосферы, где входная часть мотора остыла до минус 40 градусов, попадание во влажный воздух нижних слоев будет особенно опасным. Лед, заполнивший узкую щель между вращающимися и неподвижными частями, сработает как тормоз, сделанный из камня, и замедлит или остановит вращение мотора.
Наш спор, конечно, невозможно решить без эксперимента. Простейшим представляется: установить микротелекамеру внутри мотора, направленную на лопатки первой ступени компрессора, и термопару (электрический термометр) на входной части корпуса. Когда лед появится на крыльях, по моей гипотезе — почти уверенности, — мы увидим образование льда и зарегистрируем температуру корпуса ниже нуля. Но для того, чтобы пойти на такой эксперимент, нужно, чтобы кто-то из влиятельных людей в сфере безопасности полетов разделил мою тревогу и объявил подобное исследование необходимым. К сожалению, мой оппонент из Австралии верит, что, как он написал, “80 % аварий вызваны ошибками пилотов”. На это я ему ответил, что расследователи аварий выдвигают объяснение “ошибка пилота” во всех тех случаях, когда не могут найти удовлетворительного объяснения. И это трагично, потому что на погибших пилотов ложится недоказанное обвинение в гибели их пассажиров. Их детям и близким придется всю жизнь носить это незаслуженное клеймо.
Летом 2009 года мне удалось связаться с русскими инженерами, работавшими в сфере обслуживания наземных газотурбинных двигателей (в России и в Америке), устанавливаемых на газопроводах. Эти машины используют в качестве топлива тот самый газ, который они перекачивают, и, конечно, им не нужна реактивная тяга выбрасываемых газов, поэтому она сведена к минимуму. Но в принципе конструкция их повторяет все основные элементы авиационных моторов. Один инженер рассказал мне про свой опыт работы на теплоэлектростанции завода “Красный треугольник” в Ленинграде, включавшей газотурбинные установки. Конструкторы никак не могли понять, почему в морозные утра машины часто начинало трясти и они в конце концов останавливались. Проблема исчезла только после того, как воздух на входе в компрессор стали подогревать специальным устройством. Другой инженер столкнулся с тем же явлением, работая на газотурбинной установке в Новгороде. “На входном патрубке компрессора, — пишет он, — были вырезаны специальные застекленные окна в районе конструктивных ребер жесткости перед входным направляющим аппаратом. Обледенение наступало примерно в 4–5 утра в диапазоне температур наружного воздуха плюс-минус 2 градуса Цельсия. Лед нарастал буквально на глазах”. Установку приходилось отключать”.
Один американский друг, которому я рассказал о своих письмах в американские и международные организации, занимающиеся безопасностью полетов, высказал важное соображение: “Если твоя гипотеза подтвердится, представляешь, какие миллиардные убытки понесет весь бизнес авиационных перевозок? Поэтому ты должен быть готов к тому, что гипотеза, которую наверняка выдвигали и отдельные американские инженеры, будет встречать мощнейшее противодействие самых разных сил”.
И действительно: попробуем представить себе, что произойдет, если завтра Федеральное управление авиацией объявит внутреннее обледенение компрессора главной причиной десятков таинственных аварий, случающихся каждый год.
Первым делом придется запретить все взлеты и посадки в условиях, чреватых образованием льда на крыльях и корпусе самолета, а это приведет к отмене сотен рейсов и полному хаосу в расписаниях многих аэропортов.
Во-вторых, необходимо будет выработать новые стандарты на допустимое расстояние между концами лопаток компрессора и корпусом, а увеличение этого расстояния приведет к снижению эффективности двигателя и к возрастанию расходов на топливо.
Существующие моторы придется возвращать на заводы для уменьшения высоты лопаток и для вмонтирования специальных датчиков, которые будут оповещать пилотов о начавшемся образовании льда внутри компрессора.
В конструкциях новых моторов необходимо будет предусмотреть какую-то систему обогрева входной части мотора (электричеством или горячими газами, взятыми из выхлопной части).
Если виноваты гуси, их в суд не потащишь; но судебные иски, вчинямые авиакомпаниям родственниками погибших, могут обернуться настоящим золотым дождем для американских адвокатов.
Миллиарды и миллиарды новых трат в условиях сурового мирового финансового кризиса — легко ли пойти на это?
В России, где зима длится дольше и температуры воздуха ниже, чем в Америке, проблема обледенения самолетов стоит еще острее. Я вправе надеяться на то, что российские пилоты и администраторы скорее заинтересуются моей теорией, чем американские. Но все же, дорогой читатель, нам не приходится ждать скорого повышения безопасности полетов. Все, что мы — пассажиры и пилоты — можем пока сделать: внимательно следить зимой за погодными условиями в месте взлета и посадки нашего рейса и — если уж очень дорожим жизнью — отказываться от полета, когда эти условия приводят к внешнему обледенению самолета.
Опубликовано в журнале: «Нева» 2011, № 1
Больше чем единица Четыре лица Льва Лосева
Озорник
Если бы студенты профессора Лосева в Дартмутском колледже узнали, как он любил всякое озорство и шкоду в свои юные годы, ему нелегко было бы поддерживать дисциплину во время занятий. Они могли бы для начала улечься на полу аудитории и в ответ на его протесты напомнили бы ему, как он сам с приятелями в морозный вечер разлегся так же на тротуаре Невского проспекта просто потому, что “захотелось прилечь”.[15] А потом стали бы “водить хоровод, играть в “каравай”с приседаниями и вставанием на цыпочки”.[16] Или нарядились бы “в сапоги и рубахи навыпуск… и, усевшись на пол в кружок… стали хлебать квасную тюрю из общей миски деревянными ложками, распевая подходящие к случаю стихи Хлебникова”.[17] Или устроить “состязание поэтов”, в котором проигравший должен был носом толкать спичечный коробок по поверхности стола несколько кругов.[18]
В своих воспоминаниях, опубликованных посмертно[19], Лосев так объясняет увлечение футуристами, обэриутами, Хлебниковым: “…лучше через будетлянство и кубофутуризм добраться до Ахматовой и Мандельштама и всего остального, чем любой другой путь. Русский футуризм заражал приобщавшихся воинственностью, установкой на эпатаж, то есть необходимыми душевными качествами, а русский формализм (как теоретический сектор футуризма) обеспечивал универсальный подход, метод, систему. Итак, от Маяковского шли к Хлебникову и Крученыху, а затем назад уже через Заболоцкого и обэриутов, то есть приобщаясь к наивысшей иронии и философичности, какая только существовала в русской культуре”.[20]
Когда я читал эти строки, у меня возникало впечатление, что пером Лосева двигала уже профессорская привычка искать объяснения всему происходящему через привычные литературно-филологические категории. На самом деле — я уверен — детское и юношеское озорство есть самый естественный порыв-прорыв к реализации жажды свободы, живущей в каждом человеке. В сталинской России начала 1950-х решетки несвободы были протянуты в самые сокровенные уголки человеческого существования — поэтому и попытки вырваться из этой несвободы могли принимать самые причудливые формы.
В компанию молодого Лосева входили дерзкие оригиналы из Ленинградского университета: Михаил Красильников, Юрий Михайлов, Александр Кондратов, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Леонид Виноградов. Среди их любимых развлечений были участие в праздничных демонстрациях 7 ноября и 1 мая (с выпивкой до, во время и после, с теоретическим “обоснованием”, сочиненным Уфляндом: “Сиденье дома в дни торжеств / есть отвратительный, позорный жест”), походы на футбольные матчи (с выпивкой), чтение вслух стихов в чьем-то доме (с выпивкой), просто выпивка — но, как правило, с выбрасыванием из окна старинной вазы, пишущей машинки или даже самих себя. Один юный последователь группы погиб, пытаясь повторить подвиг Долохова, Михаил Еремин, попытавшийся выйти за новой бутылкой через окно бельэтажа, вернулся с костылями на всю жизнь.
“Однажды Виноградов и Уфлянд плелись за своей широкоплечей красавицей, в которую были оба влюблены, через Троицкий мост. “А я для тебя в реку прыгну“, — неожиданно сказал Виноградов и прыгнул (в ледяную весеннюю Неву, с высоты примерно двадцати метров). Маленький Уфлянд тут же полетел за ним в развевающемся пиджачке, крича: “Леха, подожди меня!”Наталья вышла за прыгнувшего первым”.[21]
У Бунина в “Окаянных днях” есть интересный эпизод. Летом 1917 года он принимает участие в заседании русско-финской комиссии, обсуждающей порядок предоставления независимости Финляндии. Вдруг врывается группа футуристов во главе с Маяковским и начинает расхаживать по залу, громко выкрикая: “Долой! Долой!” В стране объявлена свобода слова, и никто не знает, что можно и чего нельзя делать с хулиганами, по-своему реализующими эту свободу. В какой-то момент Маяковский наклоняется к окаменевшему Бунину и спрашивает негромко: “Вы меня очень ненавидите?” Потом продолжает дебош. Похожая сцена описана Лосевым: главарь их компании, Михаил Красильников, на футбольном матче кричит во все горло “су-у-ука!” судье независимо от того, в чьи ворота тот назначает штрафной. “Соседи по трибуне поглядывали на него с удивлением и даже с испугом: может сумасшедший? А он просто любил эти просветы воли — ходи где хочешь, ори что хочешь”.[22] Но когда он попытался во время демонстрации 7 ноября 1956 года орать “Свободу Венгрии!”, “Утопить Насера!”, власти расслышали и услали его в мордовские лагеря на четыре года.
Если согласиться с тем, что футуризм есть ответвление анархизма в поэзии, эти две сцены обретают внутреннюю связь: главное — иметь возможность орать “долой!”, “сука!” и не быть обремененным необходимостью объяснять, что именно и ради чего ты ниспровергаешь. Но чудится здесь, в юношеском озорстве этой компании, еще и попытка нащупать, возродить, своей дерзостью узаконить то, что мы находим в исторической жизни столь многих народов: карнавал, маскарад, ряженых на святках, скоморохов на ярмарках. Потому что тяжело человеку жить день за днем под гнетом сотен “нельзя”, тяжело быть кирпичиком в здании социального неравенства — и тем, кто внизу, тяжело, да и тем, кто наверху, ненамного легче. Вырваться хотя бы на несколько часов, на несколько дней праздника — такое облегчение!
Единственное возможное спасение от этой несвободы — игра. Так называемая “борьба за освобождение” не спасает. Ведь, вступая в борьбу, ты просто пытаешься заменить старые, надоевшие формы гнета новыми. Во всем творчестве Лосева — и в поэзии и в эссеистике — не найдем мы призыва к какой бы то ни было борьбе. “Я был достаточно смышлен, чтобы понять смолоду, что рожден в стране тотальной несвободы и что на моем веку еще не рухнет бюрократическая тирания… Опыт предыдущих поколений учил, что все революции тщетны, что насилие рождает насилие, а зло — зло. Я всем сердцем понял, что печься о счастье дальнего от тебя, полагать себя знающим, что для другого благо, а что зло, — от лукавого, что задача человека — сохранить неопоганенной свою живую душу, стараясь делать добро ближним своим… А мечтательность рисовала отрадные картины, как прожить свою жизнь с достоинством”.[23]
Вот именно, что “мечтательность”. Реальное же существование было устроено так, что даже напечатать стихотворение своего друга про буксир в детском журнале “Костер”, где Лосев работал редактором, превращалось в акт борьбы, коли имя этого друга было Иосиф Бродский. А прочитать новые стихи своего современника и передать машинописные странички следующему любителю поэзии объявлялось деянием уголовно наказуемым. Как и писание и распространение собственных стихов, еще не получивших официального одобрения. Казалось, все усилия системы были направлены именно на то, чтобы лишить человека возможности “прожить с достоинством”. И Лосев со вздохом признавал победу системы: “Хоть и придумана российская форма неучастие во лжи, а все равно, хоть ты синхрофазотрон проектируешь, хоть окурки из красного уголка выметаешь, но если ты сознательная тварь и молчишь, значит молчанием своим участвуешь во лжи, и рабское клеймо — на тебе”.[24]
Для таких, как Лосев, эмиграция оказывалась не просто окошком в новую жизнь — она была единственно возможным путем спасения. И в 1976 году он уехал с семьей в Америку через тоненький дипломатический туннель, проложенный добрыми американскими законодателями Джексоном и Вэником, в толпе других беглецов, получившей название “третья волна русской эмиграции”.
Поэт
Лев Владимирович Лифшиц родился 15 июня 1937 года в Ленинграде в семье известного литератора Владимира Александровича Лифшица. Талантливый и самобытный поэт Лев Лосев появился на свет сорок два года спустя, когда журнал “Эхо” (Париж, редакторы Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко) опубликовал первую подборку его стихотворений. К этой подборке Бродский написал короткое послесловие, в котором были такие слова: “Стихи А. Лосева — замечательное событие отечественной поэзии, ибо они открывают в ней страницу дотоле не предполагавшуюся… Лосев — поэт сдержанный, крайне сдержанный… Его сдержанность — это система, и система столь же психологическая, сколь и стилистическая. Традиционность его строфики сама суть дань этой сдержанности, ибо традиция часто лишь благородное имя маски”.[25]
Четыре года спустя мне довелось слушать выступление поэта Лосева на литературной конференции в Милане, созванной журналом “Континент” (Париж) и его главным редактором Владимиром Максимовым. Прочитанные там стихи привели меня в такой восторг, что после выступления я бросился обнимать автора и сразу предложил ему издать их отдельной книгой в недавно основанном мною издательстве “Эрмитаж”. Сборник вышел в 1985 году под названием “Чудесный десант”. Два года спустя появился второй — “Тайный советник” (1987). Поэт Лосев был замечен и признан любителями русской поэзии по обе стороны границы. Почти все рецензии на его стихи были положительными, хотя и с тем же легким оттенком удивления, как у Бродского, — “откуда взялся?”.
Во втором сборнике есть стихотворение “Памяти поэта”. В него трижды вплетена строфа, сочиненная малоизвестным дореволюционным поэтом Константином Льдовым: “Вся сцена, словно рамой, / окном обведена / и жизненною драмой / таинственно полна”.[26] Думается, цитата эта выбрана Лосевым не случайно. Его собственная поэтика имеет сходство с искусством фотографа, кинооператора. (Один раздел в книге так и назван — “Урок фотографии”.) Берется, казалось бы, заурядная бытовая картинка, но глаз художника выстраивает такой “кадр”, что быт “таинственно наполняется жизненной драмой”. Недаром уже в первом его сборнике многие стихи или строки посвящены изобразительным искусствам. Тут и “Подписи к виденным в детстве картинкам”, и “Инструкция рисовальщику гербов”, и “отсырелый пейзаж Писсаро”, и “К моему портрету, нарисованному моим сыном Дмитрием”, и Вермеер “В амстердамской галерее”, и “Истолкование Целкова”.
Впечатление от стихов Лосева чем-то похоже на впечатление, с которым выходишь из эрмитажного зала малых голландцев. Но его пейзажи и натюрморты лишены какой бы то ни было роскоши и красочного блеска. Вот начало стихотворения “Натюрморт”, заполняющего прямоугольную рамку: “Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый”.
Однако это пристрастие к зримым образам ничуть не приближало меня к раскрытию тайны поэзии Льва Лосева. Я должен был прочесть эти стихи много раз — как издатель, как наборщик, как корректор, но “жизненная драма”, содержавшаяся в них, оставалась для меня такой же “таинственной”, как и при первом прочтении. Впоследствии мне довелось прочесть много критических откликов на лосевские сборники, сделанных его собратьями по цеху — другими поэтами, и некоторые “разгадки” показались мне заслуживающими внимания. Приведу здесь те, что сохранились в моем архиве.
Алексей Татаринов(Бахыт Кенжеев):
“Спокойствие поэта Лосева — лишь одна из нот его нервной, дисгармоничной, мятущейся книги. На ее протяжении он преодолевает позднее ученичество стихов “об искусстве“… преодолевает соблазны модернистской расхристанности и чрезмерной очевидности… Результат — в лучших стихотворениях “Чудесного десанта”— блестящий сплав лирики и сарказма, душевная и творческая зрелость”.[27]
Михаил Айзенберг:
“Как профессионал-филолог Лосев понимает, что нельзя придумать новую поэзию, но можно создать нового автора: можно изменить речевое поведение… Ослышки и каламбуры, контаминации, полуанекдотические детали заведомо не претендуют на высокие значения… Многие его вещи можно принять за пародию на те стихи, которые мог бы писать Лосев, если бы не был так образован и так склонен к рефлексии”.[28]
Сергей Гандлевский:
“Чрезвычайно эластичные голосовые связки, ненарочитость манеры позволяют Лосеву без натуги говорить “о добре и зле. О нравственности. О природе знака“. Или солоно шутить, не впадая в гаерство… Лосев пишет на диковинном реликтовом наречии советского социального отщепенства, когда в разговоре уживаются ученость с казармой, метафизические раздумья со злобой дня, мировая скорбь с каламбуром… Этим языком Лев Лосев владеет в совершенстве…”[29]
Дмитрий Быков:
“Лосев — поэт по преимуществу теплый, но настолько ущемленный и травмированный, настолько подавленный миром, в котором ему приходилось жить-выживать (он и писать-то смог, только покинув этот мир и переселившись в более комфортную среду), что эмоция прорывается в его тексты чрезвычайно редко. Там, где у Бродского в ледяной пустоте витийствует лирический герой, как раз очень даже полнокровный, живой и осязаемый, — там у Лосева в ледяной твердыне мира образуется спасительная лакуна пустоты; эта-то пустота и есть авторское “я“, со всех сторон стиснутое чужой плотью. Где герой Бродского упраздняет мир — герой Лосева упраздняет себя. Боль у Лосева слишком сильная, чтобы можно было даже помыслить о словесном ее оформлении, боль хроническая, прорывающаяся не в смысле слов, а в звуке”.[30]
Почти во всех откликах на стихи Лосева встречаются слова “сарказм”, “пародия”, “ирония”, “соленые шутки”. Я позволю себе привлечь еще одно слово — то, которое уже было использовано в первой подглавке: “карнавал”. Карнавальная маска отличается от маски карикатурной тем, что она не содержит злобы. Персонажи и вещи преображаются в этом поэтическом царстве не ради принижения их, а для того, чтобы выпустить их на сцену в самых причудливых нарядах. (Вспомним какую-нибудь “Битву Масленицы и Поста” Брейгеля или “Город женщин” Феллини.) Еще не читавши Бахтина, многие литераторы нашего поколения интуитивно ощущали важность карнавала в истории мировой культуры. Это же слово встречается в интересной статье Лили Панн о стихах Лосева: “Его сознание явно карнавальное, добрая доля его стихов — это перевертыши, оборотни… табу здесь не существуют. С классиками он особенно непочтителен”.[31]
На карнавале никто не должен быть “освобожден” от костюма и маски — иначе какое же веселье? Поэтому “достается” и бесконечно почитаемому Лосевым Солженицыну (“…он в бороду толстовскую одет / и в сталинский полувоенный китель”), и классику Тургеневу (“…роман Отцы с ребенками”), и боготворимому Бродскому (“…сумасшедший, почти как Чадаев”), и любимому городу на Неве (“Он построен на месте встречи / Элефанта с собакой Моськой”), и даже самому себе (“Нью-хэмпширский профессор / российских кислых щей…”).
И еще одна особенность поэта Лосева: во всем творческом наследии — ни одного стихотворения “про лубофь”. Найдется ли еще другой значительный поэт, который решился бы не касаться этой темы?
Профессор
В советской России мы с Лосевым жили в одном городе, имели десятки общих друзей, я печатался в том самом журнале, где он работал редактором, но знакомы в полном смысле этого слова мы не были. Наше сближение началось только в Америке. В Мичигане мы оба были связаны с издательством “Ардис”, потом мы с женой навещали Лосевых в Лансинге, где он получил место в университете, потом в Дартмутском колледже (штат Нью-Хэмпшир), потом встречались на различных славистских конференциях. Мне никогда не довелось видеть Лосева перед студенческой аудиторией. Зато все остальные аспекты его профессорской деятельности протекали у меня на глазах. Особенно в тот период, когда он работал над книгой “Эзопов язык в современной русской литературе”, которая потом стала основой его докторской диссертации.[32] Первоначально этот труд вышел на английском в Германии, и вот для этого издания “Эрмитаж” готовил набор и держал корректуру.
В рецензии на эту книгу я писал: “Русским языком и литературой занимаются на Западе тысячи специалистов. Если кому-то удается открыть небольшой рассказ видного писателя, статью, подборку писем, это всегда — событие. Профессор Лосев в своей новой книге предлагает ни много ни мало открытие почти не изученного доселе языка — языка, которым пользовались сотни русских литераторов, на протяжении двух веков боровшихся и борющихся с цензурными препонами, и который отлично понимали миллионы их читателей”.[33]
Автор при работе над этим исследованием оказался перед сложной моральной дилеммой: как провести анализ эзоповских приемов писателей современных и при этом не подставить их под удар, разоблачая перед цензором их тайные ходы? Он пытался ограничить себя примерами из творчества умерших (Бахтин, Булгаков, Введенский, Хармс, Шварц) или эмигрировавших (Белинков, Коржавин, Некрасов, Солженицын). Но все же были и примеры из творчества Ахмадулиной, Евтушенко, Стругацких, и Лосеву пришлось выслушивать упреки за это расширение поля исследования.
В 1986 году “Эрмитаж” выпустил под редакцией Лосева сборник статей “Поэтика Бродского”, в оглавлении которого можно найти имена почти всех видных литературоведов, успевших к тому времени написать статьи о Бродском: Станислав Баранчак, Петр Вайль, Кейс Верхейл, Александр Генис, Александр Жолковский, Джейн Нокс, Валентина Полухина, Карл Проффер, Джеральд Смит, Барри Шерр, Джеральд Янечек. В дальнейшем профессор Лосев писал статьи о “Слове о полку Игореве”, Антоне Чехове, Анне Ахматовой, Александре Солженицыне, Иосифе Бродском. Под его редакцией выходили книги Михаила Булгакова, Николая Олейникова, Евгения Шварца. Он переводил на русский язык стихи К. Кавафиса, статьи Шеймаса Хини, Октавио де Паса, Чеслава Милоша, эссеистику и письма Бродского.
Завершающим трудом в его научной карьере явилась биография Иосифа Бродского, опубликованная в России в 2006 году.[34] Мне довелось читать эту книгу в рукописи, в доме Лосевых в Гановере (Нью-Хэмпшир). Наутро я спустился к завтраку и сказал, что хочу сделать три заявления: “Первое — что это замечательная книга; второе — что это замечательное событие литературной жизни; третье — что это замечательный поступок”. И действительно: только настоящий поэт мог написать так проникновенно и ясно о другом поэте.
С другой стороны, чувство такта и вкуса помогло Лосеву избежать в этой биографии претензий на “всепонимание” объекта его исследования. Эту опасность он сам очень хорошо описал в своих воспоминаниях: “Нередко, читая даже… академически значительные, остроумные, подкрепленные глубокими знаниями анализы гениальных сочинений, я под конец ощущал какую-то неверность тона. Фальшь ощущалась тогда, когда ученый критик до конца объяснял, что и как сказал гений… Постмодернистская самовлюбленная болтовня по поводу “отсутствия автора”и “бесконечности прочтений”равно противоположна тому, что пытаюсь сказать я: если, как говорит Цветаева, гений “подвержен наитию“, способности целостного миропостижения, в несравненно большей степени, чем мы, то мы, по определению, не можем претендовать на полноту понимания его творчества”.[35]
Считанные люди могут сравниться с профессором Лосевым по глубине его знаний о жизни и творчестве Бродского, по тонкости анализа его поэтики. Однако в огромном мире “бродскианы” есть царство, оставшееся чуждым и непонятным даже для такого знатока: переживание Бродским драмы мировой истории. Такие вещи, как “Авраам и Исаак”, “Остановка в пустыне”, “Речь о пролитом молоке”, “Двадцать сонетов к Марии Стюарт”, “На смерть Жукова”, “Письмо в бутылке”, и десятки других остаются открыты для него только своими поэтическими красотами — не глубиной философско-исторических переживаний. Лосев со скепсисом и недоверием относится к любым политическим страстям. Когда Бродский рассказывает Соломону Волкову, как ему было “стыдно за державу” в августе 1968 года в связи с вторжением советских войск в Чехословакию, Лосев откликается на это искренним недоумением. “Я удивляюсь, может быть, в глубине души и завидую таким чувствам, но я их никогда не испытывал. Слово “держава”мне само по себе неприятно: кого держать? за что? Это слово ассоциируется у меня с Держимордой, с “держать и не пущать“, с “держи его!”и полицейской трелью”.[36]
Итак, в лице Лосева мы имеем дело уже с тройным парадоксом: это диссидент, ненавидевший всякое противоборство, это поэт, не писавший о любви, и это историк литературы, остававшийся равнодушным к истории, к бурлению политических страстей (ведь политика — это всегда борьба). Но когда пытаешься окинуть его жизнь целиком, от юности до зрелости, из тумана выплывает еще и четвертое противоречие: этот поклонник зауми Хлебникова и обэриутов, этот глашатай игры и карнавала в литературном творчестве, этот чуть ли не проповедник футуристского “тыр-быр-мыр” оказался на поверку блистательным мастером точнейшего и ясно сформулированного литературного комментария.
Снайпер
Поэт, профессор, историк литературы — все эти ипостаси несомненны и все они на виду. Но существовала еще одна сфера деятельности Льва Лосева, которая не была запечатлена типографскими изданиями, которая являла себя в форме живой человеческой речи, как во времена сказителей, мудрецов и волхвов. Его лекции перед студенческой аудиторией, его доклады на литературоведческих конференциях, его выступления на западных радиостанциях, вещавших на Россию, — “Голос Америки”, “Свобода”, Би-би-си, “Немецкая волна” — могли бы заполнить несколько томов. И в жанре устного комментария он всегда демонстрировал невероятную эрудицию и завораживающую точность словесных формулировок.
Вот он анализирует стихотворение Бродского “Натюрморт”, в котором есть такие строчки: “…Я не люблю людей… / Что-то в их лицах есть, / что противно уму. / Что выражает лесть / неизвестно кому”. Дальше следует настоящий каскад цитат из русских писателей XX века, также отмечавших вырождение лиц современников, по которым прошлась своими гусеницами страшная эпоха: из Солженицына, Андрея Битова, Андрея Белого, Венедикта Ерофеева. Цитируется даже художник Олег Целков, создавший на своих полотнах незабываемую галерею лиц-масок: “Мы потеряли свои лица… На мощных шеях гладкие, безволосые головы с узенькими лбами и мощными подбородками. Пронзительные зрачки прячутся в щелках между немигающими веками… Кто они? Из каких глубин сознания они всплыли и заставляют меня вглядываться в них?”[37]
К своему шутливому стихотворению “Инструкция рисовальщику гербов” Лосев мог бы добавить четвертый вариант, взяв девизом для своего щита строчки из стихотворения “Два часа в резервуаре” того же Бродского: “Их либе ясность. Я. Их либе точность. / Их бин просить не видеть здесь порочность”. Снайперская точность его формулировок — вот что восхищало многих слушателей. Один из них написал в своем интернетовском журнале: “Я читал его обзоры американской прозы на радиостанции “Голос Америки“. Это было умно до красоты” (курсив мой. — И. Е.).
Откликаясь на просьбу “Радио Свобода” прокомментировать тему “Пастернак в Америке”, Лосев делит американское население на три группы. Самая большая — это те, кто знают только фильм “Доктор Живаго”. Гораздо меньше тех, кто хотя бы прочитал роман в переводе. “И, наконец, третий, совсем уж узкий круг интеллигенции — это университетские профессоры, писатели, журналисты, специализирующиеся на вопросах культуры. Они знают Пастернака не только как автора нашумевшего романа, но и как автора других прозаических произведений, и знают, что Пастернак — великий русский поэт. Есть одна огромная проблема для читателя в Америке. Пастернак, как мы знаем, прежде всего лирический поэт. Понять его прозу иначе, как сквозь призму его же поэтического творчества, невозможно. Но поэзия Пастернака абсолютно непереводима на английский. Причем невозможно перевести раннего Пастернака с его гипертрофированной и крайне субъективной метафорикой, но еще того невозможнее — позднего, “простого”Пастернака. Из первого получается абракадабра, из второго — банальщина”.[38]
Сравнивая Лосева со снайпером, я не имею в виду ни солдата на войне, ни охотника на оленей или медведей. Нет — его можно уподобить стрелку, который приходит на помощь ученым, изучающим тайны океана. Вот мелькнет в волнах на секунду спина, или хвост, или лапа очередного чуда-юда морского — и снайпер должен успеть всадить в них крошечный дротик с радиозондом. Так и Лосев: вглядываясь в тайны литературного творчества, он метит ясной формулировкой приоткрывшуюся ему разгадку, и благодаря ему собратья-литературоведы вычерчивают дальше карты подводных миграций самых причудливых художественных созданий.
Не будем, однако, забывать, что снайперский прицел — это не телескоп, которым можно исследовать звездное небо. Это и не подзорная труба полководца, оглядывающего поле битвы. Это и не микроскоп, открывающий тайны микромира. Это и не объектив телекамеры, ловящий бурную демонстрацию на улице, пожар в многоэтажном здании, грязевой поток, сметающий дома и автомобили. Лосев точно знал пределы возможностей доставшегося ему интеллектуального инструмента и пользовался им блистательно. Вглядеться в то неуловимое нечто, которое таится за строчками стиха, поэмы, романа, пронзить его точным словом и вынести нам бережно свою добычу, никогда не претендуя на то, что здесь-то и таится разгаданная им живая тайна искусства, — вот суть мастерства настоящего литературоведа.
Когда умирает близкий человек, испытываешь порой чуть ли не вспышку возмущения: “Да как же это так? Как он мог? Внезапно, без предупреждения?! А как же я теперь буду?..”
“Буду — что?” — спросил я себя, когда в мае 2009 года пришла весть о смерти Лосева. Какая часть моей жизни искала — и находила — опору в его личности, в таланте, в стихах и статьях?
Так совпало, что последнее письмо ему я отправил в начале мая, именно в тот день, когда болезнь окончательно свалила его. В письме я в очередной — в двадцатый, в сотый — раз, после расспросов о здоровье, обращался к нему с просьбой осветить своим Вергилиевым фонарем одну тропинку в бескрайних джунглях истории русской литературы, один эпизод из жизни Льва Толстого.
Таких или подобных писем-запросов в нашей переписке, покрывающей тридцать лет, весьма много. И в письмах, и при личных встречах я успел, кажется, сказать ему много теплых дружеских слов. Но про одно так и не успел — не нашел повода — сказать: про то, каким безупречным камертоном был его литературный вкус для меня во все эти годы, как каждый его комментарий к прочитанному, написанному, услышанному ложился раз за разом “в десятку”, “в десятку” и помогал мне двигаться дальше.
Остается надеяться, что будущие издатели собрания сочинений Льва Лосева сумеют оценить и его “устное наследие” и извлекут из недр Интернета те статьи и выступления, которые с таким волнением слушали — “умно до красоты!” — россияне около своих радиоприемников в течение многих-многих лет.
Опубликовано в журнале: «Звезда» 2012, № 1
Высоколобый бунтарь
Нет, не может интеллигент полюбить правителя — хоть ты его режь!
Российский интеллигент — тем более.
Разве что великий Пушкин в зрелые годы сумел с сочувствием вглядеться в судьбу Бориса Годунова, восхититься Петром П ервым, даже найти слова одобрения для Николая Первого: «он честно, бодро правит нами». Но друзьям его молодости, которые потом вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, больше нравились его юношеские строчки про Александра П ервого: «кочующий деспот», «плешивый щеголь», «враг труда».
После великих реформ 1861 года любые представители государственной власти становятся объектом охоты для террористов всех мастей, от народовольцев до эсеров. В одном из своих писем властитель дум российской интеллигенции, Лев Толстой, дал огульное оправдание этой ненависти: «Все французские Людовики и Наполеоны, все наши Екатерины В торые и Николаи Первые, все Фридрихи, Генрихи и Елизаветы, немецкие и английские, несмотря на все старания хвалителей, не могут в наше время внушать ничего, кроме отвращения. Теперешние же властители, учредители всякого рода насилий и убийств, уже до такой степени стоят ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже и негодовать. Они только гадки и жалки»[39].
Живя в Советском Союзе, я точно знал, что мои политические взгляды следует скрывать от властей предержащих и от людей посторонних. Какой парадокс! На Западе я дожил до того, что должен скрывать их от людей дорогих мне и близких по духу, по вкусам, по жизненной судьбе, если не хочу утратить их доброе ко мне расположение. Ибо после многих лет бесплодных споров мне стало ясно, что разделяют нас не взгляды, а сам способ политического мышления. Мы по-разному видим модель государственной постройки — в этом все дело.
Добропорядочный интеллигент полагает главными достоинствами человека ум, талант, справедливость, образованность, честность, прозорливость, в какой-то мере — доброту и отзывчивость. Все эти качества он хотел бы видеть в правителях, в носителях верховной власти. Когда он обнаруживает, что по этой — священной для него — шкале правители стоят весьма невысоко, он испытывает возмущение, желание сместить их, поставить на их место более достойных. Такая схема взглядов для него абсолютно аксиоматична, ее разделяют с ним сотни его знакомых и почитаемые им мыслители и литераторы, отступление от нее представляется моральным и интеллектуальным падением, карается остракизмом, изгнанием из интеллигентского сословия.
Я тоже ценю вышеперечисленные свойства, но я не могу закрыть глаза на то, что они всегда будут достоянием меньшинства. Люди неизбежно отличаются друг от друга по мере обладания ими. Кто-то неизбежно будет умнее, талантливее, прозорливее, энергичнее. Хорошо, если в социальной пирамиде государства более одаренные занимают верхние слои. Но они не должны ждать — и тем более требовать, — чтобы верховная власть всегда брала их сторону в их вечном и неизбежном противоборстве с управляемыми. Еще Томас Гоббс в середине XVII века открыл и объяснил нам, что верховная власть — будь то монарх, сейм, синьория, директория, сенат, хунта или парламент — выполняет роль арбитра между различными враждующими группами населения. Противоборство и вражда могут вырастать из религиозных различий, этнических, классово-экономических. Но самое сильное и неизменное противостояние будет между дальновидным активным меньшинством и близоруким инертным большинством.
Это можно сравнить с тем, что происходит в человеческом теле. Голова, оснащенная глазами, ушами, бесценным инструментом разумного сознания вглядывается в сумрак грядущего, строит блистательные планы достижения новых уровней благополучия и безопасности, требует, чтобы туловище, руки и ноги немедленно взялись за работу в указанном направлении. Но воля человека (аналог правителя в государстве) должна соизмерять эти прожекты с реальными пределами, поставленными остальному телу голодом, болью, жаждой, страхами, усталостью. Голова возмущается, часто требует от тела невозможного, выносит воле обвинительно-презрительные вердикты и часто погружает человека в глубокую депрессию, доводящую до пьянства, наркомании, а то и до самоубийства. В политическом существовании государства аналогом всего этого является разрушительный бунт.
В любом человеческом обществе существует расслоение, связанное с врожденным неравенством, которое я в своих других писаниях охарактеризовал терминами «высоковольтные» и «низковольтные». Между этими слоями будет неизбежно возникать противоборство, непонимание, напряжение. Роль и задача верховной власти состоит не в том, чтобы быть умнее, талантливее, честнее, «высоковольтнее» всех остальных, а в том, чтобы быть арбитром между этими вечно противостоящими друг другу слоями, чтобы не дать их скрытой вражде выплескиваться наружу, доходить до кровопролитий. Чтобы расслышать глухой гул, идущий из гущи низковольтных, чтобы понимать их страсти, правитель должен располагаться ближе к ним на шкале прозорливости, то есть быть ниже среднего уровня высоковольтных.
Конечно, в реальном историческом процессе верховная власть может склоняться то на одну, то на другую сторону. Если перекос происходит в сторону низковольтных, на поверхность всплывают Иван Грозный, Робеспьер, Сталин, Мао Цзэдун, Кастро. Если перекос происходит в обратную сторону, в стране может возникнуть разделение на касты, крепостное право, рабовладение.
В роли арбитра правитель всегда должен перед высоковольтными отстаивать интересы и страсти низковольтных и, наоборот, перед низковольтными — страсти и устремления высоковольтных. В Древнем Египте дальновидные чиновники и жрецы должны были заставлять низковольтное большинство феллахов напряженно и сверх меры трудиться, чтобы заполнить житницы не только на текущий год, но и в запас, на случай неурожайных лет. А как бы они могли этого достигнуть, если бы власть арбитра-фараона не была окружена божественным ореолом? Точно так же должна была обожествляться власть королей и императоров, чтобы вечно тлеющая рознь между высоковольтными и низковольтными, между разными народностями, между богатыми и бедными не взорвала государство изнутри.
Главная проблема состоит в том, что высоковольтный интеллигент не в силах вглядеться в ситуацию и чувства низковольтного. Он не понимает, что торжество его шкалы — ум, талант, дальновидность — оставляет неумное, неталантливое, близорукое большинство с сознанием безнадежной второсортности. Человек готов терпеть бедность, недоедание, холод, но сознание неравенства с другими всегда чревато для него мучением. В государстве всегда должны быть управляющие и управляемые, и всегда в сердце управляемого будет гноиться вопрос: «Почему он наверху, а я внизу?» Ответ на этот вопрос не может лежать в рациональной сфере. Только священное право королей, фараонов, императоров, или божественная власть пап, халифов, синедриона, или освященный веками порядок разбивки на четыре основные касты-сословия (Древний Рим, Индия, средневековая Европа), или обожествленный диктатор, фюрер, дуче могут предохранять общественную пирамиду от обрушения.
Сегодняшнему интеллигенту кажется, что решение проблемы найдено в политической конструкции, именуемой демократическая республика. Эта конструкция действительно создает иллюзию, будто врожденное неравенство преодолено, будто, приложив достаточные усилия, каждый может подняться в верхние слои общественной пирамиды. Жесткая иерархическая лестница управления заменена чехардой смены правителей, и человек даже в самом нижнем слое общества может иметь свою долю самоуважения, когда видит, что правители заискивают перед ним, ищут его поддержки, борются за голоса избирателей.
Но и в этой подвижной конструкции высоковольтный интеллигент никогда не будет доволен избранными правителями. Он никогда не признает, что у низковольтных есть своя шкала и что они могут выбрать кого-то, кто им больше по вкусу. Сегодня русские интеллигенты выходят на демонстрации против Путина, но американские с не меньшей страстью протестовали против Рейгана и Буша, английские — против Маргарет Тэтчер, итальянские — против Берлускони, французские — против Ширака и Саркози, израильские — против Рабина и Нетаньяху.
Недавно один знакомый американский профессор объяснил мне, что он выбрал в качестве объектов ненависти «рабовладельцев» Вашингтона и Джефферсона и что ему тяжело жить в стране, где стоят памятники Аврааму Линкольну, «погубившему больше американцев, чем Гитлер». При этом протестующие интеллигенты, как правило, убеждены, что победившие на выборах сумели каким-то образом обмануть большинство. Признать, что большинство каким-то образом может быть против него, против высоколобого умника, против его ценностей, против его священной шкалы, для высоковольтного необычайно трудно.
Сейчас в России многие со страхом замечают феномен так называемой «сталинизации». Политические комментаторы ищут, «кому это выгодно, кто подспудно толкает» страну в сторону возрождения страшного режима. Для них было бы невозможно допустить, что в народной массе ностальгия по сильной руке, по порядку, по тотальной уравниловке всех в одинаковом подобострастном подчинении живет и накапливается без всякого внешнего подзуживания. Умники политологи не хотят видеть, что дорогая им шкала моральных и интеллектуальных ценностей для народной массы не может быть привлекательной, ибо обрекает ее — массу — на безысходное прозябание внизу.
Во Франции XIX века вскоре после свержения Наполеона бурно возродился бонапартизм, в России XXI века отказывается умирать сталинизм, в Китае — маоизм, в мусульманском мире — фундаментализм. Интеллигент, вознесенный богатством своего ума, таланта, знаний, моральной чуткости над средним уровнем, не понимает, как может возненавидеть его всем этим обделенный низковольтный. СРАВНЯТЬ! КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ! — вот главная, самая сильная политическая страсть низковольтного.
Только горстка русских интеллигентов, собравшаяся в сборнике «Вехи» в начале XX века, была способна осознать, что они «должны были быть благодарны царской власти за то, что она своими штыками и нагайками охраняла их от ярости народной». Когда монархия пала, на ее место, еще до большевиков, на свободных выборах в Учредительное собрание победила террористическая партия эсеров (чем не ХАМАС в Газе?). Если бы сегодня раздался «веховский» голос в России, я бы хотел присоединиться к нему. Потому что страшно боюсь, что этот «благородный» азарт в свержении «партии воров» расшатает неустойчивую конструкцию незрелой российской демократии и она рухнет в очередную кровавую смуту, как рушатся на наших глазах Ливия, Сирия, Ирак, на очереди Пакистан, Афганистан, Турция, а дальше многомиллионный пылающий вулкан под названием Африка.
В истории можно найти множество смут, произведенных бунтами снизу. Но и смут, произведенных верхними слоями, не так уж мало. В Российской империи это были декабристы, во Франции XVII века — фрондеры, в Византии VIII века — иконоборцы. Вглядываясь в кровавые разборки минувших веков, мы хотим найти у Истории ответ на наш вечный вопрос: «А кто был прав?» Увы, ответа на этот вопрос нет и быть не может. Ибо когда противоборство выплескивается на поля сражений, на первое место выходит вопрос: «Кто победит? Чей порыв сильнее? Разрушителей или охранителей?»
Одно ясно: учиться у истории — удел и обязанность высоковольтных. На низковольтных исторический опыт, политические науки никакого влияния иметь не могут. Масса живет своими загадочными страстями, своими смутными чаяниями и верованиями. И я смею утверждать, что хороший правитель, по крайней мере, должен понимать, что необходимо вслушиваться и пытаться расшифровывать этот гул. Интеллигент же в своем высокомерии воображает, что дай ему доступ к средствам массовой информации, он сумеет — сможет — навязать массе свою шкалу умного-честного-талантливого-образованного, которая прочно вознесет его над темной обывательской массой во всех сферах жизни.
Моих интеллигентных друзей мне часто хочется уподобить архитекторам, которые явились бы из века XX в век XV и стали уговаривать тогдашних строителей деревянных домов: «Прорубите больше окон! Как можно жить в такой темноте! Чем больше света в доме, тем лучше — разве это не ясно! Можно вообще делать стены из стекла». — «Но у нас есть только бревна и кирпичи, — отвечали бы тогдашние. — При таком количестве окон деревянная или кирпичная стена развалится».
Строительный материал государственной постройки — люди, а уровень их политической и моральной зрелости — это известь, связывающая воедино социальную постройку. Чтобы перейти от силового управления государством к правовому, нужно иметь достаточное количество людей с высоким правосознанием. То, что можно выстроить из скандинавов, британцев, французов, швейцарцев, канадцев, с трудом получается из греков, турок, испанцев, ирландцев, а попытки строить демократию из гаитян, афганцев, сомалийцев, кубинцев не могли обернуться ничем иным, кроме тирании или хаоса. Ждать, что россияне, прожившее весь XX век под гнетом самого свирепого деспотизма, могут сравняться с политически зрелыми народами, — недопустимая и непростительная наивность.
Конечно, презирать и ненавидеть правителей — занятие увлекательное, гарантированно возносящее тебя на высокие ступени в глазах окружающих и твоих собственных. Просто жалко отказывать в нем своим высоколобым друзьям. Но все же мне хотелось бы напомнить им несколько исторических реалий. Парижане, ликовавшие летом 1789 года по поводу падения Бастилии, еще не знали имен Робеспьера, Дантона, Марата. И русские интеллигенты, нацеплявшие красные банты в феврале 1917-го, не слыхали имен Ленина, Троцкого, Сталина, Дзержинского. И немецкие, свергавшие кайзера в ноябре 1918-го, не предвидели, что вскоре им придется выбирать между Рэмом, Тельманом и Гитлером. И вы, мои дорогие бунтари, еще не знаете имен тех, кто воцарится в Кремле, если Богородица исполнит молитву пяти веселых рок-шансонеток, устроивших непристойный пляс в храме Христа Спасителя.
Опубликовано в журнале: «Нева» 2014, № 10
Крутые ступени цивилизации
Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим…
Владимир СоловьевВглядываясь в туман грядущего, великий русский «дозорный», Федор Михайлович Достоевский, так описал, каким ему представляется XX век:
«Раскольникову грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга»[40].
Сегодня мы можем составить длинный список названий, под которыми «новые трихины» прокатились и продолжают катиться по земле: анархисты, эсеры, большевики, нацисты, фашисты, хунвейбины, черные пантеры, красные кхмеры, талибы, хамас, хезболла, Аль-Каида, Боко Харам, ИГИЛ. Все они в какой-то момент, как и предсказывал Достоевский, начинали резать и убивать друг друга. Но тем не менее успели произвести опустошения, которые превзошли опустошения, принесенные эпидемиями чумы, холеры, желтой лихорадки, малярии, испанки.
Многие мыслители считают, что человеческой душе одинаково присуща и жажда свободы, и жажда справедливости. Мы не устаем восхвалять порыв к свободе и склонны забывать, какую высокую цену приходится платить за нее в реальной жизни. Свобода моего ближнего не только облегчает для него возможность напасть на меня, ограбить, унизить, убить. Она также дает ему возможность превзойти меня во всех жизненных начинаниях, обнаружить мою слабость, ограниченность, бедность ума и чувства, наполнить душу завистливой тоской, от которой я буду искать спасения в равенстве всеобщего рабства.
Именно на страхе миллионов людей перед последствиями свободы и держится могущество старых и новых «трихинов». Под их тоталитарной властью неравенство сохраняется, но оно обезличено. Мой ближний, поставленный на высокий пост, занимает его не потому, что он лучше меня, а потому что господствующая партия или мусульманская улема поставили его туда. Регулярные чистки правящего аппарата, уничтожение верхнего слоя только укрепляют рядового человека в преданности режиму.
Другое благо тоталитаризма: он дарует подданным сознание непогрешимости. До тех пор пока я разделяю догматы марксизма, нацизма, Красного цитатника, Корана, душа моя защищена от микроба сомнений. Я упиваюсь своей гарантированной правотой во всем, цельностью картины мира и готов растерзать всякого, кто посмеет покуситься на нее.
Американцы воображают, будто тоталитаризм рождается там, где группа злых заговорщиков прорывается к власти и подчиняет себе благонамеренное большинство. Они не замечают, как легко метастазы деспотизма возникают в их собственной среде в виде всевозможных культов. Харизматический проповедник обращается к своим слушателем с простым призывом: «Отдайте мне свою свободу, подчинитесь моим заповедям и правилам жизни, и я вознагражу вас сознанием исключительности и непогрешимости». Именно на это откликнулись последователи Рона Хаббарда, создавшего учение и церковь Саентологии, Джима Джонса, увлекшего тысячу своих приверженцев в Гайану, где они отравили себя и своих детей, Дэвида Кореша, закончившие самосожжением в своем лагере в Вэйко (штат Техас). Если подобные массовые добровольные отказы от личной свободы возможны в стабильной структуре цивилизованного государства, мы не должны удивляться тому, что целые народы совершают их после революций, разрушивших социальный порядок.
Порыв к свободе порождает революции, которые, как правило, сопровождаются кровавыми раздорами, от которых люди ищут спасения под сильной государственной властью. В междуусобной послереволюционной борьбе Сталин, Муссолини, Гитлер, Ататюрк, Франко, Мао Цзедунг, Кимирсен, Кастро продемонстрировали наибольшую силу и вознеслись на вершину абсолютной власти над своей нацией. Но выстраивали свои культы они на том же фундаменте: на отказе миллионов людей от бремени опасной свободы.
Наши мыслители, философы, социологи, аналитики, ученые играют роль дозорных на мачтах государственного корабля, всматривающихся в туман грядущего и в тайны мироздания. Но есть среди них и очень важный отряд тех, чей взор обращен не вперед, а назад. Мы называем их историки. И за последние сто лет им удалось необычайно расширить наши представления о пути, пройденном человечеством за обозримые пять-шесть тысячелетий. Они открыли для нас дела, обычаи, верования, семейный уклад, военные столкновения «племен минувших», которые не были известны Локку, Монтескье, Адаму Смиту, Жан-Жаку Руссо, Гегелю, Марксу, Шпенглеру и другим политическим философам прошлого.
Картина, открываемая для нас новыми поколениями историков, опровергает убеждение Экклезиаста в том, что «нет ничего нового под солнцем». Повсюду мы видим, как медленно, но неуклонно менялась жизнь народов, населяющих землю. Почти каждый из них проходил разные стадии овладения силами природы. Сегодня уже с уверенностью можно выделить четыре ступени цивилизации: народ-охотник, народ кочевник и скотовод, народ-земледелец, народ-машиностроитель[41].
Примечательно, что рудиментарные остатки даже первых двух ступеней существуют и в наши дни. Охотой и рыболовством продолжают жить племена в верховьях Амазонки, на некоторых островах Гвинеи, отдельные группы австралийских аборигенов. Кочевниками-скотоводами остались многие семейные кланы в Монголии, бедуины на Синайском полуострове и в Израиле, масаи в Кении, ненцы, пасущие оленей на Севере России. Но основная территория земной суши поделена — захвачена — земледельцами и машиностроителями.
Самыми драматичными и трудными в истории народов являются моменты переходов с одной ступени на следующую, которые растягиваются на десятилетия и века. В эти периоды особенно сгущаются военные конфликты, кровавые раздоры, социальные потрясения.
Вглядимся сначала в феномен военного противоборства. Для упрощения разобьем известные нам войны на три типа:
Первый: противники говорят на разных языках, но обладают почти одинаковым вооружением. Примеры: войны между племенами американских индейцев, войны Древнего Рима с Карфагеном и Персией, Наполеоновские войны в Европе, две мировых войны в XX веке.
Второй: противники одинаково вооружены и говорят на одном языке. Примеры: любая гражданская война на любой ступени цивилизации.
Третий: противники говорят на разных языках и находятся на разных ступенях, поэтому один сильно уступает другому в качестве и количестве вооружений. Примеры: колониальные захваты, нашествия кочевников-скотоводов на земледельческие страны, экспансия викингов-норманов, войны американцев с индейцами, США против Вьетнама и Афганистана.
То, что мы расплывчато называем сегодня Страны Т ретьего мира, есть на самом деле народы, стоящие перед необходимостью перехода со ступени земледельческой на ступень индустриальную. В их городах уже есть электричество, радио, асфальтированные улицы, заполненные автомобилями, есть аэродромы, шахты, нефтяные вышки и прочие достижения технического прогресса, но нет одного: собственного машиностроения. Почти всю технику и все современное вооружение они должны покупать в индустриальных странах.
В течение всего XX века переход на индустриальную ступень совершали Россия, Испания, Турция, Мексика, Китай, Индия и многие другие страны. Эта трансформация влекла за собой такие огромные социальные сдвиги, что каждая страна расплачивалась за них тяжелейшими гражданскими войнами и революционными взрывами. Но и страны, обогнавшие их, в свое время заплатили за переход такую же кровавую цену.
XVII век — Голландия завоевывает независимость от Испании, на территории Германии полыхает Тридцатилетняя война, гражданская война в Англии и свержение короля, религиозные войны и Фронда во Франции.
XVIII век — Война за независимость в Америке, революция и гражданская война во Франции.
XIX век — революции в Германии, Франции, Венгрии, гражданские войны в Италии, Соединенных Штатах, революция Мэйдзи в Японии, Парижская коммуна во Франции, революции в Южной Америке.
Примечательно, что в веке XX одна за другой распались великие многонациональные империи: Испанская, Австрийская, Турецкая, Британская, Российская. Одновременно многие европейские страны предоставили независимость своим колониям: Франция, Бельгия, Португалия, Голландия. И то, и другое произошло потому, что после вступления в индустриальную стадию земля перестает быть главным источником богатства, и народы начинают усиленно развивать свои промышленные и технологические потенциалы.
Проступающую здесь закономерность можно сформулировать так:
В истории человечества народы проходят разные ступени освоения сил природы, и каждый переход с одной ступени на другую чреват социальными и военными потрясениями огромной силы.
Опираясь на этот постулат, мы можем по-новому вглядеться в судьбы народов прошлого, открывшиеся для нас в новейших исследованиях дозорных-историков. Изучение процессов перехода кочевников к оседлому земледелию позволяет нам лучше понять и даже предсказать пути, по которым будут двигаться народы Т ретьего мира, пытающиеся в наши дни достичь индустриальной ступени. И в первую очередь нас будет интересовать феномен иррациональной враждебности отставших народов по отношению к ушедшим вперед.
Параллельно с войнами П ервого и Второго типа, войны Третьего типа заполняют три тысячелетия, разделенные посредине датой рождения Иисуса Христа. И главная черта этих войн: безжалостность нападающих к обороняющимся.
Уже в Книге Бытия мы находим свидетельства того, как жестоко обходились кочевники-иудеи с земледельческим населением покоряемых территорий.
«И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: „Для чего вы оставили в живых всех женщин?. Убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя”» (Числа, 31:14–17).
Это поголовное истребление местного населения продолжается и в Земле Ханаанской. При взят ии Ие рихона иудеи «предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом» (Иисус Навин, 6:20).
Вот в 390 году до Р. Х. кельты врываются в Рим. «Стоны женщин, плач детей, рев огня, треск рушащихся зданий терзали сердца воинов на стенах Капитолия… Толпы вооруженных варваров носились по знакомым улицам, неся гибель и разрушение. Никогда еще люди с оружием в руках не были в таком жалком положении — запертые в крепости, они должны были смотреть, как все, что было им дорого, гибло под мечами врагов»[42].
Арабы, начавшие в VII веке по Р. Х. нападения на близлежащие страны, часто вырезали поголовно захваченные селенья, если жители отказывались принять мусульманство. «Семьсот мужчин были перебиты в захваченном после осады еврейском городке. Им связывали руки, обезглавливали и сбрасывали в вырытый заранее ров»[43].
Особую свирепость демонстрировали монголы. «При осаде в 1221 году персидского города Нишапур (родина Омара Хайяма) зять Чингис-хана был убит стрелой со стены. Чингиз предложил своей овдовевшей дочери, беременной к тому времени, выбрать наказание для города. Она приказала перебить всех жителей и сложить отрубленные головы в три пирамиды: одну из мужских голов, другую — из женских, третью — из детских. Ее пожелание было выполнено»[44].
Киевская Русь долго отбивалась от кочевников печенегов, половцев, хазар, булгар, но монголо-татарское нашествие сломило ее и пронизало страхом народное сознание на три века вперед. При взятии Рязани «князь Юрий, его семья и все приближенные были перебиты. Рязанцев расстреливали на улицах, насаживали на кол, сдирали кожу, сжигали живьем в пылающих домах… Монахи и жители, запершиеся в храмах, могли лишь беспомощно взирать, как насиловали молодых женщин и монахинь… Потом и они погибли в подожженных церквях»[45].
Князь Владимир тоже был сожжен в храме вместе с женой, дочерьми и внуками, «и их обугленные тела валялись на полу среди других трупов и растоптанной знаменитой иконы Богородицы, которая в прошлом одарила жителей Владимира столь многими чудесами»[46].
«6 декабря 1240 года Киев был взят улица за улицей. Последним оплотом сопротивления был храм Богородицы… но так много перепуганных горожан вскарабкалось на крышу и в колокольню, что здание рухнуло, погребая не только беженцев, но и защитников… Город, который когда-то правил Россией, был полностью разрушен и разграблен, могилы святых осквернены, их мощи разбросаны»[47].
Тщетно рациональный ум будет искать причины или мотивы этих зверств. Здесь явно демонстрирует себя та же иррациональная злоба отставших к ушедшим вперед, которую мы в таком изобилии наблюдаем в наши дни. Только «смерть большой сатане — Соединенным Штатам», только полное уничтожение индустриального Израиля видит своей целью земледельческий мир Ислама. «Джихад — это только Коран и автомат». Аль-Каида, Боко Харам, ИГИЛ, йеменские хуситы обуреваемы теми же страстями, что и кочевники древнего мира. Как те атаковали Египет, Рим, Китай, Индию, Византию, Русь, так эти будут продолжать свои атаки на индустриальный мир, не считаясь с реальным соотношением сил.
Иррациональность этой ненависти высвечивается тем фактом, что не только отдельные воины часто идут на верную смерть, но и целые народы пускаются в самоубийственное противоборство с более сильным противником. Когда в 102 году до Р. Х. племена кимвров и тевтонов напали на Римскую республику, превосходство римских легионов было настолько очевидным, что кимвры были уничтожены полностью и исчезли из мировой истории. Сегодня Израиль настолько сильнее сектора Газы, что мог бы стереть его с лица земли за неделю. Тем не менее Хамас снова и снова провоцирует израильтян ракетными обстрелами и подземными туннелями для заброса террористов, навлекая на бедных жителей анклава сокрушительные ответные удары.
В арсенале приемов террористов все чаще мелькает такой: выносится смертный приговор деятелям культуры индустриального мира якобы за оскорбление Корана и пророка Мухаммеда, а приведение его в исполнение оставляется на долю фанатиков ислама, которые уже живут на Западе и имеют возможность свободно перемещаться там. (Последний пример — убийства членов редакции сатирического Парижского журнала «Шарли».) Однако недавно этот прием был расширен: джихадистам удается узнавать имена и адреса летчиков, бомбящих их базы, и командиров подразделений, ведущих антитеррористические операции, и они размещают в интернете угрозы расправиться с семьями своих врагов. По сути, это равносильно захвату заложников, и может производить такой же парализующий эффект.
Выше я перечислил гражданские войны, полыхавшие в странах, переходивших с земледельческой ступени на индустриальную в XVII–XX веках. Но такие же кровавые междуусобия окрашивали и жизнь кочевников накануне скачка в сторону оседания.
Свирепо враждовали между собой колена Израилевы в течение двух веков, предшествовавших созданию их собственного земледельческого государства.
То же самое — персидские племена накануне их броска на завоевание Вавилона, Двуречья, Малой Азии под водительством царя Кира.
То же самое — гунны, которые разделились на южных, ассимилировавшихся в земледельческом Китае, и северных, ушедших на Запад, на завоевание Европы.
Война между племенами, населявшими Аравийский полуостров, предшествовала объединению их под знаменем пророка.
Первую половину своей жизни Чингисхан участвовал только в междуоусобных войнах монгольских племен.
Следует ожидать, что эта закономерность будет соблюдаться и в странах Т ретьего мира в наши дни. Никакой народ не может перейти на следующую ступень цивилизации единодушным и единовременным скачком. Раскол Кореи, Китая, Вьетнама отражал разную степень готовности их населения к переменам. Там, где более готовым не удавалось отвоевать для себя территорию, происходило массовое бегство, как, например, кубинцев во Флориду или «лодочных людей» из Индокитая.
Гражданские войны, раздирающие сегодня Ирак, Ливию, Сирию, Ливан, Египет, Судан, Нигерию, Руанду, Сомали и другие земледельческие страны многими чертами похожи на междуусобия кочевников, переходивших на новую ступень. Поэтому индустриальному миру необходимо готовиться к тому моменту, когда в каком-то из народов появится лидер, способный объединить враждующих и обратить их военную энергию вовне [48]. Тогда тлеющие сегодня войны Т ретьего типа перерастут в полномасштабное нашествие, последствия которого будут опустошительными.
Осама Бен Ладен был близок к тому, чтобы продолжить линию знаменитых завоевателей прошлого — персидского Кира, гуннского Аттилы, арабского Мухаммеда, монгольского Чингиз-хана, тюркского Тамерлана. Но он не смог вырваться из рамок своих суннитско-вахабских верований и традиций и призвать под свои знамена всех мусульман без различий. Когда на сцене появится лидер, которому удастся объединить суннитов и шиитов, это может высвободить энергию такой же силы, какая высвобождается при соединении двух половинок атомной бомбы.
Индустриальный мир убаюкан сознанием своего технического превосходства, его правительства видят главную опасность в усилении той или другой термоядерной державы — России, Китая, Индии, Пакистана. Но точно так же в VII веке по Р. Х. Византия и Персия изматывали друг друга бесплодными войнами, не замечая того, что происходило у них под боком на Аравийском полуострове. Нашествие кочевников-арабов застало обе земледельческие державы врасплох, и они потерпели полное поражение.
Арабский военачальник Халид, вторгшийся в персидскую провинцию в 634 году, отправил ее губернатору послание, предлагавшее жителям на выбор: принять мусульманство, стать вассалами и данниками арабов или готовиться к смерти. В конце послания была фраза: «Пришли люди, для которых смерть за веру так же желанна, как для тебя жизнь». Персы попробовали сопротивляться, но были разбиты, губернатор убит, и вскоре страна стала частью Арабского халифата[49].
Ту же самую тему готовности к смерти поднимает Осама Бен Ладен в своем призыве, написанном в декабре 2001 года: «Если мусульманин спросит себя, почему наши братья по вере достигли такой степени унижения и разгрома, ответ очевиден: потому что они безумно рванулись к наслаждениям жизни и забросили книгу Аллаха. Евреи и христиане соблазнили нас дешевыми удовольствиями и жизненным комфортом, они сначала наводнили наши души тягой к материальным благам и лишь потом вторглись со своими армиями… А мы стояли, как женщины, и ничего не предпринимали, потому что жажда смерти за дело Аллаха покинула наши сердца. О, юноша-мусульманин! Возжаждай смерти, и жизнь будет дарована тебе»[50].
Одиннадцатое сентября 2001 года показало всему миру, какие страшные удары могут наносить индустриальному миру воины, «возжаждавшие смерти за веру». Их воспаленная гордость не может смириться со статусом второсортности, в который их ставит принадлежность к земледельческой ступени. И какую альтернативу может предложить им индустриальный мир? Демократию, права человека, мультикультурализм, отделение церкви от государства? Алкоголь, каррикатуры на пророка, женщины, разгуливающие голышом по пляжам или, еще хуже, восседающие в судейских креслах? Не напоминает ли это попытки христианских священнослужителей оборонятся от монголов при помощи икон и святых мощей, выносимых в крестном ходе перед воротами крепости?
Все вышесказанное можно свести к нескольким постулатам.
1. Переход любого племени и народа с одной хозяйственно-технологической ступени цивилизации на следующую чреват необычайным внутренним напряжением, которое может привести и к расколу. (Недавние примеры: Корея, Вьетнам, Судан, Китай — Тайвань, Индия — Пакистан — Бангладеш, Эфиопия — Эритрея и т. д.)
2. Переход этот не сводится к овладению трудовыми приемами и навыками новой ступени, но связан с глубинными переменами в моральном и психологическом строе народа, которые растягиваются на жизнь многих поколений.
3. Враждебность отставших народов к народам, ушедшим вперед, имеет иррациональный характер и не поддается объяснениям в категориях причиненного вреда или ожидаемой выгоды.
4. Кочевники-иудеи, кочевники-арабы, кочевники-монголы часто поголовно уничтожали население покоряемых земледельческих стран без всякой видимой пользы для себя. И точно так же в наши дни, мусульмане, застрявшие на ступени земледелия, считают заранее оправданным убийство любого американца, россиянина, израильтянина, вообще «неверного гяура».
5. Уступая земледельцам в вооружении и численности, кочевники компенсировали это необычайной сплоченностью в бою. В XXI веке сплоченность наступающих будет выражаться в том, что любой приказ, отправленный по интернету из какой-нибудь горной пещеры, будет безоговорочно выполнен отрядами террористов, разбросанными в городах индустриального мира.
Мне бы очень хотелось заинтересовать постулатами, перечисленными выше, дозорных индустриального мира. Но еще больше мне бы хотелось, чтобы они расстались с сочиненным Жан-Жаком Руссо образом доброго и разумного «естественного» человека, права которого необходимо защищать во все времена и во всех странах.
Любой человек есть клубок страстей, среди которых полыхают и созидательные, и разрушительные. Как сказал Экклезиаст, «всему свое время: время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Эккл., 3: 1–8). Страсти творить, любить, спасать в одной и той же душе могут уживаться с не менее сильными страстями разрушать, мучить, убивать.
Особенно последняя проявляет себя в наши времена с пугающей наглядностью. Никакие «новые трихины» не могли бы вербовать себе миллионы соучастников и сторонников, если бы микроб душегубства не таился в человеческом сердце. Благодатная среда для его размножения — ненависть, гноящаяся в душах народов, отставших на переходе в индустриальную стадию. Я рискну высказать предположение, что и традиционная враждебность ирландцев к англичанам, басков — к испанцам, северокавказцев — к россиянам, черных американцев — к белым, скорее всего, имеет ту же природу.
Противоборство Древнего Рима с наступающими кочевниками длилось тысячелетие. Когда империя распалась, на ее территории образовались земледельческие государства, сохранившие в своих названиях отзвук имен тех народов, которые мечами прокладывали здесь себе путь к оседанию. Франция напомнит нам о франках, Германия — о германцах, Бельгия — о бельгах, Шотландия — Scotland — о скоттах, Венгрия — Hungary — о гуннах (Hunny), Саксония — о саксах, Болгария — о булгарах.
Можно ли по аналогии предсказать распад Америки на независимые государства? Какую-нибудь Мексифорнию, Кубофлориду, Пуэрторикию, Исламофарраханию? Думается, до этого еще слишком далеко. Гораздо более вероятным представляется повторение другого момента античной истории: перерождения Римской республики в Римскую империю в I веке до Р. Х. Это произошло не потому, что Сулла, Помпей, Катилина, Антоний, Юлий Цезарь, Октавиан Август были какими-то неукротимыми честолюбцами, жадными до власти. Просто и сенату, и всадникам, и легионерам, и рядовым гражданам в какой-то момент стало ясно, что сохранить государственный порядок в гигантской многонациональной стране будет невозможно без перехода к единовластию. Так и в сегодняшней Америке патовая ситуация в противоборстве президента и конгресса парализует все законодательные и административные инициативы.
История великих империй длилась тысячелетия. История великих республик, вступавших на путь экспансии, расширения, открытия своих границ миллионам инородцев, до сих пор не превысила 250 лет. (Примеры: Афины, Карфаген, Венеция, Флоренция, Генуя, Новгород, Псков и так далее.) Если это правило сохранится, нам следует ожидать кризисной точки для Американской республики в 2025 году. Недаром проницательный американский политик и мыслитель, Патрик Бьюкенен включил эту дату в название своей книги: «Самоубийство сверхдержавы. Просуществует ли Америка до 2025 года?»[51].
Стремительный технический прогресс наших дней может привести к тому, что человечество окажется перед лицом нового скачка: со ступени индустриальной на пятую ступень — назовем ее предположительно электронно-космической. Если это будет сопряжено с такими же социальными и военными катаклизмами, какие сопровождали предыдущие скачки, разрушительные последствия их предсказать невозможно. Нужно считать чудом, что за 70 лет, прошедших с Хиросимы, человечество проявляло достаточную сдержанность, чтобы не использовать термоядерное оружие в своих непрекращающихся войнах. Но вечно это длиться не может. Рано или поздно «новые трихины» доберутся до бомбы и используют ее для утоления своей иррациональной ненависти.
Модель ступенчатого развития мировой цивилизации разрабатывает и известный американский политолог Чарльз Купчан. Он считает, что народы, пережившие в свое время охотничью, скотоводческую, земледельческую, индустриальную стадии, оказались сегодня на входе в следующую ступень, которую он назвал digitalera[52]. Необычайные возможности эффективного обмена информацией, вносимые компьютером и Интернетом, в огромной степени влияют на все производственные процессы, повышая их эффективность. Такую же роль в свое время сыграла письменность для народов, поднявшихся с кочевой ступени на земледельческую, или телеграф, телефон, радио для народов, входивших в индустриальную эру. В отличие от ФрэнсисаФукуямы, Купчан считает, что мы достигли не конца истории, а начала следующей технологической эры, и что на этой новой ступени США утратят свою доминирующую роль в мире.
В своей книге «Без буржуев», вышедшей в 1979 году[53], я описал кризисное состояние СССР, но и представить себе не мог, что двенадцать лет спустя советская империя развалится. Сегодня я тоже не имею в виду пророчить гибель США. Страна выживет, может быть, даже усилится в военном и экономическом отношении при усилении исполнительной ветви власти за счет трех других ветвей, как усилился Древний Рим во втором веке по Р. Х. при императоре Траяне. Но это будет закат и перерождение той страны, которую мы знаем и любим сегодня.
Одно ясно: в ситуации противостояния с бурлящим и непредсказуемым Т ретьим миром искусственное раздувание враждебности со стабильной индустриальной Россией, является ничем иным, как проявлением величайшей безответственности и близорукости американских политиков обеих партий. В привычной погоне за голосами избирателей они состязаются друг с другом в обвенинениях в адрес Кремля, не утруждая себя анализом конкретных историко-политических ситуаций. При этом собственные акты попрания международного права полностью игнорируются. Попытки «ракетно-бомбовой демократизации» делались уже в отношении Боснии, Сербии, Афганистана, Ирака, Ливии, Йемена и унесли сотни тысяч жизней. В результате волна ненависти к индустриальному миру вздымается все выше и выше и поставляет тысячи мстителей в ряды ИГИЛа.
Сегодня долг дозорных индустриального мира — американских, российских, британских, немецких, французских — вглядеться в туман ближайших десятилетий, вслушаться в гул волн Океана Истории, разбивающихся о грозные утесы. Избежать вступления на новую ступень цивилизации невозможно. Опять какие-то народы вступят на нее первыми, и на них обрушится враждебность отставших. Но, как сказал Шекспир — «готовность это все». Если мы осознаем историческую неизбежность противоборства между народами, находящимися на разных ступенях, мы сможем встретить очередную волну «новых трихинов» во всеоружии.
Опубликовано в журнале: «Нева» 2016, № 2
Список публикаций 1997-2017
Звезда № 7 за 1997 г. Зрелища. Роман.
Звезда № 7 за 1998 г. Кто более равен?
Звезда № 11 за 1998 г. Истоpические модели закpепления неpавенства.
Звезда № 2 за 1999 г. Хозяева знаний и хозяева вещей
Звезда № 5 за 1999 г. Большой террор в России
Звезда № 7 за 1999 г. Новый Нострадамус. Закат Америки в ХХI веке
Звезда № 9 за 1999 г. Новый Заратустра. Высоковольтные всех стран, обpазумьтесь!
Звезда № 1 за 2000 г. Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса
Дружба Народов № 2 за 2000 г. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда
Новый Мир № 5 за 2000 г. Солженицын читает Бродского
Звезда № 6 за 2000 г. Дуэль с царем
Звезда № 1 за 2001 г. Ответы на вопросы журнала? Звезда.
Звезда № 7 за 2001 г. Суд да дело Роман
Звезда № 8 за 2001 г. Суд да дело Роман. Продолжение
Звезда № 9 за 2001 г. Суд да дело Роман. Окончание
Звезда № 2 за 2002 г. Аттила в "Боинге"
Новый Мир № 4 за 2002 г. Краткое перемирие в вечной войне
Звезда № 11 за 2002 г. Несовместимые миры Достоевский и Толстой
Звезда № 9 за 2003 г. Шаг вправо, шаг влево
Звезда № 10 за 2003 г. Новгородский толмач Роман
Звезда № 11 за 2003 г. Новгородский толмач Роман. Окончание
Нева № 2 за 2006 г. Неверная. Ее дневник и письма Роман
Нева № 3 за 2006 г. Неверная Роман
Звезда № 1 за 2008 г. Грядущий Аттила Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма
Звезда № 2 за 2008 г. Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма Продолжение
Звезда № 3 за 2008 г. Грядущий Аттила: прошлое, настоящее и будущее международного терроризма Продолжение
Звезда № 4 за 2008 г. Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма Продолжение
Звезда № 5 за 2008 г. Грядущий Аттила: прошлое, настоящее и будущее международного терроризма Продолжение
Звезда № 6 за 2008 г. Грядущий Аттила Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма. Окончание
Звезда № 12 за 2008 г. Убийство Кеннеди Долгое эхо
Звезда № 7 за 2009 г. Обвиняемый Роман
Звезда № 8 за 2009 г. Обвиняемый Роман. Окончание
Нева № 1 за 2011 г. Лед — неуловимый террорист
Нева № 9 за 2011 г. Разлад и разрыв Главы из книги воспоминаний
Звезда № 1 за 2012 г. Больше чем единица Четыре лица Льва Лосева
Нева № 2 за 2012 г. Мать и дочь Рассказ
Звезда № 8 за 2012 г. Эрнест Хемингуэй Портрет в диалогах
Иностранная литература № 10 за 2012 г. Джон Чивер. Из книги Бермудский треугольник любви
Нева № 10 за 2013 г. Гении и маски О книгах Петра Вайля
Звезда № 3 за 2014 г. Бунт континента Исторический роман
Иностранная литература № 4 за 2014 г. Филип Рот (1933-)
Звезда № 4 за 2014 г. Бунт континента Исторический роман. Окончание
Нева № 10 за 2014 г. Высоколобый бунтарь
Слово\Word № 81 за 2014 г. Ради красного словца
Звезда № 4 за 2015 г. Стремление к счастью. Париж, Монтиселло, Вашингтон. Исторический роман
Нева № 2 за 2016 г. Крутые ступени цивилизации
Нева № 4 за 2016 г. Беглец Роман в письмах и кинокадрах
Звезда № 6 за 2016 г. Дуэли Александра Гамильтона Историческая повесть
Нева № 10 за 2016 г. Жажда сплочения
Звезда № 8 за 2017 г. Гражданские войны
Нева № 8 за 2017 г. Войны за независимость
Примечания
1
Joseph А. Саlifаnо. Тhе Тriumph аnd Тrаgеdу оf Lуndоn Johnson. The Whitе Ноusе Уеаrs (New Yоrk: Simon & Schuster, 1991), p. 51.
(обратно)2
National Неаlth Insuranсе. Соnflicting Goals аnd Роliсу Сhоises (Wаshington: 1980), р. 9.
(обратно)3
Ор. сit., р. 10.
(обратно)4
Ор. сit., р. 8.
(обратно)5
Аndrew Тоbias. Тhе Invisiblе Ваnkers (New York: 1982), р. 31.
(обратно)6
Ralph Nader аnd Wеslеу J. Smith. Winning thе Insuranсе Gamе (New York: 1990), р. 7.
(обратно)7
Тоbias, ор. сit., р. 273.
(обратно)8
Nader, ор. сit., р. 121.
(обратно)9
Тоbias, ор. сit., р. 31.
(обратно)10
Ор. сit., р. 33.
(обратно)11
Ор. сit., р. 24.
(обратно)12
Ор. сit., р. 270–71.
(обратно)13
Николай Бердяев. Философия неравенства. Собр. соч. Париж, YMKA-Press, 1990, т. 4, с. 479.
(обратно)14
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. М., "Сирин", 1990, кн. 1, с. 192.
(обратно)15
Лев Лосев. Меандр. М., 2010. С. 282.
(обратно)16
Там же. С. 232.
(обратно)17
Там же. С. 280.
(обратно)18
Вадим Нечаев-Бакинский. Интернет.
(обратно)19
См. примеч. 1.
(обратно)20
Лев Лосев. Меандр. С. 280.
(обратно)21
Там же. С. 283.
(обратно)22
Там же. С. 233.
(обратно)23
Лев Лосев. Закрытый распределитель. Ann Arbor, 1984. С. 38–39.
(обратно)24
Там же. С. 37.
(обратно)25
Эхо. № 4. 1979. С. 66–67.
(обратно)26
Лев Лосев. Тайный советник. Tenafly, 1987. С. 37.
(обратно)27
Русская мысль. 15.11.1985.
(обратно)28
Интернет.
(обратно)29
Интернет.
(обратно)30
Новый мир. 2001. № 8.
(обратно)31
Печатный орган. № 98. Апрель 1997.
(обратно)32
Lev Loseff. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature.Translated by Jane Bobko. Mhnchen, 1984.
(обратно)33
Игорь Ефимов. Эзопов язык и цензура // Континент. № 44. 1985. С. 376.
(обратно)34
Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., 2006.
(обратно)35
Лев Лосев. Меандр. С. 14–15.
(обратно)36
Там же. С. 35.
(обратно)37
Сайт “Радио Свобода”.
(обратно)38
Там же.
(обратно)39
Лев Толстой. Собрание сочинений в 20 т. М.: Худлит, 1965. Т. 18. С. 402.
(обратно)40
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Собр. соч в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 419–420.
(обратно)41
Подробно эта тема разработана в книге: Игорь Ефимов. Метаполитика. Л.: Лениздат, 1991.
(обратно)42
Livy. The Early History ofRomeBaltimore: Penguin Books, 1960. P. 388.
(обратно)43
Armstrong, Karen. Muhammad. San Francisco: Harper Collins Publishers, 1992. P. 207.
(обратно)44
Weatherford, Jack. Genghis Khan. New York: Free Rivers Press, 2003. P. 73.
(обратно)45
Chambers, James. The Devil’s Horsemen. New York: Atheneum Books, 1979, P. 73.
(обратно)46
Ibid. P. 74–75.
(обратно)47
Ibid. P. 80.
(обратно)48
Подробнее об этом см. в книге: Игорь Ефимов. Грядущий Аттила, СПб.: Азбука, 2008.
(обратно)49
Durant, Will. The Age of Faith. (New York: Simon & Schuster, 1950. P. 151–152.
(обратно)50
Bergen, Peter. The Osama Bin Laden I Know. New York: Free Press, 2006. P. 369–370.
(обратно)51
Buchanan, Patrick J. Suicide of a Superpower. WillAmericaSurvive to 2025? N. -Y.: St. MartinPress, 2011.
(обратно)52
Kupchan, Charles A. The End of the American Era. NewYork: VintageBooks, 2002.
(обратно)53
ЕфимовИгорь. Безбуржуев. Франкфурт: Посев, 1979.
(обратно)

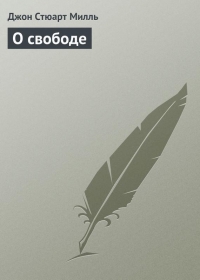
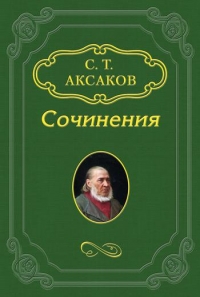
Комментарии к книге «Статьи разных лет и список журнальных публикаций», Игорь Маркович Ефимов
Всего 0 комментариев